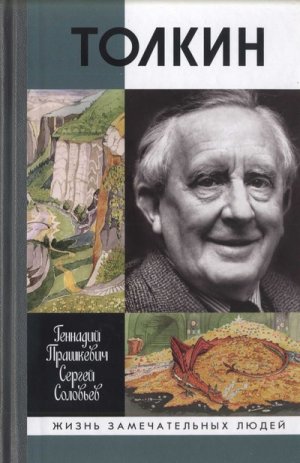
Глава первая
МАЛЬЧИК С ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ
Не напиши профессор Оксфорда Джон Р. Р. Толкин[2] романы «Хоббит» и «Властелин Колец», вряд ли имел бы он сейчас такую огромную армию самых разных поклонников и приверженцев.
Но Толкин эти романы написал.
Они изданы миллионными тиражами и переведены на множество языков. Да и о самом Толкине уже существует целая библиотека: биографические книги Майкла Уайта и Хэмфри Карпентера (автора первой подробной биографии, которую успел прочесть и одобрить сам Толкин), энциклопедия Дэвида Дэя «Толкиновский бестиарий», работы Дэвида Колберта («Хоббит: путешествие по книге»), Карен Уинн Фонстад («Атлас Средиземья»), Роберта Фостера («Путеводитель по Средиземью»), Т. А. Шиппи («Дорога в Средьземелье»), К. Скалл и У. Хэммонда («Властелин Колец: спутник читателя»), даже подробнейший географический атлас Средиземья («Путешествия Фродо»), профессионально составленный Барбарой Стрэйки. Да, самый настоящий атлас. Толкин ведь не однажды утверждал: «Если вы садитесь писать сложную историю, сразу рисуйте карту — потом будет поздно».
Не пренебрегали Толкином и сочинители пародий, которых не интересует мимолетная слава обыкновенных бестселлеров[3].
Мода на Толкина возникла в Англии сразу после выхода в 1955 году заключительного тома «Властелина Колец». В 1960-е годы она докатилась до США. На стенах университетских кампусов появились призывы: «Гэндальфа в президенты!» и «Руки прочь от Вьетнама — Фродо живет там!» Возникли многочисленные клубы «толкинистов», быстро распространившиеся по всему миру. С 1969 года в Англии существует Толкиновское общество, первым президентом которого стал сам писатель; его дочь Присцилла в настоящее время является вице-президентом общества[4]. В России тоже существует Толкиновское общество с центром в Санкт-Петербурге, основанное в 1994 году.
В XXI веке популярность Толкина пережила новый взлет после выхода трехсерийной киноэпопеи Питера Джексона «Властелин Колец», за которой последовала экранизация «Хоббита» — тоже в трех частях. Знаменитые романы стали основой для мультфильмов, комиксов, компьютерных игр. Их иллюстрировали замечательные художники, сотни писателей из разных стран в меру сил продолжали их или им подражали, порой уходя очень далеко от толкиновских сюжетов и идей. При этом ученое сообщество (языковеды, лингвисты, историки) знает и ценит профессора Толкина как замечательного переводчика и исследователя средневековой литературы, автора многих научных работ, одного из составителей Большого Оксфордского словаря английского языка.
«Хоббит» и «Властелин Колец» признаны выдающимися литературными творениями XX века. При этом они, в отличие от многих классических книг, не утрачивают популярности с годами, становясь откровением для каждого нового поколения. На лесных полянах многих стран воинственно стучат деревянные мечи многочисленных фанатов писателя, а при переписях населения (в том числе и в России) некоторые энтузиасты упорно вписывают в графу «национальность» — «эльф».
В Великобритании всерьез обсуждается предложение группы католиков о причислении Джона Рональда Руэла Толкина к лику святых. И не на пустом месте: Толкин действительно был глубоко верующим человеком и свою грандиозную эпопею «Властелин Колец» задумывал как книгу глубоко христианскую. В 2008 году будущий папа римский Франциск (тогда кардинал) в одной из проповедей прямо указал на то, что герои книг Толкина разыгрывают перед читателями, верующими и неверующими, истинно религиозную драму выбора между добром и злом. В книгах Толкина, указывал кардинал, всегда присутствуют четкие понятия «утешение» и «надежда». Правда, один из биографов писателя, Майкл Уайт, писал об этом более сдержанно: «Да, конечно, Джон Р. Р. Толкин был добропорядочным человеком, честным, высоконравственным и надежным, а также очень умным и образованным. Но достаточно ли этого для причисления к лику святых?»[5]
Неутомимые многочисленные исследователи извлекают на свет все новые и новые сведения о Толкине, хотя сам он не раз подчеркивал, что искренне считает все биографические исследования ложным подходом к пониманию литературных работ. «Не люблю сообщать о себе никаких „фактов“, за исключением „сухих“ (каковые в любом случае имеют столько же отношения к моим книгам, как и любые другие более смачные подробности). И не только в силу личных причин; но еще и потому, что возражаю против современной тенденции в критике с ее повышенным интересом к подробностям жизни авторов и художников. Эти подробности лишь отвлекают внимание от трудов автора (если труды на самом деле достойны внимания) и, в конце концов, как наблюдаешь, то и дело становятся главным объектом интереса. Но лишь ангел-хранитель или воистину сам Господь в силах выявить истинные взаимосвязи между фактами личной жизни и сочинениями автора»[6].
Начнем издалека — с Южной Африки.
Там с 1830 года широкую долину между реками Вааль и Оранжевая начали заселять голландские колонисты. Они бежали туда из Капской колонии, которую сами ранее основали и из которой их начали вытеснять вездесущие англичане, даже столицу колонии переименовав из Капстада в Кейптаун. Знаменитая торговая Ост-Индская компания, основанная голландцами в 1602 году, просуществовала до 1798 года. Чай и медь, серебро и текстиль, хлопок, шелк и керамика, пряности, опиум — голландцы торговали всем, что могли добыть в самых разных частях света. Они поддерживали постоянные контакты с такими экзотическими в то время странами, как Япония, Китай, Цейлон, Индонезия. Со временем голландцы и присоединившиеся к ним немцы и французские гугеноты (протестанты-кальвинисты) образовали в Южной Африке новую народность буров или, как они сами себя называли, африканеров. Они даже создали свой язык — африкаанс. В будущем слова этого языка с их необычным звучанием (aardvark, kabouter, olifant) не могли не всплыть в цепкой лингвистической памяти профессора-филолога Толкина.
Массовое бегство африканеров от британцев (вспомним слова Киплинга о нашей Южной Африке. — Г. П., С. С.) привело к созданию двух новых республик — Трансвааль (Южно-Африканская) и Оранжевая. А в 1846 году британский резидент Генри Д. Уорден приобрел у местных племен в Южной Африке заброшенную ферму под названием Блумфонтейн. Унылая равнина, ничем не радующая глаз, постоянно продуваемая сильными ветрами, носила поэтическое название, которое можно перевести как «источник с цветами». Позже город, выросший вокруг купленной Уорденом фермы, стали называть еще «городом роз» — из-за кустов, цветущих на каждом отвале, на каждой обочине.
В 1848 году Британия объявила своей и эту территорию, назвав ее «Владением Оранжевой реки». Правда, в феврале 1854 года под давлением буров англичане все же признали независимость новой республики, что и было зафиксировано в так называемой Блумфонтейнской конвенции. Первым президентом республики Трансвааль стал Йосиас Филип Гофман, а настоящий ее расцвет начался с открытия богатейших месторождений золота и алмазов. В Трансвааль, а затем в Оранжевую хлынули бесчисленные отряды авантюристов-старателей, с точки зрения оседлых буров — чужаков-иностранцев (ойтландеров), чьи права строго ограничивались местными законами.
В конце 1880-х годов в «городе роз» поселился отец будущего писателя — Артур Руэл Толкин (1857–1896). Состояние его родителей, живших в Бирмингеме, было в свое время нажито на производстве фортепьяно, крышку которых украшала гордая надпись «сделано с расчетом на суровые климатические условия». Однако фабрика обанкротилась, и Артуру Толкину, устроившемуся в один из бирмингемских банков, пришлось перебраться в филиал того же банка в Южной Африке. Оставаясь в Англии, он не мог надеяться на карьерный рост, на улучшение условий, а вот в Блумфонтейне, где рабочих рук и голов всегда не хватало, он уже в 1890 году стал управляющим одного из отделений британского Африканского банка.
В марте 1891 года на пароходе «Рослин-Касл» в Блумфонтейн отправилась и невеста Артура — Мэйбл Саффилд. Познакомились они еще в Бирмингеме, а венчались 16 апреля в кейптаунском кафедральном соборе. Медовый месяц провели на побережье, а затем окончательно обосновались в Блумфонтейне. «В центре города, — писал позже Хэмфри Карпентер, главный биограф Толкина, — раскинулась пыльная рыночная площадь, куда фермеры из вельда привозили на продажу в тяжелых фургонах, запряженных волами, круглые тюки с шерстью. Шерсть составляла основу экономики республики. Вокруг рыночной площади высились солидные приметы цивилизации: дом парламента с колоннадой, здание голландской реформистской церкви с двумя башнями, англиканский собор, больница, публичная библиотека и дворец президента. Имелись в городе клуб для европейцев (немцев, голландцев и англичан), теннисный клуб, суд и довольно много магазинов. Но деревьев, посаженных первопоселенцами, было маловато, и городской парк представлял собой, по выражению Мэйбл, „десяток ив и мелкую лужицу“. Буквально в нескольких сотнях ярдов за домами начинался вельд — дикая африканская степь, в которой хватало хищников, от львов до гиен, диких собак и шакалов, постоянно угрожавших стадам и самим людям. С безлесных равнин в Блумфонтейн постоянно дул ветер, взметавший пыль на широких немощеных улицах. В письмах домой Мэйбл так подытоживала свои впечатления: „Дичь и глушь! Просто ужас!“» (В другом русском переводе: «Воющая пустыня! Дикая глушь!»)[7]
Третьего января 1892 года в этой «дичи» и «глуши» появился на свет будущий знаменитый писатель Джон Рональд Руэл Толкин.
«Дорогая матушка! — писал Артур Толкин матери в Бирмингем. — На этой неделе у меня для вас радостное известие. Мэйбл подарила мне чудесного сыночка. Ребенок родился до срока, но малыш крепенький и здоровый, и Мэйбл прекрасно перенесла роды. Мальчик, разумеется, очарователен. У него такие славные ручонки и ушки, пальчики очень длинные, волосики светленькие, глазки толкиновские, а ротик совершенно точно саффилдовский… Когда мы впервые вызвали доктора Столрейтера, решив, что у Мэйбл начались схватки, он сказал, что вызов наш — ложная тревога, и велел акушерке отправляться домой и подождать еще пару недель, но доктор ошибся. Я снова вызвал его около восьми, и он оставался у нас до 12.40, а потом мы налили виски и выпили за мальчика. Первое имя у него будет Джон — в честь дедушки; а полное, наверное, Джон Рональд Руэл. Мэб хотела назвать его Рональдом, но я хочу сохранить и Джона и Руэла…»
Сам Толкин не любил свое первое имя, предпочитая ему второе — Рональд. В июне 1955 года он так объяснял историю своего имени представителям американского издательства «Хоутон-Мифлин»:
«Фамилия моя — Толкин. Фамилия немецкая (из Саксонии) и представляет собой англизированную форму Tollkiehn, то есть „отчаянно храбрый“. Но факт этот столь же обманчив, как любые голые факты, ибо я и вовсе не „отчаянно храбр“, каким мог быть кто-то из моих предков. Эти предки мои эмигрировали в Англию более двухсот лет назад и очень быстро сделались самыми что ни на есть англичанами (не британцами), хотя свою музыкальную одаренность сохранили — этого таланта я, к сожалению, не унаследовал. На самом деле, я куда в большей степени Саффилд — они все из Ившема, что в Вустершире; и своим пристрастием к филологии, особенно к германским языкам, к эпосу, я обязан не кому иному, как моей матушке, которая сама меня обучала (до тех пор, пока я не получил стипендию для обучения в старинной классической школе города Бирмингема). Я действительно, если говорить об Англии, западно-мидлендец. Я чувствую себя дома только в пограничных графствах между Англией и Уэльсом; и я так думаю, что англосаксонский, западный среднеанглийский и аллитерационная поэзия стали для меня детским увлечением и основной сферой профессиональной деятельности столько же в силу происхождения, сколько и в силу различных обстоятельств.
Тем не менее родился я в Блумфонтейне, в Оранжевой провинции, — еще один обманчивый факт, поскольку уже в 1895 г. меня увезли домой, и большую часть последующих своих шестидесяти лет я провел в Бирмингеме и в Оксфорде (если не считать пяти или шести лет в Лидсе). Путешествовал я очень мало, хотя неплохо знаком с Уэльсом, часто бывал в Шотландии (впрочем, никогда — севернее реки Тей), немного знаю Францию, Бельгию и Ирландию. В Ирландии я провел немало времени… Но попрошу заметить, что впервые я ступил на землю „Эйре“ в 1949 г. и нахожу, что и гэльский язык, и самый воздух Ирландии мне абсолютно чужды, хотя последний (не язык) очень даже притягателен»[8].
В январе 1969 года Толкин вернулся к этой теме в письме Эми Рональдс:
«Зовут меня Джон; имя это среди христиан пользуется и популярностью, и любовью; а поскольку родился я на восьмой день после праздника святого Иоанна Евангелиста, я считаю его своим покровителем, хотя ни отец мой, ни мать даже помыслить не могли о такой папистской ереси, как назвать меня в честь святого. Меня нарекли Джоном, поскольку в семье было принято давать это имя старшему сыну старшего сына. Отец мой звался Артуром и был старшим сыном моего деда Джона Бенджамина от второго брака; однако его старший сводный брат Джон умер, оставив лишь троих дочерей. Так что Джоном суждено было стать мне; и старый Дж. Б. качал меня на коленях как наследника вплоть до самой смерти (в возрасте 92 лет в 1896 г.; мне в ту пору исполнилось только четыре). Отец собирался назвать меня Джон Бенджамин Руэл (от чего бы я теперь не отказался); но мама была уверена, что родится девочка, и, поскольку ей нравились более „романтические“ (и менее ветхозаветные) имена, остановилась на Розалинде. Когда же на свет появился я, до срока, притом мальчик слабенький и тщедушный, Розалинду заменили на Рональда. В те времена в качестве имени в Англии оно встречалось куда реже; на самом деле не припомню, чтобы хоть кто-нибудь из сверстников, будь то в школе или в Оксфорде, приходился мне тезкой, — хотя сегодня, — увы! — оно широко распространено среди преступников и прочих деградировавших элементов. Как бы то ни было, я всегда относился к нему с уважением и с самого раннего детства не позволял сокращать его и искажать… Разумеется, есть еще Руэл. Это (если не ошибаюсь) была фамилия какого-то друга моего деда. В моей семье считали, что она — французская (формально такое возможно); но ежели так, то по странной случайности оно дважды упоминается в Ветхом Завете как второе, никак не объясненное имя Иофора, тестя Моисея…»[9]
В Южной Африке будущий писатель жил недолго, но помнил ее всегда. «Такой опыт, — писал он позже, — остается в памяти, даже если тебе кажется, что это не так. Если твоей первой елкой был всего лишь увядающий эвкалипт и ты постоянно страдал от жары и песка, разбрасываемого сухим ветром, а потом вдруг оказался в тихой деревеньке в Уорикшире, ты начинаешь чувствовать какую-то особенную любовь к Центральной Англии, — там хорошая вода, камни, вязы, маленькие тихие реки и сельские жители».
Эти слова, конечно, не значат, что Толкин однозначно предпочитал сельскую Англию всему остальному миру. В письмах своему младшему сыну Кристоферу, который в 1944–1945 годах служил в Южной Африке, чувствуется горячее желание вернуться туда хотя бы в воображении:
«Как ни странно, все, что ты говоришь, в том числе и нелестное, лишь усиливает во мне неизменную тоску и желание видеть ее (Южную Африку. — Г. П., С. С.) снова. Притом что я дорожу и восхищаюсь узкими тропками, изгородями, шелестящими деревьями и плавными очертаниями изобильных холмистых равнин, более всего волнует меня, более всего радует мое сердце простор; так что я даже готов смириться с каменистой пустошью; на самом деле, кажется, каменистая пустошь мне нравится сама по себе, — всякий раз, как вижу что-то подобное. Сердце мое до сих пор — среди высокогорных скальных пустынь, среди морен и горных руин, безмолвных, если не считать голосок тоненького ледяного ручейка»[10].
В действительности Блумфонтейн не представлял собой ничего особенного. Город как город — жаркий, пыльный, провинциальный, со множеством мух. Хотя в сотне километров к западу уже разрабатывались знаменитые алмазные копи Кимберли, а восточнее — богатейшие и глубочайшие в мире золотые шахты Витватерсранда («Хребта белой воды»), годы, проведенные Толкином в Блумфонтейне, на первый взгляд ничем не обычным не запомнились. Ну, жара, песчаные бури, ядовитые змеи. Опасно? Да, конечно, опасно. Но так жили все. И когда однажды маленького Рональда укусил тарантул, это тоже не было чем-то особенным. Впоследствии он даже утверждал, что не испытывает страха перед пауками. Вполне возможно, что это было так, но память Толкина, несомненно, удержала нечто, способное внушать страх (так же как удержала слово «олифант»), и со временем писатель воспользовался этим. Он воплотил свои детские страхи во «Властелине Колец», там, где хоббиты встречают гигантскую паучиху по имени Шелоб:
«Рогатая голова торчала на толстом шейном стебле, а тулово ее огромным раздутым мешком моталось между восьми коленчатых ног — сверху черное, в синеватых пятнах и потеках, а брюхо белесое, тугое и вонючее. Шишковатые суставы возвышались над серощетинистой спиной, и на каждой ноге была клешня. Протиснув хлюпающее тулово и сложенные, поджатые конечности сквозь верхний выход из логова, она ужасающе быстро побежала вприскочку, поскрипывая суставами…»[11]
Впрочем, Толкин никогда не ограничивался просто описанием (воспоминанием). За любым живым существом, за любым событием (добавим, любого масштаба) он привык видеть историю:
«Исстари жила она здесь, исчадье зла в паучьем облике; подобные ей обитали в древней западной Стране Эльфов, которую поглотило море: с такою бился Берен в Горах Ужасов в Дориате, а спустившись с гор, увидел танец Лучиэнь при лунном свете на зеленом лугу, среди цветущего болиголова. Как Шелоб спаслась из гибнущего края и появилась в Мордоре, сказания молчат, да и маловато сказаний дошло до нас от Темных Времен. Но была она здесь задолго до Саурона, прежде, чем был заложен первый камень в основание Барад-Дура… Ее бесчисленные порождения, ублюдки ее же отпрысков, растерзанных ею после совокупления, расползлись по горам и долам, от Эфель-Дуата до восточных всхолмий, Дол-Гулдура и Лихолесья. Но кто мог сравниться с ней, с Великой Шелоб, последним детищем Унголиант, прощальным ее подарком несчастному миру?»[12]
«Вскоре после того, как Толкины отпраздновали первый день рождения мальчика, — писал в своей книге всезнающий Хэмфри Карпентер, — в Блумфонтейн приехали из Англии сестра и зять Мейбл — Мэй и Уолтер Инклдон. Уолтер, торговец из Бирмингема, которому было немного за тридцать, весьма интересовался золотом и алмазами. Он оставил жену и маленькую дочь Марджори в здании банка, где были и жилые комнаты для служащих, а сам отправился в золотодобывающие районы. Мэй прибыла как раз вовремя, чтобы помочь сестре пережить еще одно зимнее лето в Блумфонтейне — сезон тем более тяжкий, что Артуру тоже пришлось уехать по делам на несколько недель. Было в те дни холодно, сестры жались к камину в гостиной. Мэйбл вязала детские вещи, и они с Мэй подолгу разговаривали о былых днях в Бирмингеме. Мэйбл не скрывала, как надоела ей блумфонтейнская жизнь — этот климат, эти бесконечные светские визиты и нудные званые обеды. Ничего, мечтала она, скоро они смогут съездить домой — где-нибудь через годик, хотя Артур все ищет поводы отложить поездку в Англию. „Он буквально влюбился в здешний климат, и мне это не нравится, — жаловалась она. — Жалко, что я никак не могу привыкнуть к этим местам: похоже, Артур теперь уже не захочет обосноваться в Англии“…»[13]
Но поездку пришлось отложить.
Семнадцатого февраля 1894 года Мэйбл родила второго сына.
Младшего окрестили не менее звучно — Хилари Артур Руэл.
Белокурые, голубоглазые, чистые англосаксы по внешнему виду, братья, возможно, стали бы со временем типичными британцами вне Британии, но обстановка в Южной Африке накалялась. В 1899 году в Блумфонтейне даже была созвана специальная конференция с участием лидеров Оранжевой республики, Трансвааля и администрации Капской колонии. Встреча эта, к сожалению, к разрядке не привела. Напряжение нарастало, и в итоге Трансвааль и Оранжевая объявили войну Британской империи после того, как она отказалась отвести войска от границ обеих республик. К счастью, к этому времени Мэйбл с детьми в Блумфонтейне уже не было: она, наконец, уехала и никогда об этом не жалела.
Буры яростно защищали свою страну. Читатели старшего поколения помнят, наверное, давнюю, облетевшую весь мир песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…» Дальше там пелось: «Под деревом развесистым задумчив бур сидел», и следовал извечный вопрос: «О чем задумался, детина, о чем горюешь, седина?» Слова и жалостливые, и сочувственные. Седому буру было о чем задуматься. Из девяти сыновей троих уже нет в живых, остальные сражаются. Младшему только-только стукнуло 13 лет, а и он уже просит: «Отец, отец, возьми меня с собой на войну». Что с этим делать?
«Я выслушал его слова, обнял, поцеловал, и в тот же день, и в тот же час на поле брани взял. Однажды при сражении отбит был наш обоз, малютка на позицию патроны ползком принес. И он в пороховом дыму дошел до наших рот, но в спину выстрелил ему предатель-готтентот…»
Ах, Трансвааль, Трансвааль…
«За кривду Бог накажет вас, за правду наградит».
Но что есть правда? И что считать кривдой? Знаменитый писатель Артур Конан Дойл (1859–1930), побывавший на бурской войне, писал: «То были годы успеха и процветания (в Англии. — Г. П., С. С.). Но тень Южной Африки уже надвинулась, и прежде, чем она нас миновала, судьба определила, что мое личное благополучие, так же как и благополучие многих других, будет с ней связано. Я глубоко уважал буров, и меня несколько страшили их воинское искусство, их неприступные позиции, их стойкое тевтонское упорство. Я предвидел, что они окажутся наиопаснейшим противником, и с ужасом наблюдал за ходом событий, которые со времен неудачного рейда Джеймсона (1895–1896 годы. — Г. П., С. С.) неотвратимо вели нас к новой войне. Когда она, наконец, вправду началась, мы испытали чуть ли не облегчение, потому что смогли ясно увидеть масштаб нашей задачи. Но в то время лишь немногие это понимали. Накануне войны я председательствовал на обеде в честь лорда Вулзли в Клубе писателей, где он объявил, что в Африку мы могли бы послать две дивизии. На другой день все газеты гудели как о возможности собрать такие силы, так и о необходимости их отправки. Что бы они подумали, если бы тогда им сказали, что жизнь четверти миллиона людей, большей частью кавалеристов, — вот что будет ценой победы?! Первые успехи буров совсем не удивили тех, кто хоть немного знал историю Южной Африки. Они ясно показали каждому в Англии, что за здравие империи следует поднимать не бокал, а ружье»[14].
Война действительно велась ожесточенная.
Со слов Конан Дойла мы отчетливо видим родину Толкина:
«Странное, дикое это было место — вельд с обширными зелеными равнинами и характерными плосковерхими холмами-реликтами некоего необычайного геологического процесса. Пастбища здесь бедны — на одну овцу необходимо не меньше двух акров земли, поэтому население живет неплотно. Там и сям разбросаны маленькие белые фермы, у каждой — эвкалиптовая роща и запруда».
И далее: «Наша армия продвигалась к Блумфонтейну. Несчастные артиллерийские лошади все еще лежали грудами там, где их пристрелили, и все пространство усеяно было всевозможным хламом — брошенными портянками, бактериологическими повязками, ранцами-рюкзаками, разбитыми касками. Было там множество принадлежавшей бурам плотной бумаги для патронных гильз с надписью „Разрывные пули. Изготовлено для нужд Британского правительства. Лондон“. Что все это значило и как сюда попало, не могу себе представить…»[15]
Все же в 1902 году в Ферейнихинге был подписан договор, согласно которому Оранжевое свободное государство вошло в Британскую империю как Колония Оранжевой реки, — правда, Британия обещала в будущем предоставить ей самоуправление, сохранить преподавание в школах родного языка африкаанс и оставить некоторые другие привилегии.
Но это все было позже.
А пока, в 1894 году, на семейном совете в Блумфонтейне было решено, что часто болевшая Мэйбл с детьми все же вернется домой — в Англию. Палящее африканское солнце оказалось чересчур вредным для здоровья детей и ее собственного. Артур собирался вернуться немного погодя, когда приведет в порядок свои текущие банковские дела. Много лет позднее Толкин в письме сыну отмечал, что жены британских служащих в те времена быстро начинали ненавидеть Южную Африку, — не в последнюю очередь за то, что мужчинам она нравилась и они нередко склонялись к мысли, что там можно остаться.
В апреле 1895 года Мэйбл с детьми прибыла на пароходе в Бирмингем. На первое время устроились в тихой деревушке Кингз-Хит неподалеку от города. Там жил дед Толкина (отец Мэйбл) Джон Саффилд, веселый, но несколько докучливый человек. Он «носил длинную бороду и выглядел очень старым, — писал в своей книге Хэмфри Карпентер. — Ему стукнуло шестьдесят три, и он клялся, что доживет до ста. Большой весельчак, он, похоже, вовсе не возражал против того, чтобы зарабатывать себе на жизнь трудом коммивояжера, несмотря на то, что когда-то владел собственным магазином тканей в центре города. Иногда он брал листок бумаги и ручку со специальным тоненьким перышком, обводил кружком шестипенсовую монету и мельчайшим каллиграфическим почерком вписывал в этот кружок весь текст Отче наш. Его предки были граверами — видимо, от них Джон Саффилд и унаследовал это искусство; он с гордостью рассказывал про то, как король Вильгельм IV даровал их семейству собственный герб за тонкую работу, выполненную по его заказу, и про свое дальнее родство с лордом Саффилдом (последнее — неправда)»[16].
Артур писал из Блумфонтейна утешительные письма, а Грейс, сестра Артура, вечерами не без гордости рассказывала Мэйбл и ее детям об их предках.
«Истории тети Грейс выглядели совершенно невероятными, — продолжает свой рассказ Хэмфри Карпентер. — Она утверждала, будто фамилия семейства первоначально была фон Гогенцоллерн, потому что эта семья происходила из той части Священной Римской империи, что принадлежала Гогенцоллернам. По ее словам, при осаде Вены в 1529 году некий Георг фон Гогенцоллерн сражался на стороне эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Он возглавил незапланированную вылазку против турок, выказал при этом неслыханную отвагу и захватил штандарт самого султана. Потому, рассказывала тетя Грейс, его и прозвали Tollkühn („безрассудно отважный“); и это прозвище пристало ко всему семейству. Она утверждала также, что у Толкинов есть и французские корни: якобы Толкины породнились со многими знатными фамилиями Франции, а их фамилия произносилась как дю Темерер[17]. Впрочем, насчет того, когда и почему предки Толкинов перебрались в Англию, мнения в семействе расходились. Более прозаичная версия гласила, что произошло это в 1756 году и что Толкинам пришлось спасаться бегством, когда в Саксонию, где находились их наследные земли, вторглись прусские захватчики. Правда, тетя Грейс предпочитала более романтичную, хотя и неправдоподобную историю о том, как один из дю Темереров бежал за Ла-Манш в 1794 году, спасаясь от гильотины, и, видимо, именно тогда и взял себе вариант прежней фамилии Толкин…»[18]
Мэйбл и дети с нетерпением ждали Артура. Но осенью из Южной Африки стали приходить тревожные вести. В Блумфонтейне Артур Толкин подхватил инфекционный ревмокардит, и, хотя состояние его вскоре вроде бы начало улучшаться, все же до весны о переезде в Англию нечего было и думать. Встревоженная Мэйбл решила сама поехать в Блумфонтейн помочь мужу, маленький Рональд даже продиктовал для отца письмо:
«Кингз-Хит, Эшфилд-роуд, 9,
14 февраля 1896 года.
Дорогой папочка!
Я так рад что приеду и увижу тебя мы так давно уехали я надеюсь пароход привезет нас всех обратно к тебе маму малыша и меня. Я знаю ты будешь так рад получить письмо от своего маленького Рональда я так давно тебе не писал я стал такой большой потому что у меня пальто как у большого и курточка тоже мамочка говорит ты не узнаешь ни меня ни малыша такие мы стали большие мы получили уйму подарков на Рождество мы тебе покажем приходила тетя Грейси в гости я каждый день хожу гулять, а в коляске почти не езжу. Хилари шлет тебе привет и много-много поцелуев и любящий тебя Рональд»[19].
К сожалению, это милое письмо не было даже отправлено, потому что из Блумфонтейна пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Мэйбл должна готовиться к худшему. Худшее и случилось: 15 февраля 1896 года Артур Толкин скончался. Похоронили его там же, в Блумфонтейне — на англиканском кладбище.
В биографии, написанной Хэмфри Карпентером, говорится, что Артур Толкин скончался от осложнений инфекционного ревмокардита. Современному исследователю Б. Горелику удалось найти в блумфонтейнской газете «The Friend» некролог[20], из которого следует, что истинной причиной кончины Артура Толкина послужило осложнение брюшного тифа. Возможно, это расхождение объясняется типичным викторианским желанием облагородить болезнь, и именно в таком виде информация дошла до Мэйбл, а через нее до Рональда…
«Собственно говоря, родился я в Блумфонтейне, — писал Толкин в июне 1955 года своему бывшему студенту — знаменитому поэту Уистену Хью Одену (1907–1973), — так что все глубоко вживленные впечатления и укоренившиеся образы раннего детства, — эти яркие картинки, до сих пор доступные для изучения, — для меня это жаркая, выжженная солнцем страна. Мои первые рождественские воспоминания — это палящее солнце, задернутые занавески и жухлый эвкалипт»[21].
С годами интерес к Южной Африке у Толкина возрастал. «Твой рассказ о путешествии в Йо-бург в Великий четверг ужасно меня позабавил, — писал он своему сыну Кристоферу, который в конце Второй мировой войны служил в английских ВВС в Южной Африке. — Если окажешься в Блумфонтейне — я вот гадаю, стоит ли еще то маленькое старое каменное здание банка (Южноафриканский банк), где я родился. И сохранилась ли могила отца. Я так ничего и не предпринял на этот счет, но, сдается мне, матушка распорядилась поставить там каменный крест или отсюда его выслала. Если нет, так могилу уже, возможно, и не найдешь, разве что остались какие-нибудь записи…»[22]
Кое-что из раннего смутного периода южноафриканской жизни позже отразилось в фантастических картах, которые Толкин очень любил рисовать, дополняя ими свои литературные произведения. Оранжевая республика… Трансвааль… Капская колония… От всех от них теперь осталось следов ненамного больше, чем от государств, так хорошо описанных в волшебном эпосе Толкина: от Арнора, северного королевства дунаданцев, или Ангмара, располагавшегося на северных отрогах Мглистых гор…
Глава вторая
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Доходов с капитала, оставленного Артуром в банке, едва хватало на жизнь. Впрочем, вопрос, экономить ли средства на образовании детей, перед Мэйбл Толкин попросту не стоял: экономить можно и нужно на чем угодно, только не на их здоровье и обучении.
Все же на первых порах молодая вдова сама занималась с Рональдом и Хилари. Она умела говорить с детьми, любила их, к тому же неплохо владела французским, латинским, немецким языками, рисовала, играла на фортепьяно. Ей повезло с жильем: летом 1896 года она сняла небольшой домик, концевой в длинном ряду домов, в деревушке Сэрхоул, расположенной на Стрэтфордской дороге. Сейчас это место вошло в черту города, само название исчезло из адресной книги Бирмингема, однако кое-что там сохранилось до наших дней, например мельница. Ее и старой-то назвать трудно — просто древняя. Ее построили в 1542 году на месте другой, еще более древней мельницы. Рональду с его воображением мельница казалась каким-то важным знаком, тайным посланием из неведомого прошлого. По крайней мере, впоследствии он не раз вспоминал это древнее сооружение, описывая свою Хоббитанию.
Может, родина хоббитов с той самой мельницы и началась.
Переход от экзотической колониальной жизни к сельской, так же как глубокая религиозность матери, конечно, повлияли на сыновей. Сельский уклад прост — все эти неторопливые разговоры, наивные рассуждения, невероятные слухи, передаваемые от одного к другому. Через много лет Толкин писал поэту Уистену X. Одену (1907–1973): «По происхождению я — уроженец Западного Мидлендса»[24]. По смыслу уже получается «средьземелье».
Короче, старая сельская Англия.
Тесный зеленый чудесный рай.
Мы сказали — сельская, это понятно. Но мы еще сказали — тесная, а это потому, что, скажем, у обитателей соседней Скандинавии никогда не было, да и сейчас нет никаких преград в общении с природой, а вот в Англии общественных лесов, полей, парков всегда было мало, а на частных землях не сильно разгуляешься. Правда, в Англии существовали и существуют свои любопытные исключения. Так, скажем, если прохожие долго (не менее года) пользуются какой-то полевой тропинкой или дорожкой в частном лесу, а хозяин не обращает на это внимания, не огораживает, не перекрывает проход, то такая тропинка общественной и остается.
Были, конечно, овраги, болотистые берега рек, холмы.
Но все равно вокруг Сэрхоула лежали в основном частные земли.
Те, кто внимательно читал роман «Властелин Колец», помнят, наверное, как Фродо с детства боялся некоего фермера по прозвищу Бирюк, не раз ловившего его в своем частном лесу на чудесной грибной охоте.
В Сэрхоуле Толкины поселились по адресу — улица Грейсвелл, 5. Это был кирпичный коттедж, один из длинного ряда таких же коттеджей. Англичане любят отдельные дома, предпочитая их любым квартирам, но и отдельные дома у них делятся по разным категориям. Скажем, дом, построенный впритык к двум соседним, котируется ниже того, который касается соседней постройки только одной стеной. По сохранившимся фотографиям мы знаем, что сразу за воротами дома, который сняла Мэйбл, дорога поднималась на пологий холм к скучноватой деревеньке Моузли и уже от нее шла в Бирмингем. По другую сторону та же дорога вела в шекспировский Стрэтфорд-на-Эйвоне. Движение тогда было небольшим: время от времени скрипел фургон торговца, поднимала серую пыль фермерская телега, ну и, возможно, мелькала двуколка доктора или священника.
На старой мельнице во времена Толкина перемалывали уже не зерно, а кости животных — для удобрений. Работали там два человека, отец и сын. Отец отличался страшной черной бородой, его так и звали — «Черный Людоед», но все равно Рональд и Хилари больше боялись его сына. Из-за густой мучной пыли, всегда плотным слоем осыпавшей его одежду, из-за цепкого сердитого взгляда он казался им «Белым Людоедом». Когда мельник замечал братьев, они как можно быстрее мчались от него за мельницу к тихому пруду с темной водой. Там были лебеди и шлюз, через который вода, казавшаяся такой спокойной, внезапно устремлялась к мельничному колесу. Дальше на пути к деревеньке Моузли находился давно заброшенный, окруженный деревьями песчаный карьер — тоже место загадочное и притягательное. Через много лет Хилари вспоминал: «Мы чудесно проводили лето — просто собирали цветы и шастали по чужим участкам. Черный Людоед имел обыкновение забирать ботинки и чулки, которые мы оставляли на берегу, чтобы походить босиком по воде, и приходилось догонять его и выпрашивать обувь обратно. Ух, и влетало же нам от него! Белый Людоед был не такой опасный. Но для того чтобы попасть в то место, где мы собирали ежевику (оно называлось Лощина), надо было пройти через земли Белого, а он нас не особо жаловал, потому что узкая тропинка шла через его поле, и мы по дороге украдкой рвали куколи и другие красивые цветы»[25].
Два ряда домов — вот и весь Сэрхоул. Дальше по дороге лежала деревня Холл-Грин. Там в лавке у беззубой старухи можно было купить совсем дешево какие-нибудь нехитрые сладости, и там, в деревне, у братьев через какое-то время появились друзья среди местных детей. Завести друзей, кстати, было не так уж просто. Дети среднего класса, к которому относились Толкины, говорили с другим акцентом, одевались иначе да еще и носили длинные волосы, что, понятно, вызывало всяческие насмешки у деревенских.
В те годы Рональд часто видел один и тот же пугавший его сон. Огромная темная волна угрожающе нависала над знакомыми деревьями и зелеными полями. Она грозила все смыть, все уничтожить. Этот страшный сон возвращался к мальчику так часто и так мучил его, что позже со свойственным ему юмором он назвал его «комплексом Атлантиды», продолжая одновременно (что тоже было характерно для Толкина) относиться к нему очень серьезно. В уже упоминавшемся письме У. X. Одену 63-летний Толкин писал:
«Хотя, в придачу, в сердце своем он (житель северо-запада Старого Света. — Г. П., С. С.) может помнить… распространенные по всему побережью слухи о Людях из-за Моря… Я заговорил про „сердце“, поскольку есть у меня так называемый „комплекс Атлантиды“, возможно, унаследованный, хотя родители мои умерли слишком рано, чтобы я успел узнать от них такие вещи, и слишком рано, чтобы передать все эти сведения на словах. В свою очередь унаследованный от меня (как мне кажется) лишь одним из моих детей…»[26]
В Сэрхоуле Мэйбл с детьми прожила четыре года.
Деревенская жизнь текла мирно, но в ней для Рональда было все — близость к природе, чувство опасности, тайны, переплетающиеся с этой опасностью, праздники, да еще какие! В июне 1897 года, например, по всей Британской империи праздновали бриллиантовый юбилей королевы Виктории: 20 июня во всех церквях исполнялась специально написанная по этому случаю песнь Артура Салливена (больше известного как автор оперетт) со словами О King of Kings, а 22 июня даже колледж на холме в Моузли был украшен цветными огоньками. А еще в октябре 1899-го в Южной Африке началась Англо-бурская война — вряд ли Мэйбл обошла молчанием это важное событие.
«Всего четыре года… — писал Рональд Толкин в старости, оглядываясь на прошлое. — Но сейчас мне кажется, что это была самая долгая часть моей жизни, оказавшая наибольшее влияние на формирование моей личности»[27].
И еще, про страну хоббитов: «На самом-то деле Шир — это в некотором роде уорикширская деревенька времен приблизительно Бриллиантового юбилея»[28].
Несмотря на домашние уроки, осенью 1899 года Рональд, к сожалению, не смог сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда; только в следующем году — в сентябре 1900 года он справился с испытаниями.
Школа короля Эдуарда VI тоже была очень древняя. Основанная в 1552 году, она находилась в самом центре Бирмингема — длинное кирпичное здание рядом с железнодорожным вокзалом. Печи в основном топили углем, в туманную погоду сизый дым стлался по улицам, дома стояли закопченные, на всем лежала угольная пыль, зато преподавание в школе велось на должной высоте. Правда, братьям трудно было каждый день добираться до школы пешком (денег на проезд в поезде у них не было), так что Мэйбл пришлось подыскивать новую квартиру.
Мать обучила Рональда начаткам латыни, а затем и французского. Это здорово помогало ему в школьных занятиях. Еще Мэйбл пыталась приохотить сына к игре на фортепьяно, но это гораздо лучше получалось у Хилари, зато Рональд хорошо рисовал и неплохо разбирался в растениях. Он вообще любил деревья, особенно большие. Он лазил по ним, любил гулять под ними, переживал за них. «Над мельничным прудом, — вспоминал он позже, — росла ива, и я научился залезать на нее. Ива принадлежала, кажется, мяснику, жившему на Стратфорд-роуд. И в один прекрасный день ее спилили. С ней ничего не сделали: просто спилили и оставили валяться. Я этого никак не мог забыть…»[29]
В романе «Властелин Колец» деревья живут своей жизнью. Они занимают там очень много места, они огромны, зелены, величественны.
«На плечи хоббитам легли долгопалые корявые ручищи, бережно и властно повернули их кругом и подняли к глазам четырнадцатифутового человека, если не тролля. Длинная его голова плотно вросла в кряжистый торс. То ли его серо-зеленое облачение было под цвет древесной коры, то ли это кора и была — трудно сказать, однако на руках ни складок, ни морщин, только гладкая коричневая кожа. На ногах по семи пальцев. А лицо необыкновеннейшее, в длинной окладистой бороде, у подбородка чуть только не ветвившейся, книзу мохнатой и пышной.
Но поначалу хоббиты приметили одни лишь глаза, оглядывавшие их медленно, степенно и очень проницательно. Огромные глаза, карие с прозеленью. Пин потом часто пытался припомнить их заново: „Вроде как заглянул в бездонный колодезь, переполненный памятью несчетных веков“.
— Хррум, хуум, — прогудел голос, густой и низкий, словно контрабас. — Чудные, чудные дела! Торопиться не будем, спешка нам ни к чему. Но если бы я вас увидел прежде, чем услышал… а голосочки у вас ничего, милые голосочки… я бы вас раздавил, подумал бы, что вы из мелких орков, а уж потом бы, наверное, огорчался… Да-а, чудные, чудные вы малыши. Прямо скажу, корни-веточки, очень вы чудные.
По-прежнему изумленный Пин бояться вдруг перестал. Любопытно было глядеть в эти глаза и вовсе не страшно.
— А можно спросить, кто ты такой и как тебя зовут?
Глубокие глаза словно заволокло, они блеснули хитроватой искринкой.
— Хррум, ну и ну, — пробасил голос. — Так сразу тебе и скажи, кто я. Ладно уж, ладно, скажу. Я — онт, так меня называют. Так вот и называют — онт. По-вашему если говорить, то даже не онт, а главный Онт. У одних мое имя — Фангорн, у других — Древень. Для вас пусть будет Древень…»[30]
Похоже, в то время реальный мир казался Рональду всего лишь еще одним миром. Даже книги, которые он читал, отличались от обычного мальчишеского чтива. Он, например, прочел Стивенсона, но даже «Остров сокровищ» оставил его равнодушным. Приключенческие и фантастические романы в большинстве своем тоже его не привлекали, — даже Луи Буссенар, так хорошо написавший о Южной Африке в романе «Капитан Сорви-голова». Правда, ему понравилась «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и чем-то — возможно, попытками заглянуть в глубину времен — заинтересовал Генри Райдер Хаггард, тоже немало написавший о Южной Африке («Копи царя Соломона», «Аэша», «Она»). Еще он обожал старинные скандинавские легенды и народные сказания. Это многим казалось странным. Да и кто из читателей этой книги вспомнит хоть одного своего одноклассника, который бы в школьные годы по собственному желанию зачитывался русскими былинами? А Толкин зачитывался — и не только скандинавскими легендами. Он не мог оторваться от книг шотландского священника Джорджа Макдональда (1824–1905) — «Принцесса и гоблин», «Возвращение Северного Ветра», «Лилит». Макдональд, кстати, оказал большое влияние на разных писателей того времени: на Г. К. Честертона, на К. С. Льюиса, на самого Толкина.
Еще больше нравились Рональду «Цветные книги сказок» Эндрю Лэнга (1844–1912) — знаменитого шотландского писателя, переводчика, историка, собирателя фольклора и этнографа. Он написал дюжину небольших книжек, которые так и назывались по цвету обложек: «Синяя книга сказок», «Красная» и т. д. В «Красной книге сказок», к слову, содержался вариант сказки про Кощея Бессмертного, но больше всего эта книга нравилась Рональду потому, что в нее была включена история о храбром Сигурде, который не на жизнь, а на смерть сражался со страшным драконом по имени Фафнир. «Я всей душой мечтал о драконах, — вспоминал Толкин позже. — Нет, конечно, я со своими скромными силенками вовсе не жаждал, чтобы они жили где-нибудь по соседству. Но мир, в котором существовал Фафнир, хотя бы воображаемый, казался богаче и прекраснее, несмотря на опасность…»[31]
Даже страх смерти, которым глубоко пронизаны многие истории Лэнга и особенно романы Макдональда, не отталкивал мальчика. Напротив, этот страх тоже захватывал его.
«„Теперь ты попробовала, что такое смерть, — сказал Морской Старец. — Тебе понравилось?“
„Очень, — призналась Мшинка. — Смерть лучше жизни“.
„Нет, — отозвался Старец. — Она всего лишь следующая жизнь“».
В семь лет юный Рональд Толкин сам начал сочинять такие истории.
«Впервые я попытался написать историю в возрасте лет семи. Причем про дракона, — вспоминал позже Толкин. — Я ничего о ней не помню, за исключением одного-единственного филологического факта. Моя матушка насчет дракона ни слова не сказала, зато обратила мое внимание на то, что говорить следует не „зеленый огромный дракон“, а „огромный зеленый дракон“. Я еще недоумевал, почему; недоумеваю и по сей день…»[32]
Все эти книги оставили глубокий след в душе Рональда. К тому же он получил их из рук матери, а это много для него значило.
С каждым годом (после смерти мужа) религия играла в жизни Мэйбл Толкин все большую роль. Каждое воскресенье она вела детей в церковь, не считаясь с расстоянием. Выбор церкви для нее много значил, но поначалу она готова была удовлетвориться «высокой» англиканской церковью.
Как известно, англиканская церковь отделилась от римско-католической еще в 1534 году. Поначалу был принят отказ от признания верховного авторитета римского папы, но в дальнейшем выявились более сложные тенденции. Их внутренняя борьба и выделила в итоге:
«высокую» церковь, сохранившую тесную связь с римско-католической традицией:
евангелическую, подвергшуюся сильному влиянию протестантства;
«широкую», либерально-конформистскую;
и, наконец, «низкую», терпимо относившуюся даже к пуританам.
Помимо этих течений, организационно считающихся частями единой англиканской церкви, в Великобритании существовало множество других направлений протестантизма — пресвитериане, методисты, баптисты, веслианцы, квакеры и т. д.
Прекрасно зная дорогу в церковь, Рональд и Хилари в одно из воскресений вдруг обнаружили, что мать ведет их куда-то не туда. Да и церковь, в которую они пришли, оказалась вовсе не той, которую они посещали раньше, — это был собор Святой Анны на Элстер-стрит, чуть ли не в самых трущобах Бирмингема. Он принадлежал римско-католической церкви, и привела сюда своих детей Мэйбл не случайно. Ведь католики в основном сохранили тот древний, не уклоняющийся от разговора о страданиях и смерти канон, который хорошо знаком нам в его православном изводе:
«Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, и вси во своем чину станут, стари и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз? Сего ради вопию: даждь ми, Господи, прежде конца покаяние».
Мэйбл это было ближе, это накрепко входило в сознание, как и другие пронзительные слова: «Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от наглыя смерти, и даруй мне прежде конца покаяние».
Протестанты от всего этого давно избавились, как от недостаточно «рационального», а вот католики внимательно прислушивались к очистительной музыке покаянного канона. В итоге, мучимая размышлениями, ища участия, хоть какой-то опоры в жизни, Мэйбл задумала перейти в католичество.
Против ожидания, она оказалась в этом не одинока. К католицизму клонилась и ее сестра Мэй Инклдон. Она недавно вернулась из Южной Африки — и тоже с двумя детьми. Уолтер, ее муж, должен был вернуться позже. Не известив мужа о своих религиозных сомнениях (а может, спонтанно, под влиянием сестры), Мэй вдруг тоже решила перейти в католицизм. В те годы таких «отщепенцев» в Англии становилось все больше. С 1570 по 1766 год папство вообще не признавало английскую монархию, поэтому католики, как «пятая колонна», были ограничены в правах. Только в 1829 году парламент Соединенного Королевства одобрил так называемый Акт об облегчении положения католиков, формально уравнивавший их с другими христианскими вероисповеданиями. Тогда обратились в католичество многие англичане, среди них будущие кардиналы Джон Генри Ньюмен (1801–1890) и Генри Мэннинг (1808–1892), ставший архиепископом Вестминстера. Обратилось в католичество и немало деятелей культуры, к примеру, писатель Гилберт Кит Честертон.
Но неожиданное обращение в католическую веру бедной вдовы и ее сестры — совсем другая история. На сестер немедленно обрушился ничем не сдерживаемый гнев родственников. Их отец Джон Саффилд учился когда-то в методистской школе, а теперь принадлежал к унитарианцам, поэтому неожиданное решение дочерей стать папистками, было им воспринято как немыслимое личное оскорбление. А муж Мэй Уолтер Инклдон, активный член англиканской общины, сразу понял, что под угрозой может оказаться его общественное положение, и связь своей жены с римской церковью даже не захотел обсуждать. Какие тут могут быть обсуждения? Вернувшись из Южной Африки, он категорически запретил Мэй появляться в католической церкви. Конечно, ей пришлось подчиниться, но в отместку она увлеклась модным тогда спиритизмом.
Уолтер Инклдон после смерти Артура пусть нерегулярно, но оказывал Мэйбл некоторую финансовую помощь, теперь же доброжелательность родственника сменилась откровенной враждебностью. Так же резко изменилось отношение к Мэйбл и со стороны Толкинов, ведь многие из них были активными баптистами, непримиримыми противниками католичества. Несмотря на все это и даже на постоянно ухудшающиеся условия жизни, Мэйбл не только утвердилась в католической вере, но и вовлекла в нее своих сыновей.
После Сэрхоула Мэйбл сняла дом в пригороде Бирмингема — Моузли. Места там были скучные, даже унылые. Ни зеленых деревьев, ни мягкой травы, только трамваи с лязгом поднимались на холм, да мелькали серые лица прохожих. «Черные толпы в буром тумане зимнего утра»[33] — и, конечно, бесчисленные кирпичные дымящие трубы.
К счастью, в Моузли Толкины долго не задержались. Дом подлежал сносу, на его месте собирались строить пожарную станцию. Мэйбл терпеливо занималась поисками нового дома и, наконец, нашла «виллу» в ряду домов, построенных стенка в стенку за железнодорожной станцией Кингз-Хит. Неподалеку жили ее родители, но она с ними практически не общалась; гораздо важнее для нее была близость католической церкви Святого Дунстана. Несколько позже, в начале 1902 года, Мэйбл отыскала еще более дешевый дом в пригороде Бирмингема — Эгбастоне.
Дом этот стоял рядом с Бирмингемским ораторием — так называлась молельня, принадлежавшая ордену ораторианцев и управлявшаяся ассоциацией священников. Ораторианцы имели свой устав и обладали достаточным доходом, чтобы содержать молельню. Английскую ветвь ораторианцев создал кардинал Генри Ньюмен еще в 1847 году. Обратившись в католицизм, он посетил Рим и после недолгого послушничества в Санта-Кроче вернулся в Англию с папским письмом, разрешающим создание в Бирмингеме самостоятельного отделения ордена ораторианцев. Мэйбл верила, что именно здесь найдет дружески настроенного исповедника, и не ошиблась; к тому же ее привлекало то, что при оратории под управлением той же ассоциации священников находилась начальная школа Святого Филиппа, в которой ее сыновья могли продолжить учебу.
Чувствительному Рональду оказались близкими настроения, царившие в маленькой римско-католической общине при оратории. Позже, описывая сомнения и тревоги хоббита Фродо, направляющегося со своей почти безнадежной миссией в Мордор, Толкин, несомненно, вспоминал свои собственные сомнения и тревоги:
Другом и духовником семьи Толкинов стал отец Фрэнсис Морган (1857–1934), католический священник из Бирмингемского оратория[35] — громогласный, шумный, всегда доброжелательный. К Мэйбл и ее детям он отнесся с большим вниманием; без него ей пришлось бы совсем плохо.
Школа теперь находилась буквально в нескольких шагах от дома. Рональд скоро обогнал в обучении всех своих одноклассников, но, к сожалению, это объяснялось не столько его рвением, сколько тем, что в школе Святого Филиппа готовили самых обыкновенных рабочих для местных фабрик. Поняв это, Мэйбл забрала сыновей из школы и снова начала заниматься с ними на дому. В итоге через несколько месяцев Рональд смог все же сдать экзамен на стипендию (Foundation Scholarship) от школы короля Эдуарда и осенью 1903 года снова туда вернулся.
Несмотря на все эти утомительные переезды, Толкин не раз говорил позже: «Мое детство никак нельзя считать несчастливым. Возможно, оно было трагичным, да, но несчастливым не было…»
В 1901 году умерла английская королева Виктория. Она провела на троне 63 года — больше, чем любой другой британский монарх. Родилась она в Лондоне в 1819 году. Воспитывала будущую королеву Великобритании мать-немка, поэтому первые годы жизни принцесса говорила только на немецком языке. Впрочем, это не помешало ей быстро освоить французский, итальянский и, естественно, английский. После двадцати одного года совместной супружеской жизни с Альбертом, герцогом Саксен-Кобург-Готским (1819–1861), королева Виктория овдовела. Всю оставшуюся жизнь она носила только черные платья, и в народе и армии ее прозвали Вдовой.
За годы ее правления Британская империя распространилась чуть ли не на весь мир. В конце Викторианской эпохи англичанам принадлежали в Европе — Ирландия, Гибралтар, Мальта и множество островов помельче. В Азии — Индия, Цейлон, Малайя, Бирма, Аден, Оман, Саравак, Гонконг, Кувейт, Бахрейн, Федеративные Малайские княжества, Кипр, Борнео, Кокосовые и Мальдивские острова, остров Рождества, Бруней, Джохор. В Африке — Египет, Судан, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Британская Восточная Африка, Гамбия, Золотой Берег, Капская колония, остров Маврикий, Наталь, Британское Сомали, Занзибар и Пемба, Нигерия, Трансвааль, Оранжевая республика, Родезия, Уганда, Бечуаналенд, Басутоленд и Свазиленд. В Америке — Канада, Наветренные острова, Ньюфаундленд, Багамские острова, Подветренные острова, Фолклендские острова, Ямайка, Барбадос, Бермудские острова, Британская Гвиана, Тринидад и Тобаго. В Австралии и Океании — Австралия, Новая Зеландия, острова Фаннинг, острова Токелау, острова Фиджи, остров Норфолк, остров Питкерн, Соломоновы острова, острова Кука, острова Гилберта и Эллис, острова Тонга.
Лучше всего выразили политику викторианской эпохи известные стихи Редьярда Киплинга.
Впрочем, в те годы о будущих разрушителях в Британской империи всерьез еще не задумывались.
Но Викторианская эпоха — это не только промышленный расцвет Великобритании, не только ее широчайшая экспансия — это еще и чрезвычайное усиление «бытового пуританства». Нельзя сказать, чтобы оно в самом деле сопровождалось усилением религиозности; нет, скорее укреплялся и превращался в непререкаемую догму моральный кодекс «строителя империи».
Британия — превыше всего! Долг и семья священны!
Понятия «леди» и «джентльмен» стали в те годы синонимами женщин и мужчин, безупречных во всех отношениях. При этом множество англичанок среднего класса могли всю жизнь оставаться незамужними только из-за сложившейся в Викторианскую эпоху жесткой системы моральных условностей и предубеждений. Заключение, кто кому может быть достойной парой, делались обществом на основании невероятного количества самых разных, порой просто нелепых обстоятельств, а понятие социального статуса выводилось из признаков, поражающих своей условностью. Преуспевающий сельский лавочник, к примеру, не мог выдать свою дочь за сына дворецкого, служащего у местного лендлорда, потому что на социальной лестнице сын дворецкого стоял неизмеримо выше лавочника. А вот дочь дворецкого, напротив, могла выйти замуж за сына лавочника, но ни в коем случае не за простого крестьянского парня. Такую «отступницу» перестали бы принимать в приличных домах.
Открытые проявления симпатии и приязни между мужчинами и женщинами категорически осуждались. Верхом неприличия и развязности считалась любая попытка заговорить с незнакомым человеком — требовалось предварительное представление собеседников друг другу третьим лицом. Ухаживания должны были носить исключительно публичный характер и состояли из неких раз и навсегда принятых бесед и жестов. Скажем, знаком особого расположения, предназначенным специально для посторонних глаз, могло быть разрешение молодому человеку нести молитвенник, принадлежащий девушке, по возвращении с воскресного богослужения. Девушка, хотя бы на минуту оставшаяся в помещении наедине с мужчиной, не имевшим по отношению к ней официально объявленных намерений, считалась скомпрометированной. Понятно, конечно, что молодому человеку вовсе не обязательно было добиваться согласия родителей на брак, но каждый при этом знал, что отец имеет право лишить его наследства.
Женские платья шились глухими, закрытыми, скрадывавшими фигуру — с кружевными воротничками до ушей, с бесчисленными оборками, рюшами и буфами. Беременные женщины ни в коем случае не должны были появляться на людях. В светском разговоре нельзя было сказать о женщине, ждущей ребенка, что она беременна — только in amazing state (в интересном положении) или in hilarious expectation (в счастливом ожидании). Все врачи того времени были мужчинами, это вызывало множество проблем, а иногда приводило к настоящим трагедиям. Даже в столице считалось, что заболевшей женщине лучше умереть, чем позволить врачу-мужчине произвести необходимый медицинский осмотр. Часто врач не мог поставить пациентке толковый диагноз просто потому, что не имел права задавать ей «неприличные» вопросы…
Смерть королевы Виктории, последовавшая 22 января 1901 года, была воспринята британцами и как конец света, и как облегчение. Новая, «эдвардианская» эпоха, которую называют так по имени Эдуарда VII (1841–1910), взошедшего на трон после смерти матери, оказалась довольно короткой, но принесла большие перемены. Как писал известный драматург и писатель Дж. Б. Пристли: «Я был еще ребенком, когда он пришел на смену Виктории в 1901 году, но могу свидетельствовать о его необычайной популярности. Он был самым популярным королем из всех, кого Англия знала с 1660-х годов»[37]. Заметим, что школа короля Эдуарда, в которой учился Толкин, называлась в честь другого монарха — юного Эдуарда VI, недолго правившего Британией в XVI веке.
Приход к власти Эдуарда VII отразился, в частности, в быстром завершении Англо-бурской войны и относительно мягких условиях мирного договора. Одним из первых событий, ясно продемонстрировавших отношение наследника ко всяким опасным новшествам, стало то, что накануне коронации он согласился на операцию аппендицита, дотоле считавшуюся опасной и практиковавшуюся редко. Операция прошла вполне успешно, с использованием анестезии и асептики, и уже на следующий день Эдуард мог сидеть в постели и даже курить сигары, о чем с восхищением писала пресса.
После коронации новый король и император Британской империи занялся срочной модернизацией армии и флота, его многочисленные дипломатические поездки (в отличие от Виктории, новый король ездил очень много) сыграли немалую роль в формировании военных союзов, в полной мере показавших себя в ходе будущей мировой войны. В числе первых официальных визитов Эдуарда была встреча с французским президентом Эмилем Лубе, которая помогла уладить разногласия между Англией и Францией и привела к созданию Антанты.
Одним из новшеств эдвардианской эпохи стало и улучшение положения католиков: король даже посетил римского папу Льва XIII. Это сказалось на положении ораторианцев и в какой-то мере облегчило жизнь Мэйбл и ее детям. Ее большое внимание к образованию сыновей со временем себя оправдывало, тем более что в школе короля Эдуарда Рональду нравилось. Греческий язык буквально очаровал его. Английскую литературу в школе вел энергичный человек по имени Джордж Бруэртон, который, по словам Хэмфри Карпентера, оказался прирожденным филологом-медиевистом. Он требовал, чтобы школьники умели обходиться только простыми, проверенными, исконно английскими словами. Если, к примеру, мальчик произносил слово manure (компост), Бруэртон немедленно прерывал его: «„Компост“? Что еще за „компост“? Это называется — muck („дерьмо“). Повторите за мной три раза: „Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!“»[38]. Так Джордж Бруэртон избавлял родной язык от чужестранных заимствований (слово manure — литературное, французского происхождения). Он заставлял учеников вслух читать Чосера и декламировал им «Кентерберийские рассказы» в оригинале — на среднеанглийском.
Для Рональда это стало настоящим открытием. Вообще языки давались ему легко. Он самостоятельно выучил англосаксонский, а вслед за ним староанглийский, готский, норвежский, древнеисландский и финский. А ведь были еще латынь, греческий, французский и испанский! И Рональд не просто изучал языки, он вникал в них, пытался понять и выявить их корни. Он обнаружил вдруг, что язык, на котором говорили в древней Англии, полон темных, но удивительных, даже прекрасных слов. Он с восхищением перечитывал древнюю поэму «Беовульф». Подвиги датского короля Хротгара из славного рода Скильдингов буквально зачаровывали его. Это были удивительные, завораживающие строфы, особенно последнее повеление великого Беовульфа: «Схороните меня на берегу моря и насыпьте надо мной большой курган, чтобы его издали видели мореходы».
Курган высокий… Бугор могильный… Знак путеводный…
Поразительно, но уже в школе Рональд Толкин читал в оригинале не только «Беовульфа», но и средневековые английские поэмы. Он вел школьные дискуссии о языках на готском, он тщательно изучал древнюю мифологию, эпосы, сказания. Как мы уже писали, он не просто изучал языки — он их анализировал, домысливал. Наконец, сам придумывал новые языки. Например, эльфийский:
Это вовсе не набор бессмысленных слов. Это язык со своей грамматикой и лексикой, который слышали и понимали другие жители Средиземья, например, хоббиты. «Я и сам тогда был абсолютным хоббитом, — посмеивался Толкин, — только ростом повыше…»
Казалось, жизнь начинала налаживаться. Но пережитые стрессы не могли не сказаться. В 1904 году у Мэйбл неожиданно обнаружился диабет. Первый приступ болезни случился в феврале. Мэйбл очень надеялась, что это не страшно, что это пройдет, что ужасный приступ больше не повторится, но, конечно, была встревожена, хотя пыталась скрывать это. «Вы говорили, — писала она свекрови, пытаясь отвлечься от своих невеселых раздумий, — что один из рисунков, сделанных мальчиками, нравится вам больше всего. Они, конечно, нарисовали все это для вас. Особенно Рональд с блеском сделал свой рисунок — недавно у него состоялась даже самая настоящая выставка в комнате у отца Фрэнсиса».
Все же удержаться от жалоб Мэйбл не могла:
«Я, к сожалению, все еще больна, не выходила из дому почти месяц — даже в ораторий! — но благодаря этой мерзкой мокрой слякотной погоде чувствую себя лучше, а с той поры как заболел Рональд, могу даже отдыхать по утрам, хотя у меня целыми неделями бессонница».
И далее: «Я нашла почтовый перевод, который вы послали мальчикам некоторое время тому назад и который по ошибке был положен не туда, куда нужно. После этого мальчики провели в городе всю вторую половину дня, тратя полученные деньги на разные вещи, которые они хотели нам всем подарить. Они даже сделали все рождественские покупки. Рональд вообще может многое, даже подобрать цвет шелковой подкладки — не хуже настоящего парижского модиста. Он быстро продвигается в занятиях, знает греческий уже лучше меня и говорит, что займется со мной на каникулах немецким, хотя больше всего мне хотелось бы провести это время в постели…»[41]
К сожалению, новый, 1904 год начался плохо. Сперва Рональд и Хилари заболели свинкой. Потом пришла очередь коклюша, а Хилари подхватил пневмонию. Это отняло у Мэйбл последние силы, и в апреле она в очередной раз попала в госпиталь. Дом на Оливер-роуд закрыли, а детей отправили к родственникам: Хилари — к дедушке и бабушке Саффилдам, а Рональда — в Хоув, в семью Эдвина Нива, мужа его тети Джейн.
Диабет в те годы лечить не умели, но к лету Мэйбл поправилась настолько, что ее выписали из госпиталя. Добрый и шумный отец Фрэнсис тут же предложил план, который вполне устраивал Мэйбл. В деревушке Реднол в нескольких милях от Бирмингема кардинал Генри Ньюмен в свое время построил скромный дом для престарелых священников. Живущий рядом местный почтальон по фамилии Тил предложил сдать спальню и гостиную в своем доме Мэйбл Толкин и ее сыновьям — за вполне приемлемую плату, а его жена бралась еще и готовить для жильцов.
В конце июня 1904 года мальчики присоединились к матери.
Дом стоял на тихой деревенской улице, за ним тянулось заросшее деревьями кладбище, на котором хоронили священников оратория (там был похоронен и сам кардинал Ньюмен). Мальчики с удовольствием бродили по окрестностям, занимались играми. Мэйбл с облегчением писала свекрови: «Дети сейчас выглядят до смешного хорошо по сравнению с теми бледными призраками, которые встретили меня у поезда четыре недели назад! У Хилари хороший твидовый костюм, и сегодня он обул свои новые ботинки! Стоит отличная погода, так что мальчики напишут вам, наверное, несколько позже, когда будет дождливый день. Лазанье по деревьям, сбор ягод, чай на свежем воздухе, запуск воздушных змеев с отцом Фрэнсисом — никогда мои дети так не наслаждались…»
Отец Фрэнсис часто навещал Толкинов и любил сидеть на уютной увитой плющом веранде, разговаривать и дымить большой вишневой трубкой. Позже Толкин не раз утверждал, что его глубокая привязанность к трубкам идет, наверное, от тех долгих счастливых летних дней. «Да, я курю, — признавался он, — и это доставляет мне удовольствие».
Иногда Мэйбл с мальчиками ездила на мессу в Бромсгроув, нанимая повозку для себя и для мистера и миссис Черч — садовника и экономки оратория. Это были райские дни, чудесные дни. Но вновь и вновь в ночных снах Рональда поднималась над миром огромная темная волна — ужасные тревожные предчувствия или «комплекс Атлантиды», называйте как хотите…
В сентябре возобновились занятия в школе, но Мэйбл очень не хотелось покидать гостеприимный домик почтальона Тила. Дымный и грязный воздух Бирмингема приводил ее в ужас и уныние. В результате Рональду некоторое время пришлось ходить пешком до железнодорожной станции, а возвращался домой он так поздно, что Мэйбл приходилось встречать его в потемках с фонарем в руках.
А потом состояние Мэйбл вновь начало ухудшаться. В начале ноября она внезапно потеряла сознание. Случилось это прямо на глазах у испуганных детей. Мэйбл впала в диабетическую кому, помочь ей никто не смог, и 14 ноября 1904 года она скончалась. У изголовья ее бедной кровати сидели Мэй Инклдон, Рональд, Хилари и отец Фрэнсис.
Реднол, чудесный рай, был потерян навсегда.
Глава третья
ТАНЦЫ ЭЛЬФОВ
Толкин всю жизнь считал свою мать мученицей.
«Когда я задумываюсь о ее смерти, — писал он в январе 1965 года своему сыну Майклу, — о гонениях, нищете и недугах, которые в значительной мере явились следствием ее попытки передать нам, малышам, истинную веру; когда я вспоминаю крохотную спаленку, которую она делила с нами в домике почтальона в Редноле, — спаленку, где она умерла в одиночестве, даже не причастившись перед смертью, так усилился ее недуг, мне очень горько и тяжко от мысли, что мои собственные дети сейчас сбиваются с пути и уходят (от Церкви. — Г. П., С. С.). Да, Ханаан совсем по-другому воспринимается теми, кто ступил на Землю обетованную, выйдя из пустыни; и жители Иерусалима более поздних времен зачастую, наверное, казались глупцами или подлецами, или даже хуже. Но in hac urbe lux solemnis[43] — эти слова всегда казались мне правдивыми. „В своих блужданиях по свету“ я встречал раздражительных, бестолковых, не исполнявших своего долга, тщеславных, невежественных, лицемерных, ленивых, подвыпивших, жестокосердных, циничных, скупых, алчных, вульгарных, исполненных снобизма и даже (предположительно) безнравственных священников; но в моих глазах один отец Фрэнсис перевешивает их всех, а он был испано-валлийцем, тори, выходцем из высшего общества, и многие считали его старым бездельником-снобом и болтуном. Да, он был таким — и в то же время не был. От него я впервые узнал о милосердии и прощении, свет их пронзил даже тьму „либерализма“, из коей я вышел, больше зная о „Марии Кровавой“[44], нежели о Матери Иисуса — о которой, если и упоминалось, то лишь как об объекте греховного поклонения папистов»[45].
Все лучшее в себе Толкин считал полученным от матери. Он рос воспитанным ребенком, умел блеснуть юмором, точной фразой. Обожал спорт, прогулки, деревья, травы, любил долгие беседы с друзьями, — смерть матери отбросила на все это траурную тень. На могиле Мэйбл в Бромсгроуве отец Фрэнсис Морган поставил простой крест. В завещании она назначила именно его опекуном своих сыновей, и это был ее последний очень важный, многого стоивший подарок мальчикам: духовник никогда не забывал Рональда и Хилари. У него имелся небольшой, но постоянный доход от семейной торговли хересом, а еще Мэйбл оставила на банковском счету сумму в 800 фунтов — проценты с нее шли на содержание братьев.
Жизнь Рональда в эти годы напоминает типичный диккенсовский сюжет. Его окружали люди не во всем обычные, каждый со своими странностями и причудами. Например, Роберт Кэри Гилсон[46], директор школы короля Эдуарда, очень любил изобретать. В числе его изобретений числилась ветряная мельница, заряжавшая электрические батареи, от которых работал гектограф для размножения экзаменационных заданий для школы (весьма неудобочитаемых, по свидетельству самих школьников). Еще Гилсон носил аккуратную заостренную бородку, совсем не в английском стиле, но чудачества нисколько не портили его уроков — он прекрасно преподавал классические языки. Благодаря этому Рональд с еще большим интересом стал заниматься лингвистикой.
Отец Фрэнсис не решился оставить сыновей Мэйбл у их родственников — Саффилдов или Толкинов. Он помнил, как враждебно приняли близкие Мэйбл ее переход в католичество, и боялся, что теперь они с той же агрессивностью начнут отрывать мальчиков от церкви. Некоторое время Рональд и Хилари жили в доме их дальней родственницы — тети Беатрис Саффилд, видимо, потому, что она к религии относилась без всякого рвения. Дом ее стоял неподалеку от оратория, на Стирлинг-роуд, в бедном районе Бирмингема — Эгбастоне. На третий этаж в комнату мальчиков вела узкая скрипучая лестница. Хилари нравилось кидать камешками в кошек, пробегающих внизу; он вполне принял новое жилье, но Рональду навсегда остались ненавистны темные крыши соседних домов и такие же темные фабричные трубы. На горизонте проглядывала узкая полоска леса, но она была так далеко, что Рональда этот вид только угнетал. Ему казалось, что смерть матери навсегда оторвала его от чудесной жизни деревьев. Незадолго до переезда мальчиков тетя Беатрис овдовела и теперь с трудом сводила концы с концами, и настроения мальчиков ее совершенно не интересовали. Однажды Рональд застал ее у печи, в которой она жгла письма его матери. Он спросил, зачем она это делает, и тетя в ответ пожала плечами: кому они теперь нужны, эти бумажки?
К счастью, ораторий находился близко. Церковь стала для Рональда и Хилари настоящим домом. По утрам они сразу бежали в молельню и там помогали отцу Фрэнсису во время мессы. Потом вместе завтракали. Потом пешком шли в школу. Ораторианским священникам (и прежде всего отцу Фрэнсису) хватило мудрости одобрить такой порядок — когда мальчики учатся в лучшей школе Бирмингема, пусть и не католической, и одновременно с удовольствием принимают участие в жизни оратория, чувствуя, что и на них ложится доля ответственности.
В пятом классе школы Рональд открыл для себя поэму «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», написанную на староанглийском языке неизвестным автором еще в XIV веке. В ней говорилось о сэре Гавейне, одном из рыцарей Круглого стола, храбром, всегда верном данному слову. Забегая вперед скажем, что в будущем именно Толкин сделал один из самых лучших переводов-пересказов поэмы на современный английский. Он близко принимал к сердцу то, что на языке поэмы говорили его предки, и с энтузиазмом вникал в тонкости староанглийского языка.
Заодно Рональд занялся старонорвежским, поскольку ему очень хотелось прочесть в оригинале сагу о Сигурде и драконе Фафнире, которую он знал по «Красной книге» Эндрю Лэнга. Так что, говоря о чудаках, о странностях и причудах окружающего мира, надо помнить, что и самому Толкину свойственны были странности. Ну, в самом деле, кто по доброй воле стал бы столь усиленно заниматься «мертвыми» языками? И кто так часто мог бегать на железнодорожную станцию не для того, чтобы просто глазеть на пышущие паром мощные паровозы (о которых так живо написал в те годы Киплинг в своем сборнике «Дни работ»), а чтобы читать волшебные надписи на грузовых вагонах. Через Бирмингем многие поезда шли в Уэльс. Гламорган, Ллантрисант, Кередигион, Кармартен — для Рональда эти слова звучали как музыка. Валлийские названия, валлийский язык всегда его будоражили. Он чувствовал за ними какую-то загадку.
В старших классах школы Рональд увлекся еще одним языком — готским. Наверное, этому помогала мрачная атмосфера дома тети Беатрис. Рональд не просто изучал язык, на котором давно уже никто не говорил, — он анализировал и дополнял его. Он придумывал новые слова, которыми когда-то могли пользоваться сами готы. Известны слова Толкина об изобретении слов и языков: «Это отнюдь не редкость, знаете ли. Детей, у которых имеется то, что можно назвать творческой жилкой, куда больше, чем принято считать, — просто это стремление к творчеству не ограничивается какими-то определенными рамками. Не все любят рисовать, не все хотят заниматься музыкой — но большинству хочется что-нибудь создавать. И если основной упор в образовании делается на языки, творчество примет лингвистическую форму. Это явление настолько распространено, что я в свое время подумывал о необходимости целенаправленно его исследовать»[47].
У самого Толкина интерес к языкам вылился в настоящую страсть.
«Многие дети сами создают некие воображаемые языки, — писал он. — Я сам занимался придумыванием языков с того момента, как научился писать. И так никогда и не остановился в этом (подобно остальным ученикам), хотя, разумеется, как у любого профессионального филолога (в особенности интересующегося лингвистической эстетикой), у меня со временем поменялся вкус, я усовершенствовался в теории и, возможно, в ремесле. За моими историями стоит целый узел необычных языков, в которых, к сожалению, структура только намечена. Но, скажем, тем удивительным созданиям, которые по-английски обычно зовутся (неправильно) эльфами, теперь приписываются сразу два почти завершенных языка, история которых подробно мною описана, а грамматические формы научным образом выведены, опять же мною, из общего источника…»[48]
С кузинами Мэри и Марджори Инклдон (они жили за городом, в деревне Барнт-Грин) Рональд развлекался тем, что при встречах изобретал с ними некий секретный, служащий только для их игр язык, который они назвали «энималик» («зверинский»). Ничего необычного в этом не было, взрослые в этом смысле от детей не сильно отстают: вспомним язык эсперанто, предложенный в 1887 году врачом-окулистом из Белостока Лазарем Заменгофом. В придуманном Рональдом и его кузинами «зверинском» языке все было завязано на названиях птиц и зверей. Скажем, сочетание «собака-соловей-дятел-сорока» могло означать короткое «ты — осел». Позднее, когда Марджори (старшая кузина) вышла из игры, Мэри с Рональдом придумали еще один язык, гораздо более сложный. Они назвали его «невбош», то есть «новая чушь», и вскоре так развили, что даже сочиняли на нем незамысловатые стишки.
В школе Рональд развлекался тем, что придумывал слова «в греческом стиле». Но этого ему было мало. Ни «невбош», ни «зверинский» его не удовлетворяли. Он взялся за создание более серьезного языка, назвав его «наффарином». В основу его он положил слова валлийского языка; правда, это оказалось слишком сложным, и он вновь обратился к испанскому. И, возможно, достиг бы успеха, но тут в руки ему попал учебник Джозефа Райта «Введение в готский язык». На готском люди перестали разговаривать так давно, что до нашего времени дошли только некоторые его письменные фрагменты. Но Толкина это не остановило. Он начал разработку дополнительных (несохранившихся) слов; его записные книжки стали заполняться сложной системой странных символов.
Каждое лето отец Фрэнсис увозил мальчиков в Лайм-Риджис. В этом небольшом приморском городке они всегда останавливались в недорогом отеле под вывеской «Три чаши». Обрывистые меловые скалы, тишина, нарушаемая прибоем, множество окаменелостей, валяющихся под ногами. Лайм-Риджис впоследствии прекрасно описал Джон Фаулз в известном романе «Любовница французского лейтенанта»:
«Если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег, вашему взору открылась бы на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб (специальная каменная дамба для защиты гавани от бурных морских волн. — Г. П., С. С.) возвращается обратно к берегу, притулилось десятка два живописных домиков и маленькая верфь, в которой стоял на стапелях, похожий на ковчег, остов люггера. В полумиле к востоку, на фоне поросших травой склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в Средние века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, над усыпанным галькой берегом, круто вздымались мрачные серые скалы, известные в округе под названием Вэрские утесы. Выше и дальше, скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые скалы. Именно отсюда Кобб всего более производит впечатление последней преграды на пути эрозии, разъедающей западный берег. Если не считать нескольких жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне не видно ни единого строения»[49].
Однажды на берегу под скалами Рональд нашел что-то вроде тяжелой окаменевшей челюсти. Обыкновенная окаменелость, возможно, аммонит, но, конечно, Рональд сразу решил, что это не что иное, как окаменевшая челюсть настоящего дракона, и младший брат Хилари не стал с ним спорить. Постоянно разговаривая с мальчиками, отец Фрэнсис понял, что в доме тетушки Беатрис в Эгбастоне они чувствуют себя неуютно, поэтому по возвращении в Бирмингем он доверительно поговорил с некоей миссис Фолкнер, тоже жившей недалеко от оратория. Миссис Фолкнер часто устраивала у себя дома музыкальные вечера, на которые собирались ораторианские священники, и недорого сдавала комнаты. Познакомившись с мальчиками, она согласилась принять их.
Таким образом, в начале 1908 года братья переехали на Дачесс-роуд, 37, — в большой, заросший густым темным плющом дом. В комнату мальчиков, располагавшуюся на третьем этаже, вела витая узкая лестница. Жили в доме виноторговец Луис Фолкнер, муж миссис Фолкнер, весьма склонный к частому потреблению своей продукции, их дочь Элен, служанка Энни и еще одна съемщица — девятнадцатилетняя девушка по имени Эдит Брэтт. Стройная, сероглазая, темноволосая, она, как и мальчики, была круглой сиротой: мать родила ее вне брака, в свидетельстве о рождении отец даже не был указан, что было вопиющим нарушением викторианских приличий. До смерти матери Эдит росла в Хэндсворте с кузиной Дженни Гроув, дочерью сэра Джорджа Гроува, издателя известного музыкального словаря[50]. Она любила музыку, даже окончила музыкальную школу, но опекун не знал, как правильно употребить талант девочки. К счастью, Эдит унаследовала от матери несколько небольших участков земли в разных районах Бирмингема, что обеспечивало ей собственный постоянный доход. Миссис Фолкнер была довольна своей юной жилицей и даже просила ее иногда аккомпанировать на музыкальных вечерах.
Рональду было шестнадцать, Эдит — девятнадцать. Он выглядел старше своих лет, а она — напротив, моложе. Они подружились. Сдружились и со служанкой Энни, которая тайком добывала для них еду на кухне, — тогда в комнате Эдит устраивались тайные пиры. Комната Рональда и Хилари находилась над комнатой Эдит. Рональд и Эдит придумали особый свист, которым вызывали друг друга у открытого окна. Дом спал — а они подолгу переговаривались, поздно вечером или на заре. Спустя годы в письме к Эдит Рональд с нежностью вспоминал, «как я в первый раз поцеловал тебя, а ты меня — почти случайно, и как мы говорили друг другу „спокойной ночи“… и эти наши дурацкие длинные разговоры из окна в окно… и как мы любовались сквозь туман солнцем, встающим над городом… и ночные мотыльки, которые временами пугали тебя, и наш условный свист, и велосипедные прогулки, и беседы у очага, и три великих поцелуя…»[51].
Иногда Эдит и Рональд вдвоем ходили в бирмингемские чайные. Он вспоминал (ах, это удивительное время на границе отрочества и юности!), как, устроившись за столиком на балконе одной из чайных, они развлекались, бросая кусочки сахара на шляпы прохожих — в основном, разумеется, дам, чьи шляпы в то время отличались немалыми размерами.
Но чувства чувствами, а Рональд должен был готовиться к экзаменам на получение стипендии для учебы в Оксфорде. Скромных средств, оставшихся от матери, и тех, что выделял мальчикам опекун, в обрез хватало только на оплату школьных занятий, — на Оксфорд их, конечно, не хватило бы. А учиться Рональд хотел только в Оксфорде, — где еще можно получить настоящее представление о языках?[52]
Однажды в конце осеннего семестра 1909 года Рональд договорился с Эдит об очередной велосипедной прогулке за город. «Нам казалось, что мы все задумали чрезвычайно хитро, — вспоминал он позже. — Эдит уехала на велосипеде раньше меня, сказав, что отправляется в гости к своей кузине Дженни Гроув. Немного погодя выехал я, „потренироваться на школьной спортплощадке“. Мы встретились в условленном месте и покатили в холмы Лики»[53]. Там, на холмах, постепенно превращаемых правительством в заповедник, они провели всю вторую половину дня, а возвращаясь, еще и заехали в Реднол выпить чаю. К сожалению, хозяйка дома, где их так дружески угощали, при случае рассказала о неожиданном визите миссис Черч, экономке оратория, которая упомянула об этом в разговоре с поварихой, а уже от поварихи о долгой прогулке узнал отец Фрэнсис.
Конечно, он был невероятно разгневан. Подопечный, которому он уделял столько человеческого тепла, любви, денег, наконец, не просто обманывал его — вместо того, чтобы сосредоточиться на жизненно важных школьных занятиях, он завел любовный роман с девушкой на три года старше себя!
Немудрено, что отец Фрэнсис потребовал прекратить все отношения с Эдит. Более того, он категорически приказал братьям срочно переехать в другой дом. И Рональд подчинился. Не мог не подчиниться. Викторианское время отнюдь не закончилось. К тому же Рональд чисто по-человечески был привязан к отцу Фрэнсису, любил его и (возможно, это было главным) полностью от него зависел.
На экзамен в Оксфорд Рональд поехал совершенно расстроенный. Поселили его в здании колледжа Корпус Кристи (Тела Христова). Из высокого стрельчатого окна открывался вид на множество темных старинных шпилей и кирпичных труб; но это был не просто вид — за окном дымило будущее, сияла новая жизнь, совсем новая, невероятная, ведь никто из Саффилдов или Толкинов никогда не учился в таком престижном заведении…
Но доказать свое право на новую жизнь в тот раз Рональд не сумел — сдать экзамен у него не получилось.
«В депрессии, и мрачен, как всегда, — записал Рональд в своем дневнике в первый день нового, 1910 года. — Помоги мне, Боже! Чувствую себя слабым и усталым»[54].
Дневники Толкина в тот год полны самых разных жалоб, правда, может, и потому, что заполнял он их почти исключительно в дни отчаяния.
По настоянию отца Фрэнсиса братья перебрались жить к другим людям, но дом миссис Фолкнер никуда не делся, он находился неподалеку, и там по-прежнему жила Эдит. Рональду ненавистна была мысль о новых обманах, но тайком он все же встречался с девушкой, не мог побороть себя. Иногда они проводили вместе по несколько часов. Однажды в ювелирном магазине Эдит купила Рональду красивую ручку, а он ей (в лавке для недорогих подарков) — часы за десять шиллингов и шесть пенсов — к ее двадцать первому году рождения. На следующий день они украдкой побывали в одной из чайных, но там их увидел кто-то из знакомых, тут же донесший об этом опекуну.
На этот раз отец Фрэнсис разгневался по-настоящему.
Никаких встреч, никаких писем — до полного совершеннолетия!
«Три года, — записал Рональд в дневнике. — Это ужасно!» [55] К тому же Эдит собралась переезжать в Челтнем, а это не близко. 16 февраля в дневнике Рональда появилась запись: «Вчера вечером молился о том, чтобы встретиться с Э. случайно. Молитва моя услышана. Встретил ее в 12.55 у „Принца Уэльского“. Сказал, что не могу ей писать, и договорился, что через две недели, в четверг, приду ее проводить. Я повеселел, но до следующей встречи, когда я смогу увидеть ее еще хотя бы раз, чтобы подбодрить ее, так далеко…» [56]
Двадцать первого февраля последовала новая встреча: «Увидел издалека маленькую фигурку, бредущую по лужам в макинтоше и твидовой шляпе, и не устоял: перешел через улицу и сказал, что я ее люблю и чтобы держалась бодрее. Это меня немного утешило ненадолго. Молился и много думал» [57]. И, наконец, 23 февраля: «Встретил ее идущей из собора, куда она ходила помолиться за меня…» [58]
Все эти встречи действительно были случайными, но и о них тут же стало известно отцу Фрэнсису. 26 февраля Рональд получил от него письмо, в котором его поведение оценивалось как исключительно дурное, даже безумное. Отец Фрэнсис в приступе гнева даже угрожал положить конец не только этим встречам, но и всей будущей университетской карьере Рональда.
«Это значит, что я не могу видеться с Э. И даже писать. Помоги мне, Боже!» [59]
В среду 2 марта Эдит покинула Дачесс-роуд и переехала в Челтнем.
Некоторые письма Толкина незаменимы в качестве ключа для лучшего понимания его жизни и характера. Конечно, «у шкатулки ж тройное дно», как писала Анна Ахматова в «Поэме без героя», и тем не менее… Толкин был сдержанным человеком, однако, касаясь какой-то темы, старался по возможности говорить правду.
И тут нельзя обойтись без обширного цитирования.
«Отношения мужчин с женщинами, — писал Толкин в марте 1941 года своему сыну Майклу, который служил в это время в зенитных войсках, принимая участие в обороне Британских островов, — могут быть чисто плотскими (на самом-то деле, конечно, не могут; но я имею в виду, что мужчина может отказаться принимать в расчет все остальное, причиняя тем самым великий вред своей душе и телу, как и душе и телу женщины); или „дружескими“; или же он может быть „влюбленным“ (сплавляя все силы разума и тела в сложном смешанном чувстве, ярко окрашенном и наэлектризованном „сексом“). Мы живем в падшем мире. И вывихнутый сексуальный инстинкт — один из главных симптомов Падения. На протяжении эпох мир скатывается все ниже. Одни модели общественного устройства сменяются другими, и каждый новый тип заключает в себе свою опасность; однако с тех пор, как пал Адам, „безжалостный дух вожделения“ шествует по каждой улице и восседает, плотоядно ухмыляясь, на каждом углу. „Аморальные“ последствия мы пока оставим. В них тебе (Майклу. — Г. П., С.С.) вообще впутываться не хочется. К воздержанию склонности у тебя нет. Значит, „дружба“? В нашем падшем мире „дружба“, способная связывать всех представителей рода человеческого, между мужчиной и женщиной фактически невозможна. Дьявол неистребимо изобретателен, а секс — его любимый трюк. Он в совершенстве умеет уловлять нас и через великодушные романтические или чувствительные мотивы, и через потребности более низменные, животные. Эту самую „дружбу“ люди опробовали неоднократно: практически всегда или одна сторона „сорвется“, или другая. Позже, в зрелые годы, когда сексуальное влечение поостынет, дружба, пожалуй, и возможна. Вероятно, она случается между святыми. А в случае обычных людей это — большая редкость. Да, два разума, что впрямь родственны друг другу интеллектуально и духовно, могут по чистой случайности оказаться в женском и мужском телах и достичь „дружбы“ абсолютно независимо от секса. Однако рассчитывать на это не стоит. Вторая сторона почти неминуемо подведет его (или ее) — и „влюбится“. На самом деле молодой человек (как правило) „дружбы“ вовсе и не ищет, даже если уверяет в обратном. А ищет он любви: невинной и в то же время, пожалуй, лишенной ответственности. „Увы, увы, почто любовь греховна?“ — как пишет Чосер. А тогда, если молодой человек христианин и понятие греха ему ведомо, он хочет знать, что же теперь с этим делать.
В западной культуре традиция романтической рыцарственности сильна до сих пор, хотя наше время к ней враждебно, как к продукту христианского мира. Однако ни в коем случае не стоит ставить знак равенства между нею и христианской этикой. Традиция эта идеализирует „любовь“ — и в этом смысле может оказаться весьма благой, поскольку вбирает в себя куда больше, нежели телесное удовольствие, и подразумевает если не чистоту, то, по крайней мере, верность, а значит — самоотречение, „служение“, честь и отвагу. А слабость ее состоит в том, что возникла эта традиция как искусственная куртуазная игра, как способ наслаждаться любовью ради любви, безотносительно (и даже вопреки) к браку. В центре ее стоял не Господь, а выдуманные кумиры — Любовь и Дама. Она по-прежнему склонна видеть в Даме своего рода путеводную звезду или божество — объект или причину благородного поведения. Это, разумеется, фальшь, в лучшем случае придумка „понарошку“. Женщина — такое же падшее существо, как мужчина, и ее душа подвергается тем же опасностям. Но в сочетании и в гармонии с религией (как случилось давным-давно встарь, — во многом через это и возникло прекрасное поклонение Пресвятой Деве, посредством которого Господь настолько очистил и облагородил нашу грубую мужскую природу и чувства и смягчил и расцветил нашу суровую, горькую религию) традиция эта может преисполниться и благородства, и величия. Вот тогда она порождает то, что, как мне кажется, даже в глазах тех, кто сохранил хотя бы рудименты христианства, воспринимается как высший идеал любви между мужчиной и женщиной.
Однако же я все равно считаю, что в ней заключено немало опасностей. Во-первых, она не вполне истинна и не абсолютно „теоцентрична“. Она мешает молодому человеку или, во всяком случае, мешала в прошлом увидеть в женщинах то, что они есть на самом деле: сотоварищей по кораблекрушению, а не какие-то там путеводные звезды. (В результате, помимо всего прочего, разглядев истинное положение дел, молодой человек становится циником.) Заставляет себя позабыть об их желаниях, потребностях и искушениях. Насаждает раздутые представления об „истинной любви“ как об огне, дарованном извне, как о постоянной экзальтации, не имеющей отношения ни к возрасту, ни к деторождению, ни к простой повседневной жизни, ни к воле и цели. В результате, помимо всего прочего, молодые люди ищут „любви“, способной обеспечить им тепло и уют в холодном мире без всяких усилий с их стороны; а закоренелые романтики не отступаются от поисков даже в грязи бракоразводных процессов.
Сами женщины ко всему этому почти не причастны, хотя могут пользоваться языком романтической любви, раз уж он настолько прочно вошел во все наши идиомы. Сексуальный инстинкт делает женщин (разумеется, чем меньше испорченности, тем больше здесь бескорыстия) очень сочувственными и понимающими, либо заставляет прицельно желать стать таковыми (или казаться), преисполняет готовности разделить по возможности все интересы молодого человека, к которому их влечет: от галстуков до религии. Это не обязательно сознательное стремление обмануть, но чистой воды инстинкт: инстинкт существа зависимого, инстинкт помощницы, в избытке подогретый желанием и молодой кровью. Под влиянием этого импульса женщины на самом деле зачастую обретают интуицию и понимание поистине удивительные, даже в том, что касается предметов, лежащих вне сферы их естественных интересов. Ибо им дарована особая восприимчивость: мужчина их стимулирует, оплодотворяет (во многих других аспектах помимо чисто физического). Любому преподавателю это отлично известно. Как быстро умные женщины учатся, перенимают его идеи, схватывают самую суть — и как (за редким исключением), отпустив руку наставника или утратив личный интерес к нему, дальше они продвинуться не в силах. Но таков их естественный путь к любви. Девушка, еще не сознавая, что происходит (в то время как романтический юноша, ежели таковой наличествует, пока еще только вздыхает), уже, пожалуй, „влюбилась“. Что для нее, не испорченной от природы, означает: она хочет стать матерью детей молодого человека, даже если сама она этого в полной мере и со всей отчетливостью не сознает. Вот тут-то все и начинается; а ежели события станут развиваться не так, как должно, то вреда и боли не оберешься. Особенно если молодому человеку путеводная звезда и божество требовались лишь на время (до тех пор, пока впереди не замаячит светило более яркое) и он всего лишь наслаждался лестным сочувствием, мило приправленным волнующим привкусом секса, — все, разумеется, абсолютно невинно, ни о каком „обольщении“ не идет и речи!
Возможно, тебе доводилось встречать в жизни (и в литературе) женщин, которые ветрены или откровенно распущенны, — я имею в виду не просто кокетство, тренировочный бой в преддверии настоящего поединка, но женщин, которые слишком глупы, чтобы принимать всерьез даже любовь, или в самом деле настолько порочны, что наслаждаются „победами“, — им даже доставляет удовольствие причинять боль; но это аномалии, хотя ложные теории, дурное воспитание и безнравственная мода могут их поддерживать. При том, что в современных обстоятельствах положение женщины существенно изменилось, равно как и общепринятые представления о благопристойности, природный инстинкт у них остался тот же. У мужчины есть труд всей жизни, есть карьера (и друзья мужского пола), и все это способно пережить крушение „любви“ (и переживает ведь, если у мужчины есть хоть сколько-то характера). А девушка, даже та, что „экономически независима“, начинает практически сразу думать о приданом и мечтать о собственном доме. И если она действительно влюблена, неудача и впрямь может обернуться для нее крушением всех надежд. В любом случае женщины в общем и целом куда менее романтичны и куда более практичны. Не обманывайся тем, что на словах они более „сентиментальны“ — свободнее пользуются обращением „милый“ и все такое. Им-то путеводная звезда не нужна. Возможно, они идеализируют заурядного молодого человека, видя в нем героя; но на самом деле весь этот романтический ореол им не нужен — ни для того, чтобы влюбиться, ни для того, чтобы сохранить в себе это чувство. Если они в чем и заблуждаются, то разве что наивно веря, будто они способны „перевоспитать“ мужчину. Они с открытыми глазами примут мерзавца и подлеца и, даже когда тщетная надежда перевоспитать его угаснет, будут любить его по-прежнему. И, конечно же, в том, что касается сексуальных отношений, они куда большие реалисты.
<…>
Моя собственная история настолько исключительна, настолько неправильна и неблагоразумна почти во всех подробностях, что взывать к благоразумию мне не просто. Однако ж нельзя выводить закон из крайностей; а случаи исключительные не всегда могут послужить примером для других. Что разумно было бы здесь привести, так это нечто вроде автобиографии: причем применительно к данной ситуации, с особым акцентом на возраст и материальное положение.
Я влюбился в твою маму в возрасте приблизительно восемнадцати лет.
Влюбился вполне искренне, как подтвердилось впоследствии, — хотя, конечно же, в силу недостатков своего характера и темперамента я зачастую недотягивал до идеала, с которого начал. Твоя мама была старше меня и к католической церкви не принадлежала. В высшей степени прискорбная ситуация, по мнению моего опекуна. В определенном смысле, это и впрямь было весьма прискорбно и в некотором смысле — очень неудачно для меня. Такие вещи поглощают тебя с головой, эмоционально изматывают до крайности. Я был смышленым мальчиком, в поте лица своего зарабатывал себе оксфордскую стипендию (весьма и весьма необходимую). И это двойное напряжение едва не привело к нервному срыву. Я провалил экзамены и, хотя (как поведал мне много лет спустя директор школы) я заслуживал приличной стипендии, в итоге насилу отвоевал себе жалкие 60 фунтов в Эксетере: этого, в придачу к выходной школьной стипендии на ту же сумму, только-только хватило на университет (не без помощи моего доброго старого опекуна). Разумеется, были тут и свои плюсы, для опекуна моего не столь очевидные. Я был умен, но мне недоставало трудолюбия и упорства; провалился я главным образом из-за того, что просто-напросто не работал (по крайней мере, над классическими дисциплинами) — и не потому, что влюбился, а потому, что изучал нечто совсем другое: готский язык и всякое такое прочее…
Воспитанный в романтическом духе, я воспринял свой юношеский роман абсолютно всерьез — и стал черпать в нем вдохновение. От природы слабак и трус, я за два сезона из презренной мокрой курицы дорос до второй команды факультета (регби. — Г. П., С. С.), а потом и „цвета“ завоевал. Ну, и все прочее в таком духе. Однако возникла проблема: я встал перед выбором — не подчиниться опекуну и огорчить (или обмануть) человека, который был мне как отец, делал для меня больше, чем большинство отцов по крови делают для своих детей, при этом не будучи связан никакими обязательствами, или „оборвать“ роман до тех пор, пока мне не исполнится двадцать один год. О своем решении я не жалею, хотя возлюбленной моей пришлось очень тяжело. Но моей вины в том нет. Она была абсолютно свободна, не давала мне никаких клятв, и по справедливости я ни в чем не мог бы ее упрекнуть (разве что взывая к вымышленному романтическому кодексу), выйди она замуж за другого. Почти три года я с моей возлюбленной не виделся и не переписывался. Мне было несказанно тяжко, больно и горько, особенно поначалу. Да и последствия оказались не вовсе хороши: я вновь сделался безалаберен и небрежен и даром потратил большую часть моего первого года обучения в колледже. И все-таки не думаю, будто что-либо другое могло бы оправдать брак на основании юношеского романа; и, возможно, ничто другое не закалило бы волю настолько, чтобы подобный роман упрочить (при всей искренности первой любви).
В ночь, когда мне исполнился двадцать один год, я снова написал твоей маме — это было 3 января 1913 года. А 8 января я поехал к ней, и мы заключили помолвку. Я подтянулся, поднатужился, поработал малость, а на следующий год началась война; мне оставалось пробыть в колледже еще год. В те дни ребята шли в армию — либо подвергались остракизму. Ну и предерзкое положение, особенно для юноши, в избытке наделенного воображением и не то чтобы храброго! Ни ученой степени, ни денег, зато — невеста. Я выдержал поток злословия, намеки, на которые родня не скупилась, остался в университете и в 1915 году сдал выпускные экзамены с отличием первого класса. Потом сорвался в армию: на дворе был июль 1915 года. Понял, что больше не вынесу, и 22 марта 1916 года женился. А в мае переплыл Ла-Манш (у меня до сих пор сохранились стихи, написанные по этому поводу) и угодил в кровавую бойню на Сомме. Вот теперь подумай о своей маме! И все-таки я и сейчас ни на единое мгновение не усомнюсь: она лишь исполняла свой долг, не больше и не меньше. А я был совсем зеленым юнцом с жалким дипломом бакалавра и со склонностью к виршеплетству, с несколькими фунтами за душой (20–40 фунтов годового дохода), и те тают на глазах, при этом — никаких перспектив: второй лейтенант на жалованье 7 шиллингов 6 пенсов в день, в пехоте, где шансы на выживание очень и очень невелики. Она вышла за меня замуж в 1916 году, а Джон родился в следующем (зачат и выношен в голодный 1917 год приблизительно во время битвы при Камбре, когда казалось, что войне конца не будет, прямо как сейчас). Я вышел из доли, продал последние из моих южноафриканских акций, мое „наследство“, чтобы оплатить родильный дом…
Из мрака моей жизни, пережив столько разочарований, передаю тебе тот единственный, исполненный величия дар, что только и должно любить на земле: Святое причастие. В нем обретешь ты романтику, славу, честь, верность, истинный путь всех своих земных Любовей и более того — Смерть: то, что в силу божественного парадокса обрывает жизнь и отбирает все и, тем не менее, заключает в себе вкус (или предвкушение), в котором, и только в нем, сохраняется все то, что ты ищешь в земных отношениях (любовь, верность, радость), — сохраняется и обретает всю полноту реальности и нетленной долговечности, — то, к чему стремятся все сердца…»[60]
Письмо Майклу было написано в 1941 году.
В 1909 году Толкин, вероятно, думал несколько иначе. Он жил. Он набирался опыта. В 1911 году во время летних каникул он вместе с младшим братом Хилари совершил путешествие по Швейцарии. В наши дни Европейского союза и шенгенских виз — мало кто вспоминает, что перед Первой мировой войной, во время так называемой Belle Epoque, «прекрасной эпохи», Европа уже была (или казалась) единой. Виз не требовалось или их выдавали прямо на границе, все основные валюты свободно конвертировались, а роль евро в международных расчетах играли золотые франки. Группу, в составе которой отправились в Швейцарию братья Толкины, организовала семья Брукс-Смит, на ферме которых в Сассексе работал Хилари, не захотевший продолжать учебу в школе. Поехали в Швейцарию сами Брукс-Смиты, их дети, Рональд с Хилари, тетя Джейн и несколько школьных учительниц, с которыми Брукс-Смиты дружили.
Через 56 лет в письме Майклу, по каким-то причинам сыну не отосланном, но сохранившемся в архиве писателя, Толкин так вспоминал свои приключения:
«Я очень рад, что ты познакомился со Швейцарией, притом с той ее областью, которую я некогда знал лучше прочих и которая произвела на меня сильнейшее впечатление. Путешествие хоббита (Бильбо) от Ривенделла на другую сторону Туманных гор, включая соскальзывание вниз по осыпающемуся склону в сосновый лесок, основано именно на моих приключениях в 1911 году. Солнечный замечательный год, когда от апреля до октября дождей считай, что вообще не шло, вот только в канун коронации Георга V и утром того дня. Я это хорошо помню, поскольку (снова предзнаменование!) КПО (Корпус подготовки офицеров. — Г. П., С. С.) в те времена был в чести, и меня в числе двенадцати представителей от школы короля Эдуарда прислали помогать „держать строй вдоль всего маршрута следования“. На ближайшую промозглую ночь нас расквартировали в Ламбетском дворце, а спозаранку пасмурным утром мы промаршировали на свой пост. Погода вскорости прояснилась. Я, собственно говоря, стоял как раз напротив Букингемского дворца, справа от парадных врат, лицом к зданию. Мы отлично видели кавалькаду, и я навсегда запомнил одну сценку (причем спутники мои ничего не заметили): когда карета с королевскими детьми въезжала внутрь на обратном пути, принц Уэльский (прелестный мальчуган) высунулся из окна, причем корона у него съехала набок. Сестрица тут же втянула его назад и сурово отчитала…
Сейчас мне уже не восстановить в точности последовательность странствий нашего отряда из двенадцати человек, по большей части пешком, зато отдельные картины всплывают в памяти настолько ярко, как если бы дело было только вчера (вот насколько давние воспоминания старика обретают отчетливость). Мы прошли пешком, с тяжелыми рюкзаками, практически весь путь от Интерлакена, главным образом горными тропами, до Лаутербруннена и оттуда до Мюррена, и, наконец, к выходу из Лаутербрунненталя среди ледниковых морен. Ночевали мы в суровых условиях, мужчины, то есть, — частенько на сеновале или в коровнике, поскольку шли по карте, дорог избегали, номеров в отелях не заказывали, с утра довольствовались скудным завтраком, а обедали на открытом воздухе. В ход шли утварь для готовки и изрядное количество „спридвина“, как один необразованный франкоговорящий участник похода произносил слово „денатурат“. Потом мы, если не ошибаюсь, отправились на восток через два хребта Шайдегге к Гриндельвальду, оставляя Айгер и Мюнх справа, и, наконец, добрались до Майрингена. Когда Юнгфрау скрылась из виду, я о том глубоко пожалел: вечные снега, словно выгравированные на фоне солнечного вечного света, и на фоне темной синевы — четкий пик Зильберхорна: Серебряный Рог (Келебдиль) моих грез. Позже мы преодолели Гримзелльский перевал и спустились на пыльное шоссе вдоль Роны, где курсировали конные „дилижансы“, да только не про нашу душу! В Бриг мы пришли пешком — в памяти остался только шум; а там повсюду трамвайные пути, и визг и скрежет стоит над рельсами часов по двадцать в сутки, никак не меньше.
После такой ночи мы взобрались на несколько тысяч футов наверх к деревне у подножия Алечского ледника и там задержались на несколько ночей в гостинице-шале, под крышей и в постелях (или скорее под постелями: bett — это такой бесформенный мешок, под которым ты сворачиваешься калачиком). Помню несколько тамошних примечательных эпизодов. Первый — исповедоваться пришлось на латыни; другие, менее знаменательные: мы изобрели способ расправляться с пауками-сенокосцами, капая расплавленным воском со свечки на их толстые тушки (слуги этого развлечения не одобрили); а еще „игра в бобров“, которая меня заворожила. Чудное местечко для забавы: на такой высоте воды много, с гор струятся бессчетные ручейки, да и материала для плотины хоть отбавляй: россыпи камней, вереск, трава, жидкая грязь. Очень скоро у нас получился чудесный „прудик“ (вместимостью, сдается мне, галлонов в двести, никак не меньше). Тут нас подкосили муки голода, один из хоббитов отряда (он жив и по сей день) завопил: „Обедать!“ — и сокрушил плотину ударом альпенштока. Вода хлынула вниз по склону, и только тут мы заметили, что запрудили ручеек, который, сбегая вниз, наполнял баки и бочки позади гостиницы. В этот самый момент пожилая дама вышла с ведром за водой — а ей навстречу пенный поток! Бедняжка выронила ведро — и бросилась прочь, призывая всех святых. Мы какое-то время лежали, затаившись, что твои „бродяги, обитатели торфяных ям“, а потом прокрались в обход и явились-таки „к ленчу“ — сама невинность, хотя и в грязи по уши (в том путешествии для нас — дело обычное).
А в один прекрасный день мы отправились в долгий поход с проводниками на Алечский ледник, и там я едва не погиб. Да, проводники у нас были, но либо эффект жаркого лета оказался для них внове, либо не слишком-то они о нас пеклись, либо вышли мы поздно. Как бы то ни было, в полдень мы гуськом поднимались по узкой тропке, справа от которой до самого горизонта протянулся заснеженный склон, а слева разверзлось ущелье. В то лето растаяло много снега, так что обнажились камни и валуны, обычно (я полагаю) укрытые под ним. На дневной жаре снег продолжал таять, и мы весьма встревожились, видя, как тут и там камни, набирая скорость, катились вниз по склону: камни самые разные, величиной от апельсина до большого футбольного мяча, а многие и покрупнее. Они со свистом проносились над нашей тропой и срывались в пропасть. „Здорово лупят, леди и джентльмены!“ Стронувшись с места, камни поначалу катились медленно и обычно по прямой, однако тропка была неровная, так что приходилось и под ноги внимательно смотреть. Помню, как одна участница похода, идущая впереди меня (пожилая учительница), внезапно взвизгнула и метнулась вперед, и между нами просвистела здоровенная глыба от силы в каком-нибудь футе от моих трусливо подгибающихся колен. После того мы отправились в Вале, но здесь воспоминания мои не столь отчетливы: хотя помню, как однажды вечером мы, с ног до головы заляпанные грязью, прибыли в Церматт, а французские bourgeoises dames[61] разглядывали нас в лорнеты. Мы вскарабкались с проводниками на высоту домика Альпийского клуба — со страховкой (иначе я бы свалился в снежную расселину в леднике); помню ослепительную белизну изрезанной снежной пустыни между нами и черным рогом Маттерхорна в нескольких милях от нас.
Наверное, сейчас это все уже не слишком-то интересно. Но в девятнадцать лет для меня это был потрясающий опыт после детства, проведенного в бедности»[62].
Из Швейцарии Толкин привез несколько цветных открыток. На одной из них (репродукция картины немецкого художника Йозефа Маделенера «Горный дух») был изображен старец, сидящий на камне под сосной. У него седая острая борода, на голове широкополая шляпа, на плечах свободный красный плащ. Олененок ласково облизывает старцу руки, а вдали возвышаются, как волшебные башни, скалы. Через много лет эта открытка вновь попала на глаза Толкину, и он надписал ее теперь понятными нам словами: «Происхождение Гэндальфа».
В школе короля Эдуарда Толкин изучал классическую филологию. В дополнение к обязательным языкам он занялся (исключительно по собственному желанию) древнегреческим и экзотическим для того времени финским, на котором смог наконец прочесть в подлиннике «Калевалу». Наверное, многое в этом эпосе отвечало переживаемым им тогда моментам.
Одиночество… Тревожные мысли…
Прежде Рональд как-то не обращал внимания на школьное «Дискуссионное общество», члены которого в яростных спорах оттачивали свое ораторское мастерство, но дружба с Эдит его преобразила. Однажды он вдруг выступил на одном из собраний с яростной речью в защиту суфражисток. Речь Толкина членам общества понравилась, хотя в школьной газете отметили «смазанную» дикцию оратора — следствие спортивной травмы. В другом выступлении Рональд обрушился на варваризмы, вытесняющие из повседневной речи родные английские слова. А в дискуссии об авторстве пьес Шекспира сказал (по свидетельству одного из своих одноклассников) немало нелестных слов о личности английского драматурга, об отвратительной среде, в которой жил драматург, наконец, о его «гнусном характере».
На Пасху Рональд выпросил у отца Фрэнсиса разрешение написать Эдит. Крайне неохотно опекун согласился. (Сейчас, после прочитанного нами письма Майклу мы можем легко представить, что тогда творилось на душе школьника.) На письмо Рональда девушка тотчас ответила. Она тоже скучала и рада была сообщить, что на новом месте вполне устроилась, ей хорошо и «ужасные времена на Дачесс-роуд» кажутся ей только сном. Жила она в доме мистера С. X. Джессопа и его жены, которых называла «дядей» и «тетей», хотя они вовсе не приходились ей родней. «Дядя» временами бывал сварлив, соседи его недолюбливали, зато Эдит часто общалась со своей школьной подругой Молли Филд, жившей неподалеку. Каждый день она упражнялась в игре на фортепьяно, брала уроки игры на органе и даже играла на службах в приходской англиканской церкви. Более того, она стала членом «Лиги подснежника» — организации консерваторов, выступающей за англиканскую церковь и монархию. Последнее сильно удивило Рональда, но, в конце концов, у каждого — свои увлечения. В том же 1911 году сам Рональд со своими друзьями Уайзменом и Гилсоном (сыном директора) создал при школе короля Эдуарда «Чайный клуб», позже получивший приставку «Бэрровианское общество» (ЧКБО).
Собирались члены ЧКБО в школьной библиотеке, где учителям постоянно помогали сами школьники. Толкин, Кристофер Уайзмен (1893–1987) и Роберт Гилсон (1893–1916) как раз оказались в одной такой команде. Уайзмен очень любил музыку, одно из его любительских сочинений попало позже в «Книгу методистских песнопений» («Methodist Hymn-Book»), куда его рекомендовал преподобный Фредерик Люк Уайзмен (отец Кристофера), возглавлявший бирмингемскую веслианскую миссию. Гендель, Брамс и Шуман, немецкие хоралы — вот что по-настоящему вдохновляло Кристофера, но, как утверждал в своей книге Дж. Гарт[64], его дружба с Толкином началась с регби. Оба носили футболки в красную полоску и постоянно участвовали в схватках на игровом поле с мальчишками, носившими зеленые футболки. Уайзмен был на год моложе Рональда, но нисколько не уступал ему в знаниях; по дороге в школу они с величайшим пылом спорили обо всем на свете. Это их еще больше сближало.
Гилсон любил рисовать, карандаш и уголь были его страстью. Роберта восхищало скульптурное мастерство флорентийского Ренессанса, он часами мог увлеченно рассуждать о работах Брунеллески, Лоренцо Гиберти, Донателло, Луки делла Роббиа.
Путешествовать, изучать искусство — что может быть интереснее?
Чуть позже к друзьям примкнул Джеффри Бейчи Смит (1894–1916). Он считал себя поэтом, и действительно мало кто среди «Великих Близнецов»[65], членов ЧКБО, так хорошо знал английскую поэзию. Кстати, регби Смит не любил, что вовсе не мешало общей дружбе.
Через много лет, в 1975 году, Кристофер Уайзмен так рассказал о возникновении «Чайного клуба»:
«Все началось во время летнего триместра и потребовало от нас немалой храбрости. Экзамены тянулись полтора месяца; если ты не сдавал экзамен, делать было особенно нечего. Вот тогда мы повадились пить чай в школьной библиотеке. Народ вносил „субсидии“. Однажды кто-то притащил банку рыбных консервов, мы сунули ее на полку, на какие-то книжки, и там забыли. Чай кипятили на спиртовке, правда, возникла проблема: куда девать спитой чай? Впрочем, и тут выход нашелся. „Чайный клуб“ часто засиживался до конца занятий, когда по школе начинали ходить уборщики со своими тряпками, ведрами и метелками. Они посыпали пол опилками и подметали. Так вот, мы подбрасывали остатки заварки им в опилки. Поначалу мы занимались чаепитием в библиотеке, но потом, поскольку дело было летом, стали ходить в универсам Бэрроу на Корпорейшн-стрит. Там в чайной было что-то вроде отдельного кабинета, где стояли стол на шестерых и две длинные скамьи; достаточно уединенное место, оно было всем известно под названием „Вагончик“. Эта чайная стала нашим излюбленным приютом, мы даже добавили к названию „Чайный клуб“ еще и „БО“ — „Бэрровианское общество“. Когда я стал редактором „Школьной хроники“ и нужно было печатать список отличившихся учеников, я напротив фамилий тех, кто состоял в нашем обществе, ставил звездочку и в примечании пояснял: „состоит в членах ЧК, БО и т. д.“. Вся школа гадала, что такое эти ЧК и БО…»[66]
У создателей ЧКБО было много общего — прежде всего страсть к изучению языков и искусства. Они не только спорили, они постоянно поддерживали друг друга. Уайзмен купил на какой-то благотворительной распродаже книгу, которая буквально захватила Толкина — «Учебник готского языка». Его интерес к языкам иногда казался друзьям даже чрезмерным, но каждый из Великой четверки хотел если не перевернуть мир, то хотя бы ошеломить его великими открытиями. Общим для всех было прекрасное знание латинской и греческой литературы. На встречах в ЧКБО Толкин любил рассуждать о несуществующих языках, вдохновенно читал отрывки из «Беовульфа», «Жемчужины» или «Сэра Гавейна», пересказывал поразившие его эпизоды из «Саги о Вольсунгах». «Члены ЧКБО, — не без юмора писал позже Кристофер Уайзмен, — все это считали лишним доказательством того факта, что ЧКБО, само по себе, явление странное и необычное …»[67]
Многие школьники смотрели на членов «Чайного клуба» с завистью.
Через много лет (в 1973 году) один из бывших учеников школы короля Эдуарда написал Толкину: «Будучи мальчиком, Вы, конечно, вообразить себе не могли, как я смотрел на Вас снизу вверх, как восхищался остроумием, как завидовал Вашей компании — Вам, К. Л. Уайзмену, Дж. Б. Смиту, Р. К. Гилсону, В. Троуфту и Пэйтону. Я старался держаться поближе к Вам, но Вы не имели никакого представления об этом моем школьном поклонении». А другой тайный почитатель ЧКБО вспоминал в 1972 году: «Ох, эти Уайзмен и Гилсон, жующие крыжовник на сцене (во время школьных вечеров. — Г. П., С. С.) и вечно болтающие по-гречески, будто это их родной язык…»[68]
Очень помог развитию ЧКБО преподаватель английской литературы Р. У. Рейнольдс. В прошлом известный литературный критик, работавший в Лондоне, он всеми силами старался внушить членам клуба свои (кстати, достаточно высокие) представления о вкусе и стиле. Именно под влиянием Рейнольдса Толкин обратился к поэзии. В поэме «Солнце в лесу» можно отыскать строфы, несомненно, предваряющие его литературное будущее:
Фейные созданья, духи леса, танцы на лесных полянах… Не слишком ли? Страстный регбист, рассказчик ужасных историй о рыцарях и драконах, Джон Рональд Толкин в те годы удивлял многих. Он вдруг увлекся пьесой Джеймса Мэтью Барри (1860–1937) «Питер Пэн» — чудесной историей мальчика, «который не желал взрослеть». В апреле 1910 года Рональд несколько раз посмотрел эту пьесу в бирмингемском театре и записал в дневнике: «Неописуемо! Хочу, чтобы Эдит видела это…»[70]
Огромное влияние оказал на юного Толкина католический поэт-мистик Фрэнсис Томпсон (1859–1907).
Время от времени на собраниях ЧКБО звучали жалобы на то, что мир, окружающий Великую четверку, мир, в котором они вынуждены жить, катастрофически быстро теряет романтический флер, становится беспощадно прагматичным, слишком «цивилизованным». Конечно, нельзя сказать, что мальчикам так уж сильно хотелось неведомых страшных потрясений, но им не нравилось скучное «благополучие».
Разумеется, главной заботой Толкина в 1910 году оставалась подготовка к повторной сдаче экзаменов на оксфордскую стипендию — он прекрасно понимал, что другого шанса у него, возможно, уже не будет. «Кроме того, — писал Хэмфри Карпентер, — немало сил он тратил на языки, как реальные, так и вымышленные. Во время весеннего триместра 1910 года он прочитал первому классу лекцию с внушительным названием; „Современные языки Европы: происхождение и возможные пути развития“. Лекция растянулась на три часовых занятия, и все равно учителю пришлось остановить Толкина прежде, чем он успел добраться до „возможных путей развития“. Довольно много времени уделял он и дискуссионному клубу. В школе существовал обычай вести дебаты исключительно на латыни, но для Толкина это было проще простого: в одном дебате, в роли греческого посла к сенату, он вообще всю свою речь произнес по-гречески. В другой раз он ошарашил своих соучеников, когда, в роли варварского посланника, бегло заговорил по-готски; в третьем случае он перешел на древнеанглийский. Все это отнимало уйму времени, так что нельзя было сказать, что он непрерывно готовился к экзамену. Однако же, отправляясь в Оксфорд в декабре 1910 года, Толкин был куда более уверен в своих силах, чем в прошлый раз»[72].
На этот раз Толкин добился успеха, получив, наконец, open classical exhibition. Правда, результат оказался ниже того, на который он рассчитывал, но все же стипендия в 60 фунтов в год (примерно семь тысяч долларов — в пересчете на сегодняшний день), а также помощь со стороны школы короля Эдуарда и отца Фрэнсиса — дали ему возможность учиться.
Радость заполнила сердце новоиспеченного студента. Он почти не обращал внимания на то, что делалось в слишком, на его взгляд, «цивилизованном» мире. А ведь именно в апреле 1911 года французы неожиданно (даже для своих союзников) ввели войска в Марокко, спровоцировав так называемый Агадирский кризис. Пик этого кризиса пришелся на июль: его обозначил внезапный бросок немецкой канонерки «Пантера» к Агадиру с одновременным заявлением правительства Германии о намерении устроить там свою военно-морскую базу. В итоге по Фесскому договору французы получили протекторат над Марокко, а немцы — над частью Конго.
Англия, внимательно наблюдавшая за этими событиями, достаточно ясно озвучила свою позицию словами премьер-министра Дэвида Ллойд-Джорджа, сказанными в парламенте: «Если Британия встретит дурное обращение там, где задеты ее жизненные интересы, я тут же укажу на то, что такая великая страна, как наша, никогда не потерпит унижений». В назревавшем мировом конфликте никто не был готов уступить, и газеты все чаще повторяли слово «война».
Глава четвертая
«ПОЛОЖИМСЯ НА ГОСПОДА»
В Оксфорд Толкина привез на собственном автомобиле Дикки Рейнольдс, бывший его учитель. Такая поездка выглядела тогда еще не очень привычной, как можно судить по многим газетным статьям, посвященным новому, а потому вызывающему тревогу средству передвижения. Люди боялись, что улицы городов, а с ними и все дороги скоро станут опасными из-за большого количества шумных, быстро несущихся машин (некоторые тогда считали это чистой фантазией). Только подумать — нельзя будет спокойно ни скот перегнать, ни проехаться в пролетке!
А новые виды преступлений? В 1911 году Артур Конан Дойл даже напечатал рассказ-предупреждение «Сухопутный пират», в котором указал на грозную (по его мнению) будущую опасность — сухопутное пиратство. Как бороться с негодяем, который, ограбив человека, мгновенно умчится на своем автомобиле с места происшествия? Ищи его, свищи — особенно в так называемый «насыщенный час»; мы бы сказали — «час пик», но Конан Дойл, ставя такой подзаголовок, имел в виду строфу поэта Т. О. Мордаунта: «Один насыщенный славными видениями час стоит целого века бездействия». Иллюстрации к рассказу изображали мрачного молодого человека в темном плаще — воротник поднят, шляпа с пером, руки в крагах стискивают руль.
Ну и текст соответствовал:
«Когда шофер, плотный, сильный человек, подстегиваемый выкриками своего пассажира, выскочил из машины и вцепился грабителю в горло, тот ударил его по голове рукояткой револьвера. Шофер со стоном упал на землю. Переступив через распростертое тело, незнакомец с силой рванул дверцу автомобиля, схватил толстяка за ухо, не обращая внимания на его вопли, выволок на дорогу. Потом, неторопливо занося руку, дважды ударил его по лицу. В тиши ночи пощечины прозвучали, как револьверные выстрелы. Побледневший, словно мертвец, и почти потерявший сознание толстяк бессильно сполз на землю возле машины. Грабитель распахнул на нем пальто, сорвал массивную золотую цепочку со всем, что на ней было, выдернул из черного атласного галстука булавку с крупным сверкающим брильянтом, снял с пальцев четыре кольца, каждое из которых стоило, по меньшей мере, трехзначную сумму, и, наконец, вытащил из внутреннего кармана толстяка пухлый кожаный бумажник. Все это он переложил в карманы своего пальто, добавив жемчужные запонки пассажира и даже запонку от его воротника. Убедившись, что поживиться больше нечем, грабитель осветил фонариком распростертого шофера и убедился, что тот жив, хотя и потерял сознание. Вернувшись к хозяину, незнакомец начал яростно срывать с него одежду…»[74]
Неплохая добыча!
Оксфорд мало чем походил на закопченный Бирмингем. Эксетер-колледж, правда, не затмевал красотой все прочие, но зато рядом раскинулся парк; стройные березы и густые каштаны создавали почти домашнюю атмосферу. После долгих скитаний с матерью и братом, а затем только с братом по разным бирмингемским домам эти березы и каштаны показались Рональду совсем родными.
Трудно поверить, что это теперь его дом. Вон и медная табличка на дверях — «Джон Р. Р. Толкин». И деревянная лестница ведет наверх — в спальню и кабинет. В его спальню, в его кабинет! Ну да, отпрыски богатых аристократических семейств получали еще более удобные комнаты в общежитиях Крайстчерча, Модлина и Ориэла, заранее зная, что будущее их обеспечено — в деловых офисах, в армии, на флоте, но и выходцы из среднего класса (а Толкин все-таки к ним относился) не унывали — им повезло попасть в Оксфорд! Им-то любой ценой надо было получить оксфордский диплом — другого шанса не будет. Это, впрочем, не мешало тем и другим постоянно отвлекаться на традиционные ночные пирушки. Там же, в Оксфорде, Рональд быстро приобщился к курению трубки (дурной пример отца Фрэнсиса) и пиву.
Этот старинный город замечательно описал академик М. Л. Гаспаров:
«Оксфорд весь каменно-серый и травянисто-зеленый: серые циклопические стены колледжей и зеленые их дворы с лужайками: никогда не видел такой яркой зелени. Мне сказали: „Ваш колледж называется Новый, но вы не думайте, он — современник Куликовской битвы“. Со времен Куликовской битвы все они сто раз перестраивались, не теряя, впрочем, своего замшелого вида. Всего этих колледжей тридцать шесть, и как они складываются в университет, не знает даже мой пригласитель, который служит там двенадцать лет. Самый молодой строен перед войной, он гладенький, но тоже несокрушимо серый, острокрыший и с непременной колокольней, хотя церкви в нем нет. В остальных — тяжелые церкви, с входной стены тебе в спину смотрит орган, с передней вместо иконостаса — четыре яруса готических святых, тоже узких, как трубы органа. „Это, конечно, реставрация, настоящих святых повыкидывали в пуританскую революцию“. И, наоборот, на главной улице высокий конус из узких стрельчатых арок — памятник протестантским мученикам. А вокруг главной библиотеки — полукруглая решетка с каменными квадратными столбами, на каждом бородатая греческая голова, но выглядят они почему-то не как гермы, а как тын царя Эномая с мертвыми черепами.
На боках колледжей — каменные доски с именами выпускников, погибших в двух войнах; на одной доске — два немецких длинных фон-имени: „Они вернулись в отечество и отдали жизнь за него“. Говорят, из-за этой доски был когда-то скандал. Внутри, в темном банкетном зале портреты на стенах: темная парсуна, сутана с отложным воротником, кафтан с пудреным париком, диккенсовские бакенбарды. Это попечители, к науке они не относятся. Банкет — при свечах, догорели — кончился.
За стенами (стены толстые, снаружи жарко, внутри холодно) теснятся домики без садиков, дымовые трубы гребешками, а между домиками бегают двухэтажные автобусы желтого цвета. На одном обшарпанном домике написано: „Здесь проповедовал Уэсли“ (в XVIII веке), а на другом, совершенно таком же: „Здесь жил Голсуорси“. Не сразу сообразишь, что из первых этажей на тебя глядят не витрины и офисы, а деревянные крашеные двери частных квартир на крепких замках. Поперек города и университета идет старая городская стена, тоже серые глыбы на сером цементе, а вокруг тоже зеленые лужайки. Но это что! Настоящая гордость — квадратная узкая башня, такая же каменно-щербатая, XI век, норманны строили, а на ней часы с новеньким голубеньким циферблатом.
У Маяковского в американских очерках раздел начинается: „Океан — дело воображения“. В море тоже не видно берегов, но вот когда подумаешь, что такое безбрежье — на неделю назад и на неделю вперед, то оценишь. Так и Оксфорд: идешь мимо домов, а как посчитаешь, сколько веков с них смотрит, становится неуютно.
„Оксфорд“ значит „бычий брод“ — мелкое место на Темзе, где можно было перегонять коров из Северной Англии в Южную. Местные слависты переводят: „Скотопригоньевск“. Я встретился там со старым знакомым, античником и славистом сразу. Я рассказывал, как Бродский говорил о Фросте: „Для европейца за каждым деревом стоит история, а для американца пустота, ангуасс“. Он спросил: „А для русского?“ Я ответил: „Не знаю“. Он покачал головой: „Наверное, Бродский тоже не знает“.
Когда я прилетел, паспортист спросил: „Цель?“ — „Научная конференция“. — „Физика или что?“ — „Филология“. — „Что такое филология?“ — „Лингвистика и тому подобное“.
Он с улыбкой поставил печать»[75].
Новый дом — новые правила.
Каждое утро в комнату приносили завтрак.
За нуждами студентов следили специальные слуги, которых называли скаутами[76] — им платил зарплату колледж. Рональд вполне мог обойтись утром гренками и кофе (так дешевле), но традиции Оксфорда требовали время от времени принимать друзей, а это, в свою очередь, вело к дополнительным тратам. Все средства Толкина, вместе взятые (стипендия, помощь от отца Фрэнсиса и средства, которые школа выделила ему как одному из лучших выпускников), едва ли достигали 150 фунтов в год.
Для ориентации в финансовых вопросах приведем цитату из известного романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед», где тоже обсуждается обучение в Оксфорде: «Я спросил его, какое содержание тебе назначить. Он ответил: „Три сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство“. Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого значения для популярности и веса в обществе»[77].
Обедали, к счастью, в столовой. Кормили недорого, но и там действовали установившиеся традиции — приходилось угощать приятелей пивом или вином. А еще нужны были одежда, мебель, письменные принадлежности. Скоро у Толкина, впрочем, как и у многих других студентов, скопилось множество неоплаченных счетов. И учебную программу он начал осваивать спустя рукава.
Да и как все успеть, если вокруг много, слишком много увлекательного?
Джон Гарт, один из исследователей творчества Толкина[78], свою книгу «Толкин и Великая война» начал с описания матча по регби между выпускниками школы короля Эдуарда и старшеклассниками. Понятно, что Толкин и его друзья по ЧКБО (они тоже теперь были студентами) оказались в команде выпускников:
«16 декабря, почти сердцевина зимы. Холодные порывы ветра хлещут по щекам и бокам атакующих ветеранов, но снова и снова молодые отражают натиск и начинают устрашающие контратаки. Капитан команды Дж. Р. Р. Толкин надеется на победу, но, по словам свидетелей, соратники его смирились с поражением. Это 1913 год. До начала Великой войны еще несколько месяцев. Толкин и его друзья — младшекурсники из Оксбриджа (объединяющее название для Оксфорда и Кембриджа. — Г. П., С. С.) вернулись в Бирмингем на рождественские каникулы, и теперь, в соответствии с традицией, играют против старшеклассников.
Толкину двадцать два года. Он еще не похож на того знакомого нам (теперь) по обложкам многих книг профессора в твидовом костюме, с морщинками, с неизменной трубкой. Джон Рональд (как его зовут друзья) выглядит худым и легким на поле для регби, но он не потерял спортивной злости, тогда как друзья его забросили игру почти сразу после окончания школы. Некоторые, правда, не по своей воле: Кристоферу Уайзмену играть запрещают врачи, он находится в дальней части поля, рядом с другим таким же „ветераном“ Сидни Барроуклофом…
Тот матч Толкин и его друзья проиграли. Неистовый нападающий ничего не мог сделать, не получая поддержки от старых своих приятелей Гилсона, Смита и Т. К. Бэрнсли. В итоге матч закончился в пользу учеников школы короля Эдуарда»[79].
Толкин и в Оксфорде не оставлял любимую игру. А еще он активно занимался делами Эссеистского клуба и Диалектического общества, посещал «Степлдон» — дискуссионный клуб колледжа, и даже основал свой собственный клуб «Аполаустики» («посвятившие себя наслаждению»).
Доклады, дискуссии, дебаты, шумные обеды. И даже тренировки в составе кавалерийского эскадрона, к которому он был приписан.
«В Оксфорде, — писал Хэмфри Карпентер, — компания была мужская. Правда, на лекциях бывали и девушки-студентки, но они жили в женских колледжах, мрачных зданиях на окраинах города, и к молодым людям их подпускали не иначе как под строжайшим надзором. Да молодые люди и сами предпочитали общаться друг с другом. Большинство из них только что покинули стены закрытых мужских пансионов, и чисто мужская атмосфера Оксфорда была для них родной. Даже изъяснялись они на своем, только им понятном сленге, в котором самые обыкновенные всем привычные слова сокращались и коверкались до неузнаваемости. Breakfast (завтрак) превращался в brekker, lecture (лекция) — в lekker, Union (союз) — в Ugger, a sing-song (песенка) и practicaljoke (розыгрыш) — в конструкции sigger-sogger и pragger-jogger»[80].
Вот как сам Толкин вспоминал об одном из своих типичных вечеров:
«Без десяти девять мы услышали вдалеке крики и поняли, что началась заварушка. Мы выскочили из колледжа и на два часа оказались в самой гуще событий. Примерно час мы „доставали“ город, полицию и прокторов (прокторы — надзиратели, инспекторы в Оксфорде. — Г. П., С. С.). Мы с Джеффри (приятелем. — Г. П., С. С.) „захватили“ автобус и покатили на нем на Корнмаркет, издавая адские вопли, а за нами бежала обезумевшая толпа студентов и „городских“. Не успели мы доехать до Карфакса, как автобус наш оказался битком набит студиозусами. Там я обратился к огромной собравшейся толпе с краткой, но прочувствованной речью. Потом мы вышли и пешком дошли до „маггерс-мемаггера“ — мемориала Мучеников, — где я снова произнес речь. И за все это нам ничего не было!»[81]
В начальных двух триместрах в Эксетере не оказалось наставника-классика для Толкина, а когда он появился (это был Э. А. Барбер), оказалось, что студент уже сильно запустил надоевших ему латинских и греческих авторов; по-настоящему его интересовало только сравнительное языкознание. Читал этот предмет профессор Джозеф Райт.
Похоже, Толкину везло на необычных людей. Это именно учебник Райта («Введение в готский язык») попал в руки Толкину еще в школе короля Эдуарда. А теперь он познакомился и с самим профессором и убедился в том, что талантливые люди, как правило, имеют свою необычную судьбу. Джозеф Райт не учился в школе, но к пятнадцати годам сумел самостоятельно овладеть грамотой, открыв для себя восхитительный мир — мир книг. Изумленный, он записался в вечернюю школу, где занялся французским и немецким языками и, конечно, обязательной латынью. С шести лет Джозеф работал на шерстобитной фабрике. Нелегкое детство, но это давало возможность ни от кого не зависеть, и в 18 лет Райт открыл собственную вечернюю школу. За обучение он брал с товарищей по прежней работе всего ничего — по два пенса в неделю. А когда достиг совершеннолетия, то уехал в Антверпен, откуда пешком добрался до Гейдельберга. Путешествовать по Европе — тоже учеба. В знаменитом Гейдельбергском университете Райт изучил русский, старонорвежский, древнеанглийский, древнесаксонский и другие языки. Там же получил докторскую степень, так что, вернувшись в Англию, без труда нашел место в Оксфорде на кафедре сравнительного языкознания.
«Он смог позволить себе снять небольшой домик на Норем-роуд и нанять экономку, — писал Хэмфри Карпентер. — Хозяйство он вел с бережливостью истинного йоркширца. К примеру, дома он пил пиво, которое покупал в маленьком бочонке, но со временем решил, что так оно чересчур быстро кончается, и договорился со своей экономкой Сарой, что бочонок будет покупать она, а он станет ей платить за каждую кружку. Райт продолжал непрерывно работать, взялся писать серию самоучителей по языкам, среди которых был и учебник готского, оказавшийся таким откровением для юного Толкина. А главное, начал составлять словарь английских диалектов, который, в конце концов, был опубликован в шести огромных томах. Сам он так и не избавился от йоркширского акцента и по-прежнему свободно говорил на диалекте своей родной деревни»[82].
В столовой профессора стоял огромный стол. На одном конце его садился учитель, на другом — ученик. Рабочие встречи часто начинались вечером и затягивались допоздна. В углах постепенно скапливался таинственный сумрак. Это сегодня при повсеместном электрическом освещении достаточно щелкнуть выключателем…
«Не мог он (Толкин. — Г. П., С. С.) забыть и чаепитий на йоркширский манер, — писал Хэмфри Карпентер, — которые Райты устраивали по воскресеньям. Джо нарезал здоровенными ломтями, достойными Гаргантюа, большой кекс с изюмом и коринкой, а абердин-терьер Джек исполнял свой коронный номер: шумно облизывался при слове smakka-bagms („смоковница“ по-готски)»[83].
Именно профессор Райт дал Толкину совет, выдержанный все в том же йоркширском духе: «Берись за кельтские языки, парень, если они тебе интересны. Тут можно подзаработать деньжат». Это подтолкнуло Толкина к древним валлийским текстам. Он хорошо помнил необыкновенные, казавшиеся ему волшебными слова, написанные на грузовых вагонах, отправлявшихся из Бирмингема в города Уэльса. Он находил звучание этих слов прекрасным. В том, что касалось красоты, валлийский язык на 100 процентов оправдал ожидания Толкина. Тут, правда, следует подчеркнуть, что именно красота слов, их написание, их звучание прежде всего привлекали Толкина, такова была особенность его дара. Он утверждал, что слова cellar door («дверь кладовки») звучат для него по-настоящему прекрасно, гармоничнее, чем, скажем, sky («небо») или beautiful («красивый»).
Странно, что Толкин так и не удосужился в те годы побывать в Уэльсе.
Вообще, оказавшись без присмотра строгого отца Фрэнсиса и освободившись от школьного распорядка, он быстро распустился. В случае Толкина не совсем правильно называть это ленью, хотя проректор отметил против его имени (в характеристиках студентов) «весьма ленив», а ученики школы короля Эдуарда могли прочесть в школьной «Хронике» (в «Оксфордском письме», подписанном выпускниками) слова самого Толкина, что «по сути мы ничего не делаем; мы довольны уже тем, что существуем»[84].
Теперь в жизни Толкина наступил недолгий период, когда он вполне мог отнести к себе известный девиз Телемского аббатства Рабле: «Делай что хочешь». Правда, для Толкина это означало — занимайся тем, что тебя всерьез интересует, пусть даже в ущерб учебной программе. Ведь для студентов «момент истины» наступает только во время сессии. Но тем, что Толкина действительно интересовало, он занимался весьма и весьма интенсивно — например, сравнительным языкознанием, к которому его постоянно подталкивал Джозеф Райт, а также своими искусственными языками и чтением «Калевалы» на финском.
Толкин стал опаздывать на мессу, даже пропускал ее. Утром он мог подолгу валяться в постели, особенно после пивных вечеринок. Даже о своей Эдит он вспоминал не так уж часто. Но, разумеется, он ее любил и помнил. Перелистывая «Калевалу», которая стала его настольной книгой, он испытывал настоящее наслаждение от звучания финских слов. «Будто спустился в винный погреб с бутылками превосходного вина». Он восхищался эпосом, так искусно сконструированным из народных сказаний финским языковедом и врачом Элиасом Ленротом. Каким-то образом любовь к финскому языку ассоциировалась в его сознании с любовью к Эдит. «Эти мифологические песни, — говорил Толкин, — полны той первобытной поросли, которую вся европейская литература вырубала и прореживала в течение многих веков, хотя и в разной мере и в разные сроки среди разных народов»[85]. Он даже попытался переложить часть «Калевалы» (историю Куллерво) смесью стихов и прозы в подражание Уильяму Моррису. (Позже он использовал этот сюжет в «Сильмариллионе», в истории Турина Турамбара.)
Еще он занимался рисованием (Гарт упоминает серию из двадцати символических рисунков, в которых Толкин попытался проиллюстрировать состояния своей души и бытия), каллиграфией, сочинял стихи, в которых постепенно начинает угадываться его особенное авторское «я». В стихотворении, посвященном Оксфорду, уже чувствуется характерный для Толкина интерес к забытой древности:
Рождество 1912 года Толкин провел у Инклдонов в Барнт-Грине.
Обычно праздник там встречали какой-нибудь новой веселой пьесой.
На этот раз пьесу сочинил сам Рональд. Называлась она «Сыщик, повар и суфражистка», и автор сыграл в ней некоего «профессора Джозефа Квилтера, магистра гуманитарных наук, члена Британской академии». Одновременно «магистр» выступал и как опытный детектив, разыскивающий богатую наследницу по имени Гвендолин Гудчайлд. И все это было неспроста, не просто так, — ведь 3 января 1913 года Рональду исполнялся 21 год, и он очень ждал совершеннолетия. Прошло почти три года со дня разлуки с Эдит, но он верил, что она тоже ждет.
В ночь совершеннолетия он написал Эдит.
Она ответила Рональду почти сразу, очень быстро.
Но радость от полученного письма была несколько омрачена совершенно неожиданным для Толкина известием о том, что Эдит помолвлена и даже собирается выйти замуж за Джорджа Филда, брата своей школьной подруги Молли. Конечно, Эдит не связывали с Рональдом никакие обязательства (позже Толкин сам признавался в этом в письме своему среднему сыну — Майклу). Толкин мог спокойно отложить письмо, оставить его без ответа: да выходи ты за этого своего Филда, тем более не католика (Толкин англиканскую церковь ненавидел), но оттолкнуть Эдит значило бы отвергнуть всё, что между ними было, всё, чего они так долго ждали, на что надеялись. «Я начала сомневаться в тебе, Рональд», — написала ему Эдит. Это тоже подействовало на него мучительно.
В среду 8 января 1913 года он приехал в Челтнем.
Эдит встретила его на железнодорожной платформе.
Они ушли за город и там разговаривали несколько часов. В итоге уже к вечеру Эдит пообещала, что порвет с Джорджем Филдом и выйдет замуж только за него, Рональда. В тот же день кольцо, подаренное Джорджем, было отослано бедному парню. Вот она, магия колец — не из этого ли эпизода она тянется? Не тогда ли впервые в голове Толкина промелькнула, бросила смутный отблеск на происходящее мысль о Кольце Всевластья?
Теперь Рональд мог написать и отцу Фрэнсису. Конечно, он сильно нервничал, отправляя письмо опекуну. Но ответ пришел неожиданно быстрый и доброжелательный, хотя (и это понятно) несколько сдержанный. Что тут поделаешь? Отец Фрэнсис всегда относился к Рональду как к сыну.
«Теперь, когда Рональд благополучно воссоединился с Эдит, — писал Хэмфри Карпентер, — ему следовало целиком посвятить себя подготовке к экзамену „онор-модерейшнз“ (в этот экзамен, как и в большинство оксфордских экзаменов, входит ряд письменных работ по различным предметам, имеющим отношение к теме, изучаемой кандидатом. В зависимости от результатов экзамена кандидату присуждаются степени отличия от первой до четвертой (первая — высшая). — X. Карпентер), первому из двух экзаменов, которые ему следовало сдать, чтобы получить степень бакалавра. Он пытался выучить за полтора месяца то, что ему следовало освоить за три предыдущих триместра, но отказаться от привычки засиживаться допоздна, болтая с друзьями, было не так-то просто. А по утрам он с трудом заставлял себя подняться с постели — однако, как и многие до него, винил в этом не свои поздние посиделки, а сырой оксфордский климат. Когда в конце февраля начались „онор-модерейшнз“, Толкин все еще был плохо подготовлен ко многим письменным работам. А потому, узнав, что ему удалось получить вторую степень отличия, он вздохнул с облегчением.
Однако Толкин знал, что мог бы добиться большего. Получить первую степень в „модерашках“ было непросто, но, однако же, вполне доступно для способного, упорно занимающегося студента. И тому, кто намерен в дальнейшем посвятить себя научной работе, первая степень, разумеется, необходима. А Толкин уже тогда стремился именно к академической карьере. Однако же по своей специальности, сравнительному языкознанию, он получил „чистую альфу“, то есть „отлично“: в его работе практически не нашлось к чему придраться. Отчасти он был обязан этим тому, что Райт оказался превосходным наставником; но вдобавок это говорило о том, что таланты Толкина лежат именно в этой области»[87].
Обдумав результаты экзаменов, доктор Льюис Ричард Фарнелл, ректор Эксетера, предложил Толкину перевестись на английский факультет. Рональд с радостью согласился, однако для успеха всей операции требовалось не только его согласие: чтобы оформить перевод без потери стипендии (она давалась Толкину именно для обучения классической филологии), Фарнелл должен был действовать осторожно и дипломатично. Специальностью самого Фарнелла была Древняя Греция — он даже выпустил пятитомное исследование, посвященное древнегреческим культам, при этом Фарнелл был человеком широкого образа мыслей, он с интересом относился к германским языкам и культуре и, по-видимому, смог оценить, в какой области лежит основной талант Толкина. Так, благодаря поддержке Фарнелла, в начале летнего триместра 1913 года Толкин расстался с классическим факультетом.
«Почетная школа английского языка и литературы»[88] (официальное название факультета) по оксфордским меркам была еще очень молода. Вдобавок в ее преподавательском коллективе с некоторых пор царил разброд. По одну сторону стояли филологи и специалисты по истории Средневековья, полагавшие, что литературные произведения, созданные позже Чосера, не могут быть серьезным предметом для изучения, а по другую — исследователи «современной» литературы (от Чосера до XIX века), считавшие изучение древне- и среднеанглийского языков и немногочисленных литературных памятников того времени никому не нужным делом. Попытка втиснуть противоборствующие группировки в организационные рамки одного факультета оказалась ошибочной. Студенты, специализировавшиеся на древне- и среднеанглийском, вынуждены были теперь тратить много времени на изучение современной литературы, а студенты, интересовавшиеся «литературой» (современными авторами), в свою очередь, мучились, штудируя «Англосаксонскую хрестоматию» и «Самоучитель древнеанглийского языка» Генри Суита.
Почему линия раздела проходила именно по веку, когда писал Чосер? Вариант объяснения, который, вероятно, пришелся бы по душе Толкину, да, скорее всего, он и был ему хорошо известен, тесно связан с драмой нормандского завоевания — и с историей языка. Когда после битвы при Гастингсе, в 1066 году, в Англии установилась власть чужеземцев, примерно на 300 лет французский язык стал господствующим языком аристократии, духовенства, практически всех образованных классов. Еще в начале XIV столетия Ричард Глостерский говорил: «Если человек не знает французского, люди его всерьез не принимают»[89]. С началом Столетней войны между Англией и Францией английский язык постепенно возвращает утраченные позиции, но это был уже не тот язык, что триста лет назад. Произведения Чосера — одни из первых, написанных на «новом» английском.
Толкин решил заняться лингвистикой. В наставники ему назначили Кеннета Сайзема. Это был молодой новозеландец — талантливые уроженцы отдаленных уголков империи в то время сплошь и рядом устремлялись в метрополию. Его недавно взяли на должность ассистента Э. С. Нейпира, профессора английского языка и литературы. После встречи с Сайземом и знакомства с программой Толкин невольно изумился: как столь небольшой по объему материал можно растянуть на два с лишним года? Многое выглядело для него чересчур простым, чересчур знакомым, — ведь он уже успел самостоятельно прочитать многие из текстов и даже недурно освоил древнеисландский, который считался основой специализации. Да и Кеннет Сайзем сперва не особенно ему понравился. Это был молодой человек всего на каких-то четыре года старше Толкина, и он, конечно, не обладал яркой индивидуальностью Джозефа Райта — про таких говорят, что они способны легко затеряться в толпе. Но Сайзем был наставником добросовестным и трудолюбивым, и вскоре Толкин привязался к нему. Вообще Рональд стал теперь проводить за работой гораздо больше времени. Требования на английском факультете оказались высокими — учиться было гораздо труднее, чем он думал. Но он быстро и глубоко овладевал предметами, входившими в программу. Об этом можно судить по сохранившимся студенческим работам Толкина, посвященным проблемам распространения фонетических изменений, об удлинении гласных в древне- и среднеанглийский периоды, об англо-нормандских элементах в английском языке и т. д.
Особое место в его штудиях заняло изучение западномидлендского диалекта среднеанглийского языка. Для Толкина эта тема ассоциировалась с его собственным детством и предками; кроме того, он с удовольствием читал древнеанглийские тексты, которые ему прежде были недоступны. Среди них оказался «Христос» Кюневульфа[90] — цикл англосаксонских религиозных стихов, написанных еще до нормандского завоевания. Некоторые его строфы навсегда запали в душу Толкину, например: Eala Earendel engla beorhtast ofer middangeard monnum sended… То есть: «Привет тебе, Эарендель, светлейший из ангелов, над средиземьем людям посланный…»
В словарях англосаксонского языка слово Earendel обычно переводится как «сияющий свет, луч», но здесь оно несло в себе какое-то особенное дополнительное значение, значение вестника. Сам Толкин истолковывал его как некую аллюзию на Иоанна Крестителя, но полагал при этом, что первоначально слово «Эарендель» могло служить названием яркой звезды (планеты), предвещающей восход, то есть Венеры. Это почему-то взволновало его. «Я ощутил странный трепет, — писал он много лет спустя, — будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна. За этими словами стояло нечто далекое, удивительное и прекрасное, и нужно было только уловить это нечто, куда более древнее, чем древние англосаксы»[91].
В предмете, ставшем специализацией Толкина, удивительного оказалось ничуть не меньше. Древненорвежский язык (или древнеисландский — эти названия вполне взаимозаменяемы) был давно уже знаком Рональду, но теперь он подошел к нему гораздо серьезнее. Раньше он успел познакомиться с «Младшей» и «Старшей Эддой», а ныне внимательно перечитал и то и другое. Основная часть «Старшей Эдды» датируется XIII веком, но большинство ее поэм являются, по-видимому, гораздо более древними и, возможно, восходят к периоду до того, как норвежцы заселили Исландию. Толкина всегда волновала древность. Песни «Старшей Эдды» делятся на героические — в которых говорится о людях, и на мифологические — посвященные богам. Ключевую роль среди них играет Voluspa или «Прорицание вельвы», то есть пророчицы. По отношению к скандинавской мифологии эта сага занимает такое же центральное место, как Бхагават-гита — в индийской философии и мифе. В ней рассказывается об истории мира, начиная с его создания и кончая смутными предсказаниями будущего. «Прорицание вельвы» восходит к эпохе конца северного язычества, когда на смену старым богам вот-вот должно было прийти христианство. Примечательно, что оно послужило источником множества имен в произведениях самого Толкина:
Углубляясь в чудесные древние языки, Толкин постоянно возвращался к попыткам создать свой собственный язык — столь же гармоничный и чистый. О том, как он работал над этим, мы знаем по прекрасной книге Джона Гарта[93].
Своеобразную музыкальность языку квенья, над которым годами работал Толкин, придавали жесткий набор согласных (как в финском языке) и многообразные суффиксы. Но Толкин чувствовал недостаточность этого. Толкину хотелось, чтобы у создаваемого им языка действительно были свое прошлое, своя основа, уходящая в древность; это и подвигло его на разработку еще одного языка, кроме квенья — первобытного эльдарина (primitive Eldarin).
«Толкин решил, — писал Джон Гарт, — что первоначальный корень liri (первобытный эльдарин) в языке квенья сохранился практически неизменным — как корень глагола, означающего „петь“. С помощью разных суффиксов Толкин произвел новые существительные — liritta (стихотворение, песня, поэма) и lirilla (песнопение, песня). Однако в прошедшем времени это строилось бы как linde, то есть вставкой суффикса −n− (морфологическое изменение), что в комбинации с первоначальным −rt− сдвигалось в −nd− (фонологическое изменение). При этом linde само превращалось в корень, а с прибавлением суффикса производило существительное lindele (песня, музыка) или, потеряв безударный последний слог, в lin (музыкальный голос, ария, мелодия, напев). В итоге в языке квенья могли возникать и такие сложные составные слова, как lindotrea (пение на рассвете — применительно к птицам), или lindelokte (поющий куст — как метафора ракитника)»[94].
Больше всего увлекало Толкина то, что в реальных языках постепенное накопление сдвигов звучания и морфологических элементов может со временем приводить, в сущности, к некоему другому языку. «Звуковые сдвиги», по свидетельству Джона Гарта, заполняли множество страниц в ранних записных книжках Толкина, иногда отданных исключительно языку квенья. Для «эльфийского» языка эти «звуковые сдвиги» имели столь же важное значение, как законы Якоба Гримма (1785–1863)[95] — для немецкого и английского. Толкин, подобно Гримму, изучал не просто тексты, занесенные в анналы, он воссоздавал прошлое языка.
Как это ни парадоксально, в своих предельно сухих, казалось бы, чисто филологических заметках Толкин постепенно погружался в мир самой настоящей художественной литературы. Иными словами, не без восхищения замечал Гарт, Толкин играл роль чуть ли не Бога или, если уж не возноситься так, Творца. Он не просто восстанавливал историю языка; он создавал ее. Он изобретал (грубо говоря, выдумывал) корни некоего первобытного эльдарина, добавляя к ним новые суффиксы и префиксы, чтобы, наконец, перейти к языку квенья. Он учился менять сдвиги звучания, получая тем самым все новые и новые слова с их индивидуальными историями. Переработка такого масштаба — процесс долгий, мучительный и сложный, зато Толкин испытывал истинное удовольствие от приближения к совершенству. Звуковые картины, изобретаемые им, звучали ярко: басовитое kalongalam (звон больших колоколов) и его противоположность — kilinkele (звон малых колокольчиков), элегантные чередования звуков в vassivaswe (взмахи больших крыльев) или языколомное pataktatapakta (хаотическое нагромождение). Язык квенья, однако, был больше, чем просто звукоподражанием: скажем, слова nang (я простудился) и miqe (поцелуй) удивляли не просто звучанием, а своим глубоким соответствием с реальностью. Толкин умело связывал звук и смысл, подобно тому, как художники и поэты связывают цвет, форму и тень, даже отдаленные неявные звучания, в итоге вызывающие определенное настроение.
Константин Бальмонт перевел эти знаменитые стихи Эдгара По так:
Записная книжка Толкина-исследователя, без всякого сомнения, была уже самой настоящей записной книжкой писателя.
Конечно, появление Эдит в студенческой жизни Толкина вызвало новые проблемы. Раньше Рональд ни слова не говорил о своей помолвке друзьям, боясь слухов. То, как разговоры о его встречах с Эдит в свое время дошли до отца Фрэнсиса, очень сильно ранило его сердце — на всю жизнь. Правда, достигнув совершеннолетия и сделав предложение Эдит, он сам известил о своем решении опекуна, но ему и сейчас было тревожно, и, как раньше, снова и снова снился давний сон: темная волна угрожающе нависает над деревьями и зелеными полями…
И тревожиться действительно было о чем. Рональд, например, требовал от Эдит перехода в католическую веру, а она на это не решалась. Выйти из англиканской церкви — это само по себе требовало воли, к тому же в Челтнеме Эдит весьма активно занималась церковными делами и теперь откровенно боялась, что, узнав о ее уходе в «папизм», дядя Джессоп, у которого она жила, попросту выгонит ее из дома. Но Толкин настаивал. «Я искреннейше верю, — писал он Эдит, — что малодушие и мирские страхи не должны препятствовать нам неуклонно следовать свету…»[97]
И Эдит приняла католичество. Она убедилась, что Рональд ее любит. Зато дядя Джессоп, как и ожидалось, немедленно отказал ей от дома. Тогда с кузиной Дженни Гроув — горбатой, маленькой, но весьма решительной женщиной, — Эдит сняла квартиру в небольшом городке Уорик, расположенном неподалеку от Бирмингема, как, впрочем, и от Оксфорда (однако дальше, чем Челтнем). Вопрос переезда в Оксфорд, по-видимому, тоже обсуждался, но до брака Эдит решила оставаться совершенно независимой. Впрочем, в июне 1913 года в Уорике на некоторое время поселился и Рональд. Ему нравились вековые деревья старого городка и замок на холме. Они катались с Эдит по Эйвону на плоскодонке и вместе ходили в местную католическую церковь. К сожалению (для Эдит), Рональд даже при встречах часто бывал погружен в свои размышления, ей недоступные. Она обижалась. Ну, действительно, что ей до того, что корень liri из какого-то там первобытного эльдарина перешел, практически не изменившись, в какой-то «новый» язык квенья? И какое ей дело до того, что вставка суффикса −n− так сильно влияет на какие-то там фонологические изменения? Она предпочла бы видеть будущего мужа более понятным, более простым. К тому же, к ее большому неудовольствию, жизнь Рональда в чисто мужском обществе, многие книги, прочитанные им, конечно, внушили ему несколько преувеличенные понятия об отношениях женщины и мужчины. Он был просто по уши набит сантиментами слишком начитанного человека. Он даже обращался к Эдит — «малышка», а ей это не нравилось, она считала такое обращение неестественным, даже фальшивым; он мечтал о каком-то там будущем «маленьком домике», а Эдит предпочитала говорить о будущем домике в реальном свете.
«Конечно, — писал Толкину его друг Чарлз Моузли, — прочитанные книги на всех нас накладывают отпечаток. Да и как иначе? Если вы день за днем будете читать романы и поэмы, в которых женщину возводят на пьедестал, чтут и едва ли не обожествляют, а главными достоинствами мужчин так же постоянно признаются отвага, честь, искренность, щедрость, то, в конце концов, вы сами начнете мыслить именно в таких категориях»[98].
Летом долгого, насыщенного событиями 1913 года Толкин, решив заработать на новую мебель, отправился во Францию в качестве воспитателя при двух несовершеннолетних мальчиках-мексиканцах[99]. В Париже к этой, скажем так, не совсем обычной группе присоединились еще один мексиканский мальчик и две их тетушки. Всех их Толкин обязан был детально ознакомить с достопримечательностями французской столицы.
«Поначалу эта задача казалась несложной, — писал Майкл Уайт, один из биографов писателя, — но неожиданно обернулась огромными неприятностями. Прежде всего, к величайшему смущению Рональда, он обнаружил, что все его немалые достижения в сравнительном языкознании и способность писать ученые эссе о самых мудреных и загадочных тонкостях старонорвежского или англосаксонского языка совершенно бесполезны в быту: на реальном испанском он не мог связать и двух слов, да и французский его, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Очень часто подопечные попросту его не понимали. Более того, он невзлюбил французскую кухню, а французы, в особенности парижане, казались ему людьми грубыми и неотесанными. В довершение ко всему, маленькие мексиканцы, которых ему надлежало учить и воспитывать, не проявили никакого, даже самого малейшего интереса к французской культуре и ее истории и не хотели видеть ничего, кроме банальных туристических достопримечательностей.
Уговорив мальчиков посетить Бретань, Толкин надеялся обрести хотя бы там некоторое утешение в прекрасных ландшафтах и тонких винах, но дело кончилось тем, что они на какое-то время бессмысленно застряли в Динане — приморском городке, который оказался ничем не лучше какого-нибудь провинциального Блэкпула. „Ну вот, я в Бретани, — писал Рональд своей Эдит. — А вокруг — только туристы, мусор да купальные кабинки“. Когда однажды вся компания отправилась на очередную прогулку, одну из тетушек сбила легковая машина, вылетевшая на тротуар. Через несколько часов пострадавшая скончалась от тяжелых внутренних повреждений, так что эта злосчастная поездка всем попортила много крови, и Толкин вздохнул с облегчением, только когда, наконец, договорился об отправке тела покойной в Мексику и передал маленьких мексиканцев их родственникам»[100].
Вернувшись в Оксфорд (шел уже третий год обучения), Толкин снова с головой погрузился в бурную студенческую жизнь. Эдит рядом не было, поэтому он свободно тратил заработанные деньги: купил новую мебель, украсил стены японскими гравюрами, обновил гардероб.
Его невеста тем временем скучала в Уорике. Городок был красив, с этим никто не спорил, и жизнь в нем шла более живая и веселая, чем в благочинном Челтнеме, но развлечений для одинокой девушки — никаких. От скуки и постоянного ожидания даже письма Рональда начали раздражать Эдит. Ну да, ему в Оксфорде не скучно! Там появился еще один старый друг Толкина — Дж. Б. Смит. Он окончил школу короля Эдуарда и получил стипендию колледжа Корпус-Кристи, так что «Чайный клуб» был теперь равно представлен как в Оксфорде, так и в Кембридже, где уже учились Роберт К. Гилсон и Кристофер Уайзмен. Отношение членов ЧКБО, Великих Близнецов, к той новости, что у Толкина вдруг появилась невеста, лучше всех выразил Гилсон. «Такой стойкий деятель нашего клуба, — заметил он понимающе, — вряд ли переменится».
Но сам Толкин так не думал.
Восьмого января 1914 года Эдит была принята в лоно римско-католической церкви. Официально объявили о помолвке, и отец Мерфи, новый наставник Эдит, благословил жениха и невесту. Какое-то время Эдит даже нравились свершившиеся перемены, она стала чаще посещать мессу, причащалась. Но католическая церковь в Уорике выглядела так убого по сравнению с роскошным собором в Челтнеме, что скоро и это стало действовать ей на нервы. Проводив Рональда в Оксфорд (учебу никто не отменял), она совсем заскучала. Игра на фортепьяно и постоянные ссоры с кузиной не могли заполнить ее жизнь, а необходимость исповедоваться раздражала. В письмах Рональду она постоянно сетовала на то, что необходимость вставать к мессе ни свет ни заря для нее просто невыносима: «И хотелось бы пойти к мессе, но здоровье не позволяет». А ответные письма Рональда, в которых он со вкусом рассказывал о веселых дружеских вечеринках и о не менее веселых походах с друзьями в театр и в кино, Эдит просто бесили. Он там в своем проклятом Оксфорде ни в чем себе не отказывает — плавает на лодке, ходит в кино, участвует во всяких умных дискуссиях и даже на всю премию Скита (пять фунтов), полученную за успехи в учебе, накупил книг на каком-то никому не ведомом средневековом валлийском!
Эдит не знала, что кроме указанных книг (все, кстати, в прекрасных кожаных переплетах) Рональд приобрел еще несколько произведений Уильяма Морриса: «Жизнь и смерть Язона», перевод саги о Вольсунгах[101] и роман «Дом сынов Волка». Вот, кстати, еще один необычный человек, повлиявший на Толкина. Уильям Моррис (1834–1896) сам когда-то учился в Эксетере. Еще в детстве он увлекся Средневековьем, странствующими рыцарями и всякими древними героическими деяниями. Со временем интерес перерос в настоящую страсть. Когда Уильяму исполнилось девять, отец подарил ему настоящего пони и маленькие доспехи, чтобы мальчик мог разыгрывать сцены своих фантазий в чаще Эппингского леса, на окраине которого стоял дом Моррисов. Он прекрасно успевал в школе, а в 1853 году поступил в Эксетер-колледж. Поначалу он намеревался стать священником, но все же выбрал искусство, тем более что, унаследовав после смерти отца большое состояние, избавился от необходимости зарабатывать себе на существование.
За свою не очень долгую жизнь Моррис сделал поразительно много. Он написал и опубликовал два десятка художественных книг и с десяток переводов, в том числе «Сагу о Греттире» и «Сагу о Гуннлауге Змеином Языке». По-английски прозвище Гуннлауга звучит как Worm-Tongue, так же, как прозвище Гримы — коварного советника конунга Теодена во «Властелине Колец». Еще Моррис перевел со староанглийского эпос «Беовульф», которым, став профессором, много занимался и сам Толкин. В романе «Дом сынов Волка» Уильям Моррис тщательно воссоздал атмосферу древних англосаксонских и исландских повествований — это тоже было близко Толкину. События романа происходили в основном на опушках и в прогалинах дремучего леса, который назывался Мирквуд (Лихолесье) — слово, заимствованное из древних германских легенд и позже тоже перешедшее в книги Толкина. А прекрасный перевод саги о Вольсунгах позволил восхищенному Рональду с головой погрузиться в удивительную атмосферу северных преданий. Он оставался увлеченным читателем Уильяма Морриса всю жизнь и никогда не отрицал его влияния на свои произведения. В «Источнике у края мира» (фантастическом романе Морриса) Толкин разыскал и еще одно понадобившееся ему позже имя — Гондальф. Впрочем, возможно, и он и Моррис позаимствовали это имя из «Старшей Эдды».
В истории Англии Уильям Моррис оставил след не только как писатель. В молодости он близко сошелся с художниками-прерафаэлитами, упорно стремившимися к воссозданию средневековой эстетики (они внесли огромный вклад в популяризацию легенд Артуровского цикла). Он отличался тонким эстетическим вкусом, обладал талантом дизайнера и удивительной предприимчивостью. Благодаря этому сочетанию Моррис сделался одним из наиболее влиятельных дизайнеров Викторианской эпохи. В 1861 году он основал компанию в области декоративного искусства — «Моррис, Маршалл, Фолкнер энд К». Среди его партнеров числились такие видные прерафаэлиты, как Данте Габриель Россетти и Эдвард Берн-Джонс. Компания добилась большого успеха в производстве витражей, резных панелей, гобеленов, тканей и обоев по средневековым мотивам. С годами Моррис стал единоличным владельцем фирмы и увлекся окрашиванием тканей природными красителями, освоив ряд старинных технологий, таких как окрашивание кошенилью, ореховой скорлупой, пастелью или индиго. Популярность его необычной продукции постоянно росла, и Моррис старался сделать ее доступной даже небогатым покупателям. Вполне возможно, что некоторые из тканей Морриса или его обои украшали быт Толкина и Эдит.
К 1870-м годам Моррис стал знаменитостью. Он увлекся каллиграфией и сам создал несколько десятков рукописей, иллюминированных миниатюрами в средневековом стиле. К тому же в 1877 году он создал общество по защите старинных зданий. Яростный темперамент Морриса привел к тому, что он активно вошел в социалистическое движение. На протяжении шести лет выпускал (и субсидировал) газету «Общее благо», в которой публиковались Энгельс, Бернард Шоу, Поль Лафарг, а в 1891 году основал издательство «Келмскотт пресс». Как почти всё, чем занимался Моррис, это начинание оказалось успешным — за последующие несколько лет издательство выпустило 66 книг, причем и здесь он внес много новшеств в сам процесс книгопечатания в целях лучшей стилизации под Средневековье.
В 1960 году Толкин писал одному из читателей «Властелина Колец»: «Мертвые болота и подступы к Мораннону отчасти обязаны Северной Франции после битвы на Сомме. А еще больше они обязаны Уильяму Моррису и его гуннам и римлянам, как, скажем, в „Доме сынов Волка“ или в „Корнях горы“»[102].
Впрочем, на Толкина оказало влияние все эстетическое движение по возрождению утраченного прошлого, которое всячески и всегда поддерживал Моррис.
Летом 1914 года, побывав в Уорике у Эдит, Толкин отправился в Корнуолл. Там он некоторое время пожил на тихом полуострове Лизард — у отца Винсента Рида из Бирмингемского оратория. «Мы часто ходили с отцом Винсентом, — вспоминал он позже, — по вересковой пустоши над морем к бухте Кинанс. Над головой нещадно палило солнце, а огромные валы Атлантики с ревом и шипением разбивались о скалы и рифы. Море выточило в утесах причудливые отверстия и теперь врывалось в них с трубным ревом или извергало наружу фонтаны пены, точно кит, и повсюду — красные и черные скалы и белая пена на лиловой и прозрачной морской зелени»[103].
Однажды с отцом Винсентом Рональд отправился осматривать деревни, лежащие в стороне от побережья:
«Сначала нас окружал типичный сельский йоркширский пейзаж, потом мы спустились к реке Хелфорд, очень похожей на фьорд. А еще потом поднялись на противоположный берег совершенно девонширскими тропками и очутились на более открытой местности, где тропинка виляла, петляла, шла наверх, опускалась вниз, пока не начало смеркаться и алое солнце не коснулось горизонта. После многих приключений мы вышли, наконец, на пустынные голые холмы, где мили четыре прошагали по мягкой земле, на радость нашим сбитым ногам. Ночь застала нас в окрестностях Малого Руана, и дорога снова принялась петлять и нырять. Освещение сделалось совсем призрачным. Временами узкая тропа вела через перелески, там у нас ползали мурашки по спине от уханья сов и свиста летучих мышей. Временами за каким-нибудь забором всхрапывала лошадь, страдающая одышкой, или мирно похрюкивала свинья, у нас снова душа уходила в пятки; пару раз мы неожиданно проваливались в ручьи, которые в темноте трудно было увидеть. Все же эти четырнадцать миль закончились, и последние две мили душу нам согревали появившийся вдали маяк Лизард и внезапно приблизившийся шум моря…»[104]
Побывав на ферме, которой управляла тетя Джейн с помощью Хилари Толкина и Брукс-Смитов, Рональд написал длинное стихотворение. Он озаглавил его «Плавание Эаренделя, Вечерней звезды», вспоминая, конечно, строку из Кюневульфа:
Все эти события происходили на фоне непрекращающихся слухов и разговоров о скорой войне с Германией, хотя даже в те тревожные дни мало кто верил в то, что мир, столь прочный и неизменный, может в одночасье рухнуть. Британская империя наконец-то была достроена и находилась на пике своего могущества — вряд ли кто-то осмелится, а тем более сможет поколебать основы мирового порядка.
Ну да, политики и писатели озабочены. Но ведь эти чертовы политики и писатели всегда чем-то озабочены. Вот только что вышел новый роман Герберта Уэллса «Освобожденный мир» — и речь в нем опять же шла о войне. Правда, о войне последней, после которой никаких войн уже не будет.
«Подумайте только, — говорил на страницах „Освобожденного мира“ профессор физики Рафис. — Подумайте только, какие возможности откроются, если мы, наконец, найдем способ ускорения распада радия (заметьте, это написано не когда-нибудь, а в 1914 году, когда о распаде атомного ядра и его последствиях знали только немногие специалисты. — Г. П., С. С.). Мы станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в одной горсти столько вещества, сколько ему понадобится для того, чтобы освещать целый город, или уничтожить эскадру мощных броненосцев, или питать машины гигантского пассажирского парохода. Другими словами, мы обретем ключ, который позволит нам ускорить процесс распада во всех других элементах. Наше открытие можно сравнить только с открытием огня — сразу поднявшим человека над зверем. Вечная борьба за существование, за скудные подачки энергии, которые уделяет нам природа, перестанет быть человеческим уделом. Я вижу преображение гигантских пустынь, вижу полюсы, освобожденные ото льда, вижу мир, вновь превращенный в Эдем».
Но до этого было далеко, что прекрасно понимал и сам Герберт Уэллс. Правда, он считал, что, если случится война, долго продлиться она просто не сможет. Народы очень быстро увидят весь ужас, всю бесперспективность каких бы то ни было силовых решений и сами по себе разоружатся. Освобожденный мир отряхнет с себя темное колдовство прошлого, пусть не сразу, но отряхнет. Конечно, от потерь не убережешься. Поначалу государства, получившие в свои руки атомное сверхоружие, обменяются ударами. Китай и Япония, видимо, нападут на Россию, Соединенные Штаты сокрушат Японию, в Индии вспыхнет восстание, и все такое прочее. К весне 1959 года, писал в своем романе Герберт Уэллс, основные центры человеческой цивилизации превратятся в мрачные очаги негаснущих атомных пожаров. Промышленность будет дезорганизована, система кредитов рухнет.
«Небо над Парижем уже несколько месяцев затянуто клубами пара… оттуда доносился тяжкий грохот, похожий на шум поездов, катящихся по железному мосту… непрерывные раскаты… свирепо проливающиеся радиоактивные дожди… внезапные гигантские молнии…»
Это не походило на реальность, но и реальность оставляла желать лучшего.
Мало кто помнит сейчас (да и из современников немногие задумывались), сколько раз до 1914 года Европа оказывалась на грани большой войны. Танжерский кризис, затем Агадирский, аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, Балканские войны. В 1912 и 1913 годах Сербия, Греция, Болгария и Черногория единым фронтом выступили против Турции, но прошло совсем немного времени, и Сербия, Греция, Румыния, Черногория и примкнувшая к ним Турция выступили уже против Болгарии. Две эти войны унесли 140 тысяч жизней.
Европа жила в тревожном ожидании каких-то невероятных перемен. В этой связи стоит вспомнить о том, что до Великой войны (понятно, никто тогда не называл ее Первой мировой) в Англии не существовало обязательного призыва в армию. Мобилизацию ввели только в 1916 году, когда армия понесла огромные потери, так что поколение Толкина, собственно, ничего не знало о военной службе. Обязательный призыв существовал только во Франции (со времен Наполеона), причем в 1913 году там был принят особенно жесткий закон об обязательной трехлетней службе, чтобы количественно уравнять армию с немецкой. В Германии и России призыв существовал, но частичный, с большими ограничениями.
Правда, в первые месяцы войны никакой всеобщей мобилизации и не понадобилось — так силен был энтузиазм, охвативший мужскую половину населения Англии. «Четвертого августа, когда война уже казалась неотвратимой, — вспоминал Артур Конан Дойл, — я получил записку от деревенского водопроводчика, мистера Голдсмита: „В Кроуборо есть ощущение, что надо что-то делать“. В тот же вечер мы провели собрание всей деревни и собрали отряд добровольцев»[106].
Август 1914 года изменил историю всего человечества.
«Сейчас в это трудно поверить, — писал российский ученый Александр Гнесь, — но в августе 1914 года в Берлине, Вене и Петербурге, в Париже и в Лондоне люди буквально ликовали по поводу начавшейся войны. Многие европейцы ждали от нее обновления всей своей жизни. Сыны ведущих капиталистических стран, уставшие от викторианских запретов и пуританского морализма, собирались дать выход своей энергии на полях Марны и Фландрии, в Карпатах, в Доломитовых Альпах, в Галлиполи и на Балтике. Я не случайно говорю о сынах, ведь это была последняя семейная война. Кузены-монархи Вильгельм II, Николай II и Георг V, называвшие друг друга Вилли, Ники и Джорджи, находясь в плену принципов и предрассудков XIX века, допустили войну, в которой погибло больше людей, чем за все предшествующее тысячелетие»[107].
Понимая всю важность правильного и своевременного освещения текущих событий, уже 2 сентября 1914 года британское Бюро оборонной пропаганды пригласило на особое совещание своих самых видных литераторов: Томаса Гарди, Редьярда Киплинга, Гилберта Кита Честертона, Джона Голсуорси, Арнольда Беннетта, Герберта Уэллса и др. Молодые люди тысячами записывались в добровольцы, ответив на призыв графа Горацио Китченера — военного министра Англии. Записался в армию и младший Толкин, Хилари. «Это ужасно! — писал Рональд невесте. — Работать решительно невозможно. В Оксфорде никого из знакомых не осталось, кроме Каллиса».
Впрочем, сам Толкин, вполне успевающий студент, мог готовиться к службе, не оставляя учебу. На пару с упомянутым выше Каллисом он перебрался на новую квартиру на Сент-Джонс-стрит. Она пришлась ему по душе. Удивительно, но и военная подготовка, которая велась прямо в университетском парке, Толкину понравилась. «Эта муштра — просто дар Божий, — писал он Эдит. — Я почти две недели не спал и все равно до сих пор не ощущаю привычной оксфордской сонливости».
В октябре 1914 года Толкин писал невесте:
«Лапушка моя Эдит!
Ты пишешь мне такие чудесные письма, маленькая моя; а я-то обхожусь с тобою просто по-свински! Кажется, вот уже сто лет не писал. Уик-энд выдался ужасно хлопотный (и страшно дождливый!).
Пятница прошла совершенно без всяких событий, и суббота тоже, хотя всю вторую половину дня мы занимались муштрой, несколько раз вымокли до костей, и винтовки наши все заляпались, мы их потом до скончания века начищали.
Оставшиеся дни я по большей части провел под крышей за чтением. Мне надо было написать эссе, — помнишь, я тебе рассказывал? — но закончить я не успел: явился Шекспир, а вслед за ним лейтенант Томпсон (А. Шекспир и Л. Л. Г. Томпсон — коллеги Толкина по Эксетер-колледжу. — Г. П., С. С.), и помешали мне потрудиться в день воскресный, как я собирался. Сходил к Святому Алоизию на торжественную мессу — получил изрядное удовольствие, — вот уж сто лет мессы не слушал; на прошлой неделе, когда я был в Молельне, о. Ф<рэнсис> меня так и не отпустил.
Вечером пришлось-таки нанести визит вежливости ректору: скука смертная! Жена у него — сущий кошмар! Сбежал, как только смог, и со всех ног помчался под дождем назад, к книгам. Потом заглянул к мистеру Сайзему (наставник Толкина. — Г.П., С.С.) и сказал ему, что никак не смогу закончить эссе раньше среды; немного посидел у него, мы потолковали, потом я ушел, и у меня состоялся крайне интересный разговор с этим чудаком Эрпом[108] — помнишь, я тебе рассказывал? — я познакомил его (к вящей его радости) с финскими песнями „Калевалы“.
Помимо всего прочего, я пытаюсь переложить одно из преданий — великолепнейший сюжет и самый что ни на есть трагический — в виде небольшой такой повести, отчасти в духе романов Морриса, со стихотворными вставками тут и там.
Теперь пора отправляться в библиотеку колледжа и хорошенько изгваздаться среди пыльных книжек. А потом загляну к казначею»[109].
В конце октября 1914 года, в субботу, члены ЧКБО решили встретиться в Кембридже, но, к сожалению, Толкин приехать не смог (или не захотел). Уайзмен, Смит и Гилсон втроем посетили воскресную службу в часовне Кингс-колледжа, побродили по тихому Кембриджу. Солнечное утро с длинными тенями через Боулинг-Грин, старые деревья, туман. Договорились все же встретиться в следующий раз в Оксфорде, но на другой день теперь уже Уайзмен несколько раздраженно написал Толкину, что, скорее всего, не приедет на встречу. Он был уверен, что Толкину весьма не понравятся его слова, но тот сразу согласился с другом, добавив, что, в сущности, их ЧКБО давным-давно превратился в клуб четверых. В итоге долгих переговоров друзья все же решили встретиться, на этот раз на «нейтральной» почве — в Уондсворте (Лондон).
К тому времени у каждого накопилось множество проблем. Роберту Гилсону отец посоветовал получить диплом, прежде чем записываться в армию. Все же в ноябре Гилсон в армию записался — в Кембриджширский батальон. В армии служили и другие члены ЧКБО: Сидни Барроуклоф — Королевская полевая артиллерия и Ральф Пейтон — 1-й Бирмингемский батальон. А вот Дж. Б. Смит, как и Джон Р. Р. Толкин, попал в Оксфордское территориальное подразделение (Оксфордширская и Букингемширская легкая пехота) и мог проходить подготовку прямо в Оксфорде. Впрочем, и это все выглядело зыбким, неопределенным. Не случайно в одном из стихотворений того времени Смит писал: «Мы ненадолго здесь…»
В субботу 12 декабря Великие Близнецы встретились в Уондсворте в доме родителей Уайзмена. У газового камина в просторной комнате наверху они проговорили до поздней ночи. Как говорил позже Уайзмен: собираясь вместе, они всегда чувствовали себя «в четыре раза умнее». Но на этот раз в воздухе было растворено некое раздражение. Давно ли они жаловались друг другу на уютность и излишнюю «цивилизованность» мира, — а где все это теперь? Великая война уже началась, она захватывала все новые и новые страны. Ну да, как всегда, говорили о величии ЧКБО. Даже Толкин сравнивал их встречи со встречами поэтов и художников Прерафаэлитского братства, оставившего столь мощный след в искусстве Англии XIX века. Поэты Кристина Россетти (1830–1894) и ее брат Данте Габриель Россетти (1828–1882), художники У. X. Хант (1827–1910) и Дж. Милле (1829–1896), разочаровавшись в «сегодняшнем дне», нашли когда-то свой эстетический идеал в искусстве Средних веков — «до Рафаэля». А теперь поэтов и художников сводило вместе тревожное ожидание каких-то новых (и совсем других) решительных перемен (вряд ли счастливых).
К удивлению всех, лондонская встреча превзошла все ожидания.
«Никогда я не проводил часов более счастливых», — записал в своем дневнике Роберт Гилсон, а у Толкина настроения тех дней вылились в длинное стихотворение под названием «Морская песня предначальных дней».
«О чем это?» — спросил Дж. Б. Смит.
«Не знаю», — ответил Толкин.
В начале марта английские войска, совместно с бельгийскими частями, при поддержке французской артиллерии попытались прорвать фронт в районе французской деревни Нёв-Шапель, но немецкие части вовремя подтянули резервы, и после первых успехов наступление было остановлено, все атаки англичан и бельгийцев отражены, в боях союзники потеряли более 13 тысяч человек.
На фоне этих кровавых событий Роберт Гилсон написал Толкину о том, что он, Смит и Уайзмен готовы к новой встрече — в Кембридже. Больше всех хотелось встретиться со старыми друзьями именно Гилсону. С того счастливого лондонского уик-энда он практически все дни провел, занимаясь военной подготовкой, жил в бараке на затопленном после дождей поле. «Я, кажется, потерял всякую веру в то, что война скоро закончится, — писал он Рональду. — Вся моя способность выносить настоящее держится сейчас только на том, что я член нашего славного ЧКБО. Еще ни один конклав не приносил своим участникам столько благодати».
Но в Оксфорде как раз наступило время зачетов. Готская и германская филология, староисландский, старо- и среднеанглийский, «Сага о Вольсунгах», «Хавелок-датчанин», «Троил и Крессида» — дел у Толкина было выше головы. К тому же он (по своей собственной инициативе) переводил со среднеанглийского поэму «Сова и соловей», подробно комментируя каждую ее строчку. Кстати, обидным словечком attercoppe («ядовитая голова»), взятым из «Совы и соловья», хоббит Бильбо по воле Толкина будет в известном романе дразнить злобных пауков из Лихолесья.
А готский язык и история готов остались любовью Толкина на всю жизнь.
Как отмечал один из исследователей творчества Толкина Т. Шиппи, в 1930-е годы Толкин регулярно приобретал тома многотомного издания «Германская героическая сага» Германа Шнейдера. Он приводит слова Толкина, что готский язык был главным источником поэтического вдохновения для древних англичан и скандинавов. Позже, во «Властелине Колец», описывая гибель короля Теодена на Пеленнорской равнине, Толкин несомненно позаимствовал ряд подробностей из описания хронистом Иорданом (в «Гетике») гибели готского короля Теодориха в битве с гуннами на Каталаунских полях[112].
Несмотря на такую занятость, Толкин писал стихи, как никогда до этого не писал, будто в душе прорвало плотину. Надежды на скорое окончание войны давно испарились, с фронтов приходили мрачные вести; с Эдит, правда, он был обручен, но вопрос о браке тоже не был пока решен. По меркам того времени Толкин не мог позволить себе жениться, не имея диплома и живя на скромную стипендию. Накопившееся напряжение требовало выхода. Толкин отправил Смиту несколько стихотворений, и тот (по словам Джона Гарта) был немало этими стихами озадачен. Он нашел новый толкиновский романтизм несколько сомнительным и показал стихи капитану Теодору Уэйд-Джери, бывшему оксфордскому дону и поэту. Уэйд-Джери отметил стихотворение «Шаги гоблинов», которое сам Толкин не любил, — зато оно нравилось Эдит, поскольку ей вообще нравились «весна, цветы, деревья и крошечные эльфики».
Впрочем, Толкин сам уже чувствовал искусственность этих стихов.
Мерцанье фонарей… Жужжание жуков… Крыльев трепетанье…
Между тем в апреле 1915 года германское командование впервые в истории европейской цивилизации применило на полях сражений во Франции под городком Ипр новейшее химическое оружие.
«22 апреля была прекрасная утренняя заря, — говорилось в одном из официальных военных отчетов. — Воздушная разведка заметила значительное оживление позади германских линий. Отсюда с утра велся артиллерийский обстрел Ипра семнадцати- и восьмидюймовыми гаубицами и легкими орудиями, но к полудню обстрел постепенно затих, и все вокруг стало спокойно.
Внезапно в 17.00 вновь загремели тяжелые гаубицы. Французские полевые орудия в ответ тоже открыли огонь. Сначала некоторые офицеры, слышавшие стрельбу, решили, что это недавно прибывшая на фронт Алжирская дивизия „расстреляла сама себя“, но те, кто был на удобных для наблюдения пунктах, увидели вдали два странных зеленовато-желтых облака. Приближаясь, эти необычные облака постепенно превращались в нечто вроде голубовато-белого тумана, какой можно видеть над мокрым лугом в неожиданно холодную летнюю ночь. За туманом мелькали фигуры германских солдат, под ураганным огнем они продвигались вперед. Вскоре был отмечен неприятный запах. Какой-то газ, распыленный над землей, наплывал волнами и быстро вызывал резкое жжение глаз, носа и горла. Прошло, однако, некоторое время, прежде чем было установлено, что желтое облако является облаком газа. Испуганные происходящим „цветные“ войска начали устремляться назад по тыловым дорогам пятого корпуса. А затем уже и все французы в беспорядке бросились к мостам, ведущим через канал»[114].
А 7 мая вся Англия узнала об атаке германской подводной лодки «U-20» на огромный британский пассажирский корабль «Лузитания». В результате этой атаки погибло 1198 человек, включая известного миллионера Альфреда Вандербильта. На борту было много американцев, и в дальнейшем гибель «Лузитании» была использована как один из аргументов в пользу вступления США в войну на стороне Антанты.
В библиотеке колледжа Толкин взял «Финскую грамматику» Элиота. Но теперь он погружался в учебник не для того, чтобы еще лучше изучить финский, а чтобы понять, как должен формироваться новый язык, который создавал он сам. Он хотел, чтобы у этого языка (квенья) действительно было прошлое. Пусть квенья растет и развивается из еще более раннего, тоже придуманного Толкином языка — «первоначального эльдарина». Описание всех этих «сдвигов звучания» занимало большинство страниц в его рабочей записной книжке. Честно говоря, Толкин считал свое занятие «вполне сумасшедшим» и почти не надеялся, что кто-то поймет и оценит его работу. Однако он достиг немалых успехов. Он даже стал писать стихи на квенья. Единственное, что мешало Толкину развернуться: отсутствие истории у его нового языка. На фоне ужасов, творящихся в Европе, Толкин окончательно осознал ту непреложную истину, что не может существовать никакого языка без истории, без своего народа — создателя и носителя этого языка. Он искал хоть какую-то возможность наложить созданный им новый язык на некую реальную (пусть даже придуманную) историю.
В книге Джона Гарта приводится отрывок стихотворения, написанного Толкином на языке квенья. Датировано оно мартом 1916 года. Перевода этих стихов не существует, однако слова lasselanta («листопад», отсюда и «осень») и Eldamar («дом эльфов») не раз использовались Толкином впоследствии.
Тогда же, в 1915 году, до Толкина дошло, что изобретенный им язык — это, скорее всего, тот язык, на котором говорят (или говорили) фейри или эльфы, которых видел Эарендель во время своего удивительного путешествия. Скитания морехода по всем океанам мира закончились тем, что сам его корабль стал звездой — удел всех кораблей, уходящих в вечность.
«Песнь об Эаренделе» Толкин разделил на несколько стихотворений. В первом из них («Берега Фэери») описывалась таинственная страна Валинор. Там растут на морском берегу удивительные деревья Тельперион и Лаурелин. На одном зреют золотые солнечные плоды, а на другом — серебряные лунные. А еще в «Песне об Эаренделе» возникают яркие детали, впоследствии вошедшие в «Сильмариллион»:
Наконец, летом 1915 года Толкин сдал экзамен на степень бакалавра — с отличием первого класса. В эти дни немцы уже вели бомбардировки Лондона, правда, бросали бомбы не с самолетов, а с дирижаблей-цеппелинов. Зенитной артиллерии еще не существовало. Реальных разрушений, в общем, было немного, но сам факт налетов наводил на лондонцев ужас.
Великая война продолжалась.
Прекрасно сданный экзамен позволял Толкину рассчитывать на штатную университетскую должность, но говорить об этом в таких обстоятельствах попросту не имело смысла. Получив чин младшего лейтенанта, Джон Рональд Руэл Толкин был призван в полк ланкаширских стрелков — к сожалению, не в тот батальон, в котором служил Дж. Б. Смит.
В городе Бедфорде Толкина определили на постой в частном доме вместе с полудюжиной других таких же молодых необстрелянных офицеров. Тревога Рональда нарастала. В каждом газетном выпуске публиковались длинные списки погибших. Среди них мелькали знакомые имена. Много знакомых имен. Сообщалось, что в одной из неудачных атак погиб сын Редьярда Киплинга — его тело так и не нашли. Умер в госпитале от тяжелых ран сын Гилберта Кита Честертона. Погибли на позициях сын и младший брат Артура Конан Дойла…
Впрочем, самому Толкину прямая опасность пока не грозила.
Получив увольнительную, он иногда на велосипеде добирался до Уорика. Эдит терпеливо ждала его. Такой уж выпал ей удел — ждать. Толкин возмужал, отпустил усы, перестал выделяться из многих окружающих его молодых людей в форме. Бывало, он бурно ссорился с Эдит, потом мирился. И при любой возможности пытался разрабатывать все новые и новые ответвления чудесного языка эльфов (квенья), стараясь не обращать внимания на скверную еду, на рытье окопов, на бесконечное и утомительное изучение военной техники. «Среди начальства джентльменов не сыскать, — удрученно сообщал он Эдит, — а с низшими чинами говорить не о чем».
Новости от друзей тоже не радовали.
Роберта Гилсона отправили во Францию. Он взял с собой только две книги — Новый Завет и Одиссею, обе на греческом. Эстель, невеста Гилсона, почти одновременно с ним записалась в армию и теперь отправилась в Голландию — медсестрой. Джеффри Смита тоже направили в действующую армию. «Мне двадцать один год, — мрачно писал он Толкину, — и я не могу не задумываться о том, исполнится ли мне когда-нибудь двадцать два?»
Впрочем, Смит постоянно напоминал Толкину о величии их ЧКБО.
«Мой дорогой Джон Рональд, я теперь уже не ставлю на свои собственные силы, — горько признавался он, — теперь я больше надеюсь на наши совместные труды. Господь да благословит тебя и сохранит, чтобы ты смог вернуться к Англии и к твоей жене». И опять: «Мой дорогой Джон Рональд, я верю, что Господь избрал именно тебя, как Савла из израильского народа. Да хранит тебя Господь, и если такой окажется моя судьба и меня не станет, скажи то, что я пытался сказать…»
В отличие от Смита Гилсон ни с кем не прощался. Напротив, он писал своей невесте в Голландию о чудесных, хотя и пустынных, заросших сорняками садах в тихой французской деревне Ля-Бюссель. «Это одно из немногих по-настоящему красивых мест среди всеобщего разрушения. Даже артобстрелы по ночам были бы красивы, не будь они так ужасны».
В Англии, в «Дейли кроникл» (от 21 января 1916 года) Артур Конан Дойл набросился вдруг на Герберта Уэллса, позволившего себе высказать некоторые личные прогнозы по поводу военных действий. «Сэр, — раздраженно писал Конан Дойл редактору газеты, — я с интересом прочел статью мистера Уэллса о возможном ходе войны. Думаю, однако, что он слишком легко отвергает идею ее завершения полным крахом Германии. Блох (варшавский банкир и экономист, еще в 1898 году опубликовавший в Санкт-Петербурге оригинальное исследование „Будущая война“. — Г. П., С. С.) был дальновидным мыслителем. Он, конечно, предвидел продолжительную войну в окопах, но не мог учесть мощи современных орудий и снарядов большой разрушительной силы. Если бы он принял это во внимание, то не стал бы торопиться с выводами. К концу сентября этого года силы Англии и Франции действительно были на пределе, но к весне их людские ресурсы и запасы снарядов сильно возрастут. (Даже в тот год наивность Конан Дойла многим бросилась в глаза. — Г. П., С. С.) А еще у них появится ценный опыт отдельных побед, которым они и будут руководствоваться. Кроме того, они усовершенствуют свое защитное вооружение…»
В этом письме всё перемешано — и патриотизм, и полное непонимание реалий времени.
К началу 1916 года Толкин решил учиться на связиста.
Он жаждал реальной деятельности. Выучил азбуку Морзе, сигнализацию с помощью флажков и дисков, научился передавать сообщения посредством гелиографа, ставшего, кстати, весьма популярным благодаря известному стихотворению Редьярда Киплинга «Нравственный код».
А еще — сигнальные ракеты, полевые телефоны, работа с почтовыми голубями. Все это оказалось очень ко времени — полк, в котором служил Толкин, получил приказ передислоцироваться во Францию.
Узнав об этом, Рональд и Эдит решили пожениться. Ему было двадцать четыре, ей — двадцать семь. У Эдит был свой небольшой счет в банке, у Рональда — лейтенантское жалованье и такие же небольшие (действительно небольшие) личные сбережения. Напечатав в оксфордском издательстве «Блэкуэллз» стихотворение «Шаги гоблинов» (в альманахе «Оксфордская поэзия»), Толкин почему-то решил, что в будущем вполне сможет поддерживать семью доходами от стихов — вечная и наивная надежда всех поэтов.
К сожалению, жизнь определяли не эльфы, а гоблины.
Их тяжелая поступь уже несколько лет потрясала страны Европы.
Отец Фрэнсис предложил Рональду и Эдит обвенчаться в старой церкви Бирмингемского оратория, но они уже успели договориться с католическим собором в Уорике. Там 22 марта 1916 года их и обвенчал отец Мерфи. Долгожданное и прекрасное событие, но Эдит ждал весьма неприятный сюрприз. Она как-то забыла о том, что при записи в метрическую книгу ей придется указать имя отца. А она ведь никогда не говорила Рональду о том, что не знает своего отца, что она — незаконнорожденная! В растерянности Эдит вписала в нужную графу имя своего дяди Фредерика Брэтта, но другая графа — «Общественное положение или профессия отца» — так и осталась незаполненной.
«Мне кажется, дорогая моя женушка, — сказал на это Рональд, — из-за всей этой чепухи я только нежнее и сильнее люблю тебя».
И добавил: «Господь милостив, положимся на Господа».
Глава пятая
СТАНОВЛЕНИЕ ДОНА
Когда Толкин говорил о XX веке как о чем-то для него во многом неприемлемом, как о чем-то тяжелом, страшном, отталкивающем, он, конечно, имел в виду прежде всего техническую сторону нашей цивилизации. Орка или гоблина, наверное, можно усадить за рычаги танка, но хоббит вряд ли сам возьмется за огнемет и эльф не поменяет прекрасную лошадь на рычащую самоходку. Страх человека, который напрямую столкнулся с тем, что производят его собственные руки, навсегда остался в подсознании Толкина и в его произведениях:
«Там восседал на большом камне самый омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг стояли другие, вооруженные топорами или кривыми мечами — их излюбленным оружием. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде, — они стали злы и жестоки, их сердца зачерствели, а ведь когда-то они были искусными мастерами и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами — или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности — машины для убийства; в конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников»[118].
Великая война ужаснула людей.
Великая война разбудила в человеке черную часть сознания.
Оказалось, теперь, чтобы победить противника, нужно иметь действительно реальное преимущество, нужно быть во всех смыслах сильнее его. Просто закалять тело человека, укреплять его мятущийся дух — бессмысленно, предел достигнут; отсюда полнейшая неразборчивость в выборе средств, здесь пролегает принципиальная граница.
Страх и скука — вот главные чувства, испытываемые на войне. Страх смерти и скука многомесячного сидения в окопах и сырых блиндажах.
Время шло, люди погибали. Не хватало сил нарушить страшное равновесие, о котором впечатляюще говорил свидетель тех страшных событий, русский поэт Александр Блок (1880–1921).
Что такое война? — задавался он вопросом.
«Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий „фоккер“; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы — нас); „фоккер“ стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — на стадо скотов, иногда — на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи народных рублей в болоте. Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.
Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется „фронт“.
Люди — крошечные, земля — громадная.
Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что „великая европейская война“ так убога. Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та пошлятина; имя обоим — „великая война“, „отечественная война“, „война за освобождение угнетенных народностей“, или как еще? Нет, под этим знаком — никого не освободишь. Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество»[119].
Хуже всего были убитые.
Трупы валялись повсюду. Истерзанные, изувеченные осколками. Те, у которых хотя бы частично сохранились лица, смотрели в никуда жутким, неподвижным взглядом. «Ничейная земля» за окопами была сплошь устлана вздувшимися, гниющими трупами. Травы и посевы исчезли, втоптанные солдатскими башмаками в море грязи. С окрестных деревьев посбивало листву и ветки, везде торчали покореженные, почерневшие стволы.
Первая мировая, несомненно, превзошла все другие известные к тому времени войны — концентрацией жестокости, необыкновенным количеством смертей на сравнительно небольшом пространстве, ограниченном с двух сторон длинными линиями сырых окопов, которые месяцами оставались практически на одном месте. При этом новые виды оружия рассчитаны были не просто на устрашение — они сразу создавались именно как массово поражающие.
Да, тяжелые танки, впервые примененные англичанами на Сомме, выглядели пока неуклюже и двигались со скоростью, едва ли превышающей скорость человека, но они ужасали одним своим видом — бронированные чудовища, явившиеся из тьмы прошлого, чтобы отобрать у тебя жизнь…
Да, дизельные подводные лодки обладали сравнительно небольшой глубиной погружения и слабым запасом хода в подводном и в надводном положениях, но это нисколько не утешало гражданских и военных моряков, а также пассажиров кораблей, оказавшихся на пути подводных хищников. Одна удачно выпущенная торпеда могла унести сразу тысячи жизней, как это произошло с «Лузитанией»…
Да, морские мины нельзя было пока разбросать по всей акватории того или иного моря, но рано или поздно мины, оставленные в воде, взрывались. Кстати, именно так 5 июня 1916 года в районе Оркнейских островов погиб британский крейсер «Хэмпшир», на борту которого находился военный министр Великобритании фельдмаршал Гораций Китченер, направлявшийся с визитом в Российскую империю…
Да, самолеты напоминали ненадежные этажерки (их так и называли) и летали со скоростью, не превышающей 200 километров в час, и бомбы, которые они могли поднять, редко превосходили силой взрыва ручную гранату. Но это были настоящие бомбы, и негромкое жужжание «фоккера» пугало солдат противника не меньше, чем бесшумное появление в воздухе дирижаблей-цеппелинов. (Вот она — тень злобных назгулов, вырвавшихся впоследствии на страницы «Властелина Колец»)…
А еще — все возрастающая мощь и скорострельность артиллерии, пулеметов, огнеметов. Отчеты о боевых действиях напоминали какие-то дьявольские технические справки: «Десятисекундными залпами огнеметов системы „Ливенса“ в течение получаса уничтожено более сорока германских солдат». Ко всему этому — разрывные пули, наносящие ужасные (как тогда начали говорить: несовместимые с жизнью) раны при любом попадании. Штыки всех видов, специальные «окопные» дубинки, утыканные шипами (для ближнего боя), кованые металлические стрелы, сбрасываемые с самолетов.
И, наконец, впервые было применено химическое оружие. Не менее пятидесяти видов разных отравляющих веществ «испытали» противоборствующие стороны в Великой войне[120], правда, «удачными» (по результатам и по тактическим свойствам) оказались всего пять — семь.
Первенство среди «военных» газов, несомненно, держал иприт. Как тяжелые облака, этот газ движется по ветру в сторону противника, медленно «затекает» в окопы, в блиндажи, в любые незакрытые убежища. Иприт — активное вещество кожно-нарывного действия. Капельки его поражают кожу, вызывают мучительную боль, ослепляют, разрушают легкие, иприт надолго заражает местность, уже не позволяя противнику совершать маневры. И вообще, попав в стелющееся по земле желтовато-зеленое облако иприта, человек погибает в течение нескольких минут…
В феврале 1916 года под Верденом французы применили еще один столь же смертоносный газ — фосген. Разрыв снаряда, начиненного им, выбрасывает темное облако со смертельной концентрацией газа, плывущее низко над землей. С первого же применения фосгена химическая война претерпела качественное изменение: теперь она велась не для временного выведения из строя солдат противника, а для полного их уничтожения прямо на поле боя. В мае того же 1916 года в боях у Шитанкура немцы «более чем успешно» ответили на химические атаки французов снарядами, начиненными дифосгеном в смеси с хлорпикрином. Эти газы оказывали немедленное удушающее и слезоточивое действие; имевшиеся в то время примитивные противогазы и влажные маски ничуть действия этого газа не сдерживали. Наконец, арсины — неорганические мышьяковистые соединения. Они обладают отвратительным запахом, вызывающим тяжелую рвоту. При взрыве снаряда твердые кристаллы арсина стремительно переходят в состояние пара, а затем вновь кристаллизуются в мельчайшие частицы. Вот они — нанотехнологии в действии.
Появление химического оружия, конечно, вызывало множество слухов. Из окопа в окоп передавали рассказы о тысячах погибших, о неимоверных мучениях, в которых умирали солдаты и офицеры. Все фронты облетел рассказ о загадочном исчезновении батальона 1/5 королевского Норфолкского полка. Тогда исчезло от 145 до 200 человек — такие назывались цифры. А само это загадочное «исчезновение» произошло 21 августа 1915 года под Галлиполи в Турции. Англичане стремились установить уверенный контроль за Дарданеллами — длинным узким проливом, соединяющим Средиземное море с Мраморным. Берега бухты Сулва, место высадки английского десанта, — голые камни, ярко сверкающие от высохшей соли. Почти две недели английские солдаты не могли прорваться сквозь позиции турок. Отвратительные жирные зеленые мухи роились над бесчисленными трупами погибших и умерших от дизентерии.
Вот что рассказывали об исчезновении батальона 1/5 новозеландские пехотинцы из третьего взвода первой пехотной роты:
«На высоту 60 и окопавшихся там солдат неожиданно опустилось, невзирая на порывистый ветер, облако необычного серебристого „тумана“. Оно казалось плотным, почти „твердым“ и было около 800 футов в длину, 200 в высоту и 300 в ширину». Все эти новозеландцы, а их было более двадцати человек, единодушно утверждали, что несколько сотен солдат неудачливого британского батальона, вошедшие в спустившееся на дорогу облако, попросту исчезли в нем.
И никто никогда из этого «тумана» уже не вернулся.
А примерно через час странное облако медленно поднялось и двинулось на север в сторону Болгарии. Никаких солдат (или трупов) на открытой местности не оказалось — британский батальон странным образом исчез. Полностью. Бесследно. Никаких выстрелов, никаких признаков борьбы.
А вот что рассказывали о том же событии солдаты Австралийского армейского корпуса — саперы Ф. Рейхарт и Р. Ньюнес:
«День выдался ясный, картину нарушали лишь несколько облачков в форме каравая хлеба, все на удивление одинаковые. Они зависли над высотой 60. Несмотря на сильный бриз, странные облачка не меняли ни положения, ни формы. Как повисли, так и продолжали висеть. Таким же неподвижным, покоящимся на земле прямо под этой группой облачков, казалось облако, имевшее около 800 футов длины, 250 футов высоты и не менее 200 футов ширины. Мы наблюдали это из траншей на Рододендроновом отроге, примерно в 2500 ярдах к юго-западу от лежащего на земле облака. Как потом оказалось, облако это оседлало сухое русло ручья и дорогу в выемке Каяджик-дере, и мы отлично видели и концы, и боковые его стороны. А вскоре увидели британских солдат — они шли к высоте 60. Приблизившись к облаку, британцы без всяких колебаний вошли прямо в него и уже никогда оттуда не вернулись. Час спустя странное облако медленно и плавно поднялось над землей и двинулось на север к Трейту (Болгария). Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что описанный выше инцидент — правда, от первого слова до последнего».
Батальон 1/5 был внесен в печальный список «пропавших без вести». Позже, в 1918 году, правительство Великобритании настойчиво потребовало от турок вернуть своих солдат. Существовало подозрение, что они все-таки были взяты в плен. Но турки столь же настойчиво уверяли, что 21 августа 1915 года под Галлиполи они никого в плен не брали, больше того — ни с кем не вступали в боевые действия. В итоге в официальном отчете британцев было указано, что батальон 1/5 был поглощен туманом «неясного происхождения».
Странным образом эта история напоминает исчезновение армии Сарумана в таинственном лесу после битвы в Хельмовом ущелье.
«В 7.20, за десять минут до „часа зеро“, — описывал начало наступления на Сомме Джон Гарт, — каждое орудие начало стрелять с максимально возможной скоростью. Воздух побурел от пыли перерытых снарядами полей и покраснел от обращенных в пыль кирпичных домов окрестных деревень и ферм. Затем, за две минуты до начала атаки, земля мощно вздрогнула. Лейтенанта Гилсона и его людей предупредили, что они должны быть готовы к этому; их даже отвели слегка назад, чтобы уберечь от контузий. Там, за нейтральной полосой, земля вдруг взлетела на тысячи футов вверх — это тонны аммонала (аммиачной селитры, смешанной с алюминиевой пылью) были подорваны под вражескими траншеями, там, где они поднимались на особенно хорошо защищенную высоту. Осколки скал, огромные глыбы мела, как нелепые тележные колеса, покатились вниз».
И далее: «Гилсон ждал, пока третья волна кембриджширцев покинет окопы. Он посмотрел на часы и ровно через две с половиной минуты после „часа зеро“ свистнул в свисток и махнул рукой своему взводу выдвигаться к передовой, проходившей где-то в четырех сотнях ярдов. Но что-то было не так. В воздухе густо свистели пули, а чуть выше с пугающим „вуф“, „вуф“ проносились снаряды размером с двухгалонный бочонок для масла. Его (Гилсона. — Г. П., С. С.) люди тревожно переглядывались, удивленные интенсивной стрельбой врага, которого должна была перемолоть артподготовка; но им было стыдно показать свой страх»[121].
Лейтенант Роберт Гилсон был убит в этот самый первый день наступления на Сомме. Его кембриджширцы потеряли в тот день более пятисот человек убитыми и ранеными. В двух милях слева от Гилсона точно так же ждал атаки, а потом двинулся вперед батальон Дж. Б. Смита. Для его солдат атака оказалась почти столь же трагической, правда, сам Смит в тот день уцелел.
Воспоминания другого очевидца тех событий (француза Луи Бартаса, чей батальон занимал соседний с англичанами участок фронта на Сомме) воспринимаются буквально как продолжение предыдущих.
«Каждый вечер, — писал Бартас, — мы наблюдали очередной трагический спектакль, разыгрывавшийся на Сомме. Небо исполосовано молниями, подсвечено, опалено снизу яростными отблесками, неожиданными вспышками, и все это сопровождается непрерывным глухим ворчаньем и громыханием. Будто ты находишься поблизости от гигантского вулкана или видишь угрожающие отблески ада… Только в начале ночи мы прибыли в гигантский лагерь, и нас сразу набили — на „отдых“ — в сырые темные бараки, где мы улеглись вповалку прямо на землю. Это и был лагерь „фермы Бонфрэ“, — почти все укрытия (кроме бараков) были из палаточной ткани, досок, ящиков, веток, древесных стволов, только английские офицеры размещались в элегантных домиках, не лишенных комфорта. По дорогам, пересекавшим лагерь, днем и ночью двигались нескончаемые автомобили, тяжелые фургоны, проходили свежие части, санитарные машины. Сюда даже провели ветку железной дороги, по которой двигались тяжелые составы с боеприпасами, строительными материалами, питанием. Склады, кладовые, погреба возникали повсюду; от наблюдения за этой интенсивной, лихорадочной жизнью, не прекращающейся ни на минуту, начиналось чуть ли не головокружение, взгляд не достигал границ лагеря, ухо переполняли самые разнообразные шумы, они смешивались с раскатами канонады»[122].
И вновь описание рядового военного лагеря Первой мировой поразительно напоминает описание Толкином военных лагерей в Мордоре…
Лейтенант Толкин числился в своем батальоне «сверхштатным», так как все офицерские места в нем были заняты. Никаких возможностей оказаться на фронте рядом с кем-нибудь из членов ЧКБО попросту не существовало. Время игр кончилось. Великие Близнецы могли теперь чувствовать себя свободными только в собственном творчестве, в своих мечтах. И когда Дж. Б. Смит писал Толкину, что все же пытается помочь выбить ему место в одном с ним батальоне, это тоже оставалось мечтой — к сожалению или к счастью, сказать трудно.
Сам Смит перевелся в 19-й батальон ланкаширских стрелков. Сформирован этот батальон был из обыкновенных рабочих, всю жизнь разрабатывавших угольные пласты восточной части Ланкашира, зато офицеры там в большинстве были выпускниками Оксфорда. Армейские традиции постепенно видоизменялись, прорастали новыми, необычными — уж слишком много скуки и страха наваливалось на солдат и офицеров на позициях. Долгие дни в окопах без каких-либо заметных событий, затем судорожные попытки изменить линию фронта, кровавые атаки, артиллерийские дуэли. Любая весточка извне завораживала. Получив новые стихи от Толкина, Кристофер Уайзмен писал со своего корабля (он служил на флоте): «Просто не знаю, откуда ты берешь эти удивительные слова». Стихотворение «Два древа» он назвал лучшим из всего, что прочел за последние годы. Он даже пытался сочинить музыку к этим стихам, хотя обстановка этому никак не соответствовала. Кристофер Уайзмен и Дж. Б. Смит почти одновременно писали Толкину об испытываемом ими на фронте необычном и, как они утверждали, не столь уж приятном ощущении взросления.
«Не знаю, — пытался шутить Уайзмен, — может, это связано с активно растущими усами…»
Эдит оставалась в деревне Грейт-Хейвуд, неподалеку от лагеря, в котором располагался батальон лейтенанта Джона Р. Р. Толкина, но в воскресенье 4 июня 1916 года батальон этот срочно отбыл в Лондон, а оттуда во Францию. Военный период жизни писателя прекрасно описан в книге Хэмфри Карпентера, кстати, авторизованной самим Толкином. Так что есть смысл привести долгую цитату из нее — пусть читатели простят нас за это или поблагодарят.
«Они стояли в Этапле, — писал Хэмфри Карпентер. — Дни шли за днями, но ничего не происходило. Нервное возбуждение, царившее при отправке, сменилось усталой скукой, которая усугублялась полной неизвестностью. Никто не знал, что происходит. Толкин написал стихотворение об Англии, принимал участие в учениях, часами слушал крики чаек, кружащих над головой. Затем Толкина перевели в 11-й батальон (ланкаширских стрелков. — Г. П., С. С.), где он, к сожалению, нашел не самое приятное для себя общество. Младшие офицеры там все были новобранцами, некоторым не исполнилось еще и двадцати одного года, в то время как старшие полевые командиры и адъютанты были профессиональными военными, вернувшимися в армию из отставки. Они отличались несомненной узколобостью и изводили подчиненных бесконечными повествованиями об Индии и Англо-бурской войне. Старые вояки не спускали новобранцам ни единого промаха, и куда большее почтение Толкин испытывал к „солдатам“ — восьмистам сержантам и рядовым, составлявшим основную часть батальона. Некоторые из них были из Южного Уэльса, остальные — ланкаширцы. Офицеры не могли общаться с рядовыми — система этого не допускала, но к каждому офицеру был приставлен денщик, в чьи обязанности входило следить за вещами офицера и прислуживать ему на манер оксфордского скаута[123]. Много лет спустя, обсуждая одного из главных персонажей своего романа „Властелин Колец“, Толкин замечал: „На самом деле Сэм Гэмджи списан с самого обычного английского солдата, с одного из тех рядовых и денщиков, которых я знал во время войны 1914 года и которым сам я уступал во многом“».
«После трех недель в Этапле батальон отправили на фронт.
Поезд полз невероятно медленно, стоял практически у каждого столба, миновало больше суток, прежде чем плоские невыразительные равнины у Па-де-Кале сменились более холмистой местностью. Железная дорога шла вдоль реки, от которой там и тут отходили неширокие каналы, а по берегам выстроились ряды тополей. Река называлась Сомма. Отсюда уже была слышна стрельба…
Потом батальон прибыл в Амьен. Офицеров и солдат накормили из полевых кухонь на главной площади, и дальше они отправились пешим порядком, нагруженные тяжелой амуницией. Временами приходилось останавливаться или сходить на обочину, пропуская упряжки, тянущие боеприпасы и пушки. Вскоре город кончился, и они оказались на открытой пикардийской равнине. Прямая дорога вела через поля алых маков или желтой горчицы. Хлынул проливной дождь, и пыльная дорога сразу превратилась в белое меловое месиво. Солдаты шагали мокрые и злые, пока не пришли в деревушку Рюбампре, в десяти милях от Амьена. Тут они остановились на ночлег в условиях, которые вскоре стали для них привычными: солдатам — солома в амбарах или на сеновалах, офицерам — раскладушки в тесных крестьянских жилищах. Дома, впрочем, были старые, основательные, с растрескавшимися балками и глинобитными стенами. Снаружи до самого горизонта простирались поля, заросшие прибитыми дождем васильками. Кругом виднелись следы войны: проломленные крыши, разрушенные строения. А впереди, совсем уже недалеко, слышался вой снарядов и грохот взрывов: союзники обстреливали немецкие позиции…
Весь следующий день офицеры и солдаты 11-го батальона провели в Рюбампре, занимаясь физподготовкой и тупо упражняясь в штыковом бое. В пятницу, 30 июня, их переместили в другую деревушку, ближе к линии фронта, а в субботу рано утром грянуло сражение. К счастью, 11-му батальону пока не полагалось участвовать в боевых действиях: солдат держали в резерве, чтобы бросить в бой только несколько дней спустя. Генерал Дуглас Хейг, главнокомандующий, рассчитывал, что к этому времени германская линия обороны будет прорвана и войска союзников смогут продвинуться далеко вглубь территории противника.
Но вышло все иначе.
В 7.30 утра в субботу 1 июля британские войска пошли в атаку.
Среди атакующих был Роб Гилсон. Он служил в суффолкском полку (в 11-м батальоне кембриджширских стрелков. — Г. П., С. С.). Солдаты выбрались из окопов по деревянным лестницам, построились в ровные шеренги, как их учили, и медленно зашагали вперед — медленно, потому что каждый тащил на себе не менее шестидесяти пяти фунтов амуниции. Им сказали, что германская линия обороны практически уничтожена и колючая проволока во многих местах порвана артиллерийским огнем союзников. Однако скоро они увидели, что проволока целехонька, а когда шеренги приблизились к немецким окопам, оттуда застрочили пулеметы…
Батальон Толкина тем временем перевели в деревню под названием Бузенкур. Там пришлось стать лагерем в чистом поле, только некоторые счастливчики (Толкин в их числе) поселились в хижинах. Было очевидно, что на поле битвы что-то пошло не так, как задумывалось: раненые поступали сотнями, многие из них были чудовищно изувечены; целые отряды назначались копать могилы; в воздухе висела жуткая вонь разложения. В первый день битвы полегло почти двадцать тысяч солдат, но германская линия обороны не была прорвана и уничтожена, заграждения из колючей проволоки почти везде сохранились целыми, и вражеские пулеметчики без труда косили шеренги англичан и французов, пока те приближались медленным шагом, представляя собой идеальную мишень…
В четверг 6 июля 11-й батальон ланкаширских стрелков тоже вступил в бой. Однако в окопы отправили только первую роту, и Толкин, к счастью, опять остался в Бузенкуре. Прислушиваясь к грохоту близких разрывов, он перечитывал письма Эдит и просматривал свое собрание записок от членов ЧКБО. Он беспокоился за Гилсона и Смита, которые были в самой гуще битвы, и испытал невыразимое облегчение, когда ближе к вечеру в Бузенкуре объявился Смит, живой и невредимый. Смиту предстояло несколько дней отдыха перед возвращением в окопы, и они с Толкином постарались в эти дни встречаться и беседовать как можно чаще. Они говорили о поэзии, о войне и о будущем. Один раз они даже отправились бродить по полю, где еще колыхались на ветру красные маки, несмотря на то, что бомбежки и артобстрелы постепенно превращали поля в бесформенную грязную пустошь. Оба с нетерпением ждали вестей о Гилсоне.
В воскресенье вечером первая рота вернулась с позиций. Человек двенадцать было убито и более сотни ранено, а уцелевшие рассказывали ужасные вещи. А в пятницу 14 июля двинулась в бой и вторая рота. То, что в тот день испытывал Толкин, переживали до него тысячи других британских солдат. Вышли они ночью, долго шли от лагеря до позиций, потом, спотыкаясь, пробирались по ходам сообщения длиной в милю, потом еще долгие часы неразберихи, пока, наконец, предыдущая рота не уступила им место. Связистов ждало горькое разочарование. В „учебке“ все всегда было аккуратно разложено по полочкам, а тут они увидели кучу спутанных проводов и вышедшие из строя полевые телефоны. Вдобавок ко всему по телефонам разрешалось передавать только самые простые сообщения: немцы подключались к телефонным линиям и перехватывали приказы. Запрещены были даже рации, использующие морзянку. Так что вместо современных средств связи связистам приходилось полагаться на световые сигналы, сигнальные флажки или, на худой конец, на курьеров и почтовых голубей…
В первый день участия в боевых действиях роту Толкина присоединили к 7-й пехотной бригаде, которой предстояло атаковать разрушенную деревушку Овийе, все еще остававшуюся в руках немцев. Атака быстро захлебнулась: колючая проволока перед окопами противника опять не была порезана, как следует, и многие полегли под пулеметным огнем. Но Толкин не был даже ранен. После двух суток, проведенных на ногах, он, наконец, смог ненадолго прикорнуть в блиндаже. А через сутки его роту отвели с позиций.
В Бузенкуре Толкин получил письмо от Дж. Б. Смита:
„15 июля 1916 года. Дорогой Джон Рональд! Сегодня утром прочел в газете, что Роб Гилсон погиб. Со мной все в порядке, но что толку? Пожалуйста, не бросайте меня вы с Кристофером. Я страшно устал, и эта ужаснейшая новость повергла меня в глубокое уныние. Только теперь, в отчаянии, понимаешь, чем на самом деле было для нас ЧКБО. Дорогой мой Джон Рональд, что же нам теперь делать?“
Толкин ответил: „Я сам, кажется, ощущаю, что ЧКБО пришел конец“.
„Нет, — написал ему Смит, — ЧКБО не умерло и не умрет никогда“»[124].
Роберт К. Гилсон погиб 1 июля, в самом начале наступления на Сомме.
Дж. Б. Смит переслал Толкину письмо, полученное им от Кристофера Уайзмена, и теперь Толкин старался, как мог, успокоить друга. Но если вдуматься, ответное письмо Толкина плохо сочетается с принятыми в обществе условностями. Видно, что он искренен, однако озабочен не столько словами утешения, сколько упрямыми попытками разобраться в том, что мучит его самого, включая будущее ЧКБО, на которое он смотрел теперь чрезвычайно пессимистически.
«Дорогой мой старина Джеффри! — писал Толкин. — Огромное спасибо за письмо Кристофера. Я много передумал (со дня получения известия о гибели Гилсона. — Г. П., С. С.), и мысли эти по большей части в слова не облечешь, по крайней мере, до той поры, когда Господь снова сведет нас вместе…
Я уходил в лес — мы опять стоим лагерем, причем в том же самом месте, где мы с тобой встретились, — и вчера вечером, и накануне тоже, и долго сидел там и думал. Никак не могу избавиться от уверенности, что не следует ставить знак равенства между тем величием, что снискал себе Роб (своей смертью. — Г. П., С. С), и величием, в котором сам он сомневался. Робу отлично было ведомо, что я абсолютно искренен и никоим образом не предаю свою любовь к нему. А любовь эту теперь, когда его в нашей четверке не стало, с каждым днем я осознаю все отчетливее. И верю: если величие, которое со всей отчетливостью мы подразумевали (подразумевали как нечто большее, нежели только святость или только благородство), и в самом деле — удел ЧКБО, то смерть одного из членов нашего клуба — это не более чем жестокий отсев тех, кто для величия не предназначен. Дай Господи, чтобы сказанное не прозвучало самонадеянностью. Воистину сейчас смирения у меня прибавилось: я ощущаю себя куда более слабым и жалким. Величие, о котором я говорю, — это величие могучего орудия в руках Господних: величие вдохновителя, деятеля, свершителя великих замыслов или хотя бы зачинателя деяний крупных и значимых…
Величие, обретенное Робом, ничуть не меньшее, ибо величие, которое я подразумевал, на которое с трепетом указывал, — оно ничего не стоит, не будучи подкреплено святостью отваги, страдания и самопожертвования. Иными словами, величие Роба теперь касается нас всех. Отныне нам предстоит чтить первое июля на протяжении всех лет, отпущенных каждому из нас Господом. То, что я имел в виду и что, как мне кажется, имел в виду Крис, сводится к следующему: да, нашему ЧКБО дарована некая искра, — как общности, — безусловно. Искра, способная зажечь в мире новый свет или возродить прежний. Наше ЧКБО призвано свидетельствовать о Господе и Истине более явно и прямо, чем даже пожертвовав жизнями нескольких своих членов в этой войне, которая, невзирая на все зло с нашей стороны, по большому счету является борьбой добра против зла.
Меня не покидает ощущение, будто что-то с треском рухнуло.
По отношению к вам обоим чувства мои нисколько не изменились — напротив, я еще ближе сейчас к вам, чем прежде, и очень в вас нуждаюсь и, конечно, мучаюсь жаждой и одиночеством, но, вот странно, больше не ощущаю себя частью нашего маленького цельного сообщества. Мне действительно чудится, что ЧКБО пришел конец, — однако не поручусь, что это сомнительное ощущение не исчезнет, словно по волшебству, стоит нам только собраться вместе. И все же на данный момент я чувствую себя просто отдельно взятым человеком, обуреваемым скорее чувствами, чем мыслями, и при этом совершенно беспомощным. Да, ЧКБО, возможно, воплощало все наши мечты — и в итоге труды его закончат трое или двое уцелевших, или даже один (какое необычное прозрение! — Г. П., С. С.), а роль прочих Господь отведет тому вдохновению, которое мы обретали и продолжаем обретать друг в друге. На это я возлагаю ныне все свои надежды и молю Господа, чтобы избранников, призванных продолжить дело ЧКБО, оказалось не меньше, чем трое…
Ну вот, я со всей серьезностью попытался изложить тебе свои мысли. Я старался, чтобы они прозвучали по возможности холодно и отстраненно, а если вышло бессвязно, так это потому, наверное, что писалось среди шума и гвалта прескучной ротной столовки. Перешли это Крису, если сочтешь, что оно того стоит. Не знаю, куда мы двинемся теперь и что нас ждет. Слухи так и бурлят. Как жаль, что я не знаю, где ты, хотя, конечно, догадываюсь. Я мог бы написать тебе длиннющее письмо, да дел невпроворот. Офицер связи жаждет затащить меня на совещание; а еще мне предстоит дважды поскандалить с квартирмейстером. Напиши, как только представится хоть полшанса.
Твой Джон Рональд»[125].
«Теперь дни пошли по установленному распорядку, — пишет Хэмфри Карпентер. — Отдых, окопы, новые атаки (по большей части бесплодные), снова отдых. Толкин был в прикрытии артиллерии во время штурма Швабского редута, мощного немецкого укрепления. Многие немцы тогда были захвачены в плен, и среди них — солдаты из саксонского полка, который сражался бок о бок с ланкаширскими стрелками против французов под Минденом в 1759 году. Толкин предложил воды захваченному в плен раненому немецкому офицеру и разговорился с ним. Заодно немец поправлял его немецкое произношение. Временами наступали короткие периоды затишья, когда все пушки молчали. Толкин позднее вспоминал, как в один из таких моментов он взялся за трубку телефона и тут откуда-то выскочила полевая мышка и пробежала по его пальцам»[127].
На фоне грандиозной трагедии войны агония ЧКБО продолжалась еще некоторое время. Смит писал Толкину (15 августа): «Этой ночью я не могу спать из-за воспоминаний о Робе и о том, как мы встречались последний раз. Как я хочу найти тебя — я тебя везде разыскиваю»[128]. А письмо Толкина в ответ на его сообщение о смерти Гилсона он получил 18 августа.
Конец ЧКБО?
Нет, Смит не хотел с этим согласиться.
Поскольку попытки разыскать Толкина оставались тщетными (а чего иного можно было ожидать?), свой справедливый гнев Смит выразил в письме: «Я хочу, чтобы ты воспринимал это, скорее резкое письмо как триумфальную оду славной памяти и непрекращающемуся влиянию РКГ (Роберта Куилти Гилсона. — Г. П., С. С.), который, хотя и ушел от нас, по-прежнему с нами». Вместе с этим своим письмом Смит вернул и письмо Толкина, снабженное резкими комментариями, и добавил: «Мы точно скоро встретимся, чего я страшно хочу. Не уверен, пожму ли я тебе руку или вцеплюсь в глотку»[129].
Но случай решил так, что всех офицеров-телефонистов и сигнальщиков дивизии, в которой служил Толкин, как раз в это время отвели в тыл для «повышения квалификации». Им объяснили, что они работают совершенно неправильно — их сообщения слишком многословны, маскировка никуда не годится, они слишком полагаются на связных и недостаточно пользуются почтовыми голубями. Правда, была и хорошая новость. Она состояла в том, что вышел приказ, запрещающий использовать их вместо выбывших из строя взводных и ротных командиров.
В тот момент, когда Смит заканчивал свое гневное письмо, Толкин оказался в каких-то трех милях от него, в Аше. В результате они все же смогли встретиться в субботу 19 августа и после этого в течение нескольких дней виделись практически ежедневно, в том числе в Бузенкуре. Теперь перед ними стояли три ключевых вопроса: «величие» Роба Гилсона, цель ЧКБО, и — сможет ли их союз пережить гибель Гилсона? Рассуждения Толкина о том, что Гилсон «не предназначался для величия» (раз он погиб в первом же бою), привели Смита в бешенство. «Кто знает, — сказал он другу, — может быть, воздействие его (Гилсона. — Г. П., С. С.) духа уже распространилось так широко, что нам с ним никогда не сравниться»[130].
Рассказывая о разговорах Толкина и Смита, которые вполне можно назвать разговорами на краю бездны, Гарт в своей книге основывался на выдержках из писем, которые Смит писал и другим членам ЧКБО, например, Уайзмену, подробно информируя их о происходящем. В подтверждение глубокого влияния, которое Роберт Гилсон оказывал на окружающих, он упоминает соболезнования, которые множество потрясенных одноклассников Роба слали его отцу Кэри Гилсону. Разница между Смитом и Толкином была в том, пишет Гарт, что «Смит тоже верил в „поэтический огонь“, но Толкин настаивал на том, что он не должен оставаться „сокрытым в сердце“, как говорилось в одном из стихотворений Смита»[131].
Выражая сомнения, которые так рассердили Смита, Толкин, возможно, надеялся, что друг попытается его разуверить — и в этом не ошибся. «„Что касается отсева в ЧКБО, — возражал Смит со страстью, — я за него и соломинки не дам. Он относится только к исполнительным возможностям“. Дело ЧКБО для Смита было делом духовным по сути и как таковое влияло на „состояние бытия“. Оно выходило за границы простой смертности и оставалось неделимым даже после чьей-то гибели»[132].
Возможно, Толкин и хотел услышать именно это.
В конечном счете сомнения Толкина были сомнениями глубоко верующего человека, который, подобно Иову, пытается разглядеть Божественный замысел в кажущихся бессмысленными страданиях и смерти.
Расстались Смит и Толкин более или менее примиренные. В последний день, когда им удалось встретиться, они даже пообедали в Бузенкуре в компании капитана Уэйд-Джери (оксфордского дона-поэта). Во время обеда неожиданно начался артобстрел — война не давала о себе забыть ни на минуту. Спор продолжался и после расставания — в нем принял участие и Уайзмен. Через пару недель после расставания с Толкином Смит переслал ему длинное письмо от Уайзмена; в нем были такие строки:
«Как бы то ни было, я — ЧКБО-ист; я надеюсь достичь величия и, если на то будет Господня воля, — известности в своей стране; и в-третьих, в любом величии, которого мне удастся достичь, ты и Дж. Р. будете неразрывно связаны со мной, поскольку я не верю, что смогу достичь этого без вас. Я верю, что мы сейчас продолжаем наше дело, и вовсе не в отсутствие Роба; мы продолжаем его вместе с Робом. Это вовсе не бессмыслица, хотя у нас нет причин считать, что Роб до сих пор принадлежит ЧКБО. Но я верю, что нас объединяет нечто вроде того, что Церковь называет Общением Святых…»[133]
Конечно, эмоционально Смит и Толкин были очень разными людьми.
Глубокая печаль чувствуется в одном из последних стихотворений Смита:
Бои теперь велись с меньшей интенсивностью, чем в первые дни битвы на Сомме, но британцы по-прежнему несли тяжелые потери, и многие из 11-го батальона тоже погибли. Чередовались выходы на передовую и паузы в тылу, всегда — недалеко от фронта, который не давал о себе забыть ни на минуту ночными зарницами, звуками канонады, а то и дальнобойным снарядом.
Во время отводов в тыл и даже в землянке на передовой Толкин пытался работать над стихами: например, над поэмой «Кортирион среди деревьев». Время на войне течет по-особому: то, что было несколько дней назад, завтра может казаться совсем другой эпохой. Как писал Эдмунд Бланден, один из участников боев на Сомме: «Старая Британская Линия уже казалась освященной веками. Она принадлежала такому же глубокому прошлому, как стены Трои. Казалось, что черепа, на которые иногда натыкались лопаты, остались тут с незапамятных времен; есть что-то упрямо древнее в этих черепах»[135].
Толкину постоянно везло, но чем больше времени он проводил в окопах, тем больше было шансов стать очередным покойником. Спасла его «гипертермия неизвестного происхождения», которую солдаты между собой называли «окопной лихорадкой», — заболевание, переносимое вшами и вызывающее высокую температуру и другие неприятные и тяжелые симптомы (скорее всего, речь шла о сыпном тифе). Толкин не избежал болезни и в пятницу 27 октября, когда 11-й батальон стоял в Бовале, был доставлен в ближайший полевой госпиталь. На следующий день его погрузили в санитарный поезд, идущий на побережье, и в воскресенье 29 октября вечером он уже оказался в госпитале в Ле-Туке, где провел всю следующую неделю.
Однако и после первого лечения лихорадка не отпустила его. В итоге 8 ноября больного посадили на корабль, идущий в Англию. А по прибытии срочно отправили поездом в Бирмингем, куда к нему приехала Эдит. (Пока Толкин был во Франции, она отмечала все его передвижения на карте, которая висела на стене ее комнаты.) В госпитале Толкина догнало письмо Смита: «Оставайся подольше в Англии. Ты знаешь, я страшно боялся, что тебе пришел конец. А теперь я просто счастлив»[136].
К третьей неделе декабря Толкин оправился достаточно, чтобы выписаться из госпиталя и поехать в Грейт-Хейвуд. Там он написал маленькую балладу, в которой чувствуется глубоко личная интонация, редкая для его стихов:
Он надеялся провести в Грейт-Хейвуде тихое Рождество с женой, но именно там его нашло другое письмо — уже от Кристофера Уайзмена.
«16 декабря 1916 года.
Дорогой Джон Рональд!
Только что получил вести из дома: Дж. Б. Смит скончался от ран, полученных при взрыве снаряда третьего декабря. Я сейчас не могу говорить об этом. Смиренно молю Господа Всемогущего, чтобы стать достойным его…»[138]
Джеффри Смит шел по деревенской улице позади боевых позиций, когда неподалеку взорвался снаряд. Лейтенанта ранило в правую руку и бедро. Он сам сумел дойти до госпиталя. Его оперировали, но развилась газовая гангрена. Итог был вполне предсказуем — Смита похоронили на британском кладбище в Варланкуре. Незадолго до гибели он написал Толкину: «Мое главное утешение (если меня сегодня ухлопают): на свете останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет в слова все, о чем я сам мечтал и на чем мы все сходились. Ибо я твердо уверен, что гибелью одного из его членов существование ЧКБО все же не закончится. Смерть может сделать нас отвратительными и беспомощными, но ей не под силу положить конец нашей бессмертной четверке! Да благословит тебя Господь, мой дорогой Джон Рональд, и пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я…»[139]
Как правило, спасительные функции организма по-настоящему включаются в дни самые тяжелые, грозные. Ничего удивительного, что именно в январе 1917 года во время медленного выздоровления в Грейт-Хейвуде Толкин начал самый первый вариант своей великой (он сам так называл ее) «Книги утраченных сказаний», которая со временем превратилась в «Сильмариллион».
«…пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я…»
Слова погибшего друга никогда Толкин не забывал — они звучали в нем как безмолвный призыв не забыть, продолжить дело Великих Близнецов.
Впрочем, вряд ли это дело казалось ему тогда каким-то конкретным.
Главное, он работал. Работал, прорываясь сквозь собственные смутные мысли.
Даже окончательные выправленные автором строки «Сильмариллиона» многим казались и кажутся тяжелыми, и все же практически каждый чувствует в них особенную красоту. Кристальную красоту слов, как сказал бы сам Толкин. Хотя, конечно, кристаллы асбеста ничем не напоминают кристаллы алмаза.
Уже первая глава «Книги утраченных сказаний» («Песнь айнуров») прозвучала программно:
«Был Эру, Единый, что в Арде зовется Илуватар; и первыми создал он Айнуров, Священных, что были плодом его дум; и они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы; и они пели перед ним, и он радовался. Но долгое время каждый из них пел отдельно или по двое-трое вместе, а прочие внимали: ибо каждый понимал лишь ту часть разума Илуватара, из коей вышел; и плохо понимали они своих братьев. Однако, внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли…»
Конечно, мы не можем утверждать, что в сознании Толкина постоянно жили слова его друзей — Великих Близнецов. В конце концов, он сам написал: «Если величие, которое со всей отчетливостью мы подразумевали (подразумевали как нечто большее, нежели только святость или только благородство), и в самом деле — удел ЧКБО, то смерть одного из членов нашего клуба — это не более чем жестокий отсев тех, кто для величия не был предназначен».
А отсев уже происходил.
Вот только что звучали чудесные голоса Айнуров. Только что, подобно арфам и лютням, скрипкам и трубам, виолам и органам и чудесным бесчисленным поющим хорам, они начали обращать тему Илуватара в единую великую музыку — и вдруг всё жестоко оборвалось:
«Звук бесконечно чередующихся и сплетенных в гармонии мелодий уходил теперь за грань слышимого, поднимался ввысь и падал в глубины — и чертоги Илуватара наполнились и переполнились; и музыка, и отзвуки музыки хлынули в Ничто…»
Каждая строка «Книги утраченных сказаний» подталкивает к размышлениям.
Изматывающие приступы лихорадки, боль за безвозвратно потерянных друзей, жизненная неопределенность, порождаемая не просто какими-то там личными бытовыми трудностями, но состоянием всей страны, всего мира, — все это требовало мощного внутреннего отвлечения, можно сказать, другого мира — мира, в котором действуют великие герои и великие негодяи. И действуют они там не по фантазии одного отдельного человека, а сообразно многим естественным силам, не прибегающим к отравляющим газам, к бризантным и шрапнельным снарядам, к разрывным пулям и бомбам; у каждого — свое; то, что они создают, — и есть та единая музыка, в которую вплетены все мотивы.
«Илуватар сидел и внимал, и долгое время все нравилось ему, ибо в этой музыке не было фальши. Но тема развивалась — и в душу Мелькора запало искушение вплести в нее мелодии собственных дум, что были противны теме Илуватара; ибо так мыслил он возвысить силу и блеск партии, назначенной ему…»
Когда наша музыка растет, она становится сильнее нас.
Тайные (не всегда высокие) помыслы начали незаметно вплетаться в звучащую музыку, и так же незаметно начался некий разлад, и многие, что пели рядом с Илуватаром, постепенно стали сникать, разум их смутился, мелодии исказились, да и сами помыслы изменились.
«Тогда восстал Илуватар — и увидели Айнуры, что он улыбается; он поднял левую руку — и среди бури началась новая тема, похожая и не похожая на прежнюю, и она обрела силу и новую красоту. Но диссонанс Мелькора вновь поднялся в волнении и шуме и заспорил с ней, и опять началась война звуков, яростнее прежнего, пока большинство Айнуров не смешалось и не перестало петь, — и Мелькор одержал верх.
Тогда Илуватар поднялся снова, и его лицо было суровым; он поднял правую руку — и среди смятения родилась третья тема, не похожая на другие. Ибо сначала казалась она тихой и нежной, чистой капелью ласковых звуков в прозрачной мелодии; но ее нельзя было заглушить, и она вбирала в себя силу и глубину. И, наконец, стало казаться, что две музыки звучат одновременно пред троном Илуватара, и были они различны. Одна широка, глубока и прекрасна, но медленна и исполнена неизмеримой скорби, из которой и исходила главная ее красота. Другая достигла теперь единства в себе самой; но была громкой, блестящей, пустой и бесконечно повторяющейся; гармонии в ней все же было мало — скорее звенящий унисон множества труб, резкий и неприятный — и составленный всего из нескольких нот. И он тщился заглушить другую музыку неистовством своего голоса — самые победные звуки его вплетались, захваченные, в скорбный узор.
И в высший миг этой борьбы, когда чертоги сотряслись и трепет пронесся по дотоле недвижимому безмолвию, Илуватар поднялся в третий раз, и ужасен был его лик. Он поднял обе руки — и единым аккордом, глубже Бездны, выше Сводов Небес, пронзительнее света глаз Илуватара, музыка оборвалась.
И молвил тогда Илуватар:
— Могучи Айнуры, и самый могучий из них — Мелькор. Но должно знать ему и всем Айнурам, что я есмь Илуватар. То, о чем вы пели, я покажу вам, чтобы знали вы, что сделали. А ты, Мелькор, увидишь, что нет темы, истоки коей не лежали бы во мне, равно как никто не может изменить музыку мне назло. Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется лишь моим инструментом в создании вещей более дивных, чем он сам мог бы представить…»[140]
«…нет темы, истоки коей не лежали бы во мне…»
Для Толкина это, видимо, стало главным открытием.
Всё — во мне. И Бог во мне. И мир, который есть Бог.
И не важно, какими словами это было выражено в «Книге утраченных сказаний», главное, что найденные слова были связаны единым стилевым решением, может, и бессознательным, зато естественным. И больше никакой ужас, никакой дым, никакие отравляющие газы, убивающие стрелы, груды разлагающихся трупов на полях Европы не могли отменить Красоту мира. Конечно, настоящий христианин не должен так думать — не должен ставить себя на место Бога. Но вряд ли Толкин мог избежать соблазна, хотя бы ненадолго о себе подумать именно так, когда писал «Книгу утраченных сказаний». Конечно, он постоянно напоминал себе о необходимости смирения и старался не пропускать ни одной исповеди. Пытаясь осмыслить ощущение собственной творческой мощи, которая чувствуется в его словах, он начал развивать теорию человека как «вторичного творца», так сказать, творца по доверенности, который сотворен Богом для того, чтобы творить в свой черед.
«И они увидели пред собой новый Мир — шар в Пустоте, который был укреплен там, в Пустоте, но не рожден из нее».
Не правда ли, это напоминает первую Книгу?
«И о многом другом поведал в то время Илуватар, и они помнят его речи и знают, что́ каждый из них вложил в созданную им музыку; потому Айнурам известно многое, что было, что есть и будет, и немногое сокрыто от них. Есть, однако, то, чего и они провидеть не могут ни в одиночку, ни советуясь друг с другом, ибо никому, кроме себя самого, не раскрывает Илуватар всех своих замыслов, и в каждую эпоху появляются вещи новые и непредвиденные, так как они не исходят из прошлого (курсив наш. — Г. П., С. С.). И потому, когда видение Мира раскрывалось пред Айнурами, они увидели в нем вещи, о коих не думали. И с удивлением узрели они приход Детей Илуватара, и жилище, что было приготовлено для них; и поняли, что сами, творя Музыку, были заняты сотворением этого дома — и, однако, не знали, что в музыке их лежит цель превыше собственной красоты. Ибо Дети Илуватара были задуманы им одним: они пришли с третьей темой, их не было в теме, которую задал вначале Илуватар, и никто из Айнуров не участвовал в их создании. Но тем более полюбили их Айнуры, увидав создания странные и вольные, не похожие на них самих, в коих дух Илуватара открылся по-новому и явил еще одну каплю его мудрости, которая иначе была бы сокрыта даже от Айнуров…»
Собственно, с этого началась толкиновская мифология.
«Среди всех чудес Мира, его обширных пространств и чертогов, его кружащихся огней, Илуватар избрал место для жилья Перворожденных и Пришедших Следом в Глуби Времен и между бесчисленных звезд».
Написав такое, трудно сбиться с пути.
Появление «Хоббита» и «Властелина Колец» было предопределено еще тогда, за много лет до их создания.
Сначала Толкином был создан язык квенья. Затем — первобытный синдарин. И вот, наконец, появились герои и их деяния. Хотя сразу скажем, чтение «Сильмариллиона» (завершил и издал книгу после смерти Толкина его сын Кристофер) — дело нелегкое. Счастье долгих перечислений нередко остается счастьем самого автора, и, конечно, далеко не всё, что приводило в восторг Толкина, отзывалось в сердцах его будущих читателей — ведь читатели (как Айнуры) сами склонны вплетать в чужую музыку собственные мотивы.
«Манвэ и Варда разлучаются редко и всегда живут в Валиноре. Чертоги их над Вечными Снегами, на Ойолоссэ, вершине Таниквэтиль, высочайшей горы Земли. Когда Манвэ восходит на трон и озирает Мир, то, если Варда подле него, он видит дальше всех — сквозь туманы, и тьму, и лиги морей. И если Манвэ с Вардой, она слышит яснее всех — голоса, что звучат на востоке и на западе, в долинах и на холмах, и в темных теснинах, что сотворил на Земле Мелькор. Из всех духов Мира эльфы более всего любят и почитают Варду. Они зовут ее Эльберет и взывают к ней из мглы Средиземья, и возносят ей песни при восходе звезд…»
«Ульмо — владыка Вод. Он одинок. Он нигде не живет подолгу, но передвигается по своей воле по всем глубинам — на земле и под землей. По могуществу он уступает только Манвэ и до сотворения Валинора был его ближайшим другом; но после редко появлялся на советах валаров — только если обсуждались вещи великой важности. Ибо он думает обо всей Арде и не нуждается в месте для отдыха. Кроме того, он не любит ходить по Земле и редко облекается плотью, как это делают иные духи. Если Дети Эру видят Ульмо — они исполняются великого страха; ибо явление Морского Царя ужасно, он подобен огромной волне, что шагает на сушу в темном пенногребном шлеме и кольчуге, мерцающей серебром и мглистой зеленью. — (Вот он, детский повторяющийся сон Толкина: огромная волна нависает над деревьями и зелеными полями, грозя все смыть, все уничтожить. — Г. П., С. С.). — Громки трубы Манвэ, но голос Ульмо глубок, как глубины океана, которые доступны лишь ему. Тем не менее Ульмо любит эльфов и людей и никогда не отворачивался от них, даже когда над ними тяготел гнев валаров. По временам он невидимо приходит к берегам Средиземья или углубляется далеко в пределы земли по заливам моря, и играет на больших рогах — Улумури, сделанных из белых раковин; и у тех, кто слышал эту музыку, она всегда звучит в душе, и тоска по морю не покидает их…»
«Ауле по могуществу уступает Ульмо. Но он владеет всеми веществами, из которых сотворена Арда. В начале начал он сделал многое в содружестве с Манвэ и Ульмо; и облик всех земель — творение его рук. Он кузнец и знаток ремесел, и искусен во всем — как малом, так и великом. Все драгоценные камни созданы им, и дивное золото, и величественные стены гор, и глубокие чаши морей. Нолдоры учились у него и переняли многое; он был им другом. Мелькор завидовал Ульмо, и между ними была долгая борьба, когда Мелькор портил и разрушал все, что создавал Ауле, и Ауле устал восстанавливать и исправлять создаваемый Мелькором беспорядок. Оба они желали создавать вещи новые и никем не предвиденные, и любили восхваление своего мастерства. Но Ауле оставался верным Эру и подчинял все свои труды его воле; и не завидовал другим, но искал и давал советы, — а Мелькор истощал свой дух в ненависти и злобе, и не смог создать ничего, кроме подражания замыслам других, а их творения он разрушал, если мог…»
И так — десятки страниц.
Конечно, читать это могут не все.
Но, с другой стороны, никто же не читает словари или учебники подряд, как приключенческий роман. Может, и хотелось бы авторам сочинять словари и учебники как романы, все равно чтение их требует знаний, осмысления. «Книгу утраченных сказаний» вполне можно издавать как учебник — со схемами и рисунками, со многими примечаниями. Чтобы на всю жизнь западали в память запоминающиеся подписи под рисунками, как в давних советских учебниках истории: «Спартак, пораженный в бедро, отбивается от нападения сзади», или «Ассирийские воины переплывают реку на бычьих пузырях». А может, для массовых изданий вообще нужно обращаться к специальным переложениям, ведь перелагают же простым языком и греческие мифы, и «Калевалу», и Махабхарату, и Гильгамеша; совсем не случайно Толкин приложил к «Сильмариллиону» обширный «Словарь имен и названий», облегчающий понимание созданной им мифологии.
ЭЛЬФЫ — Перворожденные. Старшие Дети Эру, первыми пришедшие в мир. Считалось, что эльфы бессмертны; они жили долго и были вечно юны, а умирая, не уходили из Круга Мира, но возрождались.
ЛОС — «снег» в ОЙОЛОССЭ (квенийское ОЙО — «вечно» и ЛОССЭ — «снег, снежно-белый»); синдаринское ЛОСС в АМОН УЙЛОС и АЭГЛОС.
ЛОТ — «цветок» в ЛОТЛОРИЭН, НИМЛОТ; квенийское ЛОТЭ в НИНКВЭЛОТЭ, ВИНГИЛОТЭ.
«Подробно рассказать, — писал Хэмфри Карпентер, — о том, как именно Толкин использовал свои эльфийские языки для создания имен персонажей и географических названий, конечно, невозможно. Однако вкратце дело обстояло примерно так. Работая над планом повествования, Толкин тщательно подбирал имена, вначале придумывая значения, а потом разрабатывая форму слова, сперва на одном языке, потом на другом. В конце концов, предпочтение отдавалось синдаринскому варианту. Но это в теории; на практике же Толкин часто позволял себе вольности. Это может показаться странным, если принять во внимание его страсть к добросовестному продумыванию; однако в пылу творчества Толкину случалось создавать имена, которые на тот момент более всего казались ему подходящими для тех или иных персонажей, не обращая особого внимания на их происхождение с лингвистической точки зрения. Позднее он отверг многие имена и названия, возникшие таким образом, как „бессмысленные“, а другие подверг тщательному анализу, пытаясь выяснить, каким образом они могли принять такую странную, на первый взгляд необъяснимую, форму. Эту особенность его воображения необходимо принимать в расчет тому, кто пытается понять, как именно творил Толкин. С течением времени он все больше и больше относился к своим вымышленным языкам и историям как к реальным, настоящим языкам и как к настоящим реальным историческим хроникам, которые надлежит внимательно исследовать и комментировать. (Он, конечно, не думал, что эльфы, гномы, тролли или злобные гоблины существуют в нашем мире, но так могло быть, — Г. П., С. С.) Толкин не говорил о кажущемся противоречии в повествовании или не устраивающем его названии: „Это мне не нравится, это надо исправить“; нет, вместо этого он говорил себе: „Что бы это значило? Надо выяснить“. И не потому, что он сошел с ума и перестал отличать реальность от фантазии. Отчасти это была игра, просто интеллектуальная игра — своего рода пасьянс (Толкин обожал пасьянсы); отчасти же игра эта обусловливалась глубокой верой Толкина в то, что его мифология — истинна. Однако же в некоторых случаях Толкин был готов вносить (и вносил) серьезные изменения в основополагающие аспекты всей структуры своего повествования. Такой подход, несомненно, противоречив; но Толкин и в этом отношении был человеком контрастов»[141].
Со школьных лет Толкин мечтал создать мифологию Англии.
Нечто вроде скандинавских эпосов, но — «принадлежащих англичанам».
Акцент здесь именно на — «англичанам», ведь различные «мифологии» и до Толкина появлялись. Скажем, английский поэт и художник Уильям Блейк (1757–1827) изложил созданные им мифы в серии своих так называемых «пророческих книг». А за пределами Англии создали подобные «мифологии» немец Якоб Бёме (1575–1624) и швед Эммануил Сведенборг (1688–1772), кстати, половину жизни проведший в Англии[142]. Но все эти мифологии были пронизаны в основном библейскими аллюзиями и полемикой с Библией, а мифология Блейка к тому же была напрямую связана с политикой: например, с американской Войной за независимость. С Блейком, как религиозным мыслителем, позже открыто спорил один из ближайших друзей Толкина — К. С. Льюис. Возможно, в более скрытой форме, спорил с ним и сам Толкин. Кстати, в мифологии Блейка некий дух носил имя Орк. «Любитель бешеного бунта и нарушитель Божественного закона», тем не менее этот Орк явно оценивался автором, несомненно, положительно.
«Когда-то, давным-давно, — вспоминал Толкин, — я решился создать корпус более или менее связанных между собою легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, — которые я мог бы посвятить просто: Англии, моей стране. Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал: это нечто прохладное и прозрачное, благоухающее нашим „воздухом“ (то есть климатом и почвой Северо-Запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Эгейского моря и уж тем более не Восток), и отличаться — если бы я сумел этого достичь — дивной неуловимой красотой, которую некоторые называют „кельтской“ (хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко); они должны быть „высокими“, очищенными от всего грубого и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма»[143].
И далее: «Они (эти его истории. — Г. П., С. С.) возникли в моем сознании как некая данность, и, по мере того как они возникали, росли и связи между ними. Это была захватывающая работа, хотя мне то и дело приходилось прерываться (не считая повседневных нужд, время от времени мои мысли обращались к лингвистике); однако я все время ощущал, что записываю нечто уже действительно „существующее“ где-то, а не „сочиняю“»[144].
Для Толкина указанное где-то находилось прежде всего на «территории языка» или, скорее, языков. В уже упоминавшейся книге «Дорога в Средьземелье», где особое внимание уделяется именно филологии как основе творчества Толкина, Том Шиппи пишет: «Толкина с необыкновенной силой притягивали белые пятна на литературной и исторической карте». В книге Шиппи приводится несколько примеров настоящих филологических «расследований» в поиске исторической истины, в том числе и таких, в которых принимал участие Толкин[145].
САУРОН — он же Гортаур; майар Ауле, позднее могущественнейший слуга Моргота, после его падения стал Черным Властелином; отковал Кольцо Всевластья и сгинул, когда оно было уничтожено.
ЭЛЕНДИЛЬ — прозванный Высоким; сын Амандиля, последнего владетеля Андуниэ, потомка Эарендиля и Эльвинг, с сыновьями Исильдуром и Анарионом бежал после гибели Нуменора и основал в Средиземье нуменорские королевства; вместе с Гиль-Галадом погиб в битве с Сауроном.
МАЛ — «золотой» в МАЛДУИН, МАЛИНАЛДА; также в МАЛЛОРН и в «ЛУГА КОРМАЛЛЕН», что означает «золотой круг» и было названо по росшим там деревьям КУЛУМАЛДА (см. КУЛ−).
ОРОД — «гора» в ОРОДРУИН, ТАНГОРОДРИМ, ОРОКАРНИ, ОРОМЭТ. Мн.ч. ЭРЕД в ЭРЕД ЭНГРИН.
И дальше, дальше…
Эдит, конечно, очень радовалась тому, что ее муж вернулся из окопов живым, но Рональд часто болел, и у семьи не было постоянного места. В одном из писем уставшая Эдит довольно зло заметила, что Толкин в последний год провел в постели столько времени, что наверняка успел отдохнуть на всю оставшуюся жизнь. Ко всему прочему, 16 ноября 1917 года Эдит родила сына. Толкина только что в очередной раз выписали из больницы, и он должен был сразу отправляться в военный лагерь, так что увидел он сына только через неделю. Назвали мальчика Джон Фрэнсис Руэл[146]. Второе имя — в честь отца Фрэнсиса, который специально приехал из Бирмингема крестить младенца.
После крестин Эдит увезла ребенка в Йоркшир. Там она сняла меблированные комнаты в Русе — деревне, неподалеку от которой был разбит военный лагерь, где находился в то время Рональд. Когда лейтенант Толкин получал увольнительную, они с Эдит гуляли по лесу, густо заросшему болиголовом. Позднее Рональд вспоминал, какой Эдит была в то время: «Волосы цвета воронова крыла, атласная кожа, сияющие глаза. Она чудно пела и танцевала». Хэмфри Карпентер в своей книге (напомним, прочитанной самим Толкином. — Г. П., С. С.) писал, что Эдит на этих прогулках пела и танцевала именно для своего Рональда. Тогда, видимо, и родилась история, ставшая в «Сильмариллионе» центральной — повесть о смертном человеке Берене, полюбившем бессмертную эльфийскую деву Лутиэн Тинувиэль.
Смертный и бессмертная — расставание их казалось неминуемым:
«История Берена и Лутиэн всегда была у Толкина самой любимой, — писал Хэмфри Карпентер, — не в последнюю очередь потому, что Лутиэн в чем-то ассоциировалась у него с женой. Когда Эдит умерла (более пятидесяти лет спустя), Толкин писал своему сыну Кристоферу, объясняя, почему он хочет, чтобы на могильном камне Эдит было выбито еще одно имя — пришедшее из созданного им мифа:
„Она была моей Лутиэн — и знала об этом. Сейчас я больше ничего не скажу. Но мне хотелось бы в ближайшее время о многом с тобой поговорить, потому что (если я так и не напишу своей связной биографии) кто-то должен знать о том, о чем в мемуарах не будет сказано: об ужасающих страданиях ее и моего детства, от которых мы избавили друг друга, однако оказались не в силах полностью залечить раны, которые позднее мешали нам жить; о страданиях, которые мы претерпели и после того, как возникла наша любовь. Все это может помочь простить или хотя бы понять те ошибки, которые временами омрачали нашу жизнь, и объяснить, почему они так и не сумели затронуть самой сокровенной глубины наших сердец или затмить воспоминания о нашей юношеской любви. Ибо мы всегда (в особенности оставаясь наедине) встречались на лесной поляне и шли рука об руку, спасаясь от тени грозящей нам смерти, пока не настала пора последнего прощания“»[147].
Весной 1918 года Толкина перевели в Пенкридж, где он проходил военную подготовку перед отправкой во Францию. Многие из тех, с кем Толкин служил на Сомме, к тому времени уже погибли или (счастливчики) попали в плен к немцам под Шмен-де-Дам[148].
Но не успела Эдит устроиться в Пенкридже, как Рональда перевели в Гулль. На этот раз его жена категорически отказалась переезжать. С нее хватит, надоело! Она устала. Сколько можно? У нее ребенок на руках! «Никогда больше не буду мотаться за тобой». И Рональд, конечно, понимал ее гнев, ее неистовство, хотя не мог не подчиниться приказу. Правда, ничто не мешало ему продолжать работу над «Книгой утраченных сказаний».
БЕРЕН — сын Барахира; высек Сильмариль из венца Моргота — выкуп за Лутиэн, дочь Тингола; убит Кархаротом; вернулся из мертвых и жил с Лутиэн на Тол Галене в Оссирианде. Прадед Элронда и Эльроса, предок нуменорских королей.
КУРУНИР — он же Саруман Белый, глава Истари и Совета Мудрых; пытался завладеть Кольцом Всевластья; подпал под власть Саурона и погиб бесславно.
ЛУТИЭН ТИНУВИЭЛЬ — «Дева-Цветок», «Соловей»; дочь короля Тингола и майи Мелиан, которая помогла Берену добыть Сильмариль; вернула Берена из мертвых и, став его женой, избрала судьбу смертных.
ПАЛАНТИРЫ — «Видящие Издалека», семь Всевидящих Камней, которые привезли из Нуменора Элендиль и его сыновья; были сделаны в Амане Феанором.
ПРИЗРАКИ КОЛЬЦА — они же назгулы, улайры; рабы Девяти колец, и слуги Саурона.
В каждом новом найденном слове был заключен сюжет.
В каждом сюжете дышала своя поэзия.
Работая над «Книгой утраченных сказаний», Толкин немало времени отдавал изучению русского языка, углубленно занимался испанским и итальянским. Это помогало ему скрашивать ожидание. Должна же когда-нибудь закончиться эта проклятая, так надолго затянувшаяся война!
Правда, приходили и хорошие новости. Уильям Крейги, когда-то обучавший Толкина староисландскому языку, написал ему, что готов взять молодого лейтенанта в Оксфорд лексикографом в состав группы, работающей над «Новым словарем английского языка», только бы он поскорее освободился от службы!
И светлый день наступил. В сентябре 1918 года немецкое верховное командование проинформировало кайзера Вильгельма II о том, что военное положение Германии практически безнадежно. Больше того, начальник Генерального штаба Эрих Людендорф категорически заявил, что не гарантирует даже того, что фронт можно удержать еще хотя бы сутки; он потребовал у высшего командования немедленной договоренности с французами и англичанами о прекращении огня. «Следует обещать в скором будущем и некоторой демократизации правительства, — сказал он офицерам своего штаба. — Это позволит Германии сохранить лицо и одновременно переложит ответственность за капитуляцию непосредственно на демократические партии и парламент. Пусть ложатся в ту постель, которую стелили для нас».
Действительно, обескровленные армии уже не могли продолжать войну, и 11 ноября 1918 года в 5 часов 10 минут утра в железнодорожном вагоне маршала Франции Фердинанда Фоша (с апреля 1918 года — главнокомандующего союзными войсками) в Компьенском лесу было подписано перемирие. Прозвучал 101 торжественный орудийный выстрел — последние выстрелы Великой войны.
Мир полностью изменился.
Практически ничего прежнего в нем не осталось.
Смешались разные языки и народы, исчезли прежние границы, рухнули три империи — Российская, Германская и Австро-Венгерская. Зато счастливый лейтенант Джон Рональд Руэл Толкин получил наконец официальное разрешение вернуться в Оксфорд — «с целью завершения образования». Усталый, полубольной, но все равно счастливый, он нашел квартиру на Сент-Джонс-стрит, и скоро к нему наконец перебрались Эдит с сыном и своей неизменной компаньонкой Дженни Гроув. Как ни тяжела была потеря близких друзей, как ни горько было вспоминать потерянные в окопах годы, по поводу закончившейся войны Толкин отозвался недвусмысленно: «Уничтожение Германии, будь она хоть сто тысяч раз виновата, — одна из самых ужасных мировых катастроф».
Теперь у Толкина было все, о чем он мечтал в окопах: любящая семья, любимая работа, возможность продолжать «Книгу утраченных сказаний»; правда, Эдит в Оксфорде чувствовала себя неуютно — жены профессоров держались с ней чопорно, она казалась им неинтересной, провинциальной. Но Толкин считал, что все придет в норму, главное — война окончилась.
Группа по составлению «Нового словаря английского языка» размещалась в старом здании музея Эшмола на Брод-стрит, в центре Оксфорда. Музей этот еще в XVII веке основал алхимик и астролог Элиас Эшмол (1617–1692) — страстный собиратель древних рукописей. Работа над словарем была начата еще в 1878 году, но только теперь исследователи добрались до буквы W, доставшейся, кстати, Толкину. «Работа над словарем Толкину нравилась, — писал Хэмфри Карпентер, — да и коллеги пришлись ему по душе, в особенности весьма компетентный К. Т. Онайонз. Толкину было поручено исследовать этимологию слов warm, wasp, water, wick и winter („теплый“, „оса“, „вода“, „фитиль“, „зима“). Какие обширные познания для этого требовались, можно судить, взглянув хотя бы на опубликованный вариант этимологической справки к слову wasp („оса“). Слово не особо сложное, однако в справке приводятся многочисленные параллели из самых разных языков — древнесаксонского, среднеголландского, современного голландского, древневерхненемецкого, средненижненемецкого, средневерхненемецкого, современного немецкого, общегерманского, прагерманского, литовского, старославянского, латинского, русского. Такая тщательная работа многому Толкина научила. О периоде 1919–1920 годов он позже отозвался так: „За эти два года я узнал больше, чем за какие-либо еще два года своей жизни“…
Соскучившись по делу, он выполнял свои обязанности на редкость добросовестно, даже по меркам штата словаря. Доктор Брэдли сообщал о нем: „Работа Толкина говорит о его на редкость углубленном знании англосаксонского, а также фактов и принципов сравнительной грамматики германских языков. Я могу без колебаний утверждать, что никогда прежде не встречал человека его возраста, равного Толкину в этом отношении“»[149].
Ничто (по крайней мере, ничто из того, что имело отношение к филологии) не проходило для Толкина бесследно. Академический словарь, в работе над которым он принимал участие, это в некотором роде усредненное выражение понимания языка в то время. Со многими из определений, которые там приводятся, Толкин не мог спорить открыто, будучи одним из младших членов научного коллектива, но потом зачастую иронизировал в своих произведениях и полемизировал как ученый и преподаватель (начиная с самого определения филологии)[150].
С тем же рвением Толкин занимался и языком квенья.
АМАРТ — «рок» в ЭМОН-АМАРТ, КАБЕД НАЭРАМАРТ, УМАРТ и в синдаринской форме одного из прозвищ Турина — ТУРАМАРТ — «Властелин судьбы». Квенийская форма слова встречается в ТУРАМБАР.
МОР — «темный, черный» в МОРДОР, МОРГОТ, МОРИА, МОРИКВЕНДИ, МОРМЕГИЛ, МОРВЕН.
СИЛЬ (ТИЛЬ) — «сиять» (белым или серебристым светом) в БЕЛЬТИЛЬ, ГАЛАТИЛИОН, СИЛЬПИОН, также в квенийском ИСИЛЬ и синдаринском ИТИЛЬ — Луна (отсюда ИСИЛДУР, НАРСИЛЬ, МИНАС-ИТИЛ, ИТИЛИЕН). Квенийское СИЛЬМАРИЛЫ происходит, вероятно, от СИЛИМА, названия, которое Феанор дал веществу, из коего они были созданы.
Любимая работа. Жена, сын, собственный дом.
Эдит даже забрала со склада свое старое фортепиано.
Звуки музыки заполнили комнаты, и казалось, что теперь все самое худшее навсегда осталось где-то там — в прошлом. А присутствие в доме Эдит и ее горбатой кузины позволяло Толкину даже принимать учениц из женских колледжей, что весьма поддерживало его невеликий пока домашний бюджет…
Летом 1920 года погиб, купаясь в реке, профессор английского языка Ф. У. Мурмен из университета города Лидс. Узнав об этой внезапно открывшейся вакансии, Толкин втайне от Эдит подал заявку. Никаких иллюзий он не строил, но, побывав в Лидсе и познакомившись с профессором Джорджем Гордоном, из доверительного разговора с ним понял, что шансы все-таки есть. В итоге он получил место старшего лектора. Тяжело было сообщать об этом успехе Эдит, которая только-только начала привыкать к Оксфорду. Но выбора не было — денег семье катастрофически не хватало. Впрочем, до родов (она вновь была беременна) Эдит решила пожить в Оксфорде.
Лидс в то время был дымным промышленным городом. Многочисленные рабочие окраины, длинные улицы кирпичных, построенных стенка в стенку домиков. Даже университет в Лидсе выглядел угрюмым и закопченным, хотя не отличался ни особенной древностью, ни традициями, — университетский устав был дарован ему английским королем только в 1904 году. Это не Оксфорд и Кембридж, которые были основаны еще в конце XI и XIII веков соответственно. Иногда Толкин даже жалел о своем решении. Каждую пятницу ему приходилось поездом ехать в Оксфорд, а возвращался он только вечером в воскресенье. Скоро он так устал от поездок к жене, что подал (опять втайне от Эдит) заявку на кафедру Бейнса в Ливерпульском университете и одновременно на кафедру де Бирса[151] в университете Кейптауна.
Ливерпуль кандидатуру Толкина отклонил, а вот в Кейптауне ему предложили должность профессора. Опять возникла проблема выбора. Отправиться в Южную Африку или остаться в Лидсе? Толкин почти ничего не помнил о своем детстве, проведенном в Южной Африке, разве что отдельные фразы на африкаанс. Впрочем, главной причиной отказа от предложения южноафриканского университета все же послужило то, что 22 октября 1920 года Эдит родила второго сына, Майкла[152], так что в следующем году вся семья воссоединилась все-таки в Лидсе — в доме 11 по Сент-Марк-террас.
В университете было тесно, рабочих помещений не хватало, место для нового старшего лектора профессор Джордж Гордон выделил в собственном кабинете. Но, конечно, Гордон был рад новому сотруднику: практически он передавал в руки Толкина все преподавание лингвистики на факультете, работа которого строилась сразу в двух направлениях: одно для студентов, специализирующихся на изучении постчосеровской литературы, другое — для занимающихся древне- и среднеанглийским языками. (Как мы видим, тенденция совмещать на одном факультете преподавание филологии Средневековья и относительно современной английской литературы реализовалась и в Лидсе, что вело примерно к тем же конфликтам, что и в Оксфорде.)
Для средневекового отделения всю программу занятий пришлось писать Толкину. Поначалу его неприятно удивило слишком уж бросающееся в глаза занудство студентов — типичных йоркширцев, но очень скоро он оценил въедливость и упорство этих немногословных ребят. «Предпочитаю скучных зануд», — даже признался он однажды Гордону. А чтобы совсем не утонуть в работе, они с Джорджем Гордоном основали клуб на факультете английского языка. Назвали они его «Клуб викингов», и посещать его могли как преподаватели, так и студенты. По словам Хэмфри Карпентера, хорошо изучившего этот период жизни писателя, выпив пива, «викинги» сочиняли довольно непристойные стишки и весело распевали их за столом. Пива было много, а распевали стишки они непременно на староисландском.
«В Лидсе и, позднее, в Оксфорде, — писал Хэмфри Карпентер, — Толкин проявил себя как хороший преподаватель. Лектором он был не из лучших, поскольку его быстрая речь и невнятный выговор делали объяснения трудными для восприятия. К тому же ему не всегда удавалось излагать материал ясно и вразумительно, потому что трудно соразмерить собственные знания со знаниями учеников и, соответственно, выстроить лекцию так, чтобы студентам все было понятно. Однако Толкин умел живо подать предмет и продемонстрировать собственный интерес к нему. Самым знаменитым примером, памятным всем, кто учился у него, была вступительная лекция цикла, посвященного „Беовульфу“. Толкин молча входил в аудиторию, обводил слушателей пристальным взглядом и внезапно принимался звучно декламировать начальные строки поэмы в оригинале — на древнеанглийском, начиная громким восклицанием: „Hwaet!“ (начальное слово этой и еще нескольких древнеанглийских поэм), которое некоторые студенты воспринимали как „Quiet!“ („Тише!“). Это было не столько чтение вслух, сколько театральное представление. Студенты будто наяву видели англосаксонского барда в пиршественной зале. И это производило большое впечатление, Толкин сразу давал понять студентам, что „Беовульф“ — это не просто текст из хрестоматии, который надо прочесть к экзамену, а прекрасная трагическая поэма. Как выразился один из бывших учеников Толкина, писатель Д. И. М. Стюарт — литературный критик, романист, автор многочисленных детективов, печатавшихся под псевдонимом Майкл Иннес: „Толкин мог превратить обыкновенную аудиторию в пиршественную залу, где он был бардом, а мы — слушателями и гостями на пиру“. На тех же лекциях присутствовал и будущий поэт У. X. Оден, который позже писал Толкину: „Я, кажется, никогда не говорил, какое незабываемое впечатление производило на меня, студента, ваше чтение. Ваш голос для меня был голосом Гэндальфа“»[153].
В начале 1922 года, благодаря стипендии Сесиля Родса — британского политика и бизнесмена, инициатора колониальной экспансии в Южной Африке (в его честь была названа обширная колония Родезия), на языковом отделении английского факультета появился еще один Гордон — Эрик Валентайн. С Толкином он сразу подружился. Они даже начали совместную работу: подготовку к печати нового издания средне-английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь». Эта поэма всегда восхищала Толкина, ведь в ней перед королем Артуром появлялся самый настоящий эльф! Весь с ног до головы в зеленом, и кожа зеленая, и волосы. Само собой, острые уши и великанский рост — более семи футов.
Толкин занялся текстом и словарем поэмы, а Гордон — примечаниями. Среди бумаг Толкина этого периода сохранилось письмо миссис Райт — жене издателя «Словаря английских диалектов» Джозефа Райта, у которого он когда-то учился.
«13 февраля 1923 года, Лидский университет.
Дорогая миссис Райт! Я бесконечно признателен Вам за оттиск статьи (посвященной словарю к „Сэру Гавейну и Зеленому Рыцарю“. — Г. П., С. С.). Времени на работу я и впрямь затратил уйму, просто вспоминать страшно; поэтому надолго задержал хрестоматию, навлекая на свою голову громы и молнии; зато узнал немало поучительного. Благодаря Вам еще один головоломный отрывок из „Сэра Гавейна“ для меня прояснен…
Рождество выдалось не самое веселое: дети выбрали именно это время, чтобы переболеть корью; к началу января я единственный из всех домочадцев оставался на ногах, а в число пациентов входили и моя супруга и няня. Прощай возможность потрудиться на каникулах! Впрочем, все они (не труды, а домочадцы) уже идут на поправку и беспокоиться не о чем. К счастью, меня это поветрие минуло. Надеюсь, что и у вас все благополучно, равно как и у профессора Райта; я о нем давно ничего не слышал, но, полагаю, это — добрый знак»[154].
И приписка: «Филология у нас стремительно прогрессирует. Процент студентов-„лингвистов“ высок, а ведь силком их к нам никто не тянет!»
В начале 1924 года Эдит вновь забеременела, и в октябре на свет появился третий сын Толкинов, которого назвали Кристофером[155]. Дом на Сент-Марк-террас стал тесен для столь быстро разрастающейся семьи, и Толкины перебрались в отдельный коттедж на Дарнли-роуд, в районе Вест-парка. Тогда же Толкин стал профессором. Разумеется, не без помощи коллег, которые поддерживали его кандидатуру. А Эдит (это было серьезным достижением) подружилась со многими профессорскими женами, что у нее никак не получалось в Оксфорде. В Лидсе дамы оказались весьма отзывчивыми, и при этом никакой чопорности. Только с финансами по-прежнему было туго, но общее настроение было, скорее, радостным.
Толкин писал стихи, некоторые появились в печати — в университетском журнале «Грифон», в альманахе «Йоркширская поэзия», в сборнике стихов «Северная авантюра». Кстати, в стихах, напечатанных в «Северной авантюре», впервые промелькнула фамилия Бэггинс, впоследствии ставшая знаменитой. И там же Толкин впервые описал некое жалкое, вечно влажное создание со светящимися глазами, живущее в темных сырых пещерах. Главная любовь и забота Толкина — «Книга утраченных сказаний» — активно развивалась; пусть с перерывами (иногда довольно продолжительными) Толкин работал над ней всю свою жизнь. Постепенно появлялись все новые и новые сказания, посвященные сотворению Вселенной, созданию Сильмариллов, их похищению Морготом из благословенного королевства Валинор.
И постоянно расширялся словарь.
МОРГОТ — «Черный Враг», имя, которое дал Мелькору Феанор после похищения Сильмариллов.
НИФРЕДИЛ — белый цветок, расцветший в Дориате, когда родилась Лутиэн, эти цветы росли также на Керин-Амрос в Лориэне.
НОЛДОРЫ — Премудрые Эльфы, второй отряд Эльфов, вышедший из Куйвиэнен под предводительством Финвэ.
ЛАД — «долина» в ДАГОРЛАД, ХИМЛАД; ИМЛАД — «узкая долина с крутыми склонами» в ИМЛАДРИС (ср. также ИМЛАД МОРГУЛ в Эфель Дуаф).
ЛАУРЭ — «золото» (цвета золота, а не из него) в ЛАУРЭЛИН; синдаринские формы этого слова в ГЛОРЭДЭЛЬ, ГЛОРФИНДЭЛЬ, ЛОЭГ НИНГЛОРОН, РАТЛОРИЭЛЬ.
Словари не выдумываются; за ними должна стоять история.
Толкин не торопился завершать свою рукопись. Он вообще не любил спешить. Он, конечно, посмеивался над занудливыми и неторопливыми йоркширскими студентами, но сам частенько проявлял не меньшую занудливость или, скажем так, тщательность. В истории о художнике по имени Ниггль (от английского to niggle — «заниматься пустяками»), опубликованной в 1945 году, он с удовольствием рассказал о человеке, который, подобно ему самому, слишком много внимания уделял деталям. Не случайно в одном из лучших русских переводов имя Ниггль было передано как Мелкин.
«Мелкин, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть форму и блеск, и шелковистость, и сверкающую каплю росы, катящуюся по желобку. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья были одинаковыми и вместе с тем разными.
Особенно ему не давала покоя одна картина.
Началось все с листа, трепещущего на ветру, — но лист висел на ветке, а там появился и ствол, и дерево стало расти и цепляться за землю фантастическими причудливыми корнями. Прилетали и садились на сучья странные птицы — ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева начал разворачиваться пейзаж»[156].
Это очень напоминает историю создания книг самого Толкина.
Вместо того чтобы довести «Книгу утраченных сказаний» до логического финала (с некоторых пор он стал называть ее «Сильмариллион»), он снова и снова возвращался к сказаниям, уже написанным. При этом некоторые сюжеты Толкин превращал в подобие настоящих поэм, а любимую историю о Берене и Лутиэн даже изложил рифмованными двустишиями.
Несмотря на огромную занятость, Толкин часто водил детей на загородные прогулки, благо дом стоял на окраине, и отношения с Эдит складывались у него как никогда ровные. Летом гуляли по цветущим полям, зимой — вдоль какого-нибудь ручья под плакучими ивами.
Жизнь вроде бы наладилась. Но в начале 1925 года Толкин узнал о том, что в Оксфорде (он никогда не забывал о своем любимом городе) освобождается место профессора англосаксонского языка: профессор Крейги, когда-то обучавший Толкина староисландскому, уезжал в США. Толкин знал, что на освобождающуюся вакансию претендуют еще три кандидата (преподаватели со стажем и с превосходными рекомендациями): Аллен Моэр из Ливерпуля, Р. У. Чэмберс из Лондона и Кеннет Сайзем, и все же заявку послал — на всякий случай, для успокоения совести. Как скоро выяснилось, он поступил правильно. Моэр сам (по личным причинам) снял кандидатуру, и Чэмберс (опять же по своим причинам) сделал то же самое, так что весь конкурс свелся к борьбе между Толкином и его бывшим наставником Сайземом.
Профессорские должности в Оксфорде и Кембридже существуют в основном на так называемые «вклады», то есть учреждаются благотворителями, создающими фонды, из которых и выплачивается жалованье тому или иному профессору. Профессорская должность Роулинсона и Босуорта, на которую претендовал Толкин, была учреждена очень давно, еще в 1755 году, на пожертвования Ричарда Роулинсона — богатого антиквара и коллекционера, а в 1860 году Джозеф Босуорт, известный специалист по англосаксонскому, присовокупил к этому фонду и свой вклад.
«Джентльмены! — написал Толкин в Оксфорд 27 июня 1925 года. — Настоящим предлагаю свою кандидатуру на должность профессора англосаксонского языка Роулинсона и Босуорта. Само собой разумеется, что меня весьма интересует должность, предоставляющая такие возможности для реализации на практике и в аудитории профессионального энтузиазма в том, что касается изучения англосаксонского и других древнегерманских языков; а если бы таким образом мне удалось вновь войти в состав оксфордской школы английского языка, ничего лучшего я бы и желать не мог. Я принадлежал к этому факультету еще студентом, а затем и наставником; и в течение моего пятилетнего пребывания в Лидсе имел удовольствие поддерживать с ним связь, особенно же на протяжении последних двух лет, в качестве экзаменатора на выпускных экзаменах на степень бакалавра.
В 1911 году я поступил в Эксетер-колледж как стипендиат Стэплдона. В 1913 году сдал „онор-модерейшнз“ по классическим языкам (специализация — греческая филология); в 1915 году окончил факультет английского языка и литературы с отличием первого класса (специализация — древнеисландский язык). Вплоть до конца 1918 года служил в полку ланкаширских стрелков; в конце 1918 года вошел в штат составителей „Оксфордского словаря английского языка“. Состоял ассистентом при докторе Брэдли вплоть до весны 1920 года, когда в силу собственной занятости и возросшей учебной нагрузки наставника был вынужден отказаться от этой работы.
В октябре 1920 года я переехал в Лидс и занял должность преподавателя английского языка, получив неограниченную возможность развивать лингвистическое отделение обширного и непрерывно растущего факультета английского языка, на котором на тот момент не существовало отдельной вакансии для специалиста по лингвистике. Я начал с пятью робкими первопроходцами из числа приблизительно шестидесяти членов факультета (не считая первокурсников). Сегодня пропорция следующая: на 43 литературоведа — 20 лингвистов. Лингвисты никоим образом не изолируются и не отсекаются от общей жизни и работы факультета; они посещают многие курсы по литературе и принимают участие в деятельности факультета.
<…>
Филология, по всей видимости, уже не внушает этим студентам былого ужаса, при том что таинственности нисколько не утратила. Организован активный дискуссионный класс, по образцу, скорее, привычному для литературоведческих факультетов, нежели для лингвистических; класс приносит свои плоды в дружеском соперничестве и открытых дебатах с соответствующим литературоведческим объединением. Создан „Клуб викингов“ — силами студентов, уже прослушавших курс по древнеисландскому и слушающих такой курс сейчас; можно рассчитывать, что клуб продолжит свою деятельность независимо от преподавательского состава. Древнеисландский стал объектом особого внимания; обычно он дает результаты более высокие, нежели остальные специальные предметы; этот язык изучают на протяжении двух лет, почти столь же подробно, как англосаксонский…
Большой объем учебной и административной работы, сопряженный с моей должностью, в придачу к участию в общем руководстве расширяющимся факультетом, а в последнее время — еще и обязанности члена сената в особенно трудный момент для университетской политики стали для меня серьезным препятствием в том, что касается подготовки публикаций. Тем не менее прилагаю отдельный список того, что я все же успел сделать. Если мне посчастливится быть избранным на должность Роулинсона и Босуорта, я буду стремиться как можно полнее использовать возможности, предоставляемые ею для научной работы, содействовать, насколько хватит сил, сближению лингвистики и литературоведения, противостояние которых, на мой взгляд, вызвано исключительно непониманием и причиняет ущерб обоим, и продолжать поощрять интерес к филологии среди юношества на поле деятельности более обширном и многообещающем.
Засим остаюсь, джентльмены, Вашим покорным слугой,
ДЖ. Р. Р. ТОЛКИН»[157].
Кандидатуру Толкина поддержали многие, но большинства при голосовании он все-таки не набрал. Кеннет Сайзем пользовался в Оксфорде гораздо большей популярностью, это следовало признать. И только неутомимый Джордж Гордон сумел склонить вице-канцлера Джозефа Уэллса к тому, чтобы отдать решающий голос в пользу лидского провинциала. Это была большая удача, и Толкин буквально был потрясен.
«Меня только что известили, что я избран на должность профессора Роулинсона и Босуорта Оксфордского университета, — написал он 22 июля 1925 года вице-канцлеру Лидского университета. — Я ответил согласием (к работе следует приступить с первого октября) и, безусловно, глубоко сожалею о том, что столь внезапно Вас покидаю, хотя случившееся для меня — чрезвычайно большая удача. Конечно, в душе я смутно рассчитывал на нечто подобное, но — в будущем, признаюсь, куда более отдаленном; и сейчас прошу Вас освободить меня от занимаемой должности, хотя после всего, что сделал для меня Ваш университет, боюсь показаться неблагодарным. Но уповаю на Ваше снисхождение»[158].
Еще больше была потрясена Эдит.
Очередной переезд? Да сколько можно?
Но в начале 1926 года вся семья, многочисленная как никогда, все-таки перебралась обратно в Оксфорд. И здесь прожила безвыездно 21 год. Первые несколько лет по адресу Нортмур-роуд, 22, а с 1929 года в просторном (на восемь спален) доме 20 на той же улице, который Толкин купил. Пожалуй, в жизни Толкина этот дом, в котором он с Эдит прожил вплоть до 1947 года, был ближе всего к тому, что можно назвать семейным очагом.
Соседи часто видели невысокого человека в черной мантии и в профессорской шапочке, ездившего в университет на велосипеде с необычайно высоким седлом. Человек казался суровым, но это никого не обманывало. Дубовая входная дверь дома на Нортмур-роуд казалась невысокой — Толкин не раз сравнивал себя с хоббитами, а они ростом похвастаться не могли. Стены оштукатурены, окна забраны свинцовыми переплетами. «Самой восхитительной комнатой была, конечно, студия, в которой всегда было просторно, кроме тех случаев, когда приходило много студентов», — вспоминала дочь Толкина Присцилла, которая покинула этот семейный очаг последней. У окна стоял письменный стол, за которым были написаны «Хоббит» и большая часть трилогии «Властелин Колец». На столе — темно-коричневая деревянная банка для табака, кружка с трубками и большая плоская чаша, заменявшая пепельницу; а еще — бутылочки с цветной тушью Квинка и Стевенсона, картонные коробки с цветными карандашами и тюбики с красками — Толкин любил рисовать. По должности в университете Толкину полагалось курировать аспирантов и принимать университетские экзамены, а еще он подрабатывал в качестве экзаменатора в других университетах; очень много сил и времени уходило на проверку бесконечных экзаменационных работ, что, впрочем, не мешало Толкину заниматься любимой им «Книгой утраченных сказаний».
ЛИФ — «пепел» в АНФАУГЛИФ, ДОР-НУ-ФАУГЛИФ, также в ЭРЕД ЛИФУИ — Изгарные Горы и ЛИФЛАД — Равнина Пепла.
ЛОНДЭ — «гавань» в АЛЬКВАЛОНДЭ, ср. синдаринскую форму ЛОНД (ЛОНН) в МИФЛОНД.
РАУКО — «демон» в ВАЛАРАУКАР; в синдарине РАУГ, РОГ в БАЛРОГ.
РИЛЬ — «сияние, сверкание» в ИДРИЛЬ, СИЛЬМАРИЛЬ; также в АНДУРИЛЬ (меч Арагорна) и МИФРИЛЬ (морийское серебро). Квенийская форма имени ИДРИЛЬ — ИТАРИЛЛЭ (или ИТАРИЛДЭ), от корня ИТА — «искра».
РИНГ — «холод, лед» в РИНГИЛЬ, РИГВИЛЬ, ХИМ-РИНГ и т. д.; также в названии реки в Гондоре РИНГЛО и в РИНГАРЭ, квенийском названии декабря.
ТОРОН — «орел» в ТОРОНДОР (квенийское СОРОНТАР), КИРИФ ТОРОНАФ. Квенийская форма предположительно присутствует в названии созвездия СОРОНУМЭ.
ТУМ — «долина» в ТУМХАЛАД, ТУМЛАДЭН; ср. слово, употребленное Древобрадом — ТУМБАЛЕМОРНА — «черная глубокая долина». Ср. также УТУМНО, синдаринское УДУН (Гэндальф в Мории называет балрога — «Пламя Удуна») — название, которое использовалось впоследствии для обозначения межгорной долины в Мордоре, между Моранноном и Льдистоустьем.
УИАЛ — «сумерки» в АЭЛИН-УИАЛ, НЭНУИАЛ.
В 1929 году, незадолго до переезда на Нортмур-роуд, 20, у Толкинов родилась дочь — Присцилла[159]. Собственно с этого момента и началась более или менее спокойная жизнь нового оксфордского дона — профессора Толкина.
Глава шестая
«В ЗЕМЛЕ БЫЛА НОРА…»
Одиннадцатого мая 1926 года (эту дату в своих дневниках указывали оба писателя) Толкин познакомился в Оксфорде с Клайвом Стейплзом Льюисом (1898–1963) — преподавателем средневековой литературы.
Сейчас К. С. Льюис считается одним из самых успешных и популярных писателей, когда-либо занимавшихся фэнтези в XX веке, но в год знакомства с Толкином он преподавал в Оксфорде английский язык и литературу и под псевдонимом «Клайв Гамильтон» успел выпустить всего только два сборника стихов — «Угнетенный дух» (1919) и «Даймер» (1926).
Интерес к сочинительству он проявил еще в детстве, хотя, конечно, в подавляющем большинстве случаев такой интерес остается без последствий, и повзрослевшие «писатели» вспоминают о своих детских увлечениях с усмешкой, если вспоминают вообще. Сохранилась дневниковая запись, сделанная девятилетним Льюисом: «Моя Жизнь во время Осенних Каникул 1907 г., автор Джек или Клайв Льюис (Джеком друзья называли Льюиса всю жизнь. — Г. П., С. С.). Он же автор „Как строить прогулку“, „Страны игрушек“, „Скачек в мышиной стране“ и др. Я начал мою жизнь после 9-го дня рождения. В подарок к нему я получил книгу от Папочки и альбом открыток от Мамочки. Уорни (мой брат) приезжал домой, и я рассчитываю провести с ним рождественские каникулы»[161].
Происходил Льюис из Ольстера (Северной Ирландии), из протестантской семьи. Мать умерла, когда Клайв был еще ребенком. Отец был человеком вспыльчивым и легко возбудимым, отличался резкими перепадами настроения. В том же дневнике Клайв записывал: «Папочка, разумеется, хозяин в доме, в нем сильны черты Льюисов, дурной характер, но он очень внимательный и добрый, когда в хорошем настроении. Я похож на большинство мальчиков девяти лет, и я как Папочка, у меня тоже дурной характер, толстые губы, я худой и обычно ношу джерси»[162].
После смерти матери Клайва поначалу определили в интернат в Англию. Выбор школы оказался крайне неудачным — в течение двух лет мальчик подвергался издевательствам со стороны школьных хулиганов, о чем не мог забыть всю жизнь. Может, поэтому он пользовался любой возможностью и со страстью читал книгу за книгой. К пятнадцати годам он прочел большую часть английских поэтов, начал увлекаться мифами и преданиями Северной Европы, читал Уильяма Морриса и сам пытался писать поэму о Нибелунгах.
В 14 лет Льюис получил стипендию для обучения в Малвернском колледже, но и там ему жилось нелегко: «Сегодня за то, что я не смог найти головной убор одного из этих джентльменов (в колледже процветало нечто вроде армейской „дедовщины“ — удивительный контраст со школой, в которой учился Толкин. — Г. П., С. С.), мне в виде наказания присудили чистить его ботинки по утрам в течение недели»[163].
Клайв попросил отца забрать его из Малверна, и отец, очевидно, в период хорошего настроения, согласился. Теперь он отправил Клайва в частную школу, которую организовал бывший директор его собственной школы У. Т. Киркпатрик. Этот выбор оказался более удачным. Киркпатрик был блестящим полемистом, скептиком, подвергавшим сомнению буквально все, о чем ему приходилось беседовать с учениками. За два года он передал Льюису умение формулировать свои мнения в виде логических утверждений и аргументированно защищать их в спорах. Заодно он настроил Льюиса на откровенно атеистический лад.
Затем началась война. Окопная грязь и ранение не прибавили Клайву оптимизма. Так же как у Толкина, Великая война унесла многих его друзей и знакомых. Одним из ее последствий, свидетельством смены эпох, было то, что на фоне покалеченных человеческих судеб возникали новые, порой очень странные формы человеческих отношений. Начиная с 1918 года К. С. Льюис многие годы жил в одном доме с матерью одного из своих погибших друзей, Падди Мура. Миссис Мур даже писала отцу Льюиса: «Падди просил Джека, чтобы он присматривал за мной, если он сам не вернется из боя»[164].
Подобно Толкину, после войны Льюис поступил в Оксфорд, на классическое отделение. Закончил он свое обучение в 1923 году. За пять лет сумел получить дипломы с отличием по трем специальностям — классической филологии, философии и английской литературе. Первые послевоенные годы миновали, работу в университете стало найти гораздо труднее, однако в мае 1925 года в газете «Таймс» появилось объявление: «Президент и члены Модлин-колледжа выбрали на официальную должность в колледже в качестве тьютора по английскому языку и литературе, сроком на пять лет, считая с 25 июня 1925 года, мистера Клайва Стейплза Льюиса»[165].
С того же года профессором другого колледжа (Пембрука), но в той же «Почтенной Школе Английского Языка и Литературы», начал работать и Толкин.
Толкин и Льюис довольно быстро подружились.
Поначалу их связывали в основном служебные дела — например, совместная работа над реформой учебной программы, которая должна была уменьшить трения между преподавателями (и их студентами), специализировавшимися по средневековой филологии, и теми, кто занимался современной литературой. Без поддержки Льюиса с его несомненным талантом острого полемиста Толкину вряд ли бы удалось добиться принятия этой реформы на факультете.
Потом обнаружились и другие точки соприкосновения, во многом куда более значимые. Например, выяснилось, что их объединяет глубокая, вполне осознанная любовь к северной мифологии. В декабре 1929 года Льюис писал Артуру Гривзу: «Я задержался до 2.30 часов (утра. — Г. П., С. С.) в понедельник, увлекшись разговором с профессором англосаксонского языка Толкином, который вернулся со мной вместе в колледж из одной компании и сидел целых три часа, обсуждая богов и гигантов, а затем ушел в дождь и ветер. Кто бы стал торопить его — камин горел жарко, и разговор был хорош…»[166]
Через несколько дней после состоявшегося разговора, в начале декабря 1929 года, Толкин решил показать Льюису свою поэму о Берене и Лутиен.
«Мой дорогой Толкин! — очень скоро ответил другу Льюис (7 декабря 1929 года). — Я сидел допоздна прошлой ночью и дочитал песнь до того места, где Берен и его гномские союзники наносят поражение патрулю орков над истоками Нарога и маскируются при помощи боевой добычи. Со всей честностью могу сказать, что давно я не испытывал такого большого удовольствия. И надо сказать, личное удовольствие от написанного другом (курсив наш. — Г. П., С. С.) здесь не главное: я бы наслаждался текстом не меньше, если бы купил его в магазине как книгу, как произведение неизвестного автора. Две вещи видны ясно: ощущение реальности фона и его несомненное мифологическое значение. Суть мифа ведь в том, что он не должен быть загрязнен аллегориями со стороны создателя и в то же время должен внушать читателям подходящие к случаю аллегории. Вот мое первое впечатление. Детальная критика (включая ворчание по поводу отдельных строчек) позже»[167].
Тут важно отметить это вот «ощущение реальности фона» и «его несомненное мифологическое значение». Давно ли Толкин и Льюис проводили время в вонючих сырых окопах в ужасном ожидании чего-то непоправимого и страшного? Торжество зла не может быть вечным, нет — теперь они на это твердо рассчитывали. Да и как иначе? Зачем тогда остались на полях Франции Джеффри Смит, Роберт Гилсон и многие-многие другие их друзья и товарищи?
Только в 30 лет, не без влияния Толкина, Льюис стал христианином, хотя поначалу активно сопротивлялся этому. И вот парадокс: именно вера придала мыслям и произведениям Клайва Льюиса особую значимость, именно в христианстве он черпал впоследствии темы для своих лучших книг.
Дружба Толкина и Льюиса оказалась долгой, неровной, ревнивой (особенно со стороны Толкина) и все равно крепкой — они никогда не упускали друг друга из виду, даже совместно организовали клуб «Углегрызы» (Kolbitar по-исландски). Необычное название это родилось в Бейлиол-колледже в больших холодных комнатах преподавателя Джона Брайсона. Его гостям приходилось сидеть так близко к камину, что поистине можно было «грызть уголь» (им по вековой традиции топили камины в Оксфорде).
В сущности, «Углегрызы» были клубом по интересам, как сказали бы сейчас. Преподаватели университета собирались у Брайсона по несколько раз в триместр — читать исландские саги. Там бывали Джордж Гордон, ректор Модлин-колледжа, Невилл Когхилл из Эксетера, участник рабочей группы по созданию «Нового словаря английского языка» К. Т. Онионс, профессор византийского и современного греческого языков Докинз и, само собой, К. С. Льюис и Дж. Р. Р. Толкин.
«Сейчас они разбирают „Сагу о Греттире“, — писал об „углегрызах“ Хэмфри Карпентер. — Как обычно, начинает сам Толкин — ведь он знает древнеисландский лучше всех в клубе. Он раскрывает книгу на том месте, где остановились в прошлый раз, и принимается читать, на ходу переводя текст на английский. Через пару страниц наступает очередь Докинза. Он тоже переводит довольно бегло, хотя и не так бегло, как Толкин. Однако когда дело доходит до прочих, они продвигаются куда медленнее. Каждого хватает максимум на полстраницы: они ведь только начинают изучать этот язык. <…> Примерно через час „Углегрызы“ добираются до места, на котором можно пока остановиться, откупоривают бутылку виски и принимаются обсуждать сагу. Потом Толкин читает только что написанный им грубоватый, но очень смешной стишок про одного из членов факультета английского языка и литературы. Расходятся около одиннадцати. Толкин с Льюисом идут вместе до конца Брод-стрит, а потом отправляются каждый своей дорогой, Льюис — по Холиуэлл-стрит в сторону Модлин-колледжа (Льюис холост и в течение триместра обычно ночует у себя в колледже), а Толкин едет на велосипеде обратно на Нортмур-роуд»[168].
Исландские саги великолепно совмещали в себе то, о чем писал Льюис Толкину: ощущение реальности фона и его мифологическое значение.
«Ярко светила луна, и густые облака то закрывали ее, то открывали. И вот, когда Глам упал, луна как раз вышла из-за облака, и Глам уставился на Греттира. Греттир сам говорил, что это был один-единственный раз, когда он содрогнулся. И тут на него нашла такая слабость, от всего вместе — от усталости и от пристального взгляда Глама, — что он был не в силах занести меч и лежал между жизнью и смертью. А Глам, превосходивший бесовской силой всех других мертвецов, сказал тогда вот что:
— Ты приложил много труда, Греттир, чтобы встретиться со мной. Но нет ничего удивительного, если наша встреча будет тебе на беду. И вот что я тебе скажу: теперь ты достиг только половины той силы и твердости духа, которые были бы тебе отпущены, если бы ты со мною не встретился. Я не могу отнять у тебя силу, которая уже при тебе. Но в моей власти сделать так, что ты никогда не станешь сильнее»[169].
Что осталось в памяти детей Толкина об этих годах?
Лето — когда они с отцом ломали асфальт бывшего теннисного корта, чтобы расширить свой огород. Толкин всегда интересовался деревьями и травами, впрочем, всю работу по выращиванию овощей и подрезке деревьев он оставлял на долю старшего сына Джона, а сам занимался предпочтительно розами, с необыкновенной тщательностью выпалывая сорняки с клумб…
Служанка, исландка по рождению, рассказывала страшные сказки…
Походы в театр — они, по-видимому, доставляли немалое удовольствие самому Толкину, хотя он всегда утверждал, что не любит драму…
Поездки на велосипедах — к ранней мессе в церковь Святого Алоизия, или в церковь Святого Григория на Вудсток-роуд, или в монастырь кармелиток, расположенный неподалеку…
Бочонок с пивом в угольном подвале рядом с кухней, который часто подтекал, и Эдит жаловалась, что в доме пахнет, как в пивоварне…
Послеобеденные лодочные прогулки по реке Черуэлл в июле и августе — иногда Толкины всей семьей спускались на арендованной плоскодонке мимо красивых парков до моста Магдалены или, наоборот, поднимались до Уотер-Итона и Ислипа…
Летние каникулы у моря в Лайм-Риджис, куда порой приезжал из Бирмингема и отец Фрэнсис Морган. Он сильно постарел, но все еще пугал детей громким голосом и бурным темпераментом, точно так же, как четверть века назад пугал маленьких Рональда и Хилари…
Поездка всей семьей в Ламорн-Коув в Корнуолле в 1932 году, в компании с Чарлзом Ренном и его женой и дочерью. Ренн и Толкин, истинные оксфордские снобы, плавали наперегонки, не выпуская из зубов свои любимые курительные трубки. Толкин позднее вспоминал: «Был там один примечательный местный персонаж — старик, который любил разносить сплетни и рассуждал о делах, недоступных его разумению. Чтобы позабавить мальчиков, я прозвал его „папаша Гэмджи“, и это прозвище стало частью семейного фольклора. С тех пор папашами Гэмджи мы называли всех таких вот чудаковатых старичков»…
А еще — каникулы в Сидмуте, прогулки по окрестным холмам, купание в изумительных бухтах у моря, поездки в деревни к востоку от Оксфорда в Уорминг-холл, Брилл или Чарлтон-Отмур, или на запад, в Беркшир (Уайт-Хорс-Хилл), чтобы посмотреть на древний курган, известный под названием Вейлендз-Смити («Кузница Вёлунда»)…
«Сегодня праздник — день какого-то святого, — описывал Хэмфри Карпентер быт Толкина в этот, вероятно, самый спокойный период его жизни. — В семь утра в спальне звонит будильник. Спальня расположена в глубине дома, окна выходят в сад. Строго говоря, это не спальня, а ванная плюс гардеробная, и в углу даже стоит настоящая ванна, однако Толкин часто ночует здесь, потому что Эдит не выносит его храпа. Встает он неохотно (Толкин никогда не был „жаворонком“), решает, что побреется после мессы, и в халате идет в комнаты мальчиков — будить Майкла и Кристофера. Джону, старшему, уже четырнадцать и он учится в католическом пансионе в Беркшире, а двое младших (им одиннадцать и семь) живут пока дома…
Разбудив мальчиков, Толкин облачается во фланелевые брюки и твидовый пиджак, а сыновья надевают школьную форму Дрэгон-скул — синие курточки и короткие штаны. Все трое выкатывают из гаража велосипеды и отправляются по безмолвной Нортмур-роуд, потом сворачивают на Линтон-роуд и выезжают на широкую Бенбери-роуд, где их временами обгоняют машины или автобусы, едущие в город. Стоит весна, из палисадников на улицу свешиваются буйно цветущие вишни. Толкины проезжают три четверти мили в сторону города — до католической церкви Святого Алоизия, довольно неприглядного здания, расположенного рядом с больницей на Вудсток-роуд. Месса начинается в половине восьмого, так что домой — к завтраку — они опаздывают совсем ненамного. Завтрак всегда подается ровно в восемь, точнее, в семь пятьдесят пять, поскольку Эдит предпочитает ставить все часы в доме на пять минут вперед. Фиби Коулз, приходящая служанка, гремит посудой на кухне.
За завтраком Толкин просматривает газету, по большей части наискосок. Он, как и его друг Клайв С. Льюис, считает, что ежедневные „новости“ не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Позавтракав, поднимается в кабинет, чтобы растопить печку. День не жаркий, а центрального отопления в доме нет (как и в большинстве английских домов среднего класса той эпохи), так что приходится развести сильный огонь, чтобы сделать комнату пригодной для работы. Толкин торопится: в девять должна прийти ученица, а ему еще нужно проверить заметки для сегодняшней лекции. Он поспешно выгребает из печки вчерашний пепел. Он еще теплый: накануне Толкин засиделся за работой до двух часов ночи. Распалив печку, он подбрасывает угля, закрывает чугунную дверцу и открывает заслонку в трубе как можно шире.
Не успевает он побриться, как в дверь звонят.
Открывает Эдит, но на крылечке всего лишь почтальон.
Он зашел сказать, что из трубы над кабинетом валит слишком густой дым.
Толкин бежит в кабинет. Да, огонь в печке разгорелся, пожалуй, слишком сильно и угрожает подпалить сажу в трубе. Такое бывает. Утихомирив огонь, он возвращается и благодарит почтальона. Они неторопливо обмениваются мнениями о выращивании ранних овощей. Потом Толкин начинает разбирать корреспонденцию, но вспоминает, что забыл добриться.
Едва он успевает привести себя в приличный вид, как приходит ученица. Это молодая аспирантка, занимающаяся среднеанглийским. В десять минут десятого они с Толкином проходят в его рабочий кабинет, чтобы обсудить некое темное место в „Ancrene Wisse“ — прозаическом наставлении для отшельниц, написанном где-то около 1200 года (на среднеанглийском языке). Если бы в этот момент вы смогли сунуть голову в дверь кабинета, — писал Хэмфри Карпентер, — вы бы Толкина и аспирантку не увидели: там сразу за дверью — коридор, образованный двумя рядами книжных полок, и только миновав его, посетитель получает возможность разглядеть остальную часть кабинета. Два окна; южное выходит на соседский сад, западное — на улицу. У южного — стол; профессор стоит у печки и жестикулирует трубкой во время разговора. Ученица слегка хмурится: профессор рассуждает о сложных вещах, и понять его непросто еще и потому, что говорит он быстро и не всегда внятно. Все-таки аспирантка отслеживает логическую последовательность его аргументов и принимается с энтузиазмом строчить в своем блокноте. К тому времени как „час“ занятий заканчивается, девушка чувствует, что она совершенно по-новому смотрит теперь на то, чем руководствовался средневековый автор, подбирая свои слова. Если бы все оксфордские филологи, думает она, преподавали так, как преподает мистер Толкин, то английский факультет казался бы студентам более жизнерадостным…
Проводив аспирантку до калитки, Толкин спешит обратно — собрать заметки к лекции. Полностью просмотреть он их еще не успел. Остается надеяться, что все, что ему понадобится, сложено вместе, поэтому он просто захватывает с собой и заметки, и текст»[170].
Но чем бы ни занимался Толкин, в голове его никогда не прекращалась работа над «Сильмариллионом». Языки квенья и синдарин росли, развивались; из уже известных корней постоянно пробивалось что-то новое, за одним словом — являлось другое.
И еще одна любовь была у Толкина — «Беовульф». Мотивы из него появляются в одном из стихотворений Толкина, опубликованном еще в 1923 году[171]. Поэма была для него и темой профессиональных занятий. Что он постоянно искал и что он находил в «Беовульфе»? Конечно, истинная любовь не нуждается в объяснениях, но Толкину было свойственно самому себе упрямо задавать эти вопросы — что и почему? Позже о «Беовульфе» он написал большое эссе с характерным для него названием: «Беовульф: чудовища и критики»[172]. В этом эссе можно найти слова, которые, пожалуй, многое объясняют. «Беовульф… не совсем герой героической песни… Он — человек. Для него и для многих других этого уже достаточно для трагедии…»
И словарь, словарь к «Сильмариллиону».
АНГЛАХЕЛЬ — меч, выкованный из небесного железа Эолом; был им отдан Тинголу, который отдал его Белегу; затем достался Турину; перекованный, был назван Гуртанг.
АНГРИСТ — «Рубящий Железо», кинжал работы Тэльхара из Ногрода; Берен отобрал его у Куруфина и высек им Сильмариль из венца Моргота.
БЕРЕН — сын Барахира; высек Сильмариль из венца Моргота — выкуп за Лутиэн, дочь Тингола; убит Кархаротом; вернулся из мертвых и жил с Лутиэн на Тол Галене в Оссирианде. Прадед Элронда и Эльроса, предок нуменорских королей.
БОРГИЛЬ — «Звезда-Кулак», название красной звезды.
ВАЛАКИРКА — «Серп Валаров», название созвездия из семи ярких звезд (Большая Медведица).
ВИЛЬВАРИН — «Бабочка», название созвездия, вероятно, Кассиопеи.
ВИЛЬЯ — одно из Трех колец эльфов, Кольцо Воздуха, Синее Кольцо (с сапфиром); хранилось Гиль-Галадом, затем Элрондом.
ВРАГ — так называли Моргота, а затем Саурона.
ГАЛАДРИЭЛЬ — дочь Финарфина и сестра Финрода; была среди мятежников-нолдоров; стала женой Целеборна из Дориафа и с ним правила Лотлориэном; хранила Нэнья — Кольцо Воды.
Не случайно после выхода в свет «Хоббита» Толкин стал утверждать (с полным на то основанием), что все его книги давно и полностью содержатся уже в самых ранних вариантах «Сильмариллиона».
Разумеется, все эти летние (в основном) занятия не отрывали надолго оксфордского дона от рабочих дел — чтения лекций, проверки студенческих работ, продумывания учебных проектов. И, как не раз отмечал Хэмфри Карпентер, дети тоже никогда Толкину не мешали. Он умел находить для них время. Сказки, придуманные им, каждый вечер веселили их. В определенном смысле «Сильмариллион» вырос из его нежного отношения к детям.
В 1930 году Толкины переехали в дом 20 по Нортмур-роуд. Эдит выросла без родителей, поэтому большой склонности к ведению хозяйства не проявляла. Постоянную неуверенность в себе она скрывала под маской властности и часто цеплялась к мелочам: требовала, например, чтобы все садились за стол минута в минуту, и чтобы все съедали до крошки, и чтобы прислуга выполняла свои обязанности безукоризненно.
Впрочем, никого это не раздражало.
А Толкину ничуть не мешало думать и за обедом.
Как раз в тот год он начал писать первый вариант впоследствии прославившего его «Хоббита». Точной даты никто сейчас назвать не может, но Кристофер, сын писателя, не раз утверждал, что книгу эту «папа написал сто лет тому назад и читал ее нам с Джоном и Майклом по вечерам после чая». А сам Толкин в одном из своих писем подтверждал: «Мой старший мальчик (Джон. — Г. П., С. С.) прослушал этот сериал в тринадцать лет, а младшие дорастали до него по очереди».
В «Хоббите» Толкина интересовало всё: география, язык, обычаи, легенды, даже генеалогия героев. Он до всего тщательно докапывался, ни одну деталь не оставлял недодуманной. Известная легенда гласит, что впервые мысль о хоббитах пришла ему в голову во время очередной проверки экзаменационных сочинений — занятия долгого, часто скучного; в одной из тетрадей он вдруг обнаружил страницу, оставшуюся незаполненной.
Чистый лист! Это надо же!
Рука Толкина сама собой вывела на странице странные слова: «В земле была нора, а в норе жил хоббит». И только после этого возник у него вопрос: а кто такой был этот хоббит и почему он жил в норе? Опыт жизни подсказывал Толкину, что ничего случайного на свете не бывает.
Итак:
«В земле была нора, а в норе жил хоббит.
Нора была вовсе не грязная и совсем не сырая.
Не копошились в ней черви, не лепились по стенам слизняки, нет — в норе всегда было сухо и тепло, пахло приятно, имелось на что присесть и что покушать, — словом, нора принадлежала хоббиту, а стало быть, это само собой, была уютной во всех отношениях.
Входная дверь, круглая, точно люк, со сверкающей медной ручкой посредине, была выкрашена в зеленый цвет. Открывалась она в просторный и длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый, ничуть не задымленный; в нем стояли стулья, пол устилали ковры, стены, обшитые деревянными панелями, оснащены были великим множеством крючков для плащей и шляп — этот хоббит просто обожал принимать гостей. Коридор, изгибаясь, проходил в самой глубине холма — или Кручи, как называли этот холм на много миль окрест. По обеим сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения. Спальни, ванные, погреба и кладовые (их было не перечесть), кухни, трапезные, гардеробные — все находилось рядом, в любую комнату можно было попасть из того же коридора. Лучшие покои располагались по левую руку, если стоять спиной к входу, и в них были окна, глубоко посаженные круглые оконца, выходившие в сад, за которым полого скатывались к реке луга.
Этот хоббит был весьма зажиточным, а фамилия его была Торбинс.
Торбинсы обитали на Круче невесть с каких пор, и все их очень даже уважали — не только потому, что они славились своим богатством, но и потому, что в роду у них никогда не было сумасбродов, и всякий мог заранее догадаться, что ответит какой-нибудь Торбинс на тот или иной вопрос»[174].
Это уже не прихотливый героико-эпический язык «Сильмариллиона», не скучноватый язык научных статей, даже не попытка соблюсти предельную точность в переводах с давно исчезнувших языков — напротив, весь этот неожиданный текст дышит жизнью.
Зеленый добропорядочный край с прекрасным добрым народом — так определил Толкин родину Бильбо Торбинса. Или Бэггинса — каждый переводчик старался дать имя хоббита в своем варианте, в своей транскрипции. Baggins переводили и как Торбинс, и как Сумкинс, и как Сумникс, так что при дальнейшем цитировании может наблюдаться некоторый разброс.
Ну а сами хоббиты — как они могли выглядеть? В марте или в апреле 1938 года на просьбу американского издательства «Хоутон-Мифлин» прислать им изображение хоббита (не забудем, что Толкин очень любил рисовать) писатель ответил:
«Мне представляется существо, довольно похожее на человека, а не какой-нибудь там „волшебный“ кролик, как вообразили некоторые мои британские рецензенты: животик упитанный, ножки коротковатые. Круглая добродушная физиономия; уши лишь самую малость заостренные — „на эльфийский манер“, волосы короткие и курчавые (темно-русые). Ноги от лодыжек и ниже покрыты коричневой лохматой шерстью. Одежда: зеленые бархатные штаны; красный или желтый жилет; коричневый или зеленый сюртук; золотые (или медные) пуговицы; темно-зеленый капюшон и плащ (собственность одного из гномов). Размеры как таковые, — что важно только в том случае, если на картинке есть и другие предметы, — ну, скажем, примерно три фута или три фута шесть дюймов. Хоббит на картинке с золотым кладом (глава XII), конечно же, чрезмерно велик (не говоря уже и о том, что он толст в совершенно неподобающих местах). Но (моим детям, по крайней мере, это совершенно ясно) на самом-то деле он находится на другой картинке или „плане“ — поскольку для дракона невидим…
В тексте ни слова не говорится о том, что хоббит разжился обувью. А надо бы! Среди многих моих поправок эта как-то затерялась, а ведь башмаками хоббит обзавелся еще в Ривенделле и, только покидая Ривенделл, на обратном пути домой, от них избавился. Поскольку отвердевшие подошвы и аккуратно расчесанная шерстка на ногах — неотъемлемая составляющая хоббичьей сути, изображать хоббита на самом деле следует без башмаков везде, кроме тех иллюстраций, которые относятся к конкретным эпизодам»[175].
С отрядом веселых гномов Бильбо Торбинс покинул любимую Хоббитанию — чудесный ухоженный край с широкими дорогами и многочисленными придорожными трактирами. Постепенно они вышли в места, где местные жители говорили на каком-то диковинном наречии и пели песни, каких Бильбо прежде никогда не слышал. Потом вообще начались непонятные Пустынные края — ни тебе поселений, ни постоялых дворов, и дороги все хуже и хуже. А далеко впереди в сумеречной дымке начали проявляться настоящие горы — страшные, вздымающиеся до неба. На лесистых склонах то там, то здесь темнели древние крепости, такие мрачные, будто их возвели исключительно темные силы. Все вокруг быстро менялось, знакомые речки и поляны остались далеко позади, зазвучали невидимые ручьи, может, заколдованные, и леса потеряли привычный зеленый цвет, стали серыми, блеклыми, будто их подернула паутина.
Никогда Бильбо Торбинс не отправился бы так далеко от дома, если б не сбил его с толку некий Гэндальф — маг и волшебник. Вот он был одет действительно необычно: длинный серый плащ с серебристым шарфом и высокая, остроконечная слегка потрепанная голубая шляпа; а еще огромные черные башмаки и в руке посох.
Именно Гэндальф привел в уютную норку Бильбо целых 13 гномов во главе с подземным королем Торином. Все эти гномы были носатые, настырные, суетливые и, к ужасу Бильбо, вели себя чрезвычайно бесцеремонно, заняв все крючки для одежды на стенах его норы своими плащами вызывающе желтого, светло-зеленого, даже небесно-голубого цвета, а один (плащ Торина) оказался даже с длинной серебряной кисточкой. Гости с аппетитом поедали пироги, пили чай и распевали наглую песенку:
Торин (король гномов) так объяснил происходящее:
«Мы собрались в доме нашего хорошего друга и соратника, весьма выдающегося во всех отношениях и неустрашимого хоббита, да не выпадет шерсть на его стопах, да всегда славятся его вино и эль! Мы встретились, дабы обсудить наши намерения и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Уже скоро, еще до наступления дня, нам предстоит отправиться в долгий путь. Весьма вероятно, из этого путешествия некоторые из нас могут вовсе не вернуться»[176].
Слова Торина чрезвычайно напугали не слишком-то смелого хоббита Бильбо Торбинса. Но и напуганный, он представить себе не мог, кого встретят на своем долгом пути гномы и он с ними. Знай он хотя бы часть жестокой правды, никуда бы не пошел, накрепко заперся бы в своей норе! Вкусные пироги, горячий чай, хороший табак в трубке — чем плоха такая жизнь? (Толкин знал, о чем пишет, — как типичный оксфордский дон, он очень любил и чай, и пироги, и трубку.) В неизвестном будущем, в некоем тумане неразличимости несчастного хоббита Бильбо ждали не просто дожди или холод, о нет, он смутно догадывался, что там его ждут ледяные перевалы, сумрачные леса, гнилые непроходимые болота. Там ждали гномов и несчастного Бильбо свирепые кровожадные варги — волки, умеющие разговаривать и считающие все живое всего лишь своей едой. Там подстерегали путников глупые, но могучие тролли.
«У огромного костерища сидели три огромных существа. Нанизав на длинные прутья баранину, они жарили ее, то и дело облизывая жирные пальцы. Все трое бесперечь прикладывались к кувшинам, которые они наполняли из стоявшего поодаль пузатого бочонка. Это были тролли, самые настоящие тролли; Бильбо узнал их сразу, хотя никогда раньше не видел, — по росту, по вывернутым ступням и тупым мордам. Изъяснялись тролли так, что их не пустили бы ни в один приличный дом.
— Разрази меня гром! Опять баранина! Третий день ее жрем, сколько можно?
— Да, давненько я не пробовал человечьего мясца! О чем только думал этот олух Уильям, когда тащил нас сюда? — подтолкнул тролль под локоть своего товарища, присосавшегося к кувшину.
Тот поперхнулся.
— Заткнись! — гаркнул он, откашлявшись. — Вы что, болваны, думали, стоит вам разинуть пасти, как местные сами в них полезут? Ты, Том, и так уже сожрал полторы деревни»[177].
Таков уж мир, в который волею мага и волшебника Гэндальфа вброшен добропорядочный и законопослушный хоббит. Что за ужасные уродливые существа окружают его! Вот тролли — глупые, злобные, постоянно бранящиеся. Они родились из горных пород, они сами по себе тьма, поэтому, к счастью, в лучах солнца они мгновенно каменеют. Гоблины — это вообще создания по определению свирепые и кровожадные. Самое милое дело для них — жрать пиво да щелкать бичами, гоняя по пещере рабов. А вот орлы — гордые, благородные, но при этом откровенно равнодушные к тем, кто не имеет отношения к их великому летающему народу. Бильбо, например, они спасают, но не столько из врожденного благородства, сколько по той простой причине, что попросту не едят хоббитов.
Встретит Бильбо Торбинс и множество других существ. Среди них прежде всего привлекают внимание прекрасные эльфы. И в Ривенделле, и в Черном лесу, что бы ни происходило вокруг, чудесные, никогда не унывающие эльфы поют и танцуют. Может, они просто глупы? К счастью, Гэндальф вовремя предупредил Бильбо: считать эльфов глупыми — это и есть самая большая глупость. При всей своей внешней простоте эльфы — существа чрезвычайно мудрые. Свой род они ведут от трех древних племен — светлых, подземных и морских. Из поколения в поколение племена эти накапливали великую мудрость, творили магию, учились создавать прекрасные вещи. Им всегда радостно светили луна и солнце, но еще больше они любили звезды и часто бродили по ночам в своих дремучих лесах, которых ныне уже не найти, ну а селиться эльфы предпочитали на опушках.
В Англии эльфы — весьма популярный народец. Правда, в известном рассказе Герберта Уэллса «Мистер Скелмерсдейл в стране фей» эльфы выглядят не совсем так, как описывал их в своих книгах Толкин. Но что тут поделаешь? Каждый писатель по-своему видел эти дивные создания, сходясь лишь в одном: злыми эльфы не бывают. Впрочем, у Толкина, во всем искавшего истину, по поводу этих представлений было свое мнение. В том же «Сильмариллионе» эльфы бывают всякие — и злые, и добрые, правда, от старости и болезней не умирают, но их можно умертвить; с людьми они схожи ростом и обликом, хотя намного превосходят их умом и творческим даром. Вообще, по мнению Толкина, правильное представление об эльфах замутилось давно, еще во времена Шекспира, и сам знаменитый бард сыграл в этом не последнюю роль, изображая малюток эльфиков верхом на букашках. Так что Уэллс всего лишь следовал неправильной традиции; что с него возьмешь, современный писатель, не имеющий ни малейшего представления о высокой мифологии…
Герой Уэллса, упомянутый выше мистер Скелмерсдейл, однажды вечером по собственной дурости отправился на так называемый Олдингтонский бугор и пропал на целых три недели, а когда вернулся, то «манжеты его были чисты, как будто он только ненадолго вышел за порог», зато карманы набиты пылью и теплой золой. К тому же вернулся он очень удрученный, даже подавленный. Деревенская девушка, с которой он был помолвлен, напрасно пыталась хоть что-нибудь у него вызнать; мистер Скелмерсдейл молчал, а потом вообще удрал от всех в другую деревню — подальше от пересудов.
Только со временем выяснилось, что побывал он в стране фей. По его словам, заснул он вечером на том самом Олдингтонском бугре: «Юпитер в своем царственном великолепии блистал над взошедшей луной, а на севере и северо-западе закатное небо зеленело и сияло. Голый и мрачный бугор отчетливо вырисовывался на фоне неба, но вокруг на некотором расстоянии темнели густые заросли, и пока я поднимался, бесчисленные кролики, мелькавшие, как тени, или вовсе не видимые в темноте, выскакивали из кустов и стремглав пускались наутек. Над самой вершиной — над этим открытым местом — тонко гудели несметные полчища комаров. Бугор был явно искусственного происхождения, могильник какого-нибудь давно забытого доисторического вождя, и уж, наверное, никому еще не удавалось найти лучшего места для погребения, — с него открывался такой необъятный простор»[178].
Никто так и не добился от хмурого мистера Скелмерсдейла (сам он рассказывать не хотел), кто такие были эти эльфы, в стране которых он побывал, но забыть их оказалось невозможно:
«Одеты они были во что-то легкое и прекрасное, но это не были ни шелк, ни шерсть, ни листья, ни цветочные лепестки. Они стояли вокруг и ждали, пока мистер Скелмерсдейл проснется, а вдоль прогалины, как по аллее, озаренной светлячками, шла к нему со звездой во лбу Царица фей. На ней было прозрачное зеленое одеяние, тонкую талию охватывал широкий серебряный пояс. Вьющиеся волосы откинуты со лба, и не то чтобы она была растрепана, но кое-где выбивались непослушные прядки, голову украшала маленькая корона с одной-единственной звездой. В прорезях рукавов иногда мелькали белые руки, и у ворота платье слегка открывало точеную шею, обвитую коралловым ожерельем. Округлые, как у ребенка, щеки и подбородок, глаза карие, блестящий и ясный, искренний и нежный взгляд из-под прямых бровей»[179].
Мистер Скелмерсдейл, конечно, влюбился. Но он — простой человек, он очень далек от эльфов. В его смутных воспоминаниях остались только необыкновенные лужайки, на которых часто собирались чудесные жители страны фей. От них исходил розоватый свет, разносились дивные запахи, звучали волшебные мелодии, «вроде как из музыкальной шкатулки». Были там и такие лужайки, где феи носились друг с другом наперегонки верхом на букашках, и плескался чудесный прозрачный ручей, и цвели лютики. Там феи купались в самые жаркие дни, а кругом в глухой чаще мха резвились, танцевали, ласкали друг друга самые разные крошечные создания.
А вот песня, которой у Толкина эльфы приветствовали Бильбо:
И припев:
«Вернитесь на равнину!»
Эту старомодность (впрочем, осознанную) отметил у Толкина знаменитый английский поэт Уистен Хью Оден (1907–1973), в свое время слушавший лекции оксфордского дона и всю жизнь восхищавшийся его книгами. Правда, у самого Одена отношение к равнинам, точнее, к жителям равнин, было принципиально другое:
Конечно, Бильбо Торбинсу такое и в голову не приходило.
Даже отчаявшись, он брел и брел по всяким опасным тропам и тропинкам, вытоптанным в темных лесах троллями, орками, гоблинами, волколаками и прочей нечистью. Любым приключениям он предпочел бы свою уютную норку там на равнине, в любимой Хоббитании, но приходилось терпеть. К тому же он все время ужасно боялся потерять репутацию почтенного хоббита. Вот в этом он точно был и всегда оставался жителем равнин, хотя и пристрастился писать стихи.
ГНОМИЙ ТРАКТ — тракт, что вел в Белерианд из городов Ногрода и Белегоста и пересекал Гэлион у брода Сарн Атрад.
ГНОМЫ — племя, по легендам, сотворенное Ауле, рудокопы и рудознатцы, искусные камнерезы, ювелиры и кузнецы. Были немногочисленны и медленно размножались; говорили, что, умирая, они превращаются в камень. Вспыльчивы, алчны, упрямы, но всегда воевали с Врагом. В Предначальную Эпоху, кроме главного гномьего царства Казад-Дум, существовали еще города в Эред Линдон — Ногрод и Белегост; позднее гномы селились под Эребором и Железистым Кряжем.
ДВА ПЛЕМЕНИ — эльфы и люди.
ДРАКОНЫ — пресмыкающиеся огнедышащие твари, выведенные, по всей вероятности, Морготом; их праотцом считался Глаурунг, а первым крылатым драконом был Анкалагон. Были непомерно алчны и обладали гипнотическим даром.
КАЗАД — самоназвание гномов.
КАЗАД-ДУМ — громадное подгорное царство гномов Даринова племени в Мглистых Горах; эльфы называли его Хадходронд.
КАРХАРОТ — он же АНФАУГЛИР, гигантский волк Ангбанда; откусил руку Берена, сжимавшую Сильмариль; убит Хуаном в Дориафе.
КВЭНДИ — «Говорящие», самоназвание всех эльфийских племен.
КВЕНЬЯ — древнее, квенийское наречие эльфов, сложившееся в Валиноре; в Средиземье его принесли нолдоры, но в повседневной жизни оно не употреблялось, став языком науки, искусства и магии…
ЛЮДИ — Дети Илуватара, аданы и т. д., создания Эру, пробудившиеся в Хильдориэне, на дальнем востоке Средиземья при первом восходе солнца. По замыслу Илуватара, они смертны, то есть не возрождаются в этом Круге Мира. Ближе всего к эльфам были Три Дома Аданов, разделившие Жребий Нолдоров.
«Сильмариллион» — это не только история долгой (точнее, нескончаемой) войны Тьмы и Света, но и предыстория Колец Всевластья. В отличие от «Властелина Колец» разделение на «светлые» и «темные» силы там куда менее очевидно.
«Случилось так, что во второй век Пленения Мелькора гномы перевалили Синие Горы и пришли в Белерианд. Они называли себя Казад, а синдары звали их наугримами — Низкорослым Народом и гонхирримами — Господами Камня… Из Ногрода и Белегоста гномы пришли в Белерианд; и эльфы изумились, ибо считали себя единственными существами в Средиземье, владевшими речью и ремеслом, и думали, что вокруг живут лишь звери да птицы. Но они не могли понять ни слова из языка наугримов, казавшегося им медленным и неприятным; и немногие из эльфов достигли в нем совершенства. Мало кто из эльфов бывал в Ногроде и Белегосте, кроме Эола из Нан Эльмота и его сына Маэглина; но гномы приходили в Белерианд и проложили широкий тракт, что, пройдя под склонами горы Долмед, бежал вдоль реки Аскар и пересекал Гэлион у Сарн Атрада, Каменистого брода, где впоследствии была битва. Дружба между наугримами и эльфами всегда была холодна, хотя и весьма выгодна тем и другим; но в те времена взаимные обиды еще не разделили их, и король Тингол привечал гномов. Но из всех людей и эльфов наугримы впоследствии более всего дружили с нолдорами, потому что те любили Ауле и преклонялись перед ним; а самоцветы нолдоров ценились наугримами более всех богатств».
Работая над «Хоббитом», Толкин никогда надолго не оставлял «Книгу утраченных сказаний». Он одновременно строил и прошлое, и настоящее огромного мира Средиземья, населенного самыми разными существами, в том числе и людьми.
Золотой дым времен. Золотой дым волшебной речи.
Толкин испытывал зависть и ревность ко всем мифологиям мира.
Он страдал от того факта, что его родная Англия никак не может похвастать легендами, равными скандинавским, греческим или римским. Он помнил слова Дж. Б. Смита из письма, отправленного ему незадолго до гибели: «Мой дорогой Джон Рональд, я верю, что Господь избрал для будущего именно тебя… И если такой окажется судьба и меня завтра не станет, скажи миру то, что мы все хотели сказать».
Мифология целого мира и — один человек!
Но почему нет? Почему он, Джон Рональд Руэл Толкин, не сможет увязать в единое целое все то, что представляется ему важным для легендарной истории его любимой Англии? Толкин полон сил, он понимает всех, кто обитал когда-то на территории Англии. Ну, хорошо — Средиземья. Надо просто понять, как вели себя эльфы, тролли, люди, хоббиты…
Сегодня хоббиты в мире встречаются редко, с присущим ему юмором указывал Толкин. Они народец низкорослый, даже ниже гномов, только бород не носят. Волшебством не балуются, приключений не любят, зато умеют при первой опасности в мгновение ока (вот уж поистине как испуганные кролики) скрываться в своих норках. Еще они предрасположены к полноте и любят яркую одежду.
В письме Деборе Уэбстер (от 25 октября 1958 года) Толкин с удовольствием указывал на нечто общее между ним самим и хоббитами.
«Не люблю сообщать о себе никаких „фактов“, за исключением „сухих“. И не только в силу личных причин, но еще и потому, что возражаю против современной тенденции в критике с ее повышенным интересом к подробностям жизни авторов и художников. Эти подробности только отвлекают внимание от трудов автора (если труды его на самом деле достойны внимания). Лишь ангел-хранитель или воистину сам Господь в силах выявить истинные взаимосвязи между фактами личной жизни и сочинениями автора, но никоим образом не сам автор (хотя он-то знает больше любого исследователя) и уж конечно не так называемые „психологи“.
Но, разумеется, для всех „фактов“ существует шкала значимости.
Есть факты несущественные (те, что особенно дороги психоаналитикам и писателям о писателях): скажем, пьянство, избиение жены и тому подобные безобразия. Так уж вышло, что в данных конкретных грехах я не повинен. Но даже будь это не так, я бы предположил, что художественное произведение берет начало не в слабостях, указанные грехи порождающих, а в других, еще не затронутых порчей областях моего существа. Современные „исследователи“ сообщают, что Бетховен обманывал своих издателей и возмутительно обходился с племянником, но я не верю, что это имеет какое-то отношение к его музыке.
Затем есть факты более значимые — те, что, в самом деле, имеют отношение к произведениям автора (хотя знание этих фактов произведений не объясняет, даже если их исследовать во всех подробностях). Так, например, я не люблю французский язык, а испанский предпочитаю итальянскому, но на объяснение того, какое отношение имеют эти факты к моим языковым пристрастиям (а таковые, со всей очевидностью, являются важной составляющей „Властелина Колец“), потребуется слишком много времени. В итоге имена и языковые вкрапления в моих книгах будут вам милы (или не милы) в той же степени, что и прежде.
Есть, конечно, несколько основополагающих фактов, которые, в самом деле, важны.
Например, я родился в 1892 году и, значит, первые годы своей жизни прожил в домеханическую эпоху. Или, что еще более важно, я — христианин и принадлежу к Римско-католической церкви. Последний „факт“ вычислить не так-то просто, хотя один критик (в письме) утверждал, что обращения к Эльберет и образ Галадриэли, описанный автором напрямую (или через слова Гимли и Сэма), отчетливо соотносятся с католическим культом Богородицы. А еще один критик усмотрел в дорожных хлебцах (лембас) указание на Причастие, даваемое тому, кто находится при смерти…
Но вообще-то я — хоббит (во всем, кроме роста).
Я люблю сады, деревья, земли, обработанные вручную, без помощи машин; я курю трубку, люблю вкусную, простую пищу (незамороженную), терпеть не могу французскую кухню; я люблю (и даже смею носить в наши бесцветные дни) вышитые жилеты. Люблю грибы (прямо с поля); чувство юмора у меня незамысловатое (даже мои благосклонные критики находят его утомительным); ложусь я поздно, встаю тоже поздно (по возможности). Путешествую мало. Люблю Уэльс (то, что от него осталось теперь, когда рудники и еще более гнусные приморские курорты совершили все, на что они были способны) и особенно валлийский язык. Но в Уэльсе очень давно не бывал (разве что проездом, по пути в Ирландию). Вот в Ирландию езжу часто, поскольку люблю ее. Однако ирландский язык нахожу абсолютно непривлекательным»[182].
А в одном из интервью Толкин пояснил: «Хоббиты — это просто английские крестьяне. Они изображены у меня малорослыми, потому что это отражает свойственную им некую скудость воображения, но вовсе не отсутствие мужества и внутренней силы».
И все же зачем понадобилось такому веселому и вовсе не героически настроенному хоббиту по имени Бильбо Торбинс отправляться из уютной привычной норки в сложный, долгий и, несомненно, опасный путь?
Дадим слово Торину — королю гномов:
«Давным-давно, еще при моем деде Троре, гномов изгнали с дальнего севера, и они со всем скарбом перебрались под эту самую Гору, которая нарисована на карте. Точнее сказать, вернулись домой — ведь гномы обитали под Горой с незапамятных времен, еще при Траине Старом, моем далеком предке. Они принялись копать и строить, расширили прежние пещеры, прорубили под Горой новые ходы — и наткнулись, должно быть, на золотые жилы и россыпи самоцветов. Во всяком случае, они быстро разбогатели и день ото дня становились все богаче, и так возродилось Подгорное королевство. Моего деда, Горного короля, чтили не только гномы, но и люди, пришедшие с юга и осевшие на берегах Бегущей. Это они возвели в тени Горы веселый город Дол, и жилища их подступали к самой Горе. Правители Дола охотно посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали даже тех, кто был не слишком искусен в кузнечном ремесле. Отцы отдавали нам в ученики своих сыновей и тоже не скупились на дары; а расплачивались они обыкновенно различной снедью, которую мы благодарно принимали, — нам-то недосуг было хлеб растить да на охоту ходить. Не покладая рук, мы ковали боевые доспехи, оправляли самоцветы, песни наши были веселы, работа спорилась. Золотые были деньки! Деньжата не переводились, и съестного вдоволь, знай себе — стучи по наковальне. В подземных чертогах моего деда копились чудесные клинки и щиты, кубки и сверкающие каменья, а на Дольское Торжище народ стекался отовсюду — кто поглазеть, а кто и прикупить кольчужку или ожерелье»[183].
К сожалению, о богатствах гномов узнал дракон Смог. «Конечно, — объяснил хоббиту король гномов, — дракона привлекла молва о наших богатствах. Ведь все драконы — большие охотники до чужих сокровищ, им бы каждый день кого-нибудь грабить, эльфов, людей, гномов — все едино. И тащат без разбору все, что под лапу подвернется, — и доспех изукрашенный, и кувшины медные, лишь бы побольше нахапать. А сами ничего толком не умеют — ни даже прореху крохотную в собственной чешуе залатать; правда, цену добыче ведают. Всю поживу сгребают в кучу, залегают на ней и стерегут до конца своих дней. Век же драконий знаете как долог: коли дракона не убьют, он всех переживет.
Так вот, драконы на Севере водились в изобилии.
Они нападали на гномов, несли смерть и запустение, и гномы, бросая нажитое, в страхе бежали на юг, а их золотом и самоцветами завладевали драконы. Самого злобного среди них, самого коварного и жадного звали Смогом. В горестный для гномов день он поднялся в воздух и полетел на юг, к Одинокой горе. Мы услыхали его издалека — грохот стоял такой, точно разбушевалась буря, а сосны на склонах Горы гнулись под ветром от драконьих крыльев. Те гномы, которым повезло оказаться снаружи (среди них был и я, совсем тогда еще юный, любопытство погнало меня наверх, и оно же меня и спасло), — мы видели, как дракон опустился на Гору и выдохнул пламя. Лес на склонах заполыхал. В Доле ударил набат, люди спешно вооружались. Гномы бросились наружу, но у ворот их поджидал дракон. Не уцелел никто. Вода в реке испарилась, на Дол пал туман, и дракон в тумане налетел на город и истребил почти всех его защитников. Потом дракон вернулся к Горе, заполз внутрь через Парадные Врата и обшарил все залы до единой, все пещеры, туннели, погреба и проходы. Он свалил всю поживу в громадную кучу и залег на ней, как на кровати. А после заимел обыкновение по ночам летать в Дол и похищать людей, в особенности красивых девушек. В конце концов, жители покинули город, и теперь Дол лежит в развалинах…»[184]
Вот гномы и собираются отомстить дракону и вернуть свое добро.
А растерянному Бильбо Торбинсу вручают следующее послание-расписку:
«Торин и компания приветствуют Добытчика! (Таким прозвищем наградил хоббита Гэндальф. — Г. П., С. С.) Мы искренне благодарим Вас за проявленное гостеприимство и с радостью принимаем Ваше предложение (хотя Бильбо ничего никому не предлагал. — Г. П., С. С.) помочь нам в нашем трудном деле. Условия: Вам причитается одна четырнадцатая от общей добычи, буде таковая появится; дорожные расходы покрываются в любом случае; похороны за наш счет (последнее, видимо, должно было ободрить бедного хоббита. — Г. П., С. С.). Все остальное следует оговаривать отдельно. Не желая прерывать Ваш отдых, мы отправляемся в путь, с тем чтобы произвести необходимые приготовления, и будем ожидать уважаемого господина Торбинса в приреченском трактире „Зеленый дракон“ ровно в одиннадцать утра. Рассчитываем на Вашу пунктуальность.
Искренне Ваши Торин и К°».
Толкин всегда чрезвычайно тщательно обдумывал все детали, каждое слово, но, судя по рукописи, основная часть «Хоббита» была написана за сравнительно короткое время: чернила, бумага и почерк (на это указывал Хэмфри Карпентер) везде одни и те же, страницы пронумерованы, зачеркиваний и исправлений немного. Но когда пришло время обдумывания, исправлениям подверглась буквально каждая страница. Дракона, к примеру, первоначально звали Прифтан, главного гнома — Гэндальф, а вот волшебник носил имя Бладортин. Только внося исправления, Толкин отдал имя Гэндальф магу; оно стопроцентно ему подошло, потому что по-исландски означало «эльф с волшебным посохом».
«Гэндальф? Погодите, погодите, — пытается вспомнить Бильбо. — Это не тот ли чародей Гэндальф, подаривший Старому Туку изумрудные запонки? Да не простые, а волшебные: застегнул — так всё, уже не расцепишь, как ни бейся, пока нужного слова не молвишь. Тот самый Гэндальф, мастер устраивать огненные потехи? Как же, как же, я помню! Старый Тук обыкновенно зазывал Гэндальфа в Хоббитанию ближе к солнцевороту. И Гэндальф всякий раз откликался на его просьбу и тешил хоббитов фейерверками, от которых ночью становилось светло как днем. Шутихи в сумерках взлетали в небо и распускались там желтыми лилиями, рдяными маками, белоснежными цветками ракитника. Вот чудеса! Вы — тот самый Гэндальф, из-за которого столько хоббитов когда-то бросило дом и отправилось невесть куда! Говорят, вы их зазвали в гости к эльфам — по деревьям полазать, на лодках поплавать. Знатно вы тогда всех перебаламутили небылицами своими складными. Драконы там да гоблины, принцессы спасенные, воины бесстрашные. Покорно благодарим, нам такого не надо»[185].
Имя дракона тоже появилось не сразу.
Это имя — Смог — Толкин произвел от немецкого глагола smugan — «протискиваться», имея в виду «протискиваться в пещеру». И к пещере гномов, занятой теперь злобным Смогом, хоббит и его друзья долго шли во главе с Гэндальфом по самому краешку того мифического Средиземья, история которого подробно излагается в «Сильмариллионе».
И дошли.
Добрались до цели.
Не важно, что жители озерного города, называемого Эсгарот, не очень поверили в то, что какой-то оборванный гном в пестром плаще действительно король Торин, вернувшийся за своими сокровищами. Градоправитель вообще счел гномов, мага Гэндальфа и, само собой, хоббита Бильбо Торбинса простыми мошенниками. Но с другой стороны, прикинул про себя градоправитель, пусть лезут в пещеру, зачем им мешать — посмотрим, как их встретит дракон. К тому же никто в Эсгароте не понимал, даже не представлял себе, что это за драконья болезнь — жажда богатства. Но, как скоро выяснилось, болезнь эта ужасна. Даже ужаснее, чем можно было предполагать. Даже смерть дракона не избавляет от последствий указанной болезни. Убить дракона можно, но вот по-настоящему излечить драконью болезнь далеко не всем удается, потому что вместе с захваченными богатствами алчность и злоба сразу переходят к победителям и поражают их. Об этом писал еще автор «Беовульфа».
Стиль «Хоббита» весел и прост.
Он очень выигрывает рядом с тяжеловесными красотами «Сильмариллиона».
В итоге перед пораженными, зачарованными читателями один за другим проходят образы странных и в то же время чрезвычайно реальных персонажей.
«На каменистом островке посреди озера, широкого, глубокого и холоднющего, жил старый Голлум, маленький и скользкий, как рыба. Не знаю, кто он такой и откуда взялся. Просто Голлум — черный, как ночь, и только на изможденном лице его светились большие глаза навыкате. У Голлума была лодка, в которой он плавал по озеру, загребая вместо весел лапами. Он прекрасно видел в темноте и потому ловил рыбу не на удочку, а руками — ловко выхватывал ее из воды своими длинными пальцами. Мясом он тоже не брезговал и охотно поедал гоблинов, которые иногда забредали к озеру (а на озеро это они наткнулись случайно, копая очередной ход); но далеко от воды Голлум не отходил, чтобы не попасться. Гоблины же словно чуяли, что озеро таит в себе угрозу, и старались туда не ходить — если, конечно, не пошлет кого Верховный Гоблин, которому вдруг приспичит поесть свежей рыбки. Но обычно его поджидало разочарование — ни тебе рыбы, ни даже нерадивого добытчика, на котором можно было бы сорвать гнев.
Голлум давно заметил Бильбо, углядел его своими большими глазами-плошками и долго гадал, что это за коротышка. Вроде не гном, да и на гоблина совсем не похож. В конце концов, он забрался в лодку и направил ее к берегу.
Бильбо между тем сел и задумался. Вдруг из темноты донесся шепот:
— Как нам повезло, моя прелесссть! Вот и обед, вкуссный обед, голлум!
На последнем слове в горле у Голлума ужасно забулькало и заклокотало. Вот откуда взялось его прозвище; а сам себя он всегда именовал „моя прелесть“.
Услыхав этот шепот и увидев во мраке огромные светящиеся глаза, хоббит едва не лишился чувств.
— Ты кто? — пропищал он, выставляя перед собой кинжал.
— Пусссть он сначала скажет, кто он такой, моя прелесссть, — прошипел Голлум.
У него была такая манера — разговаривая, обращаться только к себе, словно никого другого и вовсе не существовало. Бильбо повезло, что Голлум был не слишком голоден: как следует проголодавшись, тот сперва душил свою жертву, а уж потом начинал задавать вопросы»[186].
Голлум проигрывает предложенную им же игру в загадки.
Теперь он обязан вывести заблудившегося хоббита из пещеры.
Но хоббит тоже не выглядит сильно честным и смелым. Он трусит, врет, он даже не признается в том, что выигранное им кольцо давно лежит в его кармане. Ведь на островке, о котором Бильбо ничего не знал, Голлум давно хранил эту красивую, очень даже красивую вещицу — золотое колечко, обладавшее чудесным свойством: наденешь его на палец и сразу становишься невидимым, ну разве что при ярком солнце будет заметен слабый отблеск. Голлум сначала носил колечко на пальце, а потом в сумке на поясе, а когда сумка натерла ему кожу, стал хранить просто под камнем на островке.
«Кольцо манило к себе, оно имело над Голлумом странную власть: ему постоянно хотелось любоваться тонким металлическим ободком, хотелось его надеть. Порой он не выдерживал и поддавался соблазну — после долгой разлуки или когда бывал очень голоден, а на рыбу уже смотреть не мог. Тогда он надевал кольцо и отправлялся бродить по подземным коридорам, выискивая одиноких гоблинов. С кольцом он отваживался проникать даже в те пещеры, где горели ненавистные факелы, ибо чувствовал себя в безопасности. В полной безопасности. Никто не видел Голлума; словно ниоткуда возникали вдруг крепкие пальцы, хватавшие за горло очередную жертву. Лишь несколько часов назад Голлум поймал гоблиненка. Как же тот верещал! Пару косточек Голлум отложил — поглодать в свое удовольствие, но сейчас ему захотелось свежатинки»[187].
Впрочем, со временем выясняется, что Голлум (в других переводах — Горлум), он же Смеагол, сам был когда-то хоббитом. Он — жертва волшебного кольца, однажды попавшего в его лапы. Он — братоубийца, который страдает раздвоением личности и часто разговаривает сам с собой, разделяясь на наивного Смеагола и злобного Голлума. По сути своей он не Добро, поясняет нам Толкин, но он и не Зло. Да, он совершил много зла и пережил все отпущенные смертным сроки, что тоже даром не проходит. Кто-то из читателей книги Толкина, может быть, вспомнит, что иные из людей, искавшие бессмертия, стали назгулами, призраками тьмы. Голлум призраком еще не стал, у него (как выяснится в дальнейшем) другая судьба.
Голлум смутно помнит что-то из детства — далекого, туманного. Он смутно помнит, что когда-то очень давно играл с какими-то другими маленькими зверюшками (может, такими же, как он сам), но потом все куда-то исчезли, может, умерли. А он живет, одинокий, как само время. Ведь время сильнее всех и вся, оно пожирает все на свете: и птиц, и деревья, и цветы, оно истачивает железо, разгрызает сталь, перемалывает в крошку скалы, сносит города. Но Голлум не задумывается об этом. Правда, помнит мудрые загадки, которые говорят (в том числе) и о беге времени. Только изредка, и все реже и реже, всплывает в его смутной памяти некое далекое видение: норка на берегу реки… трава… тишина… и существо, которое он называл бабушкой…
Голлум не понимает, зачем он живет.
Но ведь и время не осознает своего течения.
ХЕЛЛУИН — звезда Сириус.
ЧЕРНЫЕ ГОДЫ — годы владычества Саурона во Второй Эпохе, которые эльфы называли Днями Бегства.
ЧЕРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН — так называли Моргота, а позднее Саурона.
ЭА — Мир Сущий; слово Илуватара, с которого началось существование мира.
СИЛЬМАРИЛЛЫ — три алмаза, сотворенные Феанором и наполненные светом Двух Древ; были похищены Морготом.
СИНДАРИН — наречие Белерианда, произошедшее от эльфийского праязыка, но сильно отличавшееся от квенья.
СРЕДИЗЕМЬЕ — земли к востоку от Великого Моря; назывались также Покинутые Земли, Внешние Земли, Великие Земли, Эндор, Эннор.
Читать (перечитывать) книгу о хоббите следует, наверное, держа под рукой «Сильмариллион». При этом нелишне помнить и о сказках про «везучих сыновей бедных вдов», не раз слышанных в детстве как Бильбо, так и Толкином. Тогда случайности и совпадения начнут сплетаться в единую, четко увязанную череду событий, ведь многие ситуации в «Хоббите» и «Властелине Колец» без историй, развитых в «Сильмариллионе», смазываются, затемняются. Например, только герои указанных романов (а не читатели) могут исходно знать о том, что два меча, найденные хоббитами в пещере троллей, являются оружием не просто древним, а очень древним, могущественным, имеющим собственные имена. Это Глемдринг и Оркрист — «Молотящий Врагов» и «Сокрушитель Гоблинов».
В «Сильмариллионе» заложена основа понимания всех героев Толкина.
Вот Беорн — человек-медведь, оборотень[188]. Казалось бы, он явный союзник Гэндальфа, но сейчас волшебник сразу предупреждает гномов и Бильбо: «Не вздумайте его раздражать, а то всякое может случиться». Беорн самодостаточен. Он ни в чьей помощи не нуждается. Он принимает мага Гэндальфа и его спутников скорее только потому, что они — враги гоблинов.
«Вот так всегда! — принялись бурчать гномы, подошедшие поближе, чтобы послушать чародея. — Гэндальф, у тебя что, все знакомые такие, один суровее другого? Снизойди хоть разок, объясни подробнее.
— Сколько можно разжевывать? — сердито воскликнул маг. — Пусть мои знакомые суровы, зато о них никто дурного слова не скажет. А этого зовут Беорном, если вам интересно. Он из тех, кто, как говорят, „меняет шкуры“.
— Скорняк, что ли? — уточнил Бильбо. — Знаю я таких. Только зазеваешься, мигом всучат тебе кроличью шкурку под видом беличьей.
— Великие небеса, нет! — вскричал Гэндальф. — Нет, нет и нет! Думайте, что говорите, господин Торбинс, и ради всего чудесного не упоминайте при Беорне о скорняках, а также о ковриках, пледах, шарфах и плащах. Беорн — оборотень, способный по желанию менять свое обличье: то он громадный черный медведь, а то — огромный черноволосый человек с длинной бородой. По одним слухам, он и вправду медведь и ведет свой род от великих медведей древности, которые обитали в горах еще до появления великанов. По другим, Беорн — потомок людей, живших здесь, когда о Смоге и слыхом не слыхивали, а гоблины и не думали перебираться сюда с севера. Большего я вам сказать не могу»[189].
Над Беорном не властны никакие чары.
Он живет в дубраве, в простом деревянном доме.
Он пасет скотину, он держит пасеку со множеством ульев и питается медом и сливками. Он ни на кого не охотится и не ест мяса. Лошади у него разговаривают. А однажды Гэндальф сам слышал, как задумавшийся Беорн бормотал: «Наступит день, и я вернусь домой…»
Но где его настоящий дом?
Уж не Черный Лес, точно.
Гномы идут и мечтают о подвигах. Они мечтают о том, как вернут владения и огромные богатства своему королю Торину и сами не останутся бедными. Они идут искать пещеру, в которой их далекие предки ковали чудесные волшебные мечи и копили сверкающие золотые сокровища. А Черный Лес — это всего лишь одно из препятствий на пути. Это обыкновенная данность, пусть и чрезвычайно опасная. Когда-то Черный Лес принадлежал Некроманту, тому самому, о котором маг и волшебник Гэндальф как-то заметил, что справиться с ним не смогли бы все гномы, вместе взятые. Он практически всесилен. Он умел разговаривать с мертвыми. Он любил отнимать, но и давал — полярность, всю жизнь мучившая Толкина. Если надо было кого-то убить, Некромант убивал, ни секунды не раздумывая; если надо было подчиниться закону, он подчинялся, но только в том случае, если закон был придуман им самим. В словаре, приложенном к «Сильмариллиону» Толкин привел все известные имена Некроманта: «Саурон — он же Гортаур; майар Ауле, позднее могущественнейший слуга Моргота, после его падения стал Черным Властелином; отковал Кольцо Всевластья и сгинул, когда оно было уничтожено».
Черный Лес Саурону и принадлежал.
Собственно, лес был не черный, а серый. Все в нем было серое. И листья, и стволы, и мотыльки, и летучие мыши. Серые лучи с трудом пробивались сквозь серые ветки, и все вокруг было оплетено серой липкой паутиной, из которой зловеще поблескивали выпуклые глаза серых пауков. «Неужели нельзя обойти Черный Лес?» — спрашивает испуганный Бильбо. И Гэндальф отвечает: «В здешних краях попросту нет безопасных дорог. Ты же в Глухоманье, а тут может случиться всякое. На севере высятся Серые горы, они кишат гоблинами, хобгоблинами и жуткими орками. На юге лежат владения Некроманта. Сдается мне, мой милый Бильбо, даже ты кое-что о нем слыхал. Если дорожишь своей жизнью, не суйся в те места, которые он озирает из черной башни Дол-Гулдура. Держись лесной тропы, не падай духом, надейся на лучшее — и, если тебе очень повезет, ты выйдешь из леса и увидишь перед собой Долгие болота, а за ними, на востоке, пик Одинокой горы, под которой залег старина Смог. Хотелось бы верить, что он вас не ждет»[190].
Но Бильбо уже начинает чувствовать себя героем. Пользуясь кольцом, делающим его невидимым, он проникает в логово пауков. Подкравшись поближе, он видит чудовищную серую паутину, оплетающую серые деревья, на ветках которых восседают здоровенные пауки. Конечно, волшебное кольцо делает хоббита невидимым, но все равно страшно: кто там знает, что может случиться? Прячась за деревьями, хоббит прислушивается к паучьим разговорам[191]. Многих слов он не разобрал, но основное было понятно: разговаривали пауки о захваченных ими гномах, мечтали поскорее их сожрать. «Драка была приличная, но дело того стоило, — хвастался один. — Шкуры у гномов жесткие, зато внутри, бьюсь об заклад, вкусный сладкий сок». — «Пусть только еще немножко подвянут, — мечтательно протянул второй. — Тут главное — не передержать. Не такие уж они жирные».
Услышав такое, конечно, бросишься на помощь друзьям.
Множество врагов, множество препятствий. Но Бильбо Торбинс и его спутники добираются до цели своего путешествия. Более того, хоббит сумел побывать не только в логове пауков, он побывал и в логове (иначе не назовешь) дракона:
«Взгляду открылась исполинская пещера — должно быть, в старину у гномов тут был винный погреб либо темница. Потолок и стены пещеры смутно угадывались в алом свечении, а свечение это исходило от Смога!
Огромный красно-золотой дракон крепко спал, порыкивая во сне и выпуская из ноздрей струи дыма. Крылья его были сложены, и это придавало ему сходство с чудовищной летучей мышью. Он возлежал на груде сокровищ, обхватив ее лапами и придавив длинным, свернувшимся в кольцо хвостом. Пол пещеры ковром устилали самоцветы, золотые украшения, поделки из серебра, отливавшие красным в алом свечении.
Смог лежал так, что можно было разглядеть его бледное брюхо, все в золоте и самоцветах, вросших в него за долгие годы, проведенные драконом в подземелье. На стене около дракона висели доспехи и оружие — кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья; вдоль стены выстроились бочонки и бочки, битком набитые драгоценностями.
Сказать, что дыхание Бильбо пресеклось, значит не сказать ничего…
Конечно, хоббит слыхал предания и песни о драконьих кладах, но этакой роскоши, этакого великолепия он никак не ожидал. Голова шла кругом, сердце вдруг пронзила та самая жажда богатства, которая сгубила не одного гнома. Бильбо забыл, зачем пришел, — стоял и любовался на сокровища…»[192]
При следующем своем визите в пещеру он даже разговорился с драконом. Под влиянием слов дракона у него зародилось ужасное подозрение: а что, если гномы и вправду замыслили обмануть его и все это время втихомолку посмеивались над простаком Торбинсом, и он ничего не получит?
«— Золото — не главное, — сказал он дракону, будто оправдываясь. — Мы пришли, чтобы отомстить. Мы шли по-над кручами, плыли по водам, летели по воздуху, чтобы поквитаться с тобой, о богатейший Смог! Ты ведь знаешь, что у тебя есть кровные враги?
Дракон оглушительно расхохотался. Бильбо будто припечатало к стенке потайного хода, а гномы, услышав этот далекий грохот, решили, что господин Торбинс обрел мучительную кончину.
— Отомстить! — фыркнул дракон. Он поднял веки, и его зрачки, будто светильники, озарили пещеру от пола до потолка. — Поквитаться! Король Подгорного королевства мертв, и где его жаждущие мести родичи? Гирион, владыка Дола, тоже мертв, и где сыновья его сыновей, где прочие мстители? Они боятся меня, воришка, боятся! Я убиваю там, где хочу и кого хочу, и никто не осмеливается мне сопротивляться. Я повергал великих бойцов прошлого, а нынешние им не чета. Тогда я был молодым и незрелым, а ныне я стар и могуч, могуч, могуч!!! Вот так-то, глупый воришка! — злорадствовал Смог. — Моя чешуя толще десятка щитов, мои зубы — мечи, мои когти — копья, удар моего хвоста — раскат грома, крылья поднимают бурю, а дыхание сеет смерть!
— Я всегда думал, — пискнул перепуганный хоббит, — что на брю… э-э… на груди у драконов чешуи нет. Или я что-то напутал? <…>
— Твои сведения устарели, — громыхнул дракон. — Сверху я покрыт чешуей, а снизу у меня камни. Никакой клинок их не пробьет»[193].
Вот таким образом Бильбо узнал о слабом месте дракона: о проплешине в его чешуе. В эту проплешину позже вгонит смертоносную стрелу самый меткий стрелок Озерного города — Бэрд. А пока Бильбо Торбинс тайком выносит из пещеры всего лишь одну золотую чашу. Собственно говоря, он ее украл, ведь она ему не принадлежала, но гномы в восторге. Когда озлобленный потерей дракон отправляется жечь Озерный город, они сами идут в пещеру. К слову, нечто похожее происходит в «Беовульфе» — там дракон отправился громить окрестности, когда обнаруживает пропажу драгоценной чаши.
Они видят блистающие горы, холмы, россыпи бесценных сокровищ!
Торин (никто уже не сомневается в том, что он король) в виде особой милости даже жалует смелому Добытчику-хоббиту Бильбо Торбинсу кольчужку из митрила — волшебного материала, «истинного серебра», а к ней пояс из жемчугов и хрусталя.
Гномы торжествуют: они достигли цели! Никто не понимает, что самое страшное впереди. Никто даже не подозревает, что ужасная драконья болезнь уже перекинулась на них, на победителей, какими они себя считают. (Этот мотив — драконье золото несет проклятие — присутствует и в «Беовульфе».)
Торин облачается в золотую чешуйчатую кольчугу, пояс заткан алыми рубинами, топор на серебряной рукояти. Он смотрит на огромную пещеру уже не как на зловонное логово Смога, а как на свой будущий дворец. «Мы его восстановим!»
Для полного счастья Торину не хватает теперь только Аркенстона — величайшей ценности всего Средиземья. Чудесный камень с тысячами граней, он сверкает как вода на солнце, как снег в лунном сиянии, как роса в звездную ночь. Но гномы этого не замечают. Они уже заражены драконьей болезнью — в каждом вспыхивает и расцветает пышным цветом низкая алчность. Да, дракон убит, да, богатства в руках у гномов, но именно поэтому никто больше не желает довольствоваться малым; сколько бы ни захватывали руки, все недовольны, каждый отстаивает свое личное право на богатство. Даже после смерти дракона его мерзкое дыхание отравляет пещеру, оно впиталось в камни, в золото, в серебро. По привычке Бильбо еще вспоминает о своей уютной норке, о горячем чайнике, о колечках трубочного дыма, но и он уже заражен драконьей болезнью: ведь он опять украл: незаметно сунул волшебный камень Аркенстон в свой карман.
Пораженные неумолимой драконьей болезнью, все теперь выступают против всех: гномы против эльфов, люди против тех и других. Все хотят богатств, разделенных по справедливости, но каждый понимает справедливость исключительно по-своему. Алчность и зависть отравили всех. И если бы… (Ох как Толкин обожал крайности!) И если бы гоблины не напали на Озерный город, дело кончилось бы совсем плохо. Но, к счастью, как бы это ни прозвучало, явился некий общий враг, и к гномам, наконец, пришло понимание того, что главная ценность — это все же не золото и не драгоценные камни, главное богатство — это союз, это истинное объединение всех думающих существ против абсолютного зла.
В финале романа хоббит Бильбо возвращается в Хоббитанию.
Миновали мельницу, подошли к норке уважаемого господина Торбинса. Но что это? Почему у дверей толпится народ, почему хоббиты суетливо вбегают в его норку и выбегают из нее, даже не вытирая ноги о коврик? Все объясняется очень просто: ведь Бильбо появился у собственного дома в самый разгар аукциона. Вот и объявление: «Июня двадцать первого числа господа Грабл, Грабл и Копанец будут продавать с аукциона вещи господина Бильбо Торбинса. Аукцион состоится в Торбе-на-Круче, Хоббитания. Начало в десять ноль-ноль». Близится полдень, многие вещи уже проданы, а родственники Бильбо — Лякошель-Торбинсы[194] старательно измеряют комнаты, прикидывая, поместится ли там их мебель. Короче говоря, Бильбо объявили пропавшим без вести, и теперь далеко не каждый обрадовался его возвращению.
Много дней в Хоббитании не утихали разговоры, а власти не могли сразу официально признать Бильбо живым — на это требовалось много времени. Убедившись, что от всех этих разговоров и уговоров толку мало, Бильбо просто-напросто выкупил свою бывшую мебель и прочую хозяйственную утварь. К сожалению, серебряные чайные ложки, как это часто бывает, не нашлись. А вскоре выяснилось, что Бильбо расстался не только с серебряными ложками, но и с репутацией. Да, конечно, он был другом эльфов, его уважали всякие там гномы, маги и тому подобные странные личности, заглядывавшие порой к нему на огонек, но соседи теперь считали Бильбо сумасбродом.
Самого Бильбо, впрочем, это не сильно волновало:
«Он наслаждался спокойной, размеренной жизнью; и даже котелок на огне, казалось, посвистывал теперь куда мелодичнее, нежели в те дни, что предшествовали Нежданному Угощению. Свой меч Бильбо повесил над каминной полкой, а кольчуга висела в гостиной, пока он не сдал ее в музей. Золото и серебро господин Торбинс расходовал в основном на подарки, полезные и роскошные, — хотя бы по этому можно судить, как он относился к своим племянникам. А кольцо (отнятое у Голлума — он, конечно, оставил его себе. — Г. П., С. С.) никому не показывал и надевал, лишь когда надо было спрятаться от незваных гостей. Соседи качали головами, приговаривали: „Совсем Торбинс спятил“ — и стучали себя по лбу; мало кто верил его россказням».
Ну и ладно, не верят и не надо. «Бильбо писал стихи, навещал эльфов и, в общем, был счастлив до конца своих дней (а прожил он долго-долго)»[195].
БЕЛЫЙ СОВЕТ — Совет Мудрых, созванный в Третьей Эпохе для противодействия Саурону.
ГОНДОР — южное нуменорское королевство в Средиземье, основанное Исильдуром и Анарионом.
ГЭНДАЛЬФ — имя МИФРАНДИРА на языке северян.
АНДУНЭ — «закат, запад» в АНДУНИЭ: синдаринское АННУН см. в АННУМИНАС, ХЕННЕТ АННУН. Древний корень этого слова НДУ — «опускаться» — присутствует также в квенийском НУМЕН — «закат, запад» и в синдаринском ДУН — «запад»; ср. ДУНАДАНЫ. Слово АДУН в адунаике происходит из эльфийских языков.
ДАР ИЛУВАТАРА ЛЮДЯМ — смерть, уход из Круга Мира.
ДВА ДРЕВА — Белое и Золотое, созданные Йаванной и освещавшие Валинор: уничтожены Морготом и Унголиантой.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕНЕЦ — корона Моргота, в которую были вставлены Сильмариллы.
ИСТАРИ — маги, майары, посланные в Третью Эпоху из Амана для противостояния Саурону.
В 1933 году Толкин и Льюис создали в Оксфорде литературно-дискуссионный клуб под названием «Инклинги». Inklings — слово, богатое значениями. Можно понимать его как намеки или догадки, можно связывать со словом Ink — «чернила». Впоследствии Толкин так вспоминал обо всем этом: «Истинным основателем клуба стал студент Юниверсити-колледжа по имени Тэнджи-Лин — дату я не помню; возможно, середина тридцатых. Он, как я понимаю, лучше других сознавал преходящий характер всех этих студенческих клубов и задался тщеславной целью создать такой, что окажется более долговечным. В конце концов, членами клуба стали и мы с Льюисом. Собирались в комнатах Тэнджи-Лина; вся деятельность сводилась к тому, что на каждом заседании члены зачитывали вслух свои неопубликованные сочинения. Предполагалось, что эти тексты тут же будут подвергаться критическому разбору. Кроме того, путем общего голосования решалось, какое произведение из прочитанных достойно занесения в Книгу Протоколов. Но клуб вымер, а мы с К. С. Л. уцелели, и название клуба „Инклинги“ перешло (усилиями К. С. Л.) на неопределенный круг друзей, который складывался сам собою»[196].
Встречались «инклинги» каждый четверг в течение почти семнадцати лет (с 1933 по 1950 год) в просторной, хотя и не очень уютной холостяцкой квартире Клайва Льюиса в колледже Святой Магдалины (Модлин, если ориентироваться на английское произношение). Кроме того, по вторникам (с 11.30 до 13.00, вот она — английская обязательность) «инклинги» непременно посещали паб «Орел и ребенок», который между собой без всяких церемоний называли «Птичка и младенец».
И Толкин, и Льюис отличались большим пристрастием к пиву.
«Льюис энергичен и весел, как всегда, — писал Толкин своему сыну Кристоферу, — вот только теперь становится слишком известен. Шумиха вокруг его книг не по вкусу ни ему, ни нам. В прошлый вторник „Дейли телеграф“ оказала ему сомнительную честь в высшей степени превратным и идиотским абзацем. Начинался он со слов: „Аскетический мистер Льюис!“ Это надо же! За нашу очень недолгую встречу, не далее как нынче утром, он уговорил три пинты пива и сказал, что „соблюдает воздержание по случаю Великого поста“».
В группу «инклингов» входило почти два десятка человек.
Само собой, Клайв С. Льюис — лысеющий, мешковатый, всегда обсыпанный пеплом, со своим характерным ухающим басом.
Само собой, Джон Рональд Руэл Толкин.
А с ними:
Уоррен Льюис, брат Клайва; он был военным, уволился из армии в звании майора, потому и называли его «майор Льюис». В начале войны его призвали на несколько месяцев, но затем отправили в запас уже окончательно. Иногда он патрулировал Темзу на своей яхте «Босфор», перекрашенной в серо-голубой защитный цвет, и писал исторические книги о веке Людовика XIV;
Чарлз Уильямс — писатель, поэт, литературный критик, теолог (многие «инклинги» относились к религии чрезвычайно серьезно). Из-за финансовых трудностей в семье он не смог получить высшего образования и в 1909 году поступил корректором в издательство Оксфордского университета, где проработал всю жизнь, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, но всегда оставаясь чьим-то подчиненным. Все-таки он получил, в конце концов, степень почетного магистра искусств Оксфордского университета — благодаря Льюису и Толкину, устроившим его лектором в Оксфорде. Известным его сделали эзотерические романы «Война в небесах» («War in Heaven», 1930), «Иные миры» («Many Dimensions», 1931), «Место Льва» («The Place of the Lion», 1931), «Старшие арканы» («The Greater Trumps», 1932), «Тени исступления» («Shadows of Ecstasy», 1933), а также теологические работы: «Он сошел с небес» («Не Came Down From Heaven», 1938), «Нисхождение Голубя» («Descent of the Dove», 1939) и др. Толкин, впрочем, отзывался об Уильямсе своеобразно: «Конечно, мы нравились друг другу и всегда с большим удовольствием вели разнообразные беседы (преимущественно в шутливых тонах), но на более высоком уровне нам нечего было друг другу сказать»;
Оуэн Барфилд — друг Льюиса, автор романов «Серебряная труба», «Эта несходная пара» и философских эссе «Отдельно от мира» и «Ненаследственный голос». Барфилд всегда был большим спорщиком. Он спорил всегда и везде и по любому поводу, особенно задевали его теологические выступления, что, впрочем, не мешало его многочисленным и крепким дружеским связям. Он был адвокатом Льюиса и крестником его приемной дочери Люси;
Кристофер Толкин — младший сын Дж. Р. Р. Толкина. Во время Второй мировой войны Кристофер служил в Королевских военно-воздушных силах (Южная Африка), позже изучал лингвистику и английскую литературу в Оксфорде. Именно он после смерти отца восстановил по черновикам многие его неоконченные произведения, и прежде всего «Сильмариллион»;
Адам Фокс — поэт и биограф. Был избран деканом богословия в Оксфорде, а позже каноником Вестминстерского аббатства (немалая честь), где и похоронен в так называемом Уголке Поэтов.
А также Чарлз Лесли Ренн, Перси Бейтс, Колин Харди, Хьюго Дайсон, Джеймс Дандас-Грант, Джон Фромке, Джон Уэйн, Роберт Маккаллум, Джервейз Мэтью, Невилл Когхилл, Эндрю Стивенс. В основном это были преподаватели, с большим удовольствием совмещавшие профессиональную научную деятельность с литературным любительством, что только подчеркивалось появлением на собраниях «инклингов» настоящих профессионалов от литературы — писательницы Эрики Рюккер Эддисон, южноафриканского поэта Роя Кэмпбелла и еще одной писательницы, автора детективов Дороти Сейерс, на которую огромное впечатление производили религиозные произведения К. С. Льюиса.
Заседания «инклингов» начинались с чтения текстов, написанных членами клуба. Именно здесь, в квартире Льюиса, Толкин впервые читал главы из «Хоббита», а позже — из «Властелина Колец», а Льюис — главы из фантастических романов, впоследствии прославивших его. Конечно, читались и переводы, и стихи, в том числе «окопные» — того же Льюиса.
Льюис, несомненно, помог становлению Толкина-писателя, а Толкин, в свою очередь, медленно, но упорно возвращал друга в, казалось бы, утерянное им христианство. В конце концов это ему удалось, хотя он всегда жалел, что не сумел убедить Льюиса сделать более радикальный (для Англии) шаг и стать настоящим католиком.
Из книги Майкла Уайта[198] мы знаем, что Толкин писал «Хоббита» для детей. Как признавался когда-то Конан Дойл: «Чтобы позабавить на миг мальчика-полумужчину и полумужчину-мальчика». При этом Толкин часто утверждал, что вообще-то ребенок как таковой его нисколько не интересует и он, конечно, не собирается идти навстречу этому неведомому «ребенку». Почему? Да потому, что если ребенок глуп — все бесполезно, а если одарен — вредно.
«Хоббит» писался легко. Но только до той главы, в которой Бильбо собирался убить дракона. «Бильбо вонзает в дракона свой волшебный кинжальчик. Дракон мечется. Он разрушает стены и вход в тоннель».
Но в такую сцену как-то не верилось.
Она выглядела слишком буднично, совсем не эстетично.
Да и как мог хоббит поразить мощного дракона своим «кинжальчиком»?
Работа на некоторое время приостановилась; Толкин вернулся к «Сильмариллиону». Но однажды машинописный текст незаконченного «Хоббита» почти случайно попал на глаза его аспирантке Элейн Гриффитс, одновременно с учебой занимавшейся в издательстве «Аллен энд Анвин» редактированием перевода эпической англосаксонской поэмы «Беовульф». Она и сообщила при случае своей издательской подруге Сьюзен Дагналл, что, как это ни странно, у профессора Толкина валяется в столе рукопись какой-то сказки, при этом, кажется, не скучной. Сьюзен не поленилась выпросить у Толкина рукопись на прочтение, и Толкин дал ей (к своему неоконченному «Хоббиту» он относился не слишком серьезно) единственный чистовой экземпляр. «Хоббит» Сьюзен понравился. Поговорив с издателем Стэнли Анвином (1884–1968), она даже попросила Толкина дописать финал сказки.
Но Толкин не любил менять свои планы.
В 1936 году он все основное время отдавал тщательной подготовке к печати любимой им поэмы «Беовульф». Он даже прочел в Оксфорде специальную лекцию, которая послужила основой для эссе «О чудовищах и критиках» (1936), а в дальнейшем и для предисловия к «Беовульфу» (1940). Не раз Толкин цитировал стихи из любимой поэмы на собраниях «инклингов».
Великие герои, великие деяния!
Скорбные призывы датского короля Хродгара, натерпевшегося от злобного чудовища по имени Грендель, дошли до гаутов Южной Швеции, и их бесстрашный воин Беовульф вызвался помочь королю. Снарядив корабль, он со своими людьми прибыл к берегам Дании. Беовульф в переводе означает «пчелиный волк», то есть «медведь» (не случайно медведем оказался в «Хоббите» бородатый Беорн). После шумного пира с королем Хродгаром рыцарь заперся в своей комнате и снял доспехи, поскольку знал, что в битве с Гренделем надеяться можно только на силу своих мышц. Он знал, что, привлеченный шумом, Грендель не преминет появиться в королевских чертогах.
И Грендель появился.
Ровно в полночь — как всякий истинный ужас.
Выбив тяжелые засовы, повалив ворота, чудовище набросилось на спящих гаутов. Но Беовульф перехватил занесенную над ним лапу и вырвал ее. Отчаянно взвыв, окровавленное чудовище бросилось вон.
Казалось бы, победа. Но…
Чудовищная мать Гренделя явилась отомстить за сына. Но Беовульф отбился и от нее. Он прогнал чудовище к болотам, а когда мать Гренделя бросилась в мутную воду, нырнул и убил ее. С тех пор прошло много лет. После смерти короля на престол данов сел Беовульф. Он мудро и счастливо правил столь необычно обретенной им страной, но затем в его владениях объявилась новая страшная напасть — огромный злобный огнедышащий дракон, долгие годы грабивший королей и прятавший добычу в уединенной пещере…
Подобные поэмы бесконечны, они пишутся сотнями лет.
Но для Толкина «Беовульф» был не просто любимым чтением.
По этой поэме он учился понимать прошлое. Он прозревал в текстах «Беовульфа» тончайшие детали, удивительные неведомые факты. Например, он вычитал в поэме эпизод, в котором некий изгнанник случайно забрел в уединенную пещеру дракона и вынес оттуда маленький золотой кубок. Всего-то! Но вспомним, что то же в «Хоббите» совершает хоббит Бильбо Торбинс. Дракон, понятно, мстит за пропажу, ведь с его точки зрения это чистое воровство — то же самое говорил дракон и о поступке Бильбо Торбинса. Пришлось Беовульфу вновь отправиться в поход. После долгих поисков он нашел пещеру и увидел внутри нее огненный поток, пересечь который никакому живому существу было невозможно (нечто подобное мы увидим и в финале «Властелина Колец»). Когда появился дракон, изрядно добавивший в повествование огня и дыма, тяжелый меч Беовульфа опустился на его голову. Удар был так силен, что меч сломался. К несчастью, пока богатырь Беовульф вытаскивал из ножен запасной меч, дракон умудрился смертельно ранить его. Умирая, великий воин приказал дружинникам похоронить его на высоком берегу моря.
Темная пещера… Огненный поток… Дым и пламя, изрыгаемые драконом… А еще — золото, серебро, драгоценные камни, витые кольца… Несомненно, тщательное изучение «Беовульфа» во многом повлияло на сюжеты Толкина.
Все же под давлением Сьюзен Дагналл Толкин закончил рукопись «Хоббита» и 3 октября 1936 года (исторический день) отослал ее в издательство. Уже через два дня Стэнли Анвин откликнулся. «Рукопись будет немедленно и внимательнейшим образом рассмотрена», — сообщил он Толкину и отдал «Хоббита» на прочтение своему десятилетнему сыну Рейнеру.
Рецензия мальчика сохранилась. «Бильбо Бэггинс, — писал Рейнер, — был хоббит который жил в своей хоббичей норе и никогда в приключениях не участвовал но наконец волшебник Гэндальф и его гномы убедили Бильбо поучаствовать. Он очень здорово провел время сражаясь с гоблинами и варгами. Наконец они добрались до оденокой горы. Смауга дракона который ее кураулил убили и после страшной битвы с гоблинами Бильбо вернулся домой — богатым! Эта книга с помощью карт не нуждается в илюстрациях она хорошая и понравицца всем детям от 5 до 9»[201].
Мальчик получил обещанный отцом шиллинг, а книгу приняли к публикации.
В ранних изданиях Толкин помещал на титуле длинное название, переведенное якобы с языка гномов:
ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО
ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ БИЛЬБО БЭГГИНСА ИЗ ХОББИТОНА
СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ЕГО СОБСТВЕННЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНОМ И ИЗДАННЫЙ ДЖОРДЖЕМ АЛЛЕНОМ.
Юному Рейнеру книга понравилась в том виде, в каком ее прислал автор (без рисунков), но книгу все же решили проиллюстрировать. Узнав об этом, Толкин предложил свои услуги, и выполненные им рисунки (к его удивлению) утвердили, хотя кое-что пришлось перерисовывать.
«Уважаемая мисс Дагналл, — писал Толкин 4 января 1937 года, посылая в издательство карты и иллюстрации к „Хоббиту“. — Извините за задержку столь долгую. Я некоторое время чувствовал себя неважно; а потом все мои домашние, один за другим, свалились с гриппом, принесенным из школы, так что Рождество оказалось безнадежно испорчено. Сам я слег в канун Нового года. Трудно было сделать хоть что-нибудь; боюсь, результаты моих трудов оставляют желать много лучшего. Я перерисовал две вставки: схему, которую надо вклеить (в главу I), и общую карту. Могу лишь надеяться — поскольку умения у меня маловато, — что они худо-бедно сгодятся.
Что до остальных карт, я решил, что они не нужны.
Я перерисовал (как мог) одну-две любительские иллюстрации из своего „домашнего манускрипта“, предположив, что они, возможно, сгодятся на форзац, фронтиспис или куда-нибудь еще. Сдается мне, в целом такие картинки, будь они получше, книгу бы весьма украсили. Но, скорее всего, на данной стадии такое исключается; они и не то чтобы хороши, да и с технической точки зрения, вероятно, непригодны.
Буду весьма признателен, если вернете отвергнутые варианты.
Искренне Ваш
Дж. Р. Р. Толкин»[202].
Конечно, много времени ушло на чтение гранок, пришедших на Нортмур-роуд в феврале 1937 года. Авторских исправлений (вот она — тщательность Толкина) оказалось так много, что издатель возмутился: все-таки правка стоит денег! Тогда Толкин постарался все сделать так, чтобы внесенная им правка полностью совпадала по объему с первоначальным текстом.
«Пробные оттиски я одобряю, — написал он в издательство. — Уменьшение пошло на пользу всем рисункам, кроме, пожалуй, „Троллей“. Там обнаружились один-два дефекта, возможно, дело в качестве печати. Я эти дефекты отметил: тонкая белая обводка одного из деревьев на заднем плане местами прерывается; некоторые из точек, служащих контуром для пламени, не пропечатались; а еще не пропечаталась точка после слова „Тролли“. Еще в картинке „Прихожая в Бэг-Энде“ я по недомыслию акварелью изобразил тень, доходящую до боковой балки. Тень, конечно же, получилась совсем черной (а ключ в результате и вовсе исчез), хотя до балки не доходит. Однако оттиски, на мой взгляд, вполне хороши — насколько позволяет оригинал.
Пожалуйста, учтите: это все замечания не из серьезных!
До сих пор удивляюсь, что такие посредственные картинки приняты к публикации и что вы потратили на них столько трудов и сил — даже вопреки финансовым соображениям (о чем я ни на минуту не забывал и из-за чего, собственно, поначалу отказался от иллюстраций)»[203].
Узнав о том, что издание его книги предполагается и в США, Толкин написал (13 мая 1937 года) своему редактору:
«Уважаемый мистер Ферт! Благодарю Вас за информацию касательно предполагаемой публикации. Не могли бы Вы сообщить мне название издательства, а также просветить меня насчет финансовых условий?
Что до иллюстраций: я разрываюсь между сознанием моего собственного неумения и страхом перед тем, что могут породить американские художники (вне всякого сомнения, мастера своего дела). В любом случае я, конечно, согласен, что все иллюстрации должны быть выполнены одной рукой: рядом с четырьмя профессиональными рисунками моя собственная любительская мазня будет смотреться довольно глупо. У меня в столе хранится еще несколько „картинок“, но, хотя они представляют собой сцены из мифологии, на „задворках“ которой разворачиваются приключения хоббита, его собственную историю они, честно говоря, не иллюстрируют. Единственная, которую можно использовать, — это первоначальная цветная версия „Мирквуда“ (для „Хоббита“ перерисованная в черно-белую). Я попытаюсь нарисовать для этой цели еще пять-шесть. Если, на Ваш взгляд, это имеет смысл, я приступлю к работе, как только позволит время в разгар триместра. В ближайшее время, однако, ничего обещать не могу. Или дело отлагательств не терпит? Тогда, чтобы американцы не потеряли интереса к делу, надо, наверное, позволить им поступать, как они сами сочтут нужным, но оставить за собой право (это я оговариваю особо) наложить вето на все произведенное или навеянное диснеевской студией (вся эта диснеевская продукция вызывает у меня глубочайшее отвращение). Мне, правда, доводилось видеть иллюстрации американских авторов, наводящие на мысль о том, что результатов можно ждать превосходных — даже чересчур превосходных в сравнении с моим вкладом. Не уточните ли, какие сроки мне отпущены на то, чтобы произвести образцы, способные удовлетворить вкусы трансатлантического юношества (или квалифицированных знатоков оных вкусов)?»[204]
И далее по тому же поводу.
«Нортмур-роуд, 20, Оксфорд.
Уважаемый мистер Ферт! Посылаю Вам цветной вариант фронтисписа.
Если он Вас устроит, перешлите его, пожалуйста, в издательство „Хоутон-Мифлин“. Не могли бы Вы одновременно разъяснить им (похоже, задача не из простых!), что первые три рисунка являются не иллюстрациями к „Хоббиту“, но лишь образцами; для этой книги их использовать не стоит. А вот последующие пять рисунков (первые четыре плюс еще один) выполнены специально для издательства „ХМ“ и для „Хоббита“. Разумеется, они вольны отвергнуть или использовать все или сколько захотят из числа этих пяти. Но мне хотелось бы подчеркнуть особо: они подобраны так, чтобы иллюстрации распределялись равномерно по всей книге (особенно в сочетании с черно-белыми рисунками).
Я так понимаю, что вопрос об оплате даже не встает?
Особых достоинств я за своими картинками не замечаю (хотя труда затрачено изрядно); полагаю, что „бесплатность“ моих детищ компенсирует все их прочие недостатки. Но я так понял, что первоначально условия издательства „ХМ“ распространялись на „Хоббита“ в том виде, в каком его публикуете Вы; и что лишь потом они предложили дополнить книгу цветными иллюстрациями в качестве собственного средства привлечения покупателей, задействовав для этой цели талантливых американских художников. В таком случае иллюстраторам пришлось бы заплатить отдельно. В настоящий момент я в таком финансовом кризисе (главным образом из-за расходов на медицину), что даже пустячное вознаграждение оказалось бы манной небесной. Нельзя ли как-нибудь дать им понять (когда они решат, хотят ли использовать какие-то из моих иллюстраций), что небольшая компенсация была бы очень уместна?
Возможно, Вы подскажете мне линию поведения или, напротив, одернете.
Надо ли говорить, что подобная мысль пришла мне в голову только в отношении американцев, которые уже причинили немало совершенно ненужных хлопот. Даже не знай я, что Ваши производственные затраты столь непомерно велики (и что сам я обошелся с корректурой совершенно безжалостно), я в любой момент к Вашим услугам во всем, в чем в силах помочь, и охотно нарисую или перерисую любые иллюстрации, для „Хоббита“ пригодные…
От души уповаю на то, что, в конце концов, сам мистер Бильбо Бэггинс придет мне на помощь — в разумных пределах (на горшки тролльего золота я не рассчитываю). И начинаю надеяться, что издатели (см. суперобложку) окажутся правы.
(На суперобложке „Хоббита“ издательство „Аллен энд Анвин“ поместило следующий рекламный текст: „У Дж. Р. Р. Толкина четверо детей, и „Хоббита“ им читали вслух… Рукопись ссужалась оксфордским друзьям автора, они, в свою очередь, читали ее своим отпрыскам… Рождение „Хоббита“ напоминает историю „Алисы в стране чудес“: и тут, и там профессору, преподающему головоломную дисциплину, вздумалось позабавиться…“ — Г. П., С. С.)
Недавно я получил тому два сравнительно многообещающих доказательства.
Во-первых, книгу, ни много ни мало, прочел профессор Гордон (профессор английской литературы в Лидском университете. — Г. П., С. С.). Такое с ним нечасто случается, и теперь он уверяет меня, что порекомендует книгу всем и каждому, особенно Книжному обществу. Должен предупредить Вас, что на обещания он обычно щедр, но, как бы то ни было, в суждениях ошибается редко. С большим энтузиазмом отозвался о книге и профессор Чеймберс (профессор английского языка в Лондонском университете. — Г. П., С. С.), он мой старый друг, и сердце у него доброе. Самый ценный документ прилагаю на случай, если он Вас заинтересует: письмо от Р. Мейгса (в настоящий момент он — издатель „Оксфорд мэгэзин“). У него нет никаких причин щадить мои чувства, и говорит он обычно то, что думает. С рецензентскими кликами он никак не связан и, по сути дела, является просто-напросто представителем по-отечески снисходительной публики»[205].
«Хоббит» вышел в свет 21 сентября 1937 года.
Как к неожиданной книге отнесутся оксфордские коллеги?
Наверное, Толкину снова снилась темная морская волна, угрожающе нависшая над зелеными берегами. Он был полон предчувствий, и не обязательно добрых. Он получал в то время специальную исследовательскую стипендию Леверхюльма[206] и боялся, что кто-то может подумать, что часть денег уходит у него на такие вот своеобразные «исследования», как эта никчемная книжка о каких-то подозрительных хоббитах. Но в Оксфорде книгу поначалу попросту не заметили, зато газеты откликнулись сразу.
«Всем, кто любит детские книги, которые можно читать и взрослым, — восторженно писал друг писателя Клайв Льюис, — стоит взять на заметку, что в созвездии ярких имен вспыхнула новая звезда».
За отзывом Льюиса появились и другие. Правда, кое-кто попенял на издательскую рекламу, в которой «Хоббит» сравнивался с «Алисой в стране чудес», но издателя это ничуть не смутило. Стэнли Анвин надеялся на успех. «Вот увидите, — писал он Толкину, — уже на будущий год читатели начнут требовать новых книг про хоббитов!»
После выхода «Хоббита» жизнь оксфордского дона в общем-то не сильно изменилась.
«В коридоре Толкин встречается с Клайвом Льюисом — так описывал будни писателя его самый известный биограф. — Жаль, что сегодня не понедельник: по понедельникам они заходят в паб выпить по пинте пива и поболтать часок, но сегодня некогда. Толкину еще предстоит пройтись по магазинам, прежде чем ехать домой к ланчу. Расставшись с Льюисом, он садится на велосипед и катит по Хай-стрит к оживленным торговым галереям, известным в городе как „крытый рынок“. Ему нужно забрать сосиски у мясника Линдси: Эдит позабыла включить их в еженедельный заказ, доставленный накануне. Он обменивается шутками с мистером Линдси, потом заходит в магазин канцтоваров на углу Маркет-стрит купить перьев для ручки, и едет домой по Бенбери-роуд. Ему еще удается выкроить пятнадцать минут на то, чтобы напечатать письмо Э. В. Гордону насчет их планов сотрудничества над изданием „Перла“: он давно собирался взяться за это письмо, — да все никак не выходило. Толкин садится за свою машинку „Хаммонд“ со сменными шрифтами на вращающемся диске; в его модели есть курсив и некоторые англосаксонские буквы. Но он не успевает закончить: Эдит звонит в колокольчик, созывая домашних к ланчу.
За ланчем присутствует вся семья. Разговор посвящен в основном обсуждению того, что Майклу не нравятся уроки плавания в школе и можно ли из-за болячки на пальце получить освобождение от бассейна. Поев, Толкин спускается в сад, посмотреть, как поживают бобы. Эдит выводит Присциллу поиграть на газоне. Они обсуждают, не стоит ли вскопать остаток бывшего теннисного корта, чтобы расширить огород. Потом Эдит отправляется кормить канареек и волнистых попугайчиков в своей вольере сбоку от дома, а Толкин садится на велосипед и снова катит в город, на этот раз на собрание своего факультета.
Собрание проходит в Мертон-колледже, поскольку у факультета нет собственных помещений, если не считать тесной библиотеки в мансарде Экзаминейшн-скулз, а Мертон-колледж наиболее тесно связан с этим факультетом. Сам Толкин числится членом Пембрук-колледжа, но редко имеет с ним дело и, как и все профессора, несет ответственность прежде всего за свой факультет. Собрание начинается в половине третьего. Помимо других профессоров: Уайльда, главы кафедры английского языка и литературы, и Никола Смита, профессора английской литературы, присутствует еще с десяток донов, в том числе и женщины.
Потом он едет домой, чтобы поспеть к детскому чаю в половине пятого. После чая ему удается провести полтора часа за столом: закончить письмо Э. В. Гордону и начать приводить в порядок записи для завтрашней лекции… зачастую времени не хватает и приходится откладывать работу до последней минуты. Он и теперь далеко не продвинулся: Майкл просит помочь с латинским переводом, который им задали на дом, и на это уходит еще двадцать минут. Вот уже и половина седьмого, пора переодеваться к обеду. Обычно Толкин обедает вне дома не чаще двух раз в неделю, но сегодня в его колледже, Пембруке, гостевой вечер, и Толкин обещал присутствовать, чтобы встретиться с визитером своего приятеля. Он поспешно повязывает черный галстук и снова садится на велосипед»[207].
Конечно, Толкин внимательно просматривает газеты.
Мысль о том, что люди чему-то научились на опыте Великой войны, кажется ему все более неубедительной. Зло торжествует, оно вновь грозит масштабными потрясениями. Да, Германия провела у себя Олимпийские игры (чем не символ миролюбия?), да, в 1938 году лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был внесен в список номинантов Нобелевской премии мира (вот кто может навести порядок в Европе!), правда, номинаторы скоро одумались и вычеркнули имя Гитлера из списка, как перед этим поступили с итальянским дуче Бенито Муссолини, но Европа кипит, ее не успокоишь. Германские войска заняли демилитаризованную Рейнскую область, грубо нарушив условия Версальского договора, но фюрера это нисколько не смущает, он чувствует мощную поддержку своего народа — в марте 1936 года на парламентских выборах в Германии за кандидатов от нацистской партии проголосовало 99 процентов избирателей! Несмотря на то, что Франция и Англия выступали главными гарантами Версальского договора, они не решились вмешаться…
А в июле началась гражданская война в Испании. Восставшая армия генерала Франко быстро захватила половину страны, беспощадно истребляя коммунистов и всех левых. Ссылаясь на «красную угрозу», правительство Германии вводит обязательную воинскую службу, а в октябре оформляет «ось Берлин — Рим». В ответ правительство США наложило полный запрет на экспорт оружия и военного снаряжения в Испанию, но никакие внешние меры уже не могут изменить течения событий. На стороне Франко в войну вмешались Италия и Германия. В апреле 1937 года германский воздушный легион «Кондор» практически уничтожил старинный город Гернику. Вскоре японцы вторглись в Китай, захватили Пекин и Тяньцзинь. Новая большая война уже маячила на горизонте.
Политика политикой — тут ничего поделать нельзя. А вот отношение к вышедшей книге, отношение к «Хоббиту»…
В октябре Стэнли Анвин переслал Толкину письмо Ричарда Хьюза (1900–1976) — известного в те годы писателя[208]. «Ваша книга — одна из лучших, — писал Хьюз. — Ничего такого замечательного мне давно в руки не попадало. Единственная загвоздка, как мне кажется, состоит в том, что многие родители, возможно, побоятся читать отдельные эпизоды детям перед сном, посчитав их слишком страшными…»
15 октября 1937 года Толкин ответил (издателю):
«Уважаемый мистер Анвин! Большое спасибо за Ваше любезное письмо от 11 октября, а теперь еще и за копию письма мистера Ричарда Хьюза. Мне было исключительно интересно с ним ознакомиться, поскольку мы друг друга совсем не знаем. Рецензии в „Таймс“ и в „Таймс литэрари сапплемент“ были вполне хороши — то есть (не по заслугам) лестны, однако по ряду внутритекстовых свидетельств я догадываюсь, что обе написаны одним автором (Клайвом Льюисом; он опубликовал эти свои рецензии анонимно. — Г. П., С. С.), в чьем одобрении я был уверен заранее: у нас схожие вкусы, мы выросли на одних и тех же книгах и близко общаемся вот уже много лет. Тем не менее это никоим образом не умаляет их общественного резонанса. Кроме того, я не могу не уважать его мнения: я считал его лучшим из живущих ныне критиков задолго до того, как внимание его обратилось на меня; и никакая дружба не заставила бы его сказать то, чего он на самом деле не думает».
И далее (по поводу просьбы издателя продолжить приключения знаменитого хоббита):
«Тут мне пришла по почте неожиданная открытка — надо думать, отсылка на рецензию, появившуюся в „Таймс“, — в которой было всего четыре слова: sic hobbitur ad astra („так „хоббитают“ до звезд“, аллюзия на известную поэтическую строку: „так восходят до звезд“. — Г. П., С. С.).
И все же я обеспокоен: ведь я понятия не имею, что еще можно сказать о хоббитах.
По-моему, мистер Бильбо Бэггинс полностью исчерпал как туковскую, так и бэггинсовскую стороны своей натуры. Зато я готов поведать многое другое (вот он, прямой намек на рукопись „Сильмариллиона“. — Г. П., С. С.), очень много другого о том мире, в который хоббиты вторглись. Вы, разумеется, можете просмотреть то, что у меня уже написано. Мне чрезвычайно интересно узнать мнение человека стороннего (помимо мистера К. С. Льюиса и моих детей) на предмет того, представляет ли написанное мною (речь, повторяем, идет о рукописи „Сильмариллиона“. — Г. П., С. С.) хоть какую-то ценность и годится ли оно на продажу само по себе, отдельно от хоббитов. Если „Хоббит“, в самом деле, утвердился надолго и публика требует продолжения книги, я, конечно, пораскину мозгами и попытаюсь выудить из указанного выше материала какую-нибудь необычную тему и обработать ее приблизительно в том же стиле и для той же аудитории, — возможно, задействуя уже имеющихся хоббитов. Моя дочка, например, не прочь еще раз послушать про семейство Туков, а один из читателей просит меня подробнее рассказать о Гэндальфе и Некроманте. Но это, наверное, предметы слишком мрачные, о чем упоминает и мистер Ричард Хьюз, хотя, по-моему, присутствие ужасного всегда придает любому вымышленному миру убедительность и достоверность…
В настоящий момент я, подобно мистеру Бильбо Бэггинсу, переживаю легкий приступ „потрясенности“ (от успеха книги. — Г. П., С. С.) и от души надеюсь, что не воспринимаю себя слишком уж всерьез. Но должен признаться, что Ваше письмо пробудило во мне некую слабую надежду. То есть я всерьез начинаю задумываться: а не удастся ли мне в будущем, по возможности, совместить долг и удовольствие? Вот уже семнадцать лет я трачу почти все свои каникулы на экзамены и тому подобные побочные занятия, понуждаемый к тому настоятельными финансовыми потребностями (главным образом медицинского и образовательного свойства). Что же до сочинительства стихов и прозы, то минуты для этого я всегда буквально выкрадывал (курсив наш. — Г. П., С. С.), порою мучаясь угрызениями совести, из времени уже запроданного, так что писал от случая к случаю. А теперь, возможно, я смогу, наконец, делать то, к чему всей душою стремлюсь, нимало не греша против финансовых обязательств…
Сдается мне, Оксфорд книгой тоже слегка заинтересовался. Меня то и дело спрашивают, как там мой хоббит. Причем, как я предвидел, не без изумления и толики жалости. Мой родной колледж даже, мне кажется, расщедрится экземпляров на шесть, хотя бы для того, чтобы было чем меня дразнить. После рецензии в „Таймс“ двое-трое моих более степенных коллег решили, будто могут, так и быть, без ущерба для своего академического достоинства сознаться, что знакомы с моей „фантазией“ (читай: неблагоразумием). Профессор византийского греческого языка купил экземпляр для себя лично — почему бы и нет? — намекнув, что первоиздания „Алисы“ стоят сейчас немалых денег. По слухам, за чтением моего „Хоббита“ застукали даже профессора королевской кафедры современной истории»[209].
Это важное письмо.
Оно много говорит о Толкине.
Он действительно тратил почти все свои каникулы на то, чтобы заработать еще сколько-то денег для нужд семьи. «Понуждаемый настоятельными финансовыми потребностями». И прозу свою, как правило, он писал урывками, отнимая время у «главных» своих занятий. И университетские коллеги относились к его «фантазиям» с явственной иронией: иначе как понимать фразу о том, что профессора «застукали» за чтением «Хоббита»?
Но главное в этом письме — намек на «Сильмариллион».
Ведь именно «Книгу утраченных сказаний» Толкин считал главной своей книгой. Он, как никто, понимал истинную глубину мифов и легенд, которые старше, много старше всей той «чепухи», которая называется современной литературой. Это нечто глубоко спрятанное в подсознание, вечные страхи и радости всех людей вообще, то, что Карл Густав Юнг, основоположник аналитической психологии, назвал в свое время архетипами. Архетипы прочно спрятаны в нашей подкорке — странные, но каждому интуитивно понятные первообразы, универсальные психические структуры, составляющие содержание того коллективного бессознательного, что распознается только в нашем личном опыте. Символика мифов и волшебных сказок не придумывается каждым новым поколением, она вложено в нас всем нашим человеческим прошлым, оно врожденное, оно всегда в нас, нужно только подобрать к нему ключ.
Именно в доисторических мифах и сказках — корни языка, опора мировоззрения. В них заложен весь тот набор чувств и образов, на который мы сразу и с пониманием отзываемся. Толкин знал об этом, хотя и не чувствовал себя обязанным признавать какую-либо современную теорию, вроде теории Юнга, и упорно искал свои ключи, — он был убежден, что у него получится (в «Сильмариллионе»). Но теперь, «понуждаемый настоятельными финансовыми потребностями», он надеялся и на вполне современные сказки. Например, на сказку о некоем смешном мистере («Мистер Блисс»). Правда, издателю Стэнли Анвину не показался сколько-нибудь привлекательным смешной маленький человечек, носивший большие шляпы и разъезжавший на автомобиле, купленном за какие-то несчастные пять шиллингов и шесть пенсов.
Стэнли Анвин ждал от профессора Толкина других историй.
АННАТАР — «Даритель», имя, которое дал себе Саурон во Второй Эпохе, появляясь в дивном обличье среди эльфов.
АРАГОРН — 39-й потомок Исильдура по прямой линии, король воссоединенного королевства Арнора и Гондора после Войны за Кольцо, супруг Арвен, дочери Элронда. Назывался также наследником Исильдура.
АРАНРУТ — «Гнев Короля», меч Тингола. Уцелел после гибели Дориафа и принадлежал королям Нуменора.
АРГОНАФ — «Врата Королей», громадные каменные статуи Исильдура и Анариона, стоявшие на берегах Андуина, на северной границе Гондора.
АУЛЕ — валар из аратаров, кузнец и ремесленник, супруг Йаванны, создатель гномов.
ГАЭР — «море» в БЕЛЕГАЭР (и в ГАЭРИС, синдаринском имени ОССЭ). Происходит, вероятно, от корня ГАЙА — ужас, трепет, то есть это название морю было дано эльфами, когда они увидели его впервые.
МОРГОТ — «Черный Враг», имя, которое дал Мелькору Феанор после похищения Сильмариллов.
МОРДОР — Черный Край, владения Саурона к востоку от Эфель Дуаф.
НАРСИЛЬ — меч Элендиля, выкованный Тэльхаром из Ногрода; сломался, когда погиб Элендиль, и обломки хранились в Имладрисе; был перекован для Арагорна и назван Андуриль.
НАРЬЯ — одно из Трех Колец эльфов, Кольцо Огня или Красное Кольцо; его хранил Цирдан, а потом передал Мифрандиру.
НОЛДОРЫ — Премудрые эльфы, второй отряд эльдаров, вышедший от Куйвиэнэн под предводительством Финвэ.
НЭНЬЯ — одно из Трех Колец эльдаров. Белое Кольцо с адамантом, Кольцо Воды, хранимое Галадриэлью.
ТАНГОРОДРИМ — горная цепь, возведенная Морготом перед Ангбандом; обрушена в Великой Битве в конце Предначальной Эпохи.
ТЕМНЫЕ ЭЛЬФЫ — Мориквэнди; в Амане так назывались все эльфы, не переплывавшие Великое Море. Во времена изгнания нолдоров так называли всех прочих эльфов, кроме нолдоров и синдаров (смешивая мориквэнди и авари).
УНГОЛИАНТА — гигантская паучиха; вместе с Морготом убила Два Древа.
ФРОДО — полурослик, Хранитель Кольца Всевластья.
ХАРАДРИМЦЫ — жители Харада, земель к югу от Мордора.
ЭАРЕНДИЛЬ — прозванный Эльфид, Благословенный, Ясный, Мореход; сын Туора и Идриль; спасся после гибели Гондолина; стал мужем Эльвинг и жил близ устья Сириона; с ней отплыл в Аман и просил помощи валаров против Моргота; вознесен на небеса вместе с кораблем Вингилотом и Сильмариллом.
По совету издателя Толкин начал работу над продолжением «Хоббита». Но как-то раз, обедая с ним в одном из лондонских ресторанов, он рассказал о том, что у него есть еще одна детская рукопись — «Письма Рождественского Деда», которые Толкин сочинял для своих детей на каждое Рождество. Вместе с «Письмами» он вручил Стэнли Анвину и часть главной (как он считал) своей книги «Сильмариллион» и длинную (тоже незаконченную) поэму о Берене и Лутиэн. К сожалению, Эдвард Крэнкшоу[210], внутренний рецензент издательства, поэму не оценил, а вот о прозаической части «Сильмариллиона» отозвался с некоторым одобрением. Читать рукопись трудно, указал рецензент, стиль тяжел, даже архаичен, непривычные древние имена пугают своей тяжеловесностью, но «есть, — писал он, — в тексте Д. Р. Р. Толкина нечто от той безумной, яркоглазой красоты, что ошеломляет любого англосакса, столкнувшегося с кельтским искусством».
Толкина это обрадовало — разумеется, в меру. Он еще не раз в переписке с издателем возвращался к этой рецензии, и она чуть было не послужила поводом для разрыва с «Аллен энд Анвин» в 1950 году.
«16 декабря 1937. Нортмур-роуд, 20, Оксфорд.
Больше всего я радуюсь тому, что „Сильмариллион“ не отвергнут с презрением.
С тех пор как я выпустил из рук эту глубоко личную и любимую мною чепуху, — писал Толкин Стэнли Анвину, прочтя рецензию Эдварда Крэнкшоу, — я, как ни смешно, словно осиротел, и в придачу мучим страхом; думаю, для меня оказалось бы тяжким ударом, если бы Вы и впрямь сочли все это чепухой. Насчет стихотворного переложения я не возражаю; невзирая на отдельные удачные куски, серьезных недостатков там полно; для меня это только черновик. Однако теперь я со всей определенностью буду надеяться, что в один прекрасный день „Сильмариллион“ опубликуют — или я смогу позволить себе издать его за свой счет!
От комментариев Вашего рецензента я в полном восторге.
Очень жаль, что он обломал себе зубы об имена — лично я считаю (а здесь я — компетентный судья, поверьте!), что они хороши и общий эффект рукописи в значительной мере зависит именно от них. Они последовательны, хорошо соотносятся между собой и созданы на основе двух взаимосвязанных лингвистических формул, а потому обретают реальность, чего, на мой взгляд, не вполне удавалось достичь другим изобретателям имен (скажем, Свифту или Дансени). Нужно ли говорить, что имена эти вовсе не кельтские? Равно как и сказания. Я-то кельтский материал хорошо знаю (многие тексты прочел в оригинале — на ирландском и валлийском) и испытываю к ним некоторую антипатию: главным образом за то, что в основе своей они напрочь лишены всякой логики. Они переливаются яркими красками, но они — что осколки витража, собранные заново как попало. Они и впрямь „безумны“, как верно заметил Ваш рецензент, но я-то вполне нормален. Тем не менее я очень признателен рецензенту за отзыв; особенно же меня воодушевляет то, что стиль вполне соответствует замыслу и даже затмевает номенклатуру.
Я даже не предполагал, что подсунутый Вам материал будет соответствовать Вашим требованиям. Мне просто хотелось узнать, представляют ли какие-то из текстов некую ценность для кого-то, кроме меня самого. Понятно, что, совершенно вне зависимости от этого, сейчас требуется продолжение к „Хоббиту“ — „вторая серия“, так сказать. Обещаю хорошенько над этим поразмыслить. Но я уверен, Вы мне посочувствуете, если я скажу, что создание тщательно проработанной и последовательной мифологии (и двух языков в придачу) поглощает человека почти целиком, и в сердце моем прежде всего царят Сильмариллы. Так что, бог весть, что из всего этого выйдет. Мистер Бильбо Бэггинс возник как комическая сказочка в среде традиционных и несообразных гномов из волшебных сказок братьев Гримм и оказался на самом краешке этого странного мира — так, что даже Саурон Ужасный выглянул из-за грани. А на что еще способны хоббиты? Они, конечно, могут быть комичны, да только комизм этот — обывательский, разве что изобразить его на фоне чего-то более фундаментального. Как насчет нового (пусть и сходного) сюжета? Не сделать ли героя из Тома Бомбадила, духа исчезающей оксфордской и беркширской провинции?
Искренне Ваш —
Дж. Р. Р. Толкин»[211].
И приписка к письму: «Мне тут прислали несколько запросов от имени детей и взрослых по поводу рун в „Хоббите“: настоящие ли они и можно ли их действительно прочитать? Некоторые дети даже пытаются разбирать их самостоятельно. Отсюда вопрос: а не издать ли нам с Вами рунический алфавит? Мне уже пришлось несколько раз переписать его вручную — для особо желающих».
Несомненно, продолжение «Хоббита» напрашивалось.
У Бильбо Торбинса (Бэггинса), счастливо вернувшегося в Хоббитанию, давно должны были закончиться алмазы и золото, и его вполне могло потянуть на поиски новых богатств.
Но что Бильбо мог еще совершить?
Под звуки бравурных маршей (шли времена Мюнхенского соглашения) Толкин в свободное время обдумывал возможное продолжение «Хоббита». Можно предположить, что в те годы он представлял себе Мордор неким смутным совмещением фашистской Германии и коммунистического СССР, хотя множество черт Мордора прямо связаны у него с впечатлениями Первой мировой войны, как впоследствии неоднократно подчеркивал сам Толкин[212]. Но дело у него не слишком-то двигалось.
Зато «Хоббит» становился все более популярным. 16 января 1938 года английская газета «Обсервер» напечатала письмо некоего читателя, укрывшегося под необычным псевдонимом «Хабит». Никому не известный мистер Хабит интересовался, не навеян ли сюжет интереснейшей книги профессора Толкина рассказом английского писателя и политика Джулиана Сорелла Хаксли (1887–1975) о маленьких покрытых шерстью человечках, которых якобы не раз встречали в своих краях африканские аборигены. А еще Хабит утверждал, что хорошо знаком с женщиной, которая в юности читала сказку под названием «Хоббит» — в каком-то старом сборнике. И эпизод с украденной у дракона золотой чашей — не взят ли он профессором Толкином из старинной поэмы «Беовульф»? Любознательный мистер Хабит очень хотел бы услышать ответ на все эти вопросы из уст самого профессора Толкина; это, несомненно, поможет будущим исследователям его творчества.
Джулиан Хаксли, упомянутый в письме мистера Хабита, был человеком в Англии известным, и родственные узы связывали его с еще более известными деятелями науки и искусства. Дед Джулиана, биолог Томас Генри Хаксли (1825–1895), прославился тем, что помог Чарлзу Дарвину донести до общественности созданную им теорию эволюции; родной брат Джулиана, писатель Олдос Хаксли (1894–1963), поразил воображение многочисленных читателей своей в высшей степени политизированной антиутопией «О дивный новый мир»; сводный брат Джулиана Эндрю Хаксли[213] (1917–2012) стал несколько позже нобелевским лауреатом по физиологии и медицине. Ну и, конечно, Толкин не мог не обратить внимания на то, что Хабит знал о существовании «Беовульфа»…
«Сэр! — написал он главному редактору газеты „Обсервер“, настаивавшему на ответе. — Уговаривать меня не нужно: я сам падок на лесть, что твой дракон, и охотно блесну своим бриллиантовым жилетом и даже порассуждаю о его происхождении, раз уж мистер Хабит (еще более любознательный, нежели хоббит) не только выражает мне свое восхищение, но еще и спрашивает, откуда взялось такое сокровище. Правда, не кажется ли Вам, что по отношению к „будущим исследователям моего творчества“ это немножко нечестно? Ни с того ни с сего вот так сразу облегчить им жизнь — не значит ли отнять у них сам смысл их существования?
Тем не менее в том, что касается главного хабитского вопроса, никакой опасности нет: я ровным счетом ничего не помню ни о названии, ни о происхождении главного героя. Разумеется, я волен строить какие-то свои предположения, однако подобные догадки кажутся мне ничуть не авторитетнее измышлений „будущих исследователей“, так что эту забаву я оставляю для них.
В Южной Африке я родился, об исследованиях Африки прочел не одну книгу. А уж сказок, подлинных и настоящих, начиная примерно с 1896 года я прочел еще больше. Гораздо больше. Потому оба факта, представленных мистером Хабитом, кажутся мне весьма значимыми.
Но таковы ли они на самом деле?
Что-то не припоминаю, чтобы мне лично встречались наяву пушистые пигмеи (будь то в какой-либо книге или просто при лунном свете); в книгах, изданных до 1904 года, никаких хоббитов-вампиров мне тоже не попадалось. Подозреваю, что эти два хоббита — лишь случайные омофоны, и очень доволен, что не синонимы (хотелось бы верить!). Кроме того, протестую: мой хоббит жил вовсе не в Африке, и вовсе он не покрыт шерстью, — только ступни у него мохнатые. И на кролика он ни чуточки не похож. Он — преуспевающий, упитанный молодой холостяк, обладатель независимого дохода. Обзывать его „мерззким крольчишкой“ мог только вульгарный тролль, точно так же, как эпитет „крысеныш“ был подсказан исключительно гномьей злобой; и то и другое — намеренные оскорбления, намекающие на небольшой рост и мохнатые ступни. Кстати, они отличались не меньшим изяществом, нежели его длинные, ловкие пальцы…
Что до сказки в целом, то многое в ней, как совершенно верно предполагает неизвестный мне мистер Хабит, заимствовано из эпоса, мифологии и волшебных сказок (предварительно переосмысленных). Впрочем, созданы были эти волшебные сказки не викторианцами, за исключением разве что Джорджа Макдональда. Одним из самых ценных для меня источников является как раз „Беовульф“; хотя вряд ли я сознательно вспоминал о нем, когда писал эпизод с похищением чаши. Трудно было на этом этапе измыслить какой-то иной поворот сюжета; полагаю, что автор „Беовульфа“ сказал бы по этому поводу то же самое.
Ни на какой другой книге моя история напрямую не основана, кроме одной, да и та еще не опубликована: это „Сильмариллион“ — хроники эльфов, на которую в тексте то и дело встречаются ссылки.
Но все это так, предисловие.
Зато теперь, когда меня заставили взглянуть на приключения мистера Бильбо Бэггинса как на объект изысканий неких будущих „исследователей“, я сознаю, как много труда еще потребуется.
Во-первых, вопрос номенклатуры.
Имена гномов, равно как и имя мага, заимствованы из „Старшей Эдды“. Имена хоббитов — из Самоочевидных Источников, вполне для них подходящих. Вот полный список самых состоятельных хоббитских семейств: Бэггинсы, Боффины, Болджеры, Брэйсгердлы, Брандибаки, Берроузы, Чаббы, Граббы, Хорнблоуэры, Праудфиты, Саквилли и Туки. Правда, дракону в качестве имени — или, скорее, псевдонима — досталась форма прошедшего времени древнегерманского глагола smugan, „протискиваться в дыру“, — скажем так, филологическая шуточка не самого высокого пошиба. Остальные принадлежат Древнему и Эльфийскому миру и модернизации не подвергались…
Вы спросите: а почему dwarves (гномы)? Ведь грамматика предписывает dwarfs; филология же подсказывает, что исторически правильной формой было бы dwarrows. Признаюсь, здесь я на самом деле попросту свалял дурака. Слово dwarves хорошо сочетается с elves (эльфы); и, как бы то ни было, слова elf gnome, goblin, dwarf — это лишь приблизительный перевод древнеэльфийских названий для существ несколько иного рода и свойств. Так что гномы из „Хоббита“ не совсем то же самое, что гномы известных нам преданий и легенд. Верно, имена у них скандинавские; но это лишь уступка редакторам. Слишком многие имена из языков, соответствующих искомому периоду, звучали бы устрашающе. Гномье наречие отличается крайней сложностью и неблагозвучием. А вот язык хоббитов чрезвычайно походил на английский. Их фамилии за небольшим исключением так же широко известны на нашем острове, как и в Хоббитоне и в Приречье…
Во-вторых, руны. Те, которыми пользовались Торин и К, составляют алфавит из 32 знаков (при желании могу выслать Вам полный список), сходный с рунами англосаксонских надписей, однако не вполне с ним совпадающий. Вне всякого сомнения, эти два алфавита исторически связаны. Алфавит Феанора, употребляемый в то время повсеместно, был эльфийского происхождения. Он использован в проклятии, начертанном на горшке с золотом — на картинке с изображением логова дракона Смога, но во всех остальных случаях — переведен. Могу даже предъявить Вам факсимиле письма, оставленного на каминной полке господина Бэггинса…
А загадки… Что ж, здесь еще предстоит поработать — с источниками и параллелями. Я нимало не удивлюсь, если притязания хоббита и Голлума на авторство каких бы то ни было из них окажутся опровергнуты…
Напоследок подкидываю будущему „исследователю“ проблемку.
Повесть сочинялась с двумя перерывами, каждый длиной приблизительно в год: угадайте, в каких местах работа приостанавливалась? Впрочем, наверняка это обнаружится в любом случае. Но мне тут вдруг вспомнилось: когда дракон Смог поддался льстивым речам хоббита, то он тут же подумал: „Вот старый дурень!“ Боюсь, что мистер Хабит (как и Вы) уже сказал про себя нечто похожее.
Но, согласитесь, искушение было велико.
С почтением —
Дж. Р. Р. Толкин»[214].
Итак, «Сильмариллион».
«Ни на какой другой книге моя история напрямую не основана».
«Сильмариллион» — вот книга книг, основа всего. Она находилась в центре всех устремлений Толкина. Создать мифологию Англии, самую настоящую мифологию! Несбыточная идея? Что ж, может быть. Но сумел же финский лингвист Элиас Лённрот (кстати, по образованию врач) создать поистине национальный эпос «Калевала». Он собрал его из народных песен, из обрывков сказаний, сказок, из пословиц, народных загадок, лирических рун, почему же нельзя на основе подобных сказаний и мифов, построенных пусть даже на интуитивном ощущении тех или иных признанных архетипов, создать эпос Англии? Все эти архетипы работают сами по себе, главное — подобрать к ним ключ. Толкин искал этот ключ в языке. Ведь все уже существовало: и языческие ирландские сиды, и острова Блаженных, и король Артур, и всяческие братства и союзы, и нескончаемое противостояние Тьмы и Света, а главное — маги и волшебники! Эпос, создаваемый Толкином, должен был включить в себя всё это. Именно — всё. Возможно, Толкин сам еще не отдавал себе отчета в масштабности задуманного, но работал он упорно и тщательно.
Какие сюжеты в итоге сформировали «Сильмариллион»?
Да вот они — можно перечислить:
АЙНУЛИНДАЛЭ (Музыка Айнуров).
ВАЛАКВЭНТА (Рассказ о валарах и майарах, как о них повествуют Книги знаний Эльдаров).
О ВАЛАРАХ.
О МАЙАРАХ.
О ВРАГАХ.
КВЭНТА СИЛЬМАРИЛЛИОН (Повесть о Сильмариллах).
О НАЧАЛЕ ДНЕЙ.
ОБ АУЛЕ И ИАВАННЕ.
О ПРИХОДЕ ЭЛЬФОВ И ПЛЕНЕНИИ МЕЛЬКОРА.
О ТИНГОЛЕ И МЕЛИАН.
ЭЛЬДАМАР И ПРИНЦЫ ЭЛЬДАЛИЭ.
О ФЕАНОРЕ И ОСВОБОЖДЕНИИ МЕЛЬКОРА.
О СИЛЬМАРИЛЛАХ И НЕПОКОЕ НОЛДОРОВ.
О ЗАТМЕНИИ ВАЛИНОРА.
ОБ ИСХОДЕ НОЛДОРОВ.
О СИНДАРАХ.
О СОЛНЦЕ, ЛУНЕ И СОКРЫТИИ ВАЛИНОРА.
О ЛЮДЯХ.
О ВОЗВРАЩЕНИИ НОЛДОРОВ.
О БЕЛЕРИАНДЕ И ВЛАДЕНИЯХ В НЕМ.
О НОЛДОРАХ В БЕЛЕРИАНДЕ.
О МАЭГЛИНЕ.
О ТОМ, КАК ЛЮДИ ПРИШЛИ НА ЗАПАД.
О РАЗОРЕНИИ БЕЛЕРИАНДА И ГИБЕЛИ ФИНГОЛФИНА.
О БЕРЕНЕ И ЛУТИЭН.
О ПЯТОЙ БИТВЕ: НИРНАЭФ АРНОЭДИАД.
О ТУРИНЕ ТУРАМБАРЕ.
О ГИБЕЛИ ДОРИАФА.
О ТУОРЕ И ПАДЕНИИ ГОНДОЛИНА.
О ПУТЕШЕСТВИИ ЭАРЕНДИЛЯ И ВОЙНЕ ГНЕВА.
АКАЛЛАБЕТ (ПАДЕНИЕ НУМЕНОРА).
О КОЛЬЦАХ ВЛАСТИ И ТРЕТЬЕЙ ЭПОХЕ (Повесть, завершающая предания Предначальной и Второй эпох).
Языки, созданные Толкином, нуждались в носителях.
А носители изобретенных Толкином языков нуждались в истории.
Вот Толкин и продолжал создавать и языки, и носителей, и их историю.
«Был некогда майар Саурон, которого синдары Белерианда звали Гортхаур…»
Так начинается повесть «О Кольцах Власти и Третьей эпохе». Тот, кто читал «Властелина Колец», сразу почувствует этот нежный, тянущийся из вечности золотой дым времен. Мелькор склонил майара Саурона к себе на службу, и Саурон в итоге стал самым могучим слугой Врага — самым опасным к тому же, ибо мог принимать любое обличье и долгое время казаться прекрасным и благородным.
«Когда рухнул Тангородрим и Моргот был низвергнут, Саурон принял благородный облик, и изъявил покорность Эонвэ, герольду Манвэ, и отрекся от всех лихих своих деяний. И говорят иные, что вначале это не была ложь, что Саурон воистину раскаялся, устрашенный падением Моргота и безмерным гневом Западных Владык. Но не во власти Эонвэ было даровать прощение равным себе, и он велел Саурону вернуться в Аман и там ждать решения Манвэ. Устыдился тогда Саурон и не пожелал возвращаться униженным и, быть может, получить из рук валаров веление долго служить им, доказывая свою добрую волю; слишком велика была его власть под рукой Моргота, чтобы сейчас терпеть и покоряться. Потому скрылся он в Средиземье и вновь обратился к злу…»[215]
«Сильмариллион» — книга бесконечная. В итоге она такой и оказалась, не вместившись, по крайней мере, в жизнь автора. Да она и не могла, как любая истинная мифология, вместиться в жизнь одного человека.
«Много колец создали эльфы; Саурон же тайно сотворил Единое, что повелевало всеми прочими кольцами, и мощь их была связана с его собственной мощью. Много сил и воли вложил Саурон в Единое Кольцо, ибо мощь эльфийских колец была велика, и кольцо, что правит ими, должно было обладать небывалым могуществом; а сковал его Саурон на Огненной Горе в Стране Мрака. И пока Кольцо находилось при нем, ему были открыты все деяния, свершенные с помощью младших колец, и мог он зрить самые мысли тех, кто владел этими кольцами, и управлять ими».
Вот основа «Властелина Колец». И она с самого начала была вложена в «Сильмариллион» — в поразительную повесть «О Кольцах Власти и Третьей эпохе»:
«Но не так легко было провести эльфов. Едва надел Саурон на палец Единое Кольцо, как они уже знали о том и прозрели, что Саурон жаждет поработить их самих и все их творения. И, исполнясь страха и гнева, эльфы скрыли свои кольца. Саурон же, узнав, что выдал себя и что эльфы не были обмануты, пришел в ярость и объявил им войну, требуя, чтобы все кольца были отданы ему, ибо без его мастерства и совета никогда не смогли бы их сделать эльфийские мастера. Но эльфы бежали пред ним; и три кольца им удалось спасти и сохранить. И то были три кольца, созданные позже прочих, и они обладали величайшей силой. Звались они Нарья, Нэнья и Вилья — Кольца Огня, Воды и Воздуха, украшенные рубином, адамантом и сапфиром; и Саурон желал овладеть ими больше, чем всеми прочими эльфийскими кольцами, ибо те, кто хранил их, могли отвратить распад, что несет само время, и отсрочить увядание мира…»
Отвратить распад…
Отсрочить увядание мира…
Это ли не величайший сюжет?!
«С тех пор война между эльфами и Сауроном никогда не затихала; и Эрегион пришел в запустение, и Келебримбор погиб, и врата Мории захлопнулись. В те дни Элронд Полуэльф основал твердыню Имладрис, что люди называли Лесным Ущельем; и твердыня та простояла долго. Но Саурон захватил все прочие Кольца Власти и передал их прочим народам Средиземья, надеясь таким образом привести под свою руку всех, кто жаждал тайной силы, не дарованной изначально его расе. Семь колец он отдал гномам, людям же — целых девять, ибо они в том деле, как и во многих других, охотнее всего шли ему навстречу. Те кольца, что были подвластны Саурону, он извратил. И легло на них проклятие, и предавали они всех, кто ими владел. Только гномы оказались слишком неподатливы и упрямы, чтобы их покорить; они не терпели над собою чужой власти, и трудно было проникнуть в их сердца и обратить их к тьме. Кольца они использовали лишь для того, чтобы добывать богатства; в душах их зародилась всепоглощающая жажда золота, и много лиха принесло это впоследствии, к вящей выгоде Саурона. Говорят, что каждой из Семи Сокровищниц гномьих царей древности положило начало золотое кольцо; но все эти сокровищницы давным-давно разграблены, драконы разорили их, и иные кольца сгинули в драконьем пламени, а иные Саурону удалось вернуть…
Людей куда легче было уловить в сети. Те, кто владел девятью кольцами, сами обрели могущество, стали королями, витязями и чародеями. Стяжали они славу и великое богатство, но все это обернулось лихом. Они, казалось, обрели истинное бессмертие, но постепенно жизнь для них становилась непереносимой. Они могли, если желали, бродить незримо, недоступными для глаз существ поднебесного мира, но слишком часто видели они перед собой только призраки и ловушки, сотворенные Сауроном. И один за другим, раньше или позже, они становились рабами своих колец и подпадали под власть Единого Кольца Саурона. И стали они навеки невидимы, Назгулами стали они, Призраками Кольца, ужаснейшими слугами Врага; тьма следовала за ними, и крик их был голосом смерти…»
Можно еще и еще цитировать «Книгу утраченных сказаний», но из приведенного выше текста уже видно, что подобных сюжетов в «Сильмариллионе» великое множество, весь текст рукописи соткан из них. И изложены «утраченные сказания» языком прихотливым, чрезвычайно восхищавшим «инклингов», правда, к сожалению, отпугивавшим издателей своей сложностью.
«Множились орки, а далеко на юге и на востоке вооружались дикари. И тогда среди нарастающего страха и слухов о войне (вот он, отзвук разговоров того времени. — Г. П., С. С.) сбылось пророчество Элронда и Единое Кольцо отыскалось вновь — волей случая, столь странного, что и Митрандир не мог предвидеть его; осталось оно сокрытым и от Саурона, и от Курунира. Ибо задолго до того, как они начали поиски Кольца, оно покинуло Андуин, и еще в те годы, когда в Гондоре правили короли, нашло его существо из племени рыбаков-хафлингов, обитавших близ Реки. Вместе с этим существом Кольцо исчезло в сумеречном укрывище у самых корней Мглистых Гор. Там оно и обитало, покуда в год удара на Дол-Гулдур не отыскал его странник, спасающийся под землей от орков; и с ним Кольцо отправилось далеко, в страну перианов, Малого Народца, хифлингов, живущих на западе Эриадора. До того дня они почти не занимали людей и эльфов, и ни Саурон, ни Мудрые — кроме Митрандира — не находили им место в своих помыслах.
Теперь, благодаря удаче и своей бдительности, Митрандир узнал о Кольце, опередив Саурона. Но им владели сомнения — как к Кольцу подступить? Слишком велика была лиходейская мощь этого Кольца, чтобы кто-то из Мудрых мог владеть им, если только, подобно Куруниру, он не желал стать тираном и новым Черным Властелином; но нельзя было и вечно скрывать Кольцо от Саурона, при этом всего искусства эльфов не хватило бы, чтобы его уничтожить. С помощью северных дунаданов Митрандир бдительно хранил край перианов и ждал своего часа. Но слуги Саурона были вездесущи. Вскоре Враг услыхал о Едином Кольце, вожделенном им более всего на свете, и выслал назгулов добыть его. Тогда вспыхнула война…»
«Те же, кто видел деяния тех дней, деяния невиданные и доблестные, рассказывали повсюду предания о Войне за Кольцо и о том, как она закончилась победой нежданной и все же задолго до того предвиденной в скорби. Поведаем здесь, как на Севере явился наследник Исильдура и принял обломки меча Элендиля, и они были перекованы в Имладрисе; и вышел он на войну, великий витязь и вождь людей. То был Арагорн, сын Араторна, тридцать девятый потомок Исилдура по прямой линии, более схожий с Элендилом, чем все его предки. Была великая битва в Рохане, пал изменник Курунир, и был разрушен Айсенгард; сошлись два войска под стенами Гондора, и канул во тьму Владыка Моргула, Полководец Саурона; и наследник Исильдура повел войско Запада к Черным Вратам Мордора. В той последней битве был Митрандир, и сыны Элронда, и князь Рохана, и витязи Гондора, и наследник Исильдура с северными дунаданами. Грозили им поражение и гибель, и вся доблесть их чуть было не пропала втуне, ибо Саурон был слишком силен. Но в тот час сбылось предсказанное Митрандиром, и когда Мудрые оказались бессильны, помощь пришла из рук слабых. Ибо, как поется отныне во множестве песен, перианы, Малый Народец, обитатели холмов и лужаек, принесли им спасение. Фродо Полурослик, с одобрения Митрандира, принял на себя бремя и один, со слугой, прошел через тьму и опасность, достиг, вопреки Саурону, Роковой Горы и там вверг Кольцо в то самое Пламя, в котором оно родилось; так Кольцо было уничтожено и сгинуло лихо его…»
Вот, собственно, и всё. Продолжение «Хоббита» всеми этими историями было попросту предопределено. Оставалось только записать его так, чтобы оно заинтересовало многих. Именно — многих. Притом записать нужно было не теряя чувства вкуса и меры. Последнее для Толкина было чрезвычайно важно. Можно судить об этом по письму, в котором, откликаясь на просьбу издателя, Толкин высказывается о романе своего друга Клайва С. Льюиса «За пределы безмолвной планеты», как раз подвергшемся уничижительной оценке некоего рецензента.
«4 марта 1938 г. Нортмур-роуд, 20, Оксфорд.
Уважаемый мистер Анвин! Льюис — мой большой друг, мы с ним, как говорится, родственные души (две его рецензии на „Хоббита“ — тому подтверждение). В силу этого я понимаю его лучше многих, хотя при этом, возможно, мы часто оцениваем свои труды в несколько розовом свете.
Но Вы спросили моего мнения — вот оно.
Я прочел роман Льюиса еще в рукописи и до того увлекся, что просто не мог отложить его в сторону, пока не дочитал до конца. Мое первое критическое замечание сводилось к тому, что роман слишком короткий. Я и по сей день считаю, что этот упрек мой справедлив в силу как практических, так и эстетических соображений. Прочие критические замечания касательно стиля (Льюис часто склонен к довольно неуклюжим, можно сказать, вымученным пассажам), нестыковок в сюжете и филологии с тех пор были учтены, и соответствующие поправки внесены, к полному моему удовлетворению. Автор сохраняет отдельные образчики лингвистического творчества, которые мне лично не по душе, но это всего лишь вопрос вкуса. В конце концов, Ваш рецензент счел и мои вымышленные имена, с любовью и тщанием продуманные, „зубодробительными“. В целом лингвистические построения и филология у Льюиса более чем хороши. Все, что касается малакандрийского языка и поэзии, просто превосходно, исключительно интересно и намного превосходит то, что обычно получаешь от путешественников по неизведанным пределам. Обычно языковые трудности или попросту игнорируют или обходятся стряпней на скорую руку. А здесь все не только достоверно, но полно глубокого смысла.
Отзыв Вашего рецензента меня расстроил.
Первым моим побуждением было съязвить, что человек, употребляющий слово „чухня“, неизбежно сочтет такого рода литературу именно „чухней“. Но будем благоразумны. Я, конечно, понимаю: для того, чтобы обладать хотя бы умеренной рыночной ценностью, подобная книга должна пройти испытание с точки зрения внешнего впечатления. Сам я большой поклонник этого жанра и даже „Землю под Англией“ прочел не без удовольствия (притом что это — образчик не из лучших и во многом мне антипатичен). Мне показалось, что роман „За пределы безмолвной планеты“ выдержал указанное испытание вполне успешно. Первые главы и описание способов перемещения в пространстве или во времени, как правило, самое слабое место таких историй, но здесь они достаточно хорошо проработаны; хотя следовало бы отвести больше места приключениям на Малакандре, чтобы оправдать и уравновесить вводную часть. Само собой, тема трех отдельных разумных видов (хнау) требует уделить больше внимания именно третьему виду — пфифльтриггам. Кроме того, с художественной точки зрения центральный эпизод — визит в Эльдилорн — подан слишком уж быстро. И вообще, по чести говоря, не слишком ли коротка книга для такого сюжета?
Следовало бы отметить, что для более интеллектуального читателя данная история заключает в себе множество философских и мифологических скрытых смыслов, что несказанно увеличивает ее значимость, нимало не умаляя внешней „авантюрности“. Слияние vera historia с mythos, на мой взгляд, просто неподражаемо. Разумеется, есть там и элементы сатиры, неизбежные в любом рассказе о путешествии, есть и отголоски сатиры на другие, на первый взгляд схожие произведения „научной фантастики“ — как, например, ссылка на представление о том, что высший разум непременно должен сочетаться с жестокостью. А в основе всего лежит миф о Падении Ангелов (и о падении человека на нашей безмолвной планете); и центральный образ — скульптура с изображением планет, на которой знак Ангела нашего мира стерт.
У меня в голове не укладывается, как можно говорить, будто все это в зубах навязло, разве что а) человек считает данный конкретный миф „чухней“, не стоящей внимания взрослого (даже в качестве мифа); или б) использование мифа либо не оправданно, либо, возможно, неудачно. Уарса, конечно, никак не подходит под определение „милого и доброго научного боженьки“, но представляет собою нечто настолько разительно отличное, что отличие, похоже, так и осталось незамеченным, а именно: он — ангел. Однако даже в качестве „доброго и милого научного боженьки“, на мой взгляд, он выгодно отличается от верховных владык других историй такого рода. Имя его не придумано, но заимствовано из Бернарда Сильвестра; кажется, это объясняется в конце книги (не то чтобы я считал, будто эта высокоученая подробность ужасно важна, но она имеет право на существование наравне с псевдонаучной ученостью).
В заключение могу заметить, что, назвав пфифльтриггов „рабочими“, Ваш рецензент снова не вник в суть и был введен в заблуждение современными представлениями, в данном случае совершенно неприменимыми.
Но, кажется, я сказал уже больше чем достаточно.
Я, например, обнаружив эту книгу в продаже, купил бы ее за любую цену и во всеуслышание рекомендовал бы ее как „триллер“, написанный (как ни странно и вопреки всему) интеллектуалом. Но я с грустью сознаю, что, судя по всем моим попыткам разжиться подходящим чтивом, даже через платный межбиблиотечный абонемент, вкусы мои нормальными не назовешь»[216].
Вряд ли Толкин в то время знал, что именно вырастет из смутного пока замысла «Властелина Колец», но он задумал новый роман прежде всего как книгу для взрослых. Творцы не всегда помнят о том, что великие герои приходят из обыкновенных малых народцев, обитателей равнин, а взрослые читатели — из детей, постепенно взрослеющих, уходящих из детства.
Кстати, о детстве, тайнах и авантюрах.
В середине «Хоббита» есть сценка, которая никак не используется в дальнейшем развитии сюжета и не имеет никакого другого очевидного объяснения, кроме как любовь к тайне. Бильбо и гномы собираются переправляться через реку в Лихолесье, и тут, откуда ни возьмись, является олень. Он одним прыжком перемахивает неширокую реку и в прыжке задевает копытом толстяка Бомбура. Тот падает в реку и начинает тонуть. Король гномов Торин ранит оленя стрелой, и тот скрывается в лесу.
Этим дело, однако, не ограничивается.
«Вдруг вдалеке запели охотничьи рога, и послышался собачий лай. Впечатление было такое, будто с севера по тропе приближается охота. Гномы притихли, настороженно прислушиваясь. Бомбур спал, его широкое лицо расплылось в улыбке — толстяку явно снилось что-то приятное. Внезапно из мрака выскочила снежно-белая лань, а за ней детеныши. Животные словно светились. Прежде чем Торин успел открыть рот, трое гномов схватились за луки. Но ни один выстрел не достиг цели»[217].
Мы так и не узнаем, что это были за волшебные звери и кто за ними охотился.
Можно, конечно, вспомнить средневековую легенду о святом Юлиане-странноприимце, который в молодости был страстным охотником, но потом раскаялся и всю жизнь старался искупить грехи молодости. А еще похожая таинственная охота эльфийского короля описывается в «Сэре Орфео», которого переводил на современный английский язык Толкин, однако там все же нет удивительных оленей, напоминающих о христианской легенде. А сам Толкин в «Хоббите» не дает никаких объяснений.
В январе 1939 года, в тревожное, отдающее близкой грозой время, оксфордского дона Толкина спросили, не согласится ли он в случае чрезвычайного положения в стране (то есть в случае войны) работать в шифровальном отделе министерства иностранных дел. Толкин согласился и, по всей видимости, начиная с 27 марта посещал некий четырехдневный курс обучения в министерстве. Но в октябре того же года, когда война уже началась, Толкину сообщили, что на данный момент его услуги не требуются.
Глава седьмая
ГЕНИЙ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ИСХОДОМ
Эдит и Рональд Толкины любили фотографироваться и бережно хранили снимки в специальных альбомах, отмечал Хэмфри Карпентер. На этих снимках Толкин — типичный англичанин худощавого сложения и невысокого роста. Ничего необычного ни в лице, ни в манере одеваться. Только разбогатев, Толкин стал позволять себе яркие цветные жилеты, сшитые по заказу, но в целом не терпел никакой экстравагантности. Для него и других «инклингов» показное эстетство, распространенное в Оксфорде 1920–1930-х годов, ассоциировалось с недостаточной мужественностью. Пустым претензиям лучше всего противостоит отсутствие претензий. К сути человека одежда отношения не имеет — отсюда, наверное, твидовый пиджак Толкина, теплые фланелевые брюки, галстук, не всегда подобранный по цвету, крепкие башмаки, удобные для ходьбы пешком и велосипедных поездок, короткая стрижка, плащ и шляпа, унылую обыкновенность которых одобрил бы опытный разведчик.
Зато Толкин с детства любил облака, деревья, травы.
Природа, изуродованная человеком, приводила его в ярость.
В 1933 году он возил семью в Бирмингем к родственникам, в знакомые по детству места. «Не стану говорить, — записал он в своем дневнике, — как больно мне было смотреть на Холл-Грин (когда-то в этой деревеньке братья Толкины в лавке у беззубой старухи покупали нехитрые сладости. — Г. П., С. С.) — ныне огромный бестолковый пригород, изрезанный трамвайными путями, где я попросту заблудился. В конце концов, я все-таки очутился среди любимых тропинок моего детства — точнее, того, что от них осталось, — и проехал мимо калитки нашего домика, ныне — маленького островка в море красного кирпича. Старая мельница все еще цела, и дом миссис Хант все еще выходит на шоссе в том месте, где оно поворачивает в гору; однако перекресток за прудом, ныне обнесенным забором, где дорожка, вдоль которой росли колокольчики, пересекалась с другой, ведущей к мельнице, теперь превратился в опасную дорожную развязку, кишащую машинами. На месте дома Белого Людоеда, который так будоражил наше детское воображение, выросла автозаправка, и большая часть Шорт-авеню и вязы между ней и перекрестком исчезли. Как я завидую тем, чьи любимые, памятные места детства не обезображены столь жуткими, на диво уродливыми переменами!»[219]
Конечно, выход «Хоббита» изменил образ жизни Толкина.
Теперь он мог себе кое-что позволить, впрочем, пока не так уж много.
Но он надеялся на вполне возможные последующие публикации: на «Книгу утраченных сказаний» («Сильмариллион»), на небольшие повести, написанные недавно. Другое дело, что в «Сильмариллионе», как и в этих повестях, не упоминались хоббиты, а читатели ждали продолжения приключений именно Бильбо Торбинса с его приятелями. Попытки Толкина навязать «Книгу утраченных сказаний» издателям приводили их чуть ли не в ужас. Но отказывали они настойчивому автору вежливо. Даже очень вежливо. «В „Сильмариллионе“ — масса великолепных материалов, — писал Толкину Стэнли Анвин в декабре 1937 года. — Собственно говоря, это не столько книга сама по себе, сколько золотые копи, которые предстоит разрабатывать, сочиняя новые книги вроде „Хоббита“. Я все еще надеюсь, что Вы вдохновитесь на то, чтобы написать еще одну книгу о хоббите»[220].
К сожалению, среди рукописей, переданных Анвину, единственно цельной (по крайней мере законченной) выглядела длинная поэма «Жеста о Берене и Лутиэн». Рецензент отозвался о ней безжалостно; тогда Толкин прислал Анвину прозаическую версию поэмы, но и она явно не годилась для публикации. Издателю хотелось получить от оксфордского дона по-настоящему перспективную (коммерчески, конечно) рукопись, он не хотел рисковать там, где ничто не обещало успеха. Толкин это понимал и проявлял вполне разумное смирение. Он даже демонстрировал готовность прислушиваться к издательским советам, но не забывал снова и снова напоминать о своем «Сильмариллионе». Вода камень точит.
В конце концов, Толкин взялся за продолжение книги о хоббитах.
Вот кто такой этот хоббит? Да просто преуспевающий молодой холостяк, обладатель независимого дохода — это Толкин сам подчеркивал. Само слово «хоббит», возможно, было каким-то образом (ассоциативно) связано с героем известного в те годы романа «Бэббит» Синклера Льюиса (1885–1951) — нобелевского лауреата за 1930 год. Бэббиту от рождения было присуще мелкобуржуазное самодовольство, которым могли гордиться и жители Хоббитании. Не случайно эльф Гаральд во «Властелине Колец» напоминал хоббиту Фродо: «Хоббитания не ваша. Жили в ней до вас, будут жить и после, когда все вы, хоббиты, станете уже просто сказкой. Вы тут, конечно, отгородились от мира, но мир-то от вас не отгораживался!»[221]
В декабре 1937 года Толкин набросал на бумаге первую главу будущей книги — «Долгожданные гости»[222]. В этой главе, точнее, в ее наброске, вновь появилось волшебное кольцо. Бильбо Торбинс собирает гостей на свой день рождения, но в какой-то момент надевает себе на палец отнятое им у Голлума кольцо. Причина такого эффектного «исчезновения» героя вполне прозаична: у Бильбо закончились все деньги и драгоценности, и он готов отправиться в новое путешествие.
Но Толкин пока совершенно не представлял, куда может завести теперь уже не столь преуспевающего и не такого молодого холостяка жажда новых приключений. К тому же до этого Бильбо Торбинс вроде бы никуда не собирался.
Пришлось вводить в текст еще одного хоббита.
Поначалу Толкин планировал сделать его сыном Бильбо.
Звали этого сына (значит, Бильбо уже не был таким уж одиноким холостяком) Бинго. Так дети Толкина называли дружную семью своих игрушечных мишек коала. Но куда мог отправиться герой с таким домашним именем? Да и кольцо… Ох уж это кольцо… «Откуда оно взялось? — записывал Толкин в свою рабочую тетрадь. — Некромант? Но рано или поздно грядет расплата. Придется утратить либо кольцо, либо себя»[223].
Толкин переписал начальную главу, по-прежнему называя героя Бинго (Бинго Болгер-Бэггинс), но теперь это был уже не сын Бильбо Торбинса, а его племянник. И вот этот-то текст, отстучав двумя пальцами на машинке, Толкин отослал в начале февраля в издательство «Аллен энд Анвин», попросив показать написанное Рейнеру — сыну Стэнли Анвина, сыгравшего столь большую роль в истории напечатания «Хоббита».
Рейнеру глава понравилась.
Ответ Толкина издателю был самокритичен:
«Я бесконечно благодарен Вашему сыну; он очень меня обнадежил. Однако для меня писать первые главы всегда проще простого, а вот сейчас, когда нужен настоящий текст, работа заглохла. И времени мало, и рождественские каникулы выдались просто кошмарные. К тому же я так много растратил себя на первого „Хоббита“, что сейчас чрезвычайно трудно отыскать в этом мире хоть что-нибудь новенькое»[224].
Но даже в этом письме Толкин напомнил издателю о «Сильмариллионе». Конечно, не впрямую — он был слишком воспитан для этого. Просто вот он, Толкин, рекомендует издателю своего друга Клайва Льюиса, близкого ему по духу (курсив наш. — Г. П., С. С.) автора. В эти годы Льюис был известен скорее как религиозный писатель. Его книги «Возвращение пилигрима» и «Аллегория любви» были с интересом встречены критикой. Заканчивая длинное письмо, Толкин не без тайного умысла указывал: «Каждый из нас предполагал написать по „триллеру с перемещением“: про путешествие в Пространстве (роман Льюиса „За пределы безмолвной планеты“) и про путешествие во Времени (видимо, „Сильмариллион“. — Г. П., С. С.), чтобы в каждом раскрывался Миф. Но путешествие в Пространстве (роман Льюиса) закончено, а вот путешествие во Времени из-за моей медлительности и нерешительности все еще, скажем так, пишется»[225].
Следующая глава новой книги называлась «Трое уже компания».
Бинго с приятелями — кузенами Одо и Фродо (вот где в истории про хоббитов впервые появляется это имя!) все-таки пускается в путь. В главе много общего с третьей главой окончательного текста, в которой хоббиты под ночными звездами пересекают чудесные поля и перелески родной Хоббитании[226]. Стоит напомнить, что когда-то перед Толкином уже мелькали имена, похожие на имя Фродо. Скажем, среди героев северного эпоса «Беовульф», который Толкин знал едва ли не наизусть: Фрода из рода Хатобардов. Знал он, конечно, и историю некоего Фрото, искателя огромного клада, надежно упрятанного «среди холмов, под охраной змея, извивающегося кольцами»[227].
В марте Толкин писал Стэнли Анвину:
«Продолжение „Хоббита“ продвинулось до конца третьей главы. Но такие истории имеют обыкновение выходить из-под контроля — вот и эта вдруг приняла непредвиденный оборот. Не знаю, удобно ли беспокоить сейчас вашего сына, но я был бы рад узнать его мнение о написанном. И если он не прочь читать рукопись „выпусками“ — добро пожаловать. Моему Кристоферу и мистеру Льюису рукопись так нравится, что они говорят: получается лучше, чем в „Хоббите“. Но, конечно, Рейнеру с ними соглашаться необязательно»[228].
Выход из-под контроля выразился, в частности, в эпизоде появления Черных Всадников — посланцев Саурона. Да и сам Саурон в любой момент мог мрачно выглянуть из романтической дымки. «Отсюда, разумеется, вовсе не следует, что ключевая мысль этой истории — продукт военного времени, — писал позже Толкин. — К ней я пришел в одной из первых глав. Но на самом деле эта мысль присутствует в зародыше, с самого начала, хотя в „Хоббите“ я на сознательном уровне еще не представлял себе, что такое означает Некромант (кроме разве вечно проявляющегося зла), равно как и его связи с Кольцом. Но ежели писать продолжение, отталкиваясь от финала „Хоббита“, думаю, Кольцо неизбежно послужило бы необходимой связкой. А ежели при этом задумаешь крупномасштабное произведение, Кольцо тут же обретет заглавную букву; и сей же миг возникнет и Темный Властелин»[229].
Довольно быстро Толкин написал и следующую главу.
Машинописный текст он отправил юному Рейнеру Анвину. Сыну издателя глава «Напрямик по грибы» понравилась, хотя он посетовал на слишком длинные, на его взгляд, «хоббитские разговоры». Правда, и у самого Толкина тогда еще не было какого-то определенного представления о будущей книге, да и повседневность брала свое. Помимо чисто преподавательской рутины — лекции, административные обязанности, экзаменационные работы, — на него свалилась еще одна напасть: у младшего сына Кристофера обнаружилось нечто вроде порока сердца. Он вынужден был неделями лежать в постели на спине. К счастью, болезнь эта не оставила особенных следов, и впоследствии Кристофер даже служил в армии.
Но работа над рукописью застопорилась.
«Уважаемый мистер Ферт! — писал Толкин в июле 1938 года своему редактору. — В следующем году у меня, кажется, появятся досуг и настроение для новой книги, а сейчас срочная работа, причитающаяся с „держателя гранта“, которую следует завершить к сентябрю, поглотила все мое время и иссушила воображение. Таким образом, продолжение к „Хоббиту“ не продвинулось ни на шаг. Даже интерес я к нему утратил и понятия не имею, что делать дальше. Начнем с того, что вообще-то никакого продолжения к „Хоббиту“ изначально не предполагалось. „Бильбо жил весьма счастливо до скончания дней своих, а дней ему было отмерено без числа и счета“ — эта фраза кажется мне почти непреодолимым препятствием к созданию убедительной связки между книгами. Более того, практически все подходящие „мотивы“ я уже упихал в первую книгу, так что продолжение окажется либо более „разжиженным“, либо в чем-то придется повторяться. В-третьих: лично меня несказанно забавляют сами хоббиты как таковые, я могу до бесконечности обдумывать, как они едят, как отпускают свои, прямо скажем, дурацкие шуточки, но, как выясняется, даже самые преданные мои поклонники, такие как мистер Льюис и Рейнер Анвин, отнюдь не бесконечно терпеливы»[230].
В эти дни произошло одно печальное событие. Умер друг Толкина, бывший коллега по Лидсу Э. В. Гордон. С ним Толкин готовил в свое время к печати «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря». Смерть его отразилась на всей повседневной работе Толкина. «Он умер в разгар „онор-модерейшнз“, — с печалью писал Толкин Стэнли Анвину, — мне теперь одному приходится разбираться с сочинениями студентов»[231].
Зато мысли по поводу новой книги начали наконец принимать более определенную форму. Толкин даже набросал диалог между Бинго и эльфом Гилдором, который объяснил ему наконец природу Кольца. (В окончательном варианте «Властелина Колец» объяснения эти отданы Гэндальфу.) Как рассказал эльф, кольцо Бинго было одним из тех, которые создал Некромант. Впоследствии он его утратил, но теперь вновь пытается отыскать. А Черные Всадники — это «кольценосцы», которые превратились в призраков из-за воздействия других колец, полученных от Некроманта. Появился в рабочих тетрадях Толкина и первый набросок разговора с Гэндальфом, в котором впервые высказывается предположение, что роковое кольцо необходимо отнести в Мордор и бросить в одну из огненных трещин, которыми там расколота земля.
Из письма от 31 августа 1938 года:
«Уважаемый мистер Ферт!
Я не столько сейчас задавлен делами, сколько подавлен (или даже раздавлен) морально. Стряслись новые неприятности, и я, кажется, рухнул (или склонился) под их бременем. С тех пор как мы с Вами виделись, я все хвораю; собственно, дошел до грани срыва, так что доктор велел мне немедленно все бросить. Вот уже неделю-две я ничего не делаю — поскольку ни на что не способен. Однако мне уже лучше. Значительно лучше. Вот-вот (уже завтра) уеду в двухнедельный отпуск; я его заранее не планировал, да и позволить себе не мог, однако мое собственное здоровье и здоровье младшего сына того требуют…
В последние два-три дня, испытав на себе благой эффект безделья, свежего воздуха и санкционированного пренебрежения своими прямыми обязанностями, я вновь взялся за продолжение к „Хоббиту“ — за „Властелина Кольца“. История двинулась вперед, но вот снова вышла из-под контроля. Она достигла уже примерно главы VII — и стремится дальше, к каким-то абсолютно непонятным для меня целям. Должен признаться, что в отдельных местах и в некоторых отношениях новая книга получается, пожалуй, куда лучше предыдущей; но это вовсе не значит, будто я считаю ее более подходящей и более приспособленной для соответствующей аудитории. Хотя бы потому, что она, как и мои дети (а все права, безусловно, за ними), изрядно „повзрослела“. Могу лишь сказать, что мистер Льюис (рьяно поддерживающий меня в „Таймс“ и „Таймс литэрари сапплемент“) уверяет меня, будто он от чтения в полном восторге. Если в ближайшие две недели погода продержится дождливая, возможно, я продвинусь еще дальше. Вот только, боюсь, история получается не из тех, которые можно читать на ночь детям»[232].
Рукопись действительно начала расти — в ней появились Том Бомбадил и «бродяжник» Арагорн. Удивительно, насколько могли меняться эти персонажи в процессе написания: например, в первоначальных набросках будущий Арагорн был хоббитом[233].
Толкин всегда отвергал любые намеки на аллегории, будто бы создаваемые им, но реальный мир вокруг снова кипел, не слишком чистые страсти политиков отзывались в сознании каждого думающего человека. Нацистская Германия? Гитлер? Ну да, это все тоже реальность. Стэнли Анвин как раз договорился о переводе «Хоббита» в Германии. Немецкое издательство «Rutten und Loening» даже отправило Толкину официальное письмо, в котором просило подтвердить его арийское происхождение.
Толкин ответил:
«25 июля 1938 года. Нортмур-роуд, 20, Оксфорд.
Глубокоуважаемые сэры! Благодарю Вас за письмо. К великому моему прискорбию, мне не совсем ясно, что Вы подразумеваете под словом arisch. Я — не арийского происхождения; то есть не индоиранского. Насколько я знаю, никто из моих предков не говорил на хиндустани, персидском, цыганском или родственных им диалектах. Но если Ваш вопрос на самом деле подразумевает, нет ли во мне еврейской крови, могу лишь ответить, что, к превеликому моему сожалению, среди моих предков представителей этого одаренного народа не числится. Мой прапрадед перебрался в Англию из Германии в XVIII веке; таким образом, по происхождению я практически коренной англичанин, а также — английский подданный; этого должно быть довольно. Тем не менее я привык гордиться своей немецкой фамилией и гордости этой не утратил на протяжении всей последней (имеется в виду Первая мировая. — Г. П., С. С.) войны, в ходе которой служил в английской армии. Однако же не могу не отметить, что, если оскорбительное и неуместное наведение справок такого рода станет нормой в вопросах литературы, так недалеко и до тех времен, когда немецкая фамилия перестанет восприниматься как повод для гордости. Не сомневаюсь, что Ваш запрос продиктован законодательством Вашей страны. Однако распространять подобные требования на подданных иного государства не пристало, даже если бы все это имело (что абсолютно не так) хоть какое-то отношение к достоинствам моей книги или к ее недостаткам, ибо относительно последнего Вы, по всей видимости, пришли к полному удовлетворению безотносительно к моему Abstammung[234].
Надеюсь, мой ответ Вас удовлетворил.
Дж. Р. Р. Толкин»[235].
В июле 1938 года Толкин написал Стэнли Анвину, что готов послать указанное выше нацистское издательство куда подальше. «Однако, — продолжал он с чисто профессорской дипломатичностью, — все это затрагивает в первую очередь Вас, и я не вправе ставить под угрозу шанс публикации на немецком языке без Вашего на то согласия. Так что прилагаю два варианта возможных ответов»[236].
В том варианте, который сохранился в архивах издательства «Аллен энд Анвин» (и, следовательно, не был отправлен), Толкин весьма язвителен в отношении нацистских идей. Это было продиктовано его собственным отношением к рушащемуся (в очередной раз) миру: оккупация нацистами Австрии и Чехословакии, итальянская интервенция в Эфиопии, гражданская война в Испании. Кстати, будучи католиком, Толкин не мог с одобрением относиться к тем репрессиям, которые при республиканцах обрушились на католическую церковь, и во многом сочувствовал генералу Франко, который, на его взгляд, только и мог навести порядок в полуразрушенной стране. Как многие британцы, Толкин весьма тревожился и по поводу намерений Советского Союза — даже, наверное, больше, чем по поводу намерений нацистской Германии.
Здесь, наверное, самое место коснуться подробнее взглядов Толкина на реальный мир и его реальную политику. Вот что он писал (позже, в конце войны) в одном из писем Кристоферу:
«Да, я считаю, что орки — создания не менее реальные, нежели любое порождение классической „реалистической“ литературы: твои прочувствованные описания воздают этому племени должное; вот только в реальной жизни они, конечно же, воюют на обеих сторонах. Ибо „героический роман“ действительно вырос из „аллегории“, и войны его по-прежнему восходят к „внутренней войне“, где добро — на одной стороне, а всевозможные виды зла — на другой. В реальной (внешней) жизни люди одинаково принадлежат к обоим лагерям, что означает весьма и весьма разношерстные союзы орков, зверей, демонов, простых честных людей и ангелов. При этом, однако, очень важно, кто твои вожди и не подобны ли они оркам сами по себе и ради чего все это делается»[237].
Очевидно, эти взгляды очень далеки от «манихейских», когда стороны любого конфликта сразу делятся на заведомо «хороших» и заведомо «плохих». Соответственно, все что делают «хорошие» — хорошо, а «плохие» — плохо. Наоборот, даже хоббит или эльф таит в себе возможность стать Сауроном, а любая страна — Мордором. В 1960-е годы Толкин набрасывал возможное продолжение «Властелина Колец», в котором тайные культы, посвященные Мордору, возникают в Гондоре, в стане победителей[238]. Сохраняется и возможность освободиться от наваждения.
А в октябре 1940 года Толкин писал Кристоферу, ушедшему к тому времени из Тринити-колледжа на курсы стрелка-зенитчика:
«Мне очень жалко, милый мой мальчик, что твоя университетская карьера рассечена надвое. Лучше бы ты был старше и успел закончить до того, как тебя забрала армия. Но я все-таки надеюсь, что тебе удастся вернуться. И, безусловно, прежде ты многому научишься! Хотя в мирные времена мы, возможно (что вполне естественно и в определенном отношении правильно), слишком склонны воспринимать все на свете как подготовку, или обучение, или тренировку — для чего? В любой момент нашей жизни имеет значение только то, каковы мы и что делаем, а вовсе не то, какими мы планируем стать и что собираемся сделать. Однако не буду притворяться: эта мысль не особенно меня утешает при виде армейского милитаризма и зряшной траты времени. И дело даже не в тяготах фронтовой жизни. Меня туда зашвырнуло как раз тогда, когда я мог столько всего написать и столько всего узнать; а наверстать упущенное мне уже не удалось»[239].
В октябре 1938 года, после подписания Мюнхенского соглашения, Толкин нацарапал на листке бумаги: «Кольцо Бильбо оказалось единственным кольцом власти. Все остальные вернулись в Мордор, но это — было потеряно»[240]. Тогда же Толкин поменял имя Бинго на Фродо.
«Мрачная безысходность нынешних дней отразилась и на моей книге»[241], — писал он Анвину. И несколько позже (в письме редактору — от 2 февраля 1939 года): «Все же „Властелин Колец“ продвинулся до главы 12; в рукописи уже свыше 300 страниц размером с обычный лист, и все они исписаны весьма убористо. Для завершения истории в нынешнем ее виде, наверное, потребуется еще страниц двести»[242].
Указывая количество страниц, Толкин серьезно ошибся — в дальнейшем их потребовалось гораздо больше. И явственный отсвет «Сильмариллиона» все заметнее падал на эти страницы.
АНАРИОН — младший сын Элендиля, спасшийся с отцом и братом после гибели Нуменора и вместе с Исильдуром основавший в Средиземье королевство Гондор; владел Минас Анором; погиб при осаде Барад-Дура.
АНДУИН — Великая Река, к востоку от Мглистого Хребта, начинавшаяся на севере и впадавшая в залив Бельфалас.
БАРАД-ДУР — «Черная Башня», замок Саурона в Мордоре.
БАРАД НИМРАС — «Белая Башня», построенная Финродом на мысу к западу от Эглареста.
КОЛЬЦА ВЛАСТИ — волшебные кольца, выкованные эльфами Эрегиона по наущению Саурона, а также Единое Кольцо, выкованное им самим.
КУРУНИР — он же Саруман Белый, глава Истари и Совета Мудрых; пытался завладеть Кольцом Всевластья; подпал под власть Саурона и погиб бесславно.
ЛУТИЭН ТИНУВИЭЛЬ — «Дева-Цветок», «Соловей»; дочь короля Тингола и майи Мелиан, которая помогла Берену добыть Сильмариль; вернула Берена из мертвых и, став его женой, избрала судьбу смертных.
В довоенные годы в учебных заведениях всего мира стояли деревянные парты или столы с круглыми специальными углублениями — для стеклянных чернильниц (чтобы не падали), а школьники и студенты пользовались перьевыми ручками, химическими или обычными простыми карандашами. Автоматическая ручка была изобретена еще в конце XIX века, но не сразу получила распространение. Конечно, и Толкин писал обычными перьевыми ручками, часто используя для черновиков не до конца исписанные студентами листы проверенных экзаменационных работ. Затем он еще раз переписывал текст и, наконец, перепечатывал его на пишущей машинке. Перепечатывал сам. Профессиональным машинисткам Толкин не доверял, да и стоили их услуги дорого.
Бытовые условия в английских домах и в наше-то время часто не отличаются особым комфортом, а толкиновский дом на Нортмур-роуд был более чем типичным. Правда, у каждого свой взгляд на уют. Скажем, в газете «The Telegraph» в 2004 году о доме Толкина на Нортмур-роуд писали: «Нора эта принадлежала хоббиту, а значит, была уютной во всех отношениях…»[243]
Впрочем, судите сами (описание взято из указанной выше газетной статьи). В двухэтажном доме Толкина были длинные коридоры, многочисленные двери из которых вели в небольшие комнаты, ну прямо как в норе Бильбо. («Входная дверь… открывалась в длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый, ничуть не задымленный… Коридор, изгибаясь, проходил в самой глубине холма… По обеим сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения».) Восемь спален. Кабинет. Окна — в сад. Рамы, как в подавляющем большинстве английских домов, одинарные, стекла в красивых свинцовых переплетах. Несколько каминов, но одновременно они никогда не топились. Постоянные сквозняки, поскольку в каминных трубах нет заслонок. В холодные месяцы кабинет, чтобы лишний раз не возиться, отапливался не камином, а маленькой железной печкой, вроде буржуйки. И с горячей водой было непросто. Зато в кабинете Толкина стоял потрясающий письменный стол, который очень нравился детям. На столе — круглая шкатулка из темного дерева (для табака) и кружка для трубок, украшенная страшной физиономией.
Толкин нисколько не лукавил, когда писал Анвину, что в сердце его «царят Сильмариллы». То есть постоянно и неизменно в сердце его царила та самая Мифология, на создание которой он потратил уже около четверти века. И теперь, когда стало выясняться, что кольцо, отобранное Бильбо у Голлума, — это на самом деле Великое Кольцо Саурона, всё как-то само собой стало на свои места. «Книга утраченных сказаний» оказалась востребованной, пусть даже пока только для самого автора.
В мыслях относительно кольца Толкин утвердился в начале марта 1939 года, когда приехал в университет Сент-Эндрюс в Шотландии, чтобы прочитать там мемориальную Лэнговскую лекцию[244]. В те годы он довольно часто бывал в Шотландии и Ирландии, поскольку входил в состав нескольких экзаменационных комиссий. Да и строгая северная природа никогда не оставляла его равнодушным.
Сент-Эндрюс — старейший университет Шотландии. Он был основан еще в 1414 году специальным папским декретом. Этому не помешало даже то, что католическая церковь в XV веке была расколота и декрет подписал «антипапа». Ну а естественная ревность Оксфорда помешать в этом случае не могла: Шотландия тогда являлась независимым государством.
Городок расположен на морском мысе к северо-востоку от Эдинбурга, к нему ведет живописная дорога. Каменные стены вдоль дороги сложены всухую — без раствора — и густо увиты вьюнком. Заливы, скалистые берега. Горы на горизонте.
Посетить Шотландию — это как посетить сказочную страну. Прекрасный фон для лекции, посвященной волшебным сказкам. Напомним, что «Красной книгой сказок» Эндрю Лэнга Толкин зачитывался еще в детстве. Будучи писателем и ученым (по опыту работы больше даже именно ученым, чем писателем), он легко и ярко выражал многие мысли, имевшие отношение к литературному творчеству, в своих лекциях и эссе. Такие его работы, как «О чудовищах и критиках»[245] и «О волшебных сказках»[246] и сейчас производят впечатление.
Правда, книга, которую писал Толкин («Властелин Колец») мало напоминала волшебную сказку — в обычном понимании. К тому же рассуждать о незаконченном произведении перед широкой публикой среди профессиональных писателей не принято, а вот в научном мире дело обстоит совсем иначе, ведь главное для ученого — поиск истины.
Толкин много думал о том, кому все же должны адресоваться сказки.
«Для нормального англичанина волшебные сказки — это не истории о феях и эльфах, — писал он. — Это, скорее, истории о Волшебной Стране, в которой, помимо фей и эльфов, гномов и ведьм, троллей, великанов и драконов, чего только нет. Там есть — моря, солнце, луна, небо; там есть земля и всё, что с ней связано, — деревья и птицы, вода и камень, вино и хлеб, да и мы сами — смертные люди, если вдруг оказались во власти чудесных чар»[247].
Вопрос, кому адресуется волшебная сказка, — вообще не главный, считал Толкин.
«Волшебная сказка — это история, имеющая самое непосредственное отношение к Волшебной Стране. Я, например, выкинул бы „Путешествие в Лилипутию“ из сборника (сказок. — Г. П., С. С.) потому, что по жанру это не сказка, а рассказ о путешествии. Такие рассказы изобилуют чудесами, но чудеса эти происходят в нашем мире, в конкретном его уголке, в конкретное время. В сущности, у историй про Гулливера не больше права называться сказками, чем у небылиц про барона Мюнхгаузена или, скажем, у „Первых людей на Луне“ и „Машины времени“. Можно даже сказать, что элои и морлоки Уэллса „волшебнее“ лилипутов. В конце концов, лилипуты — всего лишь люди, на которых презрительно посматривает великан ростом выше дома. Элои же и морлоки живут так далеко, в такой глубокой бездне времени, что кажутся заколдованными; и если они — наши потомки, то стоит припомнить, что древние мудрецы, создатели „Беовульфа“, считали эльфов прямыми предками человека по линии Каина»[248].
От вопроса, что́ все-таки является главным в волшебной сказке, Толкин переходит к вопросу не менее важному — о ее происхождении.
«Самозарождение сюжетов — основной процесс»[249].
Профессиональный интерес Толкина к языкам слышится во многих его рассуждениях:
«Язык (как орудие мышления) и миф появились в нашем мире одновременно. Каким великим событием оказалось изобретение прилагательного! Как оно подхлестнуло мышление! Во всей Волшебной Стране нет и не было более сильного магического средства. И неудивительно: ведь любое заклинание можно рассматривать как разновидность прилагательного, как часть речи в грамматике мифа. Если мы можем отделить зелень от травы, голубизну от неба, красный цвет от самой крови, то мы уже обладаем некоей волшебной силой и не можем не попробовать использовать эту необычную силу в мирах, лежащих за пределами нашего сознания»[250].
И далее: «Считается, что дети — самая естественная или, скажем, наиболее подходящая для сказки аудитория. Описывая сказку, которую могут с удовольствием почитать и взрослые, рецензенты часто позволяют себе шуточки вроде: „Эта книжка для детей от шести до шестидесяти лет“, но что-то не приходилось мне встречать рекламу новой модели автомобиля, которая начиналась бы словами: „Это игрушка порадует ребят от семнадцати до семидесяти“, хотя, по-моему, предложение вполне уместное. Так есть ли она, эта связь между детьми и волшебными сказками? И стоит ли удивляться тому, что сказки читает взрослый?»[251]
Толкин так ответил на свой же вопрос:
«Склонность связывать волшебные сказки с детьми — это всего лишь побочный продукт нашего быта. Современный литературный мир сослал сказки в детскую точно так же, как поцарапанную или старомодную мебель выносят в комнату для детских игр, потому что взрослым мебель уже не нужна. Как и художественный вкус, любовь к сказкам, на мой взгляд, в раннем детстве вообще не проявляется без искусственного стимулирования, зато с возрастом уже не иссякает, а крепнет»[252].
«Правда, в последнее время, — продолжал он, — сказки пишут или „пересказывают“ для детей. То же самое можно делать с музыкой, стихами, романами, историей и научными трудами. Думаю, это весьма опасная процедура, даже если она необходима. Собственно, от катастрофы нас спасает только то, что науки и искусства еще не полностью переправлены в детскую: до детской и до школы доходят только такие вкусы и взгляды, которые, по мнению взрослых (далеко не всегда оправданному), „не принесут детям вреда“»[253].
Затем Толкин переходит к очень важному для него вопросу — как, собственно, создаются волшебные миры?
Сначала он цитирует Лэнга:
«Дети воплощают молодость человека, когда люди еще верны своей любви, вера их не притупилась, а жажда чуда не иссякла. „Это правда?“ — вот великий вопрос, который постоянно задают дети».
И уже после этого вступает с Лэнгом в полемику:
«Подозреваю, что понятия „вера“ и „жажда чуда“ часто рассматриваются как однозначные или близкие. На самом деле они резко отличаются друг от друга, хотя, надо сказать, развивающееся человеческое сознание не сразу начало отделять жажду чуда от всеобъемлющей жажды знаний. Очевидно, что слово „вера“ Лэнг употреблял в обычном смысле: вера в то, что вещь существует или событие может произойти в реальном (первичном) мире. Если это так, боюсь, что слова Лэнга, очищенные от сентиментального налета, означают лишь одно: тот, кто рассказывает детям истории о чудесах, сознательно или нет, но спекулирует на их доверчивости, то есть на недостатке их опыта, из-за чего детям в определенных случаях становится трудно отличать реальные факты от вымысла. А ведь это отличие — основополагающее и для обычного человеческого восприятия, и для волшебной сказки. Дети, конечно, способны верить литературному вымыслу, если мастерство рассказчика достаточно высоко. Такое состояние сознания называют „добровольным подавлением недоверия“, но мне кажется, слова эти недостаточно ясно описывают указанное явление. Ведь на самом деле речь идет о некоем успешно созданном вторичном мире. То есть автор создает такой мир, в который мысленно можете войти и вы»[254].
По Толкину, дело вообще не в подавлении недоверия:
«Лично у меня никогда не было особого желания чему-то верить. Не помню ни одного случая, когда удовольствие, доставляемое сказкой, зависело бы от моей личной веры в то, что описанное в сказке может случиться на самом деле или даже действительно случалось. Волшебные сказки для меня были связаны в первую очередь не с тем, что возможно, а с тем, чего хочется»[255].
АЙНА — «святой» в АЙНУР, АЙНУЛИНДАЛЭ.
АЛДА — «дерево» (квенья) в АЛДАРОН, АЛДУДЭНИЕ, МАЛИНАЛДА; соответствует синдаринскому ГАЛАД (в КАРАС ГАЛАДОН, ГАЛАДРИМЫ).
АНГРЕН — «железный» в АНГРЕНОСТ; мн. ч. ЭНГРИН в ЭРЕД ЭНГРИН.
АННА — «дар» в АННАТАР, МЕДИАН, ЙАВАННА; mom же корень в АНДОР.
АННОН — «большая дверь, ворота», мн. ч. ЭННИН; в АННОН-ИН-ГЭЛИД; ср. МОРАННОН — «Черные врата» и СИРАННОН — «Привратная Река».
АР(А) — «высокий, благородный, царственный» элемент, появляющийся во многих именах: АРАДАН, АРЭДЭЛЬ, АРГОНАФ, АРНОР и т. д. Расширенный корень АРАТ — появляется в АРАТАР и в АРАТО — «вождь, выдающийся», напр. АНГРОД из АНГАРАТО, ФИНРОД из ФИНАРАТО; также АРАН — «король» в АРАНРУТ, мн. ч. ЭРЕЙН в ЭРЕЙНИОН. Префикс «ар» — в именах нуменорских королей — того же происхождения.
ГРОТ (ГРОД) — «пещера, подземное жилище» в МЕНЕГРОТ, НОГРОД.
ГУЛ — «чары» в ДОЛ ГУЛДУР, МИНАС МОРГУЛ. Это слово происходит от того же корня, что и НГОЛ-, появляющееся в НОЛДОР; ср. квенийское НОЛЭ — «мудрость, знание». Однако синдаринская форма использовалась чаще с явно отрицательным оттенком, в сочетании МОРГУЛ — «черные чары».
ДОР — «земля» (суша), производное от НДОР-, встречается во многих синдаринских названиях: ДОРИАФ, ДОРТОНИОН, ЭРИАДОР, МОРДОР u т. д. В квенья корень часто смешивался с НОРЭ «народ, племя»; вначале ВАЛИНОР означало попросту «племя валаров», а «земля валаров» — это ВАЛАНДОР; так же НУМЕНОРЭ означает «племя запада», а «земля запада» — НУМЕНДОР. Квенийское ЭНДОР произошло от ЭНЕД — «середина» и НДОР; в синдарине это ЭННОР (ср. ЭННОРАФ в песне «АЭЛЬБЕРЕТ ГИЛЬФОНИЭЛЬ»).
Против чего выступил в своей «шотландской» лекции Толкин?
Во-первых, против мнения, что «сказки — это для детей». Против того тезиса, что дети не должны взрослеть — «не оставаться же им вечными Питерами Пэнами!»[256]. Во-вторых, против критиков, преследующих только свои корпоративные интересы. В-третьих, против искусственных творений человека (машин), ставших вдруг самостоятельной, очень опасной и враждебной силой.
«Хотя в этом вопросе я и не специалист и, возможно, даже не имею права на собственное мнение, все же осмелюсь заявить, что определение Воображения часто неточно, а анализ его проводится неадекватно. Способность к образному мышлению — это ведь всего лишь одна сторона. Но именно ее по справедливости и следует называть Воображением. Восприятие же (перцепция) образа, всех его значений и форм (и контроль над этими процессами, совершенно необходимый для удачного воплощения найденного образа) может быть различно по яркости и силе, что, впрочем, зависит от количественного, а не качественного уровня воображения. А вот способность достичь такого воплощения мысленного образа, которое придало бы ему „внутреннюю логичность реального“, — это совсем другое. Это уже Искусство, то есть связующее звено между Воображением и плодом его деятельности — „вторичным“ миром».
«Для моих теперешних целей, — продолжал Толкин, — потребуется новое понятие, включающее в себя как способность к художественному вымыслу, так и некую отстраненность, чудесность образов, созданных воображением и нашедших свое выражение в словах, — качество, необходимое для сказки. Поэтому я присвою себе функции Шалтая-Болтая и применю для обозначения всего выше указанного еще одно слово — Фантазия. Я придаю ему смысл, в рамках которого старое, высокое значение этого слова вполне синонимично понятию Воображение и сочетается с другими словами: Нереальность (то есть непохожесть на реальный мир), свобода от власти реальных, то есть увиденных (изученных) фактов, короче — с понятием „фантастического“.
Таким образом, я с радостью принимаю то, что между Фантазией (Воображением) и Фантастикой существует этимологическая и семантическая связь, поскольку фантастика имеет дело с образами того, чего не только „на самом деле нет“, но чего часто вообще нельзя обнаружить в реальном мире или, во всяком случае, считается, что нельзя. Но, признавая, что понятие Фантазия вторично, я вовсе не считаю, что на нее следует смотреть свысока. В этом смысле Фантазия, на мой взгляд, — вовсе не низшая, а, наоборот, высшая, наиболее чистая и, следовательно, наиболее действенная форма Искусства»[257].
«Конечно, — продолжил свою лекцию Толкин, — у фантазии есть изначальное преимущество: она приковывает внимание своей необычностью. К сожалению, преимущество это было с самого начала брошено против нее самой. Многие не любят, чтобы их внимание „приковывали“. Им не нравятся всякие „фокусы“ с реальным миром или с теми незначительными его реалиями, что составляют их собственный узкий мирок. Именно поэтому они глупо или даже злонамеренно путают фантазии со сновидениями, не имеющими ни малейшего отношения к Искусству, и даже с неуправляемыми психическими расстройствами: болезненными видениями и галлюцинациями»[258].
Как тесно поднятая тема связана с собственным творчеством Толкина, видно хотя бы из следующей цитаты, в которой, неожиданно для научной лекции, появляются эльфы — как часть реального мира:
«Не только создать „вторичный“ мир, в котором светит зеленое солнце, но и повелевать верой в этот вымышленный мир — вот задача, для выполнения которой понадобится немало труда и размышлений и, конечно же, особое умение, сродни искусству эльфов. Мало кто рискнет выполнить эту задачу. Но если мы рискнули и задача в какой-то степени решена, перед нами вдруг оказывается редкостное достижение Искусства — образец его повествовательной разновидности, по форме близкой самым древним и самым лучшим образцам фольклора»[259].
Что имеется в виду под «искусством эльфов», на которое ссылается Толкин, объясняется несколько позже, однако непосредственность, с которой собственное сказочное творчество наполняет лекцию, производит необычное, даже (пользуясь словами самого Толкина) «чарующее» впечатление:
«Когда я читаю „Макбета“, ведьмы выглядят вполне прилично; они играют определенную роль в повествовании и окружены дымкой мрачной значительности, хотя облик их, к сожалению, несколько опошлен — все-таки они, несчастные, ведьмы. Мне говорят, что я бы смотрел на ведьм иначе, если бы мыслил как человек шекспировской эпохи с ее охотой на этих несчастных и публичными казнями. Но ведь это значит, что я должен воспринимать ведьм как реальность, и весьма вероятную для нашего мира, иными словами, не как плод фантазии Шекспира. Это решающий аргумент. Похоже, что в любом драматическом произведении судьба у фантазии одна — раствориться в реальном мире или опуститься до шутовства, даже если автор драмы — сам великий Шекспир. Вместо трагедии „Макбет“ ему следовало бы написать повесть, если бы хватило мастерства и терпения на этот жанр»[260].
«Совсем другое дело театр в Волшебной Стране, то есть спектакли, которые эльфы, согласно многочисленным свидетельствам (интересно, каким именно, или тут Толкин несколько увлекся? — Г. П., С. С.), часто показывали людям. Здесь фантазия оживает с таким реализмом, с такой непосредственностью, какие недостижимы для любых театральных механизмов, созданных людьми. В результате эти представления так сильно воздействуют на человека, что он не просто верит в выдуманный мир, но как бы сам — физически — туда попадает. По крайней мере, так ему кажется. Это ощущение очень похоже на сон, и люди иногда их путают. Но, присутствуя на спектакле в Волшебной Стране, вы попадаете внутрь сна, сплетенного чужим сознанием, причем можете даже не подозревать об этом тревожном факте. Вы воспринимаете „вторичный“ мир непосредственно, и это столь сильное зелье, что вы всему верите по-настоящему, какими бы чудесными ни были происходящие события. Вы в плену иллюзий. Всегда ли это нужно эльфам — другой вопрос. По крайней мере, сами они при этом от иллюзий свободны. Для них такой театр — род Искусства, отличный от Чародейства и Волшебства в прямом смысле. Они не живут внутри своих произведений, хотя, надо думать, могут себе позволить работать над драмой дольше, чем артисты-люди»[261].
И далее: «Для обозначения истинного мастерства эльфов нам нужно какое-то новое слово. Все прежние термины стерлись, потеряли первоначальный смысл. Первым, конечно, приходит в голову слово „магия“, и я в этом значении его уже использовал, хотя, наверное, не следовало этого делать. „Магией“ нужно называть действия волшебника. А искусство — род деятельности человека, порождающий, между прочим, и вторичную веру (хотя это не единственная и не конечная цель искусства). Эльфы тоже пользуются искусством подобного рода, хотя с большим мастерством и легкостью, чем люди. По крайней мере, на это указывают свидетели. (Тоже не совсем ясно, какие свидетели? — Г. П., С. С.) Но более действенное, присущее лишь эльфам мастерство я, за неимением более подходящего слова, буду называть Чарами. Чары создают „вторичный“ мир, в который могут войти и его создатель, и зритель. Пока они внутри, их чувства воспринимают этот мир как реальность, хотя по замыслу и цели он абсолютно искусствен. В чистом виде Чары сродни Искусству. В отличие от них, Магия меняет реальный мир (или притворяется, что делает это). И неважно, кто пользуется Магией — эльфы или люди, все равно это не Искусство и не волшебные Чары. Магия — это набор определенных приемов; ее цель — власть в нашем мире, господство над неживыми предметами и волей живых существ».
Последующие слова воспринимаются уже как вершина этого гимна фантазии:
«Именно к волшебным Чарам и тяготеет фантазия (воображение) человека. Если ее полет удачен, она (оно) ближе к их мастерству, чем любая другая форма Искусства. Суть многих историй, которые рассказывают люди об эльфах, составляет видимое или скрытое, чистое или замутненное стремление к живому, воплощенному искусству, позволяющему создавать новые миры. Это желание внутренне не имеет ничего общего с жадным стремлением к личной власти, каким бы внешним сходством оба эти желания ни обладали. Сами эльфы по большей части сотворены именно благодаря этому благородному желанию — точнее, их лучшая (но все же опасная) часть. От них-то мы и можем узнать, каково главное устремление человеческой фантазии, даже если она же их и породила. Эту великую жажду творчества лишь снижают всякие подделки — будь то невинные, хоть и неуклюжие, потуги драматурга или злые козни колдуна»[262].
Конечно, Толкин со своим филологическим мышлением не обходится без ассоциации с языком: «Многим фантазия кажется подозрительной, если не противозаконной: она создает „вторичный“ мир, странным образом трансформируя мир реальный и все, что в нем находится; соединяет по-новому части существительных и придает прилагательным новый смысл…»[263]
Но как, как все эти волшебные существа и их жажда творчества, эти чары, существующие как бы вне христианства, согласуются с верой?
«Что до законного права фантазии на существование, — ответил на это Толкин, — процитирую лишь небольшой отрывок из письма, когда-то написанного мною человеку, который называл все мифы и сказки просто враньем, ну, или, если мягче, „посеребренной ложью“»[264].
Достойным завершением лекции Толкина могут служить слова:
«Фантазия — естественная деятельность человеческого разума. Она ничуть не оскорбительна для него и тем более не вредит ему. Она не притупляет жажды научных открытий и не мешает их воспринимать. Напротив, чем острее и яснее разум, тем ярче фантазии, им порожденные. Если бы вдруг оказалось, что люди больше не желают знать правду или утратили способность ее воспринимать, фантазия зачахла бы. Если с человечеством когда-нибудь случится что-то подобное (а это не так уж невероятно), то фантазия очень скоро погибнет и превратится в обыкновенную банальную склонность к обману»[266].
Но Толкин и на этом не остановился.
Следующий раздел своей лекции он назвал «Восстановление душевного равновесия, бегство от действительности и счастливый конец». И ему, несомненно, удалось придать сказанному истинный драматизм. «Фантазия строится из элементов реального мира, — сказал он. — Искусный ремесленник, так же как и мастер, тоже любит материал, с которым работает, знает, чувствует глину, камень, древесину, как может знать и чувствовать только творец, владеющий искусством созидания. Когда был выкован Грам (меч Сигурда, которым он сразил дракона Фафнира. — Г. П., С. С.), миру явилось холодное оружие; появление на свет Пегаса, несомненно, облагородило лошадей; в ореоле славы предстали перед нами корни и ствол, цветы и плоды деревьев после создания мирового древа»[267].
Бегство от действительности — для Толкина не какое-то бегство от действительности вообще, это скорее бегство, которое по сути может оказаться подвигом.
«Разве следует презирать человека, который, попав в темницу, пытается, во что бы то ни стало из нее выбраться, а если ему это не удается, говорит и думает не о надзирателях и тюремных решетках, а о чем-то ином? Внешний мир не стал менее реальным оттого, что заключенный его не видит. Критики пользуются неверным значением слова эскапизм, больше того, они путают такие понятия, как бегство пленника из темницы и бегство дезертира с поля боя. Точно так же партийные ораторы порой навешивают людям ярлыки предателей за бегство от ужасов гитлеровского рейха или какой-нибудь другой империи или даже за критику подобного государственного устройства»[268].
«Не так давно я слышал, хоть это и звучит невероятно, — сказал Толкин, — как вещал один чиновник из нашего академического „Бычьего брода“, именуемого еще Оксфордом: он всячески „приветствует“ скорое появление заводов-автоматов и рев самому себе мешающего автотранспорта, потому что все это якобы приближает университет к так называемой реальной жизни. Может, он имел в виду то, что образ жизни в XX веке угрожающе быстро скатывается к дикости, и если грохот машин раздастся на улицах Оксфорда, это послужит предупреждением: нельзя спасти оазис здравого смысла, просто отгородившись от пустыни неразумия, необходимо наступление на нее, практическое и интеллектуальное. Хотя, боюсь, в данном контексте выражение „реальная жизнь“, видимо, уже не соответствует требованиям научной точности. Мысль о том, что автомобили являются более живыми, чем кентавры и драконы, на мой взгляд, весьма удивительна. А представление, что те же автомобили „более реальны“, чем, скажем, лошади, настолько абсурдно, что вызывает сожаление»[269].
«В конце концов, — сказал Толкин, — вполне возможно, что разумный человек, хорошенько подумав (вне всякой связи с волшебными сказками или рыцарскими романами), осудит такие „завоевания прогресса“, как заводы, а также пулеметы и бомбы — их естественную и неизбежную продукцию. А ведь такое осуждение чувствуется уже и в том, что „эскапистская“ литература о „завоеваниях прогресса“ молчит»[270].
Досталось от Толкина и восхваляющей прогресс научной фантастике:
«Судя по некоторым практическим книжкам, люди и в будущем останутся похотливыми и мстительными, а мечты их духовных лидеров сведутся, самое большее, к замечательной идее о построении еще нескольких таких же городов на других планетах»[271].
Но заключение своей лекции Толкин все же связал с христианской темой: «В счастливой концовке заключено не только утешение человека, окруженного реальными мирскими горестями, но и удовлетворенная справедливость, и ответ все на тот же детский вопрос: „Это правда?“»[272]. И, наконец: «Осмелюсь добавить к сказанному, что, рассматривая с указанных выше позиций историю Христа, я давно чувствую (и чувствую с радостью), что Господь искупил грехи недостойных людей именно таким путем, который наилучшим образом соответствовал их странной природе, их склонности к вымыслу. В Евангелиях содержится волшебная сказка или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок»[273].
Ко времени лекции, прочитанной в Сент-Эндрюсе, герои «Властелина Колец» добрались уже до Ривенделла («Раздола» в переводе В. Муравьева и А. Кистяковского). Рукопись разрасталась. Издатели уже и впрямь начали надеяться на то, что они в скором времени смогут напечатать вторую книгу Толкина. Но в 1940 году работа над «Властелином Колец» практически остановилась. Позже Толкин с некоторым удивлением вспоминал, что прервал он ее как раз на том месте, где Хранители обнаруживают в Мории могилу Балина. Видимо, здесь он окончательно осознал, что возврата к более легкому тону «Хоббита» уже не будет, и это осознание требовало немалой душевной работы; ведь в «Хоббите» Балин выглядел почти комически.
«И тут дверь в кладовку распахнулась.
На пороге появились Балин с Двалином, Фили и Кили.
Не успел хоббит ахнуть, как они вырвали у него из рук подносы»[274].
Трудно представить, читая «Хоббита», что именно гном Балин предпримет свой безнадежный, обреченный поход в Морию, и там вместе с ним погибнут Ори и Оин. Но это так. Вот соответствующий отрывок из «Властелина Колец»:
«Это древнеморийский язык, — посмотрев на плиту, проговорил Гэндальф, — стародавнее наречие людей и гномов. — И добавил: — Здесь выбита надгробная надпись: „Балин сын Фундина Государь Мории“…
Фродо и Гимли подошли к магу и смотрели, как он медленно перелистывает страницы — (найденные ими. — Г. Л., С. С.) — исписанные разными почерками на эльфийском, дольском и морийском языках. Страницы были твердыми и ломкими, словно тонкие костяные пластины.
— Вот почерк Ори, — объявил маг. — У него была привычка записывать важные сообщения по-эльфийски. Боюсь, что на этот раз его важное сообщение окажется печальным, — вгляделся Гэндальф в Летопись. — Первое слово — скорбь… Дальше трудно разобрать. Потом — …ра… По-видимому, вчера… Да, так оно и есть, вот слушайте: …вчера, 10 ноября, погиб государь Мории Балин… Он спустился к Зеркальному — (священному озеру гномов. — Г. П., С. С.), — и его застрелил из лука притаившийся в скалах орк… Да, это очень мрачная Летопись, — листая книгу, заключил Гэндальф. — Дружинники, без сомнения, погибли мучительной смертью. Вот послушайте… Нам некуда отступать… Они захватили Мост и Караульную… Лони, Фрар и Ноли свалились… Тут шесть или семь страниц слиплись от крови, а дальше речь идет о Западных Воротах. Привратница затопила долину… Вода поднялась до самых Ворот… Глубинный Страж уволок Оина в воду… И вот еще… Нам некуда отступать… Некуда!.. Они вызвали из глубинных ярусов Смерть!.. От страшного грохота того и гляди провалится пол… Они приближаются»[275].
Не последнюю роль в замедлении работы сыграло еще сознание того, что книга получается слишком, непомерно объемной. Тут проявилась, так сказать, «дурная обратная связь». Не в силах писать быстрее, Толкин постоянно мучился от мысли, что уходящее время работает против него. А ему совсем не хотелось попадать в категорию чудаков, пусть даже гениальных, как когда-то предсказал ему (пусть и в шутливой форме) Стэнли Анвин. Ко всему прочему, играла роль и все более осложняющаяся обстановка в мире.
В апреле 1940 года Германия оккупировала Данию и вторглась в Норвегию. В мае гитлеровские войска захватили Бельгию и Нидерланды, разгромили французскую армию и заставили английский экспедиционный корпус эвакуироваться из Дюнкерка. 11 июня французское правительство покинуло Париж. «Антигитлеровская коалиция» рушилась как карточный домик, и дело явно шло к вторжению германских войск на Британские острова. Для островной нации сама мысль о таком вторжении казалась кошмаром. У островитян — долгая память, они до конца еще не изжили ужас ожидания наполеоновского вторжения. Знаменитое стихотворение Сэмюэля Тейлора Кольриджа (1772–1834) «Страхи в одиночестве» таким страхам и было посвящено.
Огромная темная волна снова и снова нависала в тревожных снах Толкина над высокими деревьями и нежными зелеными полями. Она грозила всё смыть, всё уничтожить. Британия создала самый мощный в мире флот как раз для того, чтобы предупредить любое вторжение с материка, но к 1940 году неожиданно выяснилось, что инициатива перешла к авиации. Появились новые выражения, например, «первая волна бомбардировщиков, вторая волна, третья». Эти волны могли всё затопить, всё уничтожить. Началась молчаливая война тайных научных лабораторий, все новые и новые приборы поставлялись в армию. Звукоуловители, новейшие орудия, радиолокаторы, которых, кстати, еще не было у немцев…
Самые мощные волны бомбежек пришлись на конец лета и начало осени. К счастью, армады люфтваффе несли большие потери, и после 13 октября интенсивность воздушных атак на Англию несколько ослабла. Самая страшная бомбардировка пришлась, впрочем, на 14–15 ноября 1940 года, когда практически был уничтожен целый город Ковентри. Тогда по миру пошло еще одно новое зловещее слово — «ковентризировать». Отсветы чудовищных пожаров были видны на огромном расстоянии. Не хочешь, да задумаешься — а не является ли появление Барлога в конце сцены у могилы Балина в Мории отражением вполне реальных событий?
«И тотчас из глубин Мории донесся раскатистый грохот — Р-Р-Р-Р-О-К, и они ощутили под ногами судорожную дрожь каменного пола…»[277]
Правда, Оксфорд не бомбили — Гитлер испытывал странное почтение к цитаделям английской учености: в будущем именно в Оксфорде он собирался разместить штаб-квартиру своих оккупационных сил. Студентов стало намного меньше, зато появились курсанты, присылаемые на краткосрочные занятия. Им в Оксфорде «выправляли» родной английский язык. Об уровне этих курсантов можно судить по выдержкам из письма Толкина: «Профессор Ридли в качестве первого задания предложил студентам дать в их проверочной работе определение следующих слов: apposite, reverend, venal, choric, secular[278] и еще несколько таких же. Никто из кадетов не определил правильно ни одного слова»[279].
Толкина в армию не призвали (возраст не тот), но, как многие, он принимал участие в действиях гражданской противовоздушной обороны: дежурил на посту специального «тревожного» оповещения. «Чувствую себя, — записывал он в дневнике, — точно охромевшая канарейка в клетке. Исполнять прежнюю довоенную работу — яд, да и только! Мечтаю сделать хоть что-нибудь полезное. Но ничего не попишешь: я теперь прочно „уволен в бессрочный запас“»[280].
Некоторое время у Толкинов жили эвакуированные. «Нынче утром, — писал он своему среднему сыну Майклу, — наши эвакуированные с нами распрощались и уехали обратно домой, в Ашфорд (они из железнодорожников), после ряда эпизодов комических и трогательных одновременно. В жизни не видел более простых, беспомощных, кротких и горестных душ (свекровь и невестка). Впервые за все время своей семейной жизни они оторваны от своих мужей»[281].
Вторжение на острова затягивалось. Только много позже стало известно, что главным условием вторжения на Британские острова Гитлер считал полное господство в воздухе. Операция «Морской лев» активно разрабатывалась до конца весны 1941 года и только после начала операции «Барбаросса» (нападение германских войск на СССР) угроза вторжения для Англии окончательно миновала. Впрочем, в конце 1940-го и даже в начале 1941 года ничто на это еще не указывало.
На Нортмур-роуд с Эдит и Толкином из детей оставалась теперь только дочь. Старший сын Джон, священник, с 1939 года проходил стажировку в Риме, а Италия в союзе с Германией как раз выступила против Британии. Майкл отучился год в Тринити-колледже и был призван в зенитчики. Младший — Кристофер — со дня на день ждал призыва. Кстати, в одном из писем, отправленном Майклу в армию, Толкин упомянул о некоем новом секретном договоре между Германией и СССР.
«У нас то и дело объявляют воздушную тревогу, — писал он, — но (пока) дальше предупреждений дело не идет, хотя, боюсь, в этом году все „разразится“ раньше, чем в прошлом. Погода позволяет; то-то горячая начнется пора во всех наших уголках! И, кажется, наш добрый старый „друг“ СССР опять затевает какую-то пакость. Словом, настоящие гонки со временем. Думаю, простые граждане ведать не ведают, что там происходит на самом деле. Здравый смысл вроде бы подсказывает, что очень скоро Гитлер атакует нашу страну, может, еще до лета. А тем временем на улицах вовсю торгуют „Дейли уоркером“ — свободно и беспрепятственно»[282].
К осени 1942 года Толкин набросал планы еще нескольких глав книги и даже написал их концовки. В одной из них хоббиты Пин и Мерри встречают «пастуха деревьев» онта Фангорна (он же — Древень в русском переводе, а в английском тексте Treebeard, «Древобород»). Теперь Толкину казалось, что оставшиеся главы займут не более двухсот страниц. В глазах сотрудников издательства «Аллен энд Анвин» он действительно завоевал твердое положение «гения с неопределенным исходом» — одного из тех авторов, которые явно способны произвести на свет истинный шедевр, но шансы на это оценить трудно.
В случае с Толкином издатели надеялись, что продолжение детской книги будет готово примерно через пару лет, однако и в 1942 году готовой рукописи все еще не было. К тому же в Лондоне при очередной бомбардировке сгорел склад с последними экземплярами «Хоббита».
В декабре Толкин писал Анвину:
«Я уже давно собирался написать Вам и спросить — стоит ли в создавшихся обстоятельствах пытаться закончить продолжение к „Хоббиту“ (кроме как себе и семье на забаву)? Я над ним работаю урывками с 1938 года, заполняя все то время, что оставляют мне утроившиеся служебные обязанности, учетверившееся бремя домашних дел и „гражданская оборона“. Собственно, книга близка к завершению. Возможно, на этих каникулах мне удастся выкроить немножко свободного времени; так что, может быть, в начале следующего года я книгу закончу. И все-таки на сердце у меня неспокойно. Должен Вас предостеречь, что произведение получается ужасно длинное, а местами гораздо страшнее „Хоббита“ и, по правде говоря, на самом деле абсолютно не детское. Я дошел до главы XXXI; до конца остается еще как минимум глав шесть (их я уже набросал); и главы эти, как правило, выходят гораздо длиннее, чем в „Хоббите“. Стоит ли в сложившихся обстоятельствах заводить речь о подобном „эпосе“? Предпочтете ли Вы подождать, пока я целиком закончу книгу, или хотели бы взглянуть на значительную часть ее уже сейчас? Рукопись перепечатана (усилиями нескольких непрофессионалов) вплоть до главы XXIII. Не думаю, что качество рукописи Вас разочарует. Изначальная аудитория „Хоббита“ (мои сыновья и мистер К. С. Льюис) ее одобрила: они эту новую историю и читали и слышали не один раз. Правда, проблема бумаги, проблема объема, проблема рынка»[283].
К сожалению, к лету 1943 года работа снова застопорилась.
Предыдущая задержка, среди прочего, была вызвана еще и необходимостью принятия решения: в каком именно мире развивается действие, с какой точки зрения его показывать? А теперь следовало обустроить этот новый мир, придать ему гармонию, выявить детали. Толкин неизменно стремился к совершенству; даже на примерах менее значительных, вроде предисловия к переводу «Беовульфа», мы видели, как желание все привести к идеальному виду замедляло работу. А тут следовало привести в порядок всю географию, историю, имена, названия, хронологию; НОВЫЙ (старый) мир должен был выглядеть именно миром, а не иллюзией. Все детали тут имели значение — как сами по себе, так и в связи с реальным миром. Случайно ли (по хронологии Толкина) отряд Хранителей выходит из Раздола именно 25 декабря — то есть утром Рождества для западных церквей? А то, что уничтожение Кольца приходится приблизительно на время Пасхи?[284]
Согласно хронологии, составленной самим Толкином, празднование на Кормалленском поле в честь Фродо и Сэма, благодаря которым Кольцо было уничтожено, состоялось 8 апреля. Толкин специально подчеркнул, что происходило это во время полнолуния: «Солнце зашло, и круглая луна медленно поднялась над туманами Андуина».
Сочетание полнолуния и даты позволяет утверждать, что празднование, по расчетам Толкина, пришлось бы в романе точно на христианскую Пасху; у Толкина это не могло быть просто совпадением. Более того, празднование приходится на так называемую «Кириопасху», когда Пасха совпадает с Благовещением. Расчеты Толкина достигают здесь удивительной изощренности. В современном календаре Кириопасха (а это редкое событие) приходится на 7 апреля. Однако Толкин подчеркивает, что празднование в честь Фродо и Сэма происходит 8 апреля по ширскому календарю, и в английском издании «Властелина Колец» дается специальное подстрочное примечание, чтобы подчеркнуть, что по этому календарю в марте 30 дней, то есть 8 апреля по ширскому календарю должно соответствовать 7 апреля по-современному[285].
Какое значение для Толкина имели карты, мы знаем еще по «Хоббиту». «Если собираетесь писать сложную книгу — сразу пользуйтесь картой; иначе потом вы эту карту никогда не начертите»[286]. Первые грубые наброски карт для книги Толкин делал еще в начале работы, и в этом ему (пока был рядом) помогал Кристофер. Но карт было явно недостаточно, а они требовали времени и внимания. Толкин сам занялся тщательными расчетами расстояний, чтобы между различными линиями грандиозного повествования не оказалось противоречий. Он сам составлял сложные таблицы, в которых указывалось время переходов вплоть до часов, а иногда даже фазы луны и направления господствующих ветров[287].
Еще одной заботой, потребовавшей много времени и работы, оказались языки, имена героев и названия местностей. Помимо квеньи и синдарина, пришлось разработать основы еще некоторых, например, языка гномов и даже орков, а главное, согласовать их между собой. Эльфийские языки играли главную роль в создании названий и имен; необходимо было учитывать их непременное изменение от эпохи к эпохе. Со стихами и песнями на эльфийских языках Толкин экспериментировал давно, но теперь потребовалось найти для них нужные места в сложно устроенном сюжете. Да и сам сюжет разделился на несколько линий, каждая при этом нуждалась в тщательном согласовании. В конце концов, Луна для Гэндальфа на западе Ристании и для Фродо с Сэмом, пробирающихся в Мордор, действительно должна была находиться в одной фазе…
Постоянно скапливающееся напряжение Толкин пытался снимать работой над чем-то более «легким» — или кажущимся таковым. Например, он подготовил к печати небольшую повесть «Лист кисти Ниггля» (в одном из русских переводов фамилия героя переводится как Мелкин). В этой повести описывался художник, который, подобно самому Толкину, бесконечно работал над всеми, даже над самыми незначительными деталями. Он начинал работу с изображения единственного крошечного листка, стараясь передать его форму, все оттенки цвета. Потом переходил к капле росы на краю листка, от него — к самому дереву, на ветках которого появлялись странные птицы, а затем уже в просветах между ветками и листьями начинал вырисовываться пейзаж. При этом художника все время доставал его настырный сосед. Под конец он даже требовал, чтобы холстом залатали дырявую крышу его дома.
Однажды художник отправился в вынужденное путешествие и после многих мытарств оказался внутри пейзажа, им же созданного на картине. Сама картина к этому времени погибла, от нее остался только один-единственный листок, с которого, собственно, всё и началось. А потом сгорел и этот листок — вместе с музеем.
В этой небольшой повести совсем неожиданно для Толкина местами чувствуются какие-то кафкианские мотивы:
«Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии, — сказал инспектор.
— Знаю, — ответил Мелкин. — Я давно уже известил строителей, но они почему-то не явились. А потом я заболел.
— Понятно. Но теперь-то вы здоровы.
— Я не строитель. Прихотту следует обратиться с просьбой в муниципалитет, пусть пришлют аварийную службу.
— Служба занята более серьезными делами, — сказал инспектор. — Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала бы слишком дорогой. Здесь у вас масса материалов: холст, доски, водоотталкивающая краска…
— Где? — негодующе спросил Мелкин.
— Вот, — сказал инспектор, указывая на картину.
— Моя картина! — воскликнул художник.
— Ну и что? — сказал инспектор. — Дом важнее.
— Но не могу же я… — Но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником: высокий, с головы до ног одетый в черное.
— Поехали, — произнес вошедший. — Я возница!»[288]
Рукопись «Властелина Колец» тоже постоянно усложнялась.
Казалось, теперь она не просто отражает наблюдения и размышления автора, но даже… предсказывает их, формирует реальность. Как писал о «Властелине Колец» К. С. Льюис: «Все это было придумано не затем, чтобы отразить какую-то конкретную ситуацию в реальном мире. Наоборот: это реальные события начали до ужаса соответствовать сюжету, являющемуся плодом свободного воображения»[289].
Случайны эти совпадения или нет, но на новом этапе волшебный мир, описываемый Толкином, уже способен был без какого-либо ущерба для себя вбирать самые разнообразные реальные подробности, по-своему их при этом преображая. Даже манера говорить Фангорна, пастуха деревьев, была позаимствована у реального оксфордского дона. «Когда у Толкина, наконец, дошли руки до этой главы, он, как сам же говорил Невиллу Когхиллу, „срисовал“ манеру речи Древоборода („хрум-хум…“) с гулкого баса Льюиса»[290].
А вот описание мага Гэндальфа после его возвращения из Мории странным образом напоминает некоторые описания Христа (и ангелов).
Эпизод из «Властелина Колец»:
«Гэндальф… — повторил старец, как бы припоминая давно забытое имя. — Да, так меня звали… Я был Гэндальфом… — И он сошел со скалы, поднял сброшенную серую хламиду и снова облачился в нее — будто просиявшее солнце утонуло в туче»[291].
Эпизод из Евангелия (от Матфея):
«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет»[292].
В книге «инклинга» Чарлза Уильямса «Схождение Голубя: краткая история Святого Духа в Церкви» мы находим другой интересный отрывок. (Книга эта, кстати, была чрезвычайно высоко оценена теологами, хотя некоторые пассажи в ней рассматривались как чересчур смелые.)
«Появилось в Палестине во времена правления Принцепса Августа и его преемника Тиберия некое существо. Это существо имело вид человека, бродячего учителя, проповедника-чудотворца. В то время в тех краях было множество проповедников такого сорта, вырвавшихся на свет благодаря недавно установленному Империей миру, но у этого существа силы было гораздо больше, а стиль его речей отличался высокой эффективностью, в частности, в проклятиях, и характеризовался постоянной двусмысленностью. Оно постоянно побеждало в спорах. С одной стороны, оно со всем соглашалось, а с другой — все ниспровергало…»[293]
А вот отрывок из «Властелина Колец»:
«В одном ты вовсе не изменился, дорогой друг, — сказал Арагорн. — Ты по-прежнему говоришь загадками.
— Да? Разве? — отозвался Гэндальф. — Нет, нет, это я, наверное, сам с собой говорил вслух. Стариковский обычай: избирай собеседником мудрейшего — молодежи слишком долго все объяснять. — Он рассмеялся, но и смех его был ласков, как теплый солнечный луч»[294].
Внимательных читателей, несомненно, удивляло полное отсутствие каких-либо религиозных понятий или настроений в «Хоббите» и «Властелине Колец», при том, что сам Толкин был глубоко верующим человеком. Правда, в отличие от К. С. Льюиса, Ч. Уильямса или Г. К. Честертона, Толкин никогда не был «громогласным» проповедником христианства. Возможно, в этом сыграло свою роль то, что он вовсе не был неофитом, — к вере его еще в детстве привела мать, и у него отсутствовал пыл, свойственный многим новообращенным.
Но о чем тогда говорят тщательно выверенные даты и параллели с Евангелием в тексте «Властелина Колец»? Понятно, что Толкин был прекрасно знаком со многими способами толкования Библии. Был он знаком и с типологическим или преобразовательным методом толкования. Применительно к Библии этот метод строится на том, что Ветхий Завет содержит многочисленные прообразы будущего явления Христа. Думается, что Толкин видел подобные прообразы будущего в истории созданного им Средиземья. (Действие «Властелина Колец» происходит в конце Третьей эпохи Средиземья; наше время Толкин относил примерно к Шестой или Седьмой эпохе, то есть действие «Властелина Колец» должно было происходить семь или восемь тысяч лет назад, через три тысячи лет после гибели Атлантиды, с которой он сам неоднократно сравнивал свой Нуменор.)
Кристофер, младший сын Толкина, начал службу в британских частях ВВС в самом начале января 1944 года. Мировая война все еще продолжалась, но, к счастью для Кристофера, основные сражения теперь происходили на континенте, что, впрочем, не снимало отцовского беспокойства.
«Помни о своем ангеле-хранителе, — писал он сыну. — Нет, не о пухленькой дамочке с лебедиными крыльями! Как ду́ши, наделенные свободой воли, мы поставлены так, чтобы смотреть в лицо (или быть в состоянии смотреть в лицо) Господу. Однако Господь находится и у нас за спиной, постоянно поддерживая и питая нас (как существ тварных). Вот это яркое средоточие силы, эта точка соприкосновения со спасательным тросом, духовной пуповиной — и есть наш ангел, глядящий одновременно во все стороны — и на Господа позади нас, и в направлениях, нам недоступных, и на нас. И ты не уставай глядеть на Господа — по собственному праву и насколько хватит сил. Если в час невзгод не сможешь обрести внутреннего мира, а это дано столь немногим (мне меньше прочих), не забывай, что стремление к тому — не тщеславие, но конкретное действие. Извини, что так говорю, да притом еще и невразумительно. Но ведь пока я ничего больше не могу для тебя сделать, родной ты мой».
И далее:
«Введи в привычку „молитвенные обращения“. Я сам часто к ним прибегаю (на латыни). Gloria Patri, Gloria in Excelsis, Laudate Dominum, Laudate Pueri Dominum (эту я особенно люблю), один из воскресных псалмов и Magnificat, и еще литанию Лоретто (с молитвой Sub tuum praesidium). Если знаешь их наизусть, никогда не испытаешь недостатка в словах радости. Так же хорошо и похвально помнить чин мессы, чтобы произносить его в сердце своем всякий раз, когда суровые обстоятельства не позволяют тебе пойти на службу»[295].
Многие из писем Толкина были микрофильмированными — полузабытое ныне изобретение. В военное время это позволяло значительно уменьшить вес пересылаемой самолетами корреспонденции, а при необходимости — быстро уничтожить ее.
Из писем Кристоферу мы немало узнаем о самом Толкине.
«Дорогой мой, — писал он сыну 7 июля 1944 года. — С отправки моего последнего письма к тебе прошло всего каких-то два дня, но мне опять ужас как хочется поговорить с тобой… Сегодня утром на мне были покупки и кадеты; а когда я второй раз возвращался в город, задняя шина с громким треском лопнула и камера вылезла наружу. По счастью, стряслось это неподалеку от Денниса (Толкин в это время ездил на велосипеде, Деннис — хороший знакомый Толкина. — Г. П., С. С.), так что я смог утешиться в „Гербе садовников“, где подают теперь смесь университетского эля и горького пива. Но после ланча пришлось ехать в город в третий раз. А с 5 до 8 часов с помощью старых досок и сэкономленных гвоздей надстраивал дом для новых представителей куриного племени, чтоб им провалиться. (В военные годы Толкины не только вскапывали грядки под овощи, но и держали кур. — Г. П., С. С.)
Только что прослушал новости; а день между тем миновал.
Тут у нас завелась семейка снегирей — верно свили гнездо в саду или где-то рядом; птички совсем ручные и в последнее время немало веселят нас своими проделками, пока птенцов кормят, порою — прямо под окном гостиной. Их любимый деликатес — насекомые в кронах деревьев и семена осота. А я и не знал, что снегири ведут себя совсем как щеглы. Пузатенький старый папенька в розовом жилете и при параде висит вниз головой на побеге осота и трезвонит не переставая. Летают и крапивники. А больше ничего примечательного нет; хотя всевозможных птиц и впрямь развелось немало, после теплых-то зим, тем более что в наши дни кошки почти повывелись. Сад, как всегда, — жуткая глушь; весь утопает в сочной зелени; и повсюду, куда ни глянь, — розы. Кстати о снегирях. Ты знаешь, что они имеют прямое отношение к благородному искусству пивоварения? Я тут на днях опять заглянул в „Калевалу“, — сдается мне, что это одна из тех книг, до которых у тебя до сих пор не дошли руки. И открылась она на руне XX; а эта руна мне когда-то ужасно нравилась: в ней речь идет главным образом о происхождении пива. Когда впервые удалось заставить пиво забродить, стояло оно в березовых кадках и, вспенившись, разлилось по всему дому; и, конечно же, герои сбежались к питью, жадно его вылакали — ну, и надрались в стельку. „Пьян был Ахти, пьян был Кауко, весельчак напился пьяным этим пивом дочки Осмо“. Так вот, снегирь подсказал дочке Осмо перелить забродившее пиво в дубовые бочки, окованные медными обручами, и вынести их в погреб. „Вот как пиво появилось. Оттого и имя славно, хорошо прозванье пива, что оно возникло дивно, что мужам оно приятно, что на смех наводит женщин, а мужам дает веселье, а глупцов на драку гонит…“
Право, весьма здравые рассуждения.
Бедолаги финны — с этим их чудным языком.
Похоже на то, что скоро их всех изведут под корень.
Жаль, что мне так и не удалось побывать в Стране десяти тысяч озер до войны.
А ведь финский язык едва не загубил мне „модерашки“. Зато, к счастью, положил начало „Сильмариллиону“.
<…>
Я вот все думаю, как у тебя дела с полетами (Кристофер служил в авиации. — Г. П., С. С.). С тех пор как ты в первый раз вылетел в одиночку, мы ведь больше ничего об этом от тебя не слышали. Мне особенно запомнились твои замечания насчет скользящих в воздухе ласточек. В этом — самая суть, не так ли? Вот безысходная трагедия всех машин, она тут как на ладони. В отличие от искусства, которое довольствуется тем, что создает новый вторичный мир в воображении, техника (все эти машины) пытается претворить наши желания в жизнь и этим создать некую новую могучую силу; а ведь на самом деле подлинного удовлетворения это никогда нам не принесет. Трудосберегающие машины лишь порождают труд еще более тяжкий, еще более нескончаемый. А к врожденному бессилию тварного существа добавляется еще и Падение, в силу которого наши изобретения не только не исполняют наших желаний, но напрямую обращаются к новому, кошмарному злу. Так мы неизбежно приходим от Дедала и Икара к тяжелому бомбардировщику…»[296]
В сентябре 1944 года Кристофера перевели в лагерь под Стандертоном в Трансваале (Южная Африка).
«Дорогой мой! — писал сыну Толкин. — Мне ужасно приятно, что присланные мною главы („Властелин Колец“. — Г. П., С. С.) ты одобрил. Как только получу их назад, вышлю следующую порцию; на мой взгляд, она еще лучше („О кролике, тушенном с травами“, „Фарамир“, „Запретная заводь“, „Дорога до перепутья“, „Лестницы Кирит Унгола“, „Логово Шелоб“ и „Выбор мастера Сэммиуса“).
Дома новостей немного. Но в Оксфорде света становится все больше. С окон постепенно снимают затемнение; на Банбери-роуд — фонари в два ряда; а кое-где в переулках — обычные фонари. В четверг вечером отправился к „инклингам“ и, представляешь, впервые за пять лет ехал при свете, прямо как в мирное время, до самого Модлина. Были оба Льюиса и Ч. Уильямс; в придачу к приятной беседе прослушали последнюю главу из книги Уорни, статью К. С. Л. (Клайва Льюиса. — Г. П., С. С.) и длинный образчик его перевода из Вергилия. Домой отправился за полночь, часть пути прошел вместе с Ч. У., и разговор зашел о том, как трудно понять, что общего в понятиях, ассоциируемых со свободой в нынешнем значении этого слова, — если есть в них вообще нечто общее. Я в наличие этого общего не верю; само слово настолько затаскано пропагандой, что уже утратило какую бы то ни было значимость для разума и превратилось просто-напросто в дозу эмоций, стимулирующую накал страстей. В большинстве случаев оно вроде бы подразумевает следующее: те, кто над тобой стоит, должны говорить (от рождения) на том же самом языке — вот всё, к чему в конце концов сводятся все запутанные представления о расе или нации; а в Англии — о классе, если на то пошло.
Разумеется, западные военные новости все так же занимают наши умы; но тебе они известны ничуть не хуже, чем нам. Тревожные ныне времена, невзирая на преждевременное ликование. Закованные в броню парни все еще в гуще событий, и разумно полагают (сдается мне), что гущи еще много будет.
Не понимаю я позиции газет. Утверждается, что немецкая армия — это разношерстное сборище деморализованных неудачников, но это „разношерстное сборище“ все еще продолжает оказывать яростнейшее сопротивление отборнейшим, превосходно экипированным войскам (а они и впрямь таковы), лучше которых в жизни не выходило на поле битвы. Англичане гордятся (или гордились раньше) своей врожденной способностью „вести себя спортивно“ (что означает, между прочим, — отдавать противнику должное); впрочем, один раз побывав на футбольном матче между командами высшей и первой лиги, убеждаешься, что умением вести себя спортивно обладают далеко не все обитатели нашего острова. Грустно видеть, как пресса буквально вопит, что любой немецкий командующий, который еще держится в этой отчаянной ситуации, — не иначе как пьяница и одураченный фанатик. Мы отлично знаем, что Гитлер — вульгарный, невежественный хам; но при этом на свете полным-полно и таких хамов, которые по-немецки не говорят. Вот в местной газете недавно была напечатана основательная такая статья, на полном серьезе призывавшая к последовательному уничтожению всей германской нации: дескать, после военной победы иной образ действий просто немыслим; потому что, изволите ли видеть, немцы, они — гремучие змеи, и в упор не видят разницы между добром и злом! (А как насчет автора этой статьи?) Похоже, немцы столь же вправе объявлять поляков и евреев подлежащими уничтожению паразитами и недочеловеками, как мы — немцев.
Был, конечно, и ответ на эту статью. К сожалению, тоже вульгарный.
И ничего с этим не поделаешь. Нельзя сражаться с Врагом при помощи его же Кольца, не превращаясь при этом во Врага; мудрость Гэндальфа, похоже, ушла вместе с ним на тот — Истинный Запад.
<…>
Северо-западный ветер над Па-де-Кале унесся прочь, и у нас вновь погожий сентябрьский денек, серебристое солнышко мерцает в вышине сквозь клочья облаков. Надо бы мне управиться с „Перлом“ и бросить его в алчную утробу Бэзила Блэкуэлла, но вот накатила вдруг осенняя жажда странствий. Как бы мне хотелось отправиться в путь с рюкзаком за плечами, не ставя себе никакой определенной цели — кроме череды тихих гостиниц. Одно из чересчур давно откладываемых удовольствий, которые непременно надо пообещать себе, когда Господу будет угодно освободить нас и позволить нам воссоединиться, — как раз вот такая пешая прогулка, желательно в гористом краю, неподалеку от моря, где шрамы войны, порубленные леса и расчищенные бульдозерами поля не так бросаются в глаза. „Инклинги“ уже договорились, что отпразднуют победу — если, конечно, до нее доживут, — арендовав деревенскую гостиницу, по меньшей мере, на неделю и проведя это время исключительно за пивом и беседами, на часы не глядя! Да пребудет с тобою Господь, мой мальчик, да направит Он тебя всегда и везде»[297].
Соучастие и сочувствие сына были необходимы Толкину.
«Неделя выдалась на удивление интересная, — писал он Кристоферу 6 октября 1944 года. — Сам знаешь, как нежданно-негаданно обнаружив в кармане давно позабытый шиллинг, начинаешь чувствовать себя едва ли не богатеем, — даже если в тот момент и не на мели. Это я вовсе не о том, что заработал около 51 фунта на возне с кадетами во время каникул, хотя и это неплохо. Я про то, что у меня в запасе — целая неделя! И триместр начинается не сегодня, а лишь на следующей неделе! При одной этой мысли испытываю чудесное (пусть и безосновательное — за него мне еще придется расплачиваться) ощущение свободы.
<…>
Во вторник в полдень заглянул в „Птичку с младенцем“ вместе с Ч. Уильямсом. К вящему моему удивлению, обнаружили внутри Джека и Уорни (так друзья называли Клайва Льюиса и его брата Уоррена. — Г. П., С. С.). Эти двое уже устроились за столиком. (Сейчас пиво уже не в дефиците, так что пабы вновь сделались почти пригодны для обитания.) Мы увлеченно беседовали, хотя ровным счетом ничего не помню из нашей беседы… И тут я приметил в уголке паба высокого сухопарого чужака наполовину в хаки, наполовину в штатском, в широкополой шляпе, с живым взглядом и крючковатым носом. Остальные сидели к нему спиной, но я-то по его глазам видел, что наш разговор его явно занимает, — причем это не обычное страдальческое изумление британской (и американской) публики, оказавшейся в пабе рядом с Льюисами (и со мной). Прямо как Непоседа в „Гарцующем пони“; правда, ужасно похоже! И тут нежданно-негаданно он сам вмешался в беседу, подхватил какую-то реплику насчет Вордсворта — с престранным, ни на что не похожим акцентом. Ну а спустя несколько секунд выяснилось, что это Рой Кэмпбелл (автор „Цветущей винтовки“ и „Пламенеющей черепахи“). Немая сцена! Тем более что К. С. Л. не так давно опубликовал на него язвительный пасквиль в „Оксфорд мэгэзин“, а его „вырезальщики“ ни одного печатного издания не пропустят.
После этого все завертелось стремительно и бурно, и на ланч я опоздал.
Приятно (пожалуй) было обнаружить, что Рой Кэмпбелл в Оксфорд приехал главным образом затем, чтобы познакомиться с Льюисом (и со мной). Мы договорились встретиться в четверг (то есть вчера) вечером. Если бы я только запомнил все то, о чем вчера мы говорили в комнате у К. С. Л., — этого бы на несколько авиаписем хватило. К. С. Л. воздал должное портвейну и сделался слегка агрессивен (настоял на том, чтобы еще раз зачитать вслух свой пасквиль, а Р. К. над ним хохотал); но главным образом мы довольствовались тем, что слушали гостя. Вот окно в большой мир; и при этом сам по себе Кэмпбелл человек мягкий, скромный, сострадательный. Больше всего потрясло меня то, что этот умудренного вида, потрепанный войной Непоседа, прихрамывающий от недавних ран, на девять лет меня младше, и я, возможно, знавал его еще подростком: он жил в Оксфорде, когда мы жили на Пьюзи-стрит (снимали квартиру на пару с композитором Уолтоном, общались с Т. В. Эрпом, родоначальником олухов, и с Чайльдом Уильфридом, твоим крестным, — чьи работы он ставит весьма высоко). А с тех пор он столько всего совершил, что просто описанию не поддается.
Вот вам отпрыск протестантского ольстерского семейства, обосновавшегося в свое время в Южной Африке. Он обратился в католицизм после того, как укрывал в Барселоне отцов-кармелитов; все напрасно, их схватили и безжалостно убили, а Р. К. едва не поплатился собственной жизнью, но спас архивы кармелитов из горящей библиотеки и пронес их через всю „коммунистическую“ страну. Он бегло говорит по-испански (был профессиональным тореадором). Как ты знаешь, потом он всю войну сражался на стороне Франко и, помимо всего прочего, оказался в авангарде отряда, который выдворил „красных“ из Малаги так быстро, что их генерал (Вильяльба, кажется) даже награбленную добычу унести не смог — оставил на столе руку святой Терезы вместе со всеми драгоценностями. Р. К. много интересного порассказал о ситуации на Гибралтаре со времен войны (в Испании). При этом он — истинный патриот и сражается в британской армии. Жаль, я не запомнил и половины всех его историй про поэтов, музыкантов и тому подобной публики — от Питера Уорлока до Олдоса Хаксли. А больше всего мне понравилась байка про грязнулю Эпстайна (скульптора): про то, как он с ним подрался и на неделю уложил в госпиталь. Однако ж передать впечатление от личности столь незаурядной — он и солдат, и поэт, и новообращенный христианин — просто невозможно. Как не похож он на „левых“ — на этих вояк в вельветовых штанах, что бежали в Америку (в их числе Оден, который недавно со своими дружками добился от городского совета Бирмингема запрета на книги Роя Кэмпбелла).
Из Модлина мы разошлись уже за полночь. Я прошел вместе с Р. К. до Боумонт-стрит. Перед этим Льюис удивил нас. Он, отлично зная, что все коммунисты — лжецы и клеветники, свято верит всему, что говорят против Франко, и ничему — в его пользу. Даже открытая речь Черчилля в парламенте нисколько Льюиса не поколебала. Он чтит Святое причастие и при этом восхищается монахинями! Если засадить в тюрьму лютеранина, он сразу „под ружье“ встает, а вот если перебить католических священников, он в это попросту не поверит (думает, наверное, про себя, что святые отцы сами напросились). Впрочем, Р. К. слегка его встряхнул.
<…>
Ты будь добр, „болтай о пустяках“ и дальше.
Письма, они ведь не обязательно про внешние события (хотя любые подробности всячески приветствуются). То, что ты думаешь про себя, тоже не менее важно: Рождество, гудение пчел и все такое прочее. И с какой стати ты полагаешь, будто твоя встреча с химиком-ботаником не стоит упоминания, просто взять в толк не могу. По-моему, так это была прелюбопытная встреча. На самом-то деле страшны и невыносимы вовсе не люди (пусть даже дурные) и не то, что к людям отношения не имеет — например, погода, а создания рук человеческих. Если бы Рагнарёк (война, знаменующая конец мира в скандинавской мифологии. — Г. П., С. С.) выжег все трущобы, и газовые заводы, и обветшалые гаражи, и освещенные дуговыми лампами бесконечные пригороды, то спокойно мог бы заодно и все произведения искусства спалить, — я бы с удовольствием вернулся к деревьям»[298].
Практически вся работа над «Властелином Колец» отражена в письмах Толкина младшему сыну. Некоторые эпизоды разбирались в этих письмах очень подробно. Так, одной из важнейших Толкин считал сцену на перевале, когда Голлум почти раскаивается в своих поступках, склоняясь над уснувшим усталым Фродо. Но Сэм спугнул Голлума бранью, уничтожив возможность раскаяния, которое могло изменить весь ход событий.
«Там (на перевале. — Г. П., С. С.) и нашел их Голлум через несколько часов, когда вернулся по тропке из мрака ползком да трусливой пробежкой. Сэм полусидел, прислонившись щекой к плечу и глубоко, ровно дышал. Погруженный в сон Фродо лежал головой у него на коленях, его бледный лоб прикрывала смуглая Сэмова рука, другая покоилась на груди хозяина. Лица у обоих были ясные. Голлум глядел на них, и его голодное, изможденное лицо вдруг изнутри озарилось странным выражением. Хищный блеск глаз погас; они сделались тусклыми и блеклыми, старыми и усталыми. Голлума передернуло, точно от боли, он отвернулся и покачал головой едва ли не укоризненно. Потом подошел, протянул дрожащую руку и бережно коснулся колена Фродо — так бережно, словно погладил. Если бы спящие могли его видеть, в этот миг Голлум мог показаться им старым-престарым хоббитом, который заждался смерти, потерял всех друзей и близких и теперь вряд ли помнит свежие луга и звонкие ручьи своей юности. Измученный, жалкий, несчастный старец.
От прикосновения Фродо шевельнулся и вскрикнул во сне.
Сэм тут же открыл глаза и первым делом увидел Голлума, который тянул лапы к хозяину, — так ему показалось.
— Эй ты! — сурово сказал он. — Чего тебе надо?
— Ничего, ничего, — тихо отозвался Голлум. — Добренький хозяин.
— Добренький-то добренький, — сказал Сэм. — А ты чего тут мухлюешь, старый злыдень, где пропадал?
Голлум отпрянул, и зеленые щелки глаз засветились из-под тяжелых век. Вылитый паук — на карачках, он сгорбился, втянул голову. Невозвратный миг прошел, словно его и не было…»[299]
В те дни Толкин писал Кристоферу так часто, что письма его сейчас можно расценивать как вехи, отмечавшие трудный путь к горному перевалу.
3 апреля:
«Насчет пятницы ничего толком не помню, кроме того, что утро убито на хождение по магазинам и стояние в очередях: результат — кусок пирога со свининой; да вот еще в колледже пообедал. Обед (в колледже. — Г. П., С. С.) оказался жутко скверный и удручающе скучный, так что я счастлив был оказаться дома еще до девяти. Опять вернулся к рукописи, понемножечку ее поклевываю. Начал работу тяжкую и нудную над главой, где речь вновь заходит о приключениях Фродо и Сэма. Чтобы настроиться переписывал и шлифовал последнюю написанную главу („Камень Ортханка“)»[300].
5 апреля:
«Теперь я твердо намерен закончить книгу и серьезно взялся за дело: засиживаюсь допоздна; необходимо массу всего перечитать заново и исследовать подробно. И до чего же, скажу, тягомотное это дело — снова включаться в начатую работу. Несколько страниц — а с меня уже семь потов сошло. На данный момент Сэм и Фродо как раз встречают Голлума на краю пропасти. Сколько труда ты вложил в эту перепечатку, как красиво переписаны главы! До чего же мне не хватает тебя, личного моего секретаря и критика…»[301]
13 апреля:
«Скучаю по тебе ежечасно; мне без тебя страх как одиноко. Конечно же, у меня есть друзья, да только вижусь я с ними крайне редко. Впрочем, сейчас вроде бы стало чуточку полегче. Сегодня помогал с приемом кадетов (приперлась такая же орава, как всегда), но, насколько я понимаю, в этом триместре они уже — не моя забота; о радость! Вчера почти два часа общался с К. С. Л. и Чарлзом Уильямсом. Прочел им последнюю главу: они одобрили. Начал следующую. По возможности попрошу перепечатать несколько лишних копий, чтобы послать тебе…»
18 апреля:
«Я всегда был против твоего выбора рода войск, но авиация, по крайней мере, избавит тебя от животного ужаса боевой службы на земле, от той окопной войны, что выпала мне. <…> Надеюсь повидать завтра утром К. С. Л. и Чарлза У. и прочесть им новую главу — о переходе через Мертвые болота и о приближении к Вратам Мордора; я ее практически закончил. В воскресенье убил сколько-то времени, отвечая на письмо из Восьмой армии. Я получаю великое множество подобных писем, но это письмо оказалось особенно презабавным. „Профессора королевской кафедры английского языка“, то есть меня, попросили вынести решение в споре, из-за которого столовая некоего легкого зенитного полка Королевской артиллерии раздираема войной двух фракций: как правильно читается имя поэта Купера (Cowper). На кон поставлены Большие Деньги.
<…>
Выразить не могу, как по тебе скучаю, дорогой ты мой. Я бы не возражал, занимайся ты делом полезным. Но все так глупо! — а война умножает любую глупость на 3, а затем возводит во вторую степень: так что драгоценные дни человека подчиняются формуле (Зх)2, где х — стандартная человеческая бестолковость (и это прескверно). Однако надеюсь, что впоследствии опыт в том, что касается людей и вещей, хоть и болезненный, окажется для тебя небесполезным. Мне он пригодился. Ну а касательно того, что ты говоришь о „местных“ условиях: мне они хорошо знакомы. Не думаю, чтобы они сильно изменились (даже к худшему). Я слыхивал, как о них рассуждала моя матушка; с тех пор эта часть мира меня особенно интересует. Обращение с цветными повергает в ужас едва ли не всякого приезжего из Британии, и не только в Южной Африке. К сожалению, немногие сохраняют это благородное негодование надолго»[302].
23 апреля:
«Утром в среду прочел вторую главу — „Путь через Мертвые болота“ Льюису и Уильямсу. Они одобрили. Я уже и третью главу почти закончил — „Врата Земли Теней“. Но история подчиняет меня; я уже целых три главы написал там, где предполагал написать всего одну…»[303]
На следующий день — 24 апреля:
«Скосил три лужайки, написал письмо Джону, поборолся с очередным неподатливым эпизодом „Кольца“. На данный момент мне необходимо знать, насколько позже луна встает каждую ночь в преддверии полнолуния и как именно тушат кроликов!
<…>
Твой рассказ о путешествии в Йоганнесбург в Великий четверг ужасно меня позабавил. Если окажешься в Блумфонтейне, — я вот гадаю, стоит ли еще то маленькое старое каменное здание (Южноафриканский банк), где я родился. И сохранилась ли могила отца? Я так ничего и не предпринял на этот счет, но, сдается мне, матушка распорядилась поставить там каменный крест или отсюда его выслала. Если нет, так могилу уже, возможно, и не найдешь»[304].
30 апреля:
«Вот решил послать тебе еще одно авиаписьмо вместо микрофильмированного, — в надежде подбодрить тебя. Я по тебе ужасно скучаю, и выносить это невероятно трудно, как из-за тебя, так и из-за меня самого. Сплошной ущерб от этой войны, не только материальный, но моральный и духовный, — как же тяжко тем, кому приходится все это выносить. Так было всегда (вопреки поэтам), так будет всегда (вопреки пропагандистам). Нет, конечно, не пойми меня превратно: необходимо встречать лицом к лицу все трудности в нашем жестоком мире. Но столь коротка людская память, столь быстро сменяются поколения, что уже лет через тридцать останутся, наверное, лишь единицы или вообще никого из напрямую переживших то, что действительно „пробивает“ до самого сердца. Обожженная рука всегда рассказывает о пламени убедительнее всего.
<…>
Знаем мы только то (в значительной степени по собственному опыту), что зло всегда пускает в ход громадные силы и всегда с неизменным успехом — да только все равно тщетно; оно лишь подготавливает почву, на которой пустит ростки нежданное добро. Так оно происходит — в общем и целом; так оно происходит и с нашими собственными жизнями… А ты стал для меня столь драгоценным даром в пору горя и душевных терзаний; и твоя любовь, что открылась мне почти сразу же, как ты появился на свет, предрекла мне, словно вслух, на словах, что мне теперь суждено вечно утешаться уверенностью.
<…>
Ну а рукопись моя снова разрастается (вчера весь день над ней сидел, забросив многое другое), и события в ней развиваются самым неожиданным образом. В новых главах Фродо и Сэм уже переправились через Сарн Гебир, спустились с утесов, встретили и временно приручили Голлума. Именно Голлум провел их через Мертвые болота и мордорские отвалы. У главных ворот города хоббиты убедились, что внутрь не пробраться, и отправились к тайному проходу близ Минас Моргула. Там выяснится, что это гибельный Кирит Унгол, и там Голлум их предаст. Но пока они все еще в Итилиэне (чудесный край); пришлось здорово повозиться с тушеным кроликом; а потом их захватили гондорцы; на глазах у хоббитов они напали из засады на армию свертингов (смуглокожих южан), идущую на помощь Мордору. Огромный слон доисторических размеров — боевой слон свертингов — вырвался на волю; так сбылось заветное желание Сэма поглядеть на олифанта; про этого зверя у хоббитов есть детский стишок (хотя сам олифант считается существом почти легендарным). В следующей главе они доберутся до Кирит Унгола, и Фродо попадет в плен…»[305]
4 мая:
«В понедельник видел Льюиса (одного), прочел очередную главу; сейчас занимаюсь следующей; скоро мы окажемся среди теней Мордора. Вышлю тебе копии, как только их сделают…»[306]
6 мая:
«В 6 часов Присцилла с мамой отправились в драматический театр.
Я ненадолго вздохнул спокойно; поужинал вместе с ними довольно поздно (около девяти). В истории хоббитов неожиданно возник новый персонаж. Честное слово, я его не придумывал; он мне, по правде говоря, и не нужен был вовсе, хотя сразу пришелся по душе. Это Фарамир, брат Боромира. И теперь он оттягивает „катастрофу“, распространяясь на тему истории Гондора и Рохана, при этом, распространяясь, несомненно, очень здраво — о воинской славе и славе истинной. Впрочем, если он намерен продолжать в том же духе и дальше, придется ему переселиться в приложения: туда уже отправился прелюбопытнейший материал о табачной промышленности у хоббитов и о языках Запада. Еще произошла битва, включая эпизод с чудовищным олифантом. А после передышки в пещере за водопадом я, надо думать, заведу, наконец, Сэма с Фродо в Кирит Унгол и в паучьи сети. Ну а затем начнется Великое Наступление. И тогда, со смертью Теодена (от руки одного из назгулов) и с прибытием воинств Белого Всадника к Вратам Мордора, дойдет дело до развязки и стремительного раскручивания всех сюжетных линий до конца. Как только перепишу разборчиво весь этот новый материал, вышлю тебе…»[307]
12 мая:
«Все утро провел за письменным столом; впереди уже маячит Минас Моргул. Во второй половине дня поработал в саду на жаре (вполне себе полуденной) и в духоте. Пока ничего не предпринял касательно перепечатки свеженьких глав, для тебя предназначенных: тороплюсь продвинуться вперед как можно дальше, пока есть возможность; не могу отвлекаться, чтобы сделать беловую копию. Крепко люблю тебя; мои мысли и молитвы неизменно с тобою. Сколько всего мне хотелось бы знать! „Когда ты вернешься в землю живых и мы примемся заново пересказывать все, что было, устроившись у стены под солнышком и смеясь над былыми бедами, вот тогда ты мне обо всем и поведаешь“ (Фарамир — Фродо)»[308].
14 мая:
«Вчера поработал сколько-то над рукописью, но приключились две помехи: необходимость прибраться в кабинете (там воцарился полный хаос, неизменный признак литературных или филологических занятий) и заняться делами; и проблема с луной. Я, понимаешь ли, обнаружил, что луны у меня в решающие дни между бегством Фродо и нынешней ситуацией (прибытие в Минас Моргул) выкидывали нечто совершенно невозможное: вставали в одной части страны и одновременно садились в другой. Словом, переписывал отрывки из старых глав вплоть до самого вечера. <…>
Пока все идет хорошо; но приближаюсь к самой сути, где придется, наконец, собрать воедино все сюжетные линии, синхронизировать время и соткать единое повествовательное полотно; вся вещь сейчас обрела уже такую значимость и глубину, что наброски заключительных глав (сделанные сто лет назад) никуда не годятся, уж больно они „детские“…»[309]
21–22 мая:
«Неделя выдалась холодная и пасмурная (так что трава на лужайках не росла, несмотря на мелкий дождичек); воспользовавшись этим, я засел за работу, но быстро дошел до места, в котором сразу увяз. Все, что я набросал и написал прежде, оказалось бесполезным; время, мотивация — все поменялось. Однако ж ценой очень больших усилий я дописал или почти дописал все вплоть до захвата Фродо на горном перевале у самых границ Мордора. Теперь мне предстоит вернуться к остальным и попытаться довести события до финального столкновения. Как думаешь, Шелоб — подходящее имя для чудовищной паучихи? Разумеется, это всего-навсего „she+lob“, то есть „она+паук“; но написанное слитно, выглядит вполне мерзко…»
Понедельник, 22 мая:
«День вчера выдался страх какой холодный. Работал над главой не покладая рук, жутко утомительное занятие; особенно в преддверии кульминации, когда приходится поддерживать напряжение; легкомысленный тон здесь не годится, да в придачу еще мелкие проблемы сюжета и техники. Я писал, рвал и переписывал большую часть всего этого по сто раз; но нынче утром был вознагражден по заслугам: и К. С. Л., и Ч. У. нашли мой труд превосходным, а последние главы — даже лучше всех прочих. Голлум все усложняется, постепенно превращаясь в необыкновенно интригующего персонажа…»[310]
25 мая:
«Этой ночью глаз не сомкнул (в буквальном смысле): отчасти из-за оглушительного рева моторов. В результате на лекции во вторник не то чтобы блистал. Однако главная причина состоит в том, что все мысли мои поглощает Фродо. Он полностью завладел моим вниманием и совсем меня вымотал: главу про Шелоб и про несчастье в Кирит Унголе я переписывал несколько раз. В результате история разворачивается совершенно не так, как в предварительных набросках!»[311]
31 мая:
«На собрании „инклингов“ посидели очень даже приятно. Гвоздем программы стали глава из книги Уорни Льюиса о временах Людовика XIV (мне очень понравилось); и отрывки из повести „Кто возвращается домой?“ Льюиса. Эту рукопись, посвященную аду, я предложил переименовать в „Дом Хьюго“. Вернулся с собрания уже за полночь. Все остальное время, за вычетом хлопот по дому и в саду, ушло на отчаянные попытки довести рукопись „Властелина Колец“ до захвата Фродо орками на перевалах Мордора. И я преуспел. И в понедельник утром прочел К. С. Л. последние две главы — „Логово Шелоб“ и „Выбор мастера Сэммуайза“. Он одобрил, даже в бурный восторг пришел, чего за ним обычно не водится. А последняя глава так вовсе растрогала его до слез. К слову сказать, сокращение Сэм идет не от имени Сэмюэль. Оно — от имени Сэммуайз, что на древнеанглийском означает „полоумный“ (half-wit, скорее уж „полудурок“. — Г. П., С. С.). Точно так же имя его отца Хэм восходит к древнеанглийскому Хэмфаст („Домосед“)»[312].
К концу мая четвертая книга «Властелина Колец» была, наконец, закончена. Начался медленный процесс переписывания рукописи на машинке — Толкин большей частью делал это сам, двумя пальцами. По мере готовности экземпляры глав отправлялись Кристоферу в Южную Африку.
Но работа и теперь (уже в который раз) прервалась. В августе 1944 года Толкин написал Кристоферу: «Вдохновение у меня совершенно иссякло; я опять такой, каким был по весне, во власти все той же апатии»[313]. К счастью, финал книги был уже ясен и все основные линии сведены воедино. Писательский опыт у Толкина за последние годы значительно вырос, в том числе — опыт ведения сразу нескольких достаточно сложных переплетающихся линий повествования. В конце июня он писал Стэнли Анвину:
«Боюсь, я обошелся с Вами не лучшим образом. Надо было держать Вас в курсе того, как продвигаются дела с продолжением „Хоббита“, но в течение целого года я не имел возможности написать ни строчки. Все же в результате освобождения от работ по линии Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил (и пока меня не поглотила очередная экзаменационная пучина) мой труд (великий) наконец-то близится к завершению, и я вот-вот его закончу, пренебрегая всеми прочими повинностями, насколько возможно. Надеюсь, Вы до сих пор в книге моей заинтересованы, невзирая на дефицит бумаги, — по крайней мере, в обозримом будущем. В нашем городе переписывать что-либо на машинке жутко трудно и/или дорого; а когда моя собственная машинка сломалась, никто не взялся ее ремонтировать. Так что рукопись до сих пор существует в одном-единственном экземпляре; да и тот нуждается в правке — по мере продвижения к финалу. Надеюсь, впрочем, что скоро смогу предоставить Вам изрядный кусок рукописи. Жаль, что Рейнер сейчас занят иными, более серьезными делами»[314].
Эти слова, впрочем, не означали действительного окончания работы.
В течение всей второй половины 1944 года и начала следующего Толкин продвинулся незначительно. Как всегда, от рукописи отвлекали повседневные дела, и, разумеется, находились всякие другие многочисленные поводы для размышлений о происходящем в мире, для осмысления сделанного, для воспоминаний. Ты можешь создавать шедевры, но все равно при этом живешь среди самых обыкновенных людей. В мире Средиземья эпохи могут занимать тысячи лет, но в нашем мире время течет гораздо быстрее. В начале июня прошла высадка союзнических войск в Нормандии. Советские армии на Восточном фронте успешно продвигались на запад. С некоторых пор бомбардировщики в небе над Англией почти не появлялись, зато немцы начали использовать крылатые ракеты «Фау-1». В ответ усилились массированные бомбардировки немецких городов.
«Что до богохульства, — писал Толкин сыну, — уместно будет вспомнить (там, где они применимы) слова: „Отче! прости им, ибо не ведают они, что творят“. Или — говорят. Отчего-то кажется мне, что Господа нашего на самом деле куда больше огорчают те обиды, что мы наносим друг другу, нежели проступки, что мы совершаем против Него. С лингвистической точки зрения нет особой разницы между „черт тебя побери“, — произнесенного бездумно, и тем, о чем ты мне пишешь. Слова как сексуальные, так и сакральные утратили всякий смысл, сохранив разве что тень былой эмоциональности. Нет, я вовсе не отрицаю, что это дурно; более того, это утомляет, удручает и бесит, но все же это не богохульство в прямом смысле слова…»[315]
И далее: «А еще ты напомнил мне о внезапном озарении (или, может статься, осознании, которое вдруг облеклось у меня в голове в форму картинки), что я пережил совсем недавно, пробыв полчаса в церкви Святого Григория перед Святым причастием. Я видел там Свет Божий (или думал о нем); и в нем подрагивала крошечная пылинка (или миллионы пылинок, к одной-единственной из которых был прикован мой смиренный разум), и мерцала она белизной, потому что отдельный луч Света удерживал ее — и озарял. Не то чтобы Свет разбивался на множество отдельных лучей, нет, но само по себе существование пылинки и ее местонахождение по отношению к Свету образовывало прямую линию, и эта линия тоже была Свет…»[316]
Толкин в это время работал над эссе о волшебных сказках (на основе лекции, когда-то прочитанной в Сент-Эндрюсе). Эссе предназначалось для публикации в сборнике, посвященном Чарлзу Уильямсу. Говоря о сказках со счастливым концом, Толкин использовал новый, несколько странно звучащий термин «эвкатастрофа» («благая катастрофа», по аналогии с Евангелием, что переводится как «благая весть»). Термин этот, несомненно, был шире буквального его понимания.
Это хорошо видно по следующему письму:
«Вижу по „журналу“, что послал тебе три главы 14 октября и еще две — 25 октября. Первая посылка уже должна была до тебя дойти, надеюсь, ко дню рождения; вторая вскорости воспоследует; хотелось бы верить, что новая партия прибудет к тебе в начале нового года. С нетерпением жду твоего вердикта. Ужасно раздражает, когда твой самый главный читатель находится от тебя в десяти тысячах миль или летает туда-сюда на своем Грохочущем Ставне.
<…>
Книга Пятая и Последняя открывается тем, что Гэндальф скачет в Минас-Тирит. Далее — снятие осады благодаря атаке всадников Рохана, в ходе которой падет король Теоден. Гэндальф и Арагорн отбросят врага назад к Черным Вратам. Переговоры, в ходе которых Саурон предъявит разнообразные свидетельства (такие, как мифрильную кольчугу), доказывающие, что Фродо у него в руках; однако Гэндальф обсуждать условия откажется — страшная дилемма, даже для мага. Затем действие переместится назад — к Фродо и к его спасению Сэмом. С горней высоты они увидят, как из Черных Врат хлынули громадные Сауроновы резервы, и поспешат вдвоем через покинутый всеми Мордор к горе Рока. С уничтожением Кольца (как именно это произойдет, я пока не знаю) Барад-Дур рушится, и войска Гэндальфа устремляются в Мордор. Фродо и Сэма из огня, извергающегося из расщелины горы Рока, спасет орел Гэндальфа; а затем придется распутывать все разрозненные сюжетные линии, вплоть до пони Билла Ферни. Немало работы придется, наверное, на последнюю главу, в которой Сэм зачитывает своим детишкам отрывки из огромной книги и отвечает на их вопросы о том, что и с кем случилось; это будет хорошо перекликаться с рассуждениями Сэма о сути историй на лестницах Кирит-Унгола. Однако заключительным эпизодом все же станет поездка Бильбо, Элронда и Галадриэли через Ширские леса по дороге к Серым Гаваням. Фродо присоединится к ним и уйдет потом за Море (перекличка с его видением дальней зеленой страны в доме Тома Бомбадила).
Так заканчивается Средний Век и начинается Владычество Людей.
И Арагорн на далеком троне Гондора теперь трудится не покладая рук, чтобы установить порядок и сохранить память о прошлом среди беспорядочной людской массы, что хлынула на Запад волею Саурона. Правда, Элронд уплыл, и все Высокие эльфы — тоже. Что сталось с энтами, пока не знаю. Возможно, кстати, и такое: когда начну записывать, все вдруг получится не совсем так, как в этом плане; книга сама собою пишется»[317].
Ключевой момент был действительно пройден.
Ничто уже не могло прервать работу, даже размышления Толкина о судьбе сына. «Боюсь, Воздушные силы в основе своей абсурдны per se, — писал он Кристоферу. — Как бы мне хотелось, чтобы ты вообще не имел ничего общего с этим кошмаром. Для меня — тяжкое потрясение то, что мой родной сын служит современному Молоху. Однако подобные сожаления бессмысленны и тщетны; я понимаю, что твой долг — нести службу настолько хорошо, насколько хватает сил и способностей. В любом случае это, наверное, лишь своего рода брезгливость: так человек, обожающий (или обожавший) бифштекс и почки, не желает ничего знать о скотобойне. Пока война ведется подобным оружием, ужасаться военным самолетам означает лишь уходить от проблемы. И все равно я ужасаюсь»[318].
От современной войны мысль Толкина сразу обращается к Сэму:
«Сэм — мой наиболее тщательно прорисованный персонаж, он преемник Бильбо из первой книги; истинный хоббит. Фродо, наверное, не так интересен, ведь (по необходимости) он возвышен и обременен своей миссией. Книга, пожалуй, закончится на Сэме. По выполнении своей миссии Фродо сделается слишком благородным и изысканным и, конечно, уйдет на Запад вместе со всеми выдающимися личностями; а вот Сэм обоснуется в Шире, среди садов и пабов. Ч. Уильямс, который читает это все, говорит: замечательно, что в центре книги — не раздор и война (хотя они тоже изображены с пониманием), но — свобода, мир, повседневная жизнь и доброе расположение духа. Тем не менее он согласен, что для всего этого необходимо существование огромного мира и за пределами Шира, — иначе все станет избитым и банальным в силу привычки и погрязнет в рутине»[319].
Так же естественно он возвращается к повседневности, от нее — снова к истории Кольца и вновь — к современной войне:
«Мелкий бесенок из племени Гада, специально приставленный препятствовать нашим с Льюисом встречам, нынче утром устроил особенный аттракцион: на кухне кран протек, а раковина возьми и засорись! Устранял неполадки едва ли не до 11 часов утра. Но до Модлина добрался. Подрожав немного над двумя унылыми вязовыми поленьями (вяз, как всегда, упрямо отказывается гореть!), мы решили устремиться к теплу и пиву „Митры“»[320].
«Я так рад, что „Кольцо“, на твой взгляд, по-прежнему на высоте. Меня самого, пожалуй, более всего затронуло рассуждение Сэма насчет бесшовного полотна истории и та сцена, в которой Фродо засыпает у него на груди, и трагедия несчастного Голлума, который в тот момент был, наверное, на волосок от раскаяния — ах, если бы не грубое слово, вырвавшееся из уст Сэма. Есть две абсолютно разные эмоции: одна волнует меня несказанно, и я вызываю ее без труда — это мучительное ощущение утраченного прошлого (лучше всего выраженное в словах Гэндальфа о палантире); а вторая — триумф, пафос, трагедия персонажей. Ее-то (вторую) я и учусь добиваться по мере того, как узнаю своих героев. Но, по правде говоря, она не столь близка моему сердцу и, скорее, навязана мне фундаментальной литературной дилеммой. Историю полагается рассказывать, иначе никакой истории не будет; однако более всего меня волнуют истории нерассказанные»[321].
И далее:
«Только что слушал новости. Русские всего в 60 милях от Берлина. Похоже, скоро произойдет нечто решающее.
Ужасающее разорение и несчастья — следствия этой войны. Разорение всего того, что могло бы составить (и составляет) общее достояние Европы и мира, не будь человечество настолько одурманено. И, однако же, люди торжествуют и злорадствуют, слушая про бесконечные потоки несчастных беженцев, растянувшиеся на сорок миль, о женщинах и детях, что хлынули на запад — и умирают в пути. Похоже, в этот темный дьявольский час в мире не осталось ни тени жалости и сострадания, ни искры воображения. Нет, не спорю, что это все, в нынешней ситуации, созданной главным образом (но не исключительно) немцами, и необходимо, и неизбежно. Но злорадствовать зачем? Возможно, мы все еще находимся на той стадии цивилизованности, когда и впрямь есть смысл казнить преступника — но зачем вздергивать рядом с ним его жену и ребенка, под гогот орочьей толпы?
Уничтожение Германии, будь оно сто раз заслуженно, — одна из кошмарнейших мировых катастроф. Мы тут с тобой бессильны. Такой, видимо, и должна быть мера вины, по справедливости приписываемая любому гражданину страны, который не является при этом членом ее правительства. Первая Война Машин, похоже, близится к своему конечному, к сожалению, пока незавершенному этапу, и это при том, что все мы, увы, обеднели, а многие осиротели или стали калеками, а еще многие миллионы погибли. Победили Машины. Став привилегированным классом, они обретут непомерно большую власть. А что дальше?»[322]
После долгого перерыва Толкин, наконец, снова пишет своему издателю. Формальной причиной письма послужил добрый отзыв одного из сыновей Анвина Дэвида, прочитавшего повесть «Лист работы Ниггля» в «Даблин ревю». Но Толкина интересует даже не это. Он хочет высказаться о своих дальнейших планах. В некотором смысле — они неизменны.
«Дорогой Анвин!
Я и сейчас мечтаю об одном — опубликовать „Сильмариллион“.
Если помните, в свое время Ваш рецензент усмотрел в рукописи некоторую красоту, но „кельтского“ характера, якобы раздражающую англосаксов. Однако есть у меня сейчас еще и великое продолжение к „Хоббиту“; понятно, я использую эпитет „великий“ в количественном смысле. Однако урезать и сокращать это продолжение „Хоббита“ никак невозможно. При этом оно еще и не совсем закончено. В прошлом году я пытался это сделать и не преуспел. Эта книга — не из тех, которые можно писать урывками. Я, как Ниггль, мечтаю о „государственном пособии“, но, подобно ему, вряд ли его получу! Конечно, я представлю рукопись на Ваше рассмотрение, как только закончу. Сдается мне, я даже обещал уже послать Вам на суд хотя бы отрывок. Но это произведение настолько тесно увязано воедино (причем продолжает разрастаться во всех частях одновременно), что я просто не в состоянии выпустить из своих рук ни одну из глав — понимаете, я все надеюсь, что вот сейчас, прямо сейчас за них возьмусь. Тем более что в пригодном для прочтения виде существует всего один-единственный экземпляр (переписанный сыновьими и моими руками), и я просто боюсь с ним расстаться. В наши суровые дни от расходов на профессиональную перепечатку я пока увиливаю — по крайней мере, до тех пор, пока не допишу до конца и не выверю весь текст. Но не хотите ли Вы, в самом деле, взглянуть на кусок-другой? Книга поделена на пять частей, в каждой — по 10–12 глав. Четыре части уже закончены; к последней — приступил. Я мог бы высылать рукопись часть за частью со всеми наличествующими изъянами — дополнениями, поправками, изменениями в именах собственных до тех пор, пока Вы не возопите: довольно! пусть отправляется вслед за своим „Сильмариллионом“ в Лимб для неопубликованных гигантов!»[323]
Война в Европе завершилась капитуляцией Германии.
Это случилось 9 мая, а на другой день Чарлз Уильямс, один из «инклингов», неожиданно попал в госпиталь. Понадобилась срочная операция кишечника, но, к сожалению, она прошла неудачно — 15 мая Уильямс умер. Смерть эта невольно напомнила Толкину о том, что даже окончание мировой войны вовсе не означает наступления счастливой жизни. Через пару недель (2 июня) он написал Кристоферу: «Сегодня во второй половине дня в парке состоится парад в честь расформирования нашей гражданской обороны. В моих глазах это — сущее посмешище, ведь Война еще не закончена (а та, что закончена, или, по крайней мере, часть ее, в значительной мере проиграна)». И еще раз повторил: «Все войны неизменно оказываются проигранными».
Да и чему можно радоваться? «Эти сегодняшние новости (письмо от 9 августа 1945 года. — Г. П., С. С.) про „атомные бомбы“ столь ужасны, что кровь стынет в жилах. Что за безумцы эти помешанные физики: согласиться выполнять подобную работу в военных целях, то есть хладнокровно разрабатывать уничтожение мира! Мощные взрывчатые вещества в руках людей, моральный и интеллектуальный уровень которых постоянно падает, это все равно что раздать пистолеты обитателям тюрьмы, а потом говорить, что вы надеялись таким образом „обеспечить мир“. Но, может, что-то хорошее из всего этого и выйдет, если газетные отчеты не грешат чрезмерным пылом: Японии, например, придется сдаться. Что ж, все мы в руках Господних. Вот только на строителей Вавилонской башни Он всегда взирает без благосклонности»[324].
Работа над «Властелином Колец» возобновилась летом 1946 года. По-прежнему отвлекало многое; не в последнюю очередь — дела университетские.
Профессорское звание в Англии — это вовсе не раз и навсегда определенная иерархическая ступенька. Быть профессором в Лидсе вовсе не то, что в Оксфорде; есть и другие более тонкие отличия, например, между разными колледжами. Почти 20 лет Толкин был «роулинсоновским и босуортским профессором англосаксонского языка» в Пембрук-колледже. Но в конце 1945 года ему удалось стать «мертоновским профессором английского языка и литературы», то есть перейти в Мертон-колледж. Как мы уже говорили, «именные» профессорские должности в Англии создаются, как правило, одновременно с денежным фондом, из которого в дальнейшем выплачивается зарплата и финансируются другие профессорские дела. При создании фонда непременно оговариваются условия его использования (иногда они включают в себя и тематику преподавания, и направление научной работы). Переход с одной профессорской должности на другую позволяет донам «расти» внутри своей профессорской категории. В этом смысле должность мертоновского профессора была куда более привлекательной, чем роулинсоновского и босуортского.
В октябре 1945 года Толкин написал Кристоферу:
«Вчера в 10 утра был, как полагается, введен в должность, а потом пришлось вытерпеть самое впечатляющее заседание колледжа — из всех мною там виденных. Длилось оно до 1.30 без перерыва, а потом все в беспорядке разбрелись. Я пообедал в Мертоне, уладил кое-какие дела: внес свое имя в канцелярии казначея в список обеспечения жильем и получил Главный Ключ ко всем дверям и воротам[325]. Просто невероятно! Я стал, наконец, членом настоящего колледжа (и при этом весьма крупного и богатого). Мне просто не терпится тебе здесь все показать»[326].
Все эти изменения Толкину чрезвычайно льстили.
«В четверг впервые поужинал в Мертоне за „высоким столом“; очень мило, хотя и необычно. Из экономии комната отдыха практически не отапливается, так что доны сходятся и дружески болтают на возвышении, пока кто-нибудь не решит, что народу собралось довольно и пора прочесть молитву. После этого садятся за стол, ужинают, пьют портвейн и кофе, курят, листают вечерние газеты, и все это — за высоким столом, в манере хоть и приятно непринужденной, но изрядно шокирующей тех, кто привык к более строгим церемониям и жесткой иерархии средневекового Пембрука. Около 8.45 мы с Дайсоном прогулялись по „нашему парку“ к Модлину, навестили Уорни и Хаварда; Льюис был в отлучке»[327].
К моменту всех этих событий Толкин и Льюис находились в гораздо более холодных отношениях, чем раньше. Причин для отчуждения накопилось немало. Совсем недавно, в начале 1945 года, Толкин писал сыну в Южную Африку: «Я иногда во сне видел, что мы с К. С. Л. пробились в мертоновскую профессуру. Славно было бы оказаться с ним в одном и том же колледже; а для меня это означало бы отрясти с ног прах своего жалкого Пембрука»[328].
Однако теперь, когда сон стал явью, в письме Стэнли Анвину Толкин как-то заметил между делом: «Мы вот-вот изберем еще одного мертоновского профессора (современной литературы). Надо бы, конечно, К. С. Льюиса, но, может, и лорда Дэвида Сесила, кто знает»[329].
В этих словах энтузиазм не так уж явен.
Толкин входил в специальную комиссию из семи человек, которая должна была избирать нового профессора. Вряд ли голос Толкина был решающим, да у Льюиса в Оксфорде и без того было много врагов (талант острого полемиста сыграл в этом далеко не последнюю роль); к тому же многие считали книги Льюиса слишком «популярными» и недостаточно научными. Трое заведомых противников состояли, например, в той же комиссии, но факт остается фактом: Толкин поддержал не только Льюиса, но и Дэвида Сесила. В итоге споров мертоновским профессором был избран вообще «третий лишний» — Ф. П. Уилсон.
Какую-то роль в изменившихся отношениях между друзьями сыграла и довольно жесткая критика Льюисом «Властелина Колец» (стихов, отдельных глав, деталей), да и дорогие сердцу Толкина поэмы, в общем, Льюису никогда не нравились.
Толкин любил рассказывать друзьям об одном случае, произошедшем с ним в поезде, когда он возвращался из Глазго после прочитанной там лекции по «Сэру Гавейну»:
«От Мотеруэлла до Вулвергемптона я путешествовал в обществе молодой матери-шотландки с крошечной дочуркой, которых избавил от стояния в проходе переполненного поезда. Я сказал контролеру, что порадуюсь их соседству, и им разрешили ехать со мной первым классом без доплаты. Прощаясь, шотландка сообщила, что пока я отходил перекусить, ее малышка заявила: „Этот дядя мне нравится, только я его ну совсем не понимаю“. На это я смог только несколько растерянно заметить, что да — на непонимание жалуются многие, а вот нравится… это не так уж распространено».
В июне 1946 года Стэнли Анвин, только что получивший дворянское звание, опять поинтересовался у Толкина, как продвигается работа над «Властелином Колец».
«Не знаю, заинтересуют ли Вас сведения о столь „многообещающем“ (буквально) и при этом ничего не производящем авторе, — ответил Толкин. — Я все же предпринял величайшие усилия закончить продолжение к „Хоббиту“. Главы эти не раз путешествовали в Южную Африку и обратно — к главному моему критику и помощнику Кристоферу, который к тому же работает сейчас над картами. Однако я не очень преуспел в работе, уж слишком ополчились на меня всяческие злоключения и недуги. Теперь мне придется заново и досконально изучить свой собственный труд, чтобы иметь возможность вернуться к нему. Но я действительно собираюсь закончить книгу до осеннего триместра, в крайнем случае — до конца года. Хотя не знаю, найдется ли у Вас бумага, даже если произведение хорошо себя зарекомендует…»[330]
Говоря о «величайших усилиях», Толкин несколько лукавил, поскольку больше года практически вообще не работал над рукописью. Но теперь он действительно готов был вернуться к работе. И успехи Льюиса его к этому подталкивали, и неуклонно разрастающийся «Сильмариллион» грел сердце.
СИНДАРЫ — Сумеречные Эльфы; тэлери, жившие в Белерианде (кроме Зеленых Эльфов).
СРЕДИЗЕМЬЕ — земли к востоку от Великого Моря; назывались также Покинутые Земли, Внешние Земли, Великие Земли, Эндор, Эннор.
СУМЕРЕЧНОЕ НАРЕЧИЕ — синдарин.
ТАЙНЫЙ ПЛАМЕНЬ — Суть Жизни Мира, хранимая Илуватаром.
ЭЛЬДАРЫ — согласно легенде, имя, которое Оромэ дал всем эльфам, но обычно означало лишь эльфов трех племен (нолдоры, ваниары, тэлери), вышедших в поход от Куйвиэнэн, независимо от того, пришли они в Аман или нет. Эльфы Амана звались еще тарэльдары — Высшие Эльфы, и Эльфы Света — калаквэнди. Имя означало «Звездный Народ».
ЭЛЬФЫ — Перворожденные. Старшие Дети Эру, первыми пришедшие в мир. Считалось, что эльфы бессмертны; они жили долго и были вечно юны, а умирая, не уходили из Круга Мира, но возрождались.
ЭОЛ — по прозванию Темный Эльф, искусный кузнец, живший в Нан Эльмоте; взял в жены Арэдэль, сестру Тургона; дружил с гномами; сковал мечи Ангурэль и Англахель; отец Маэглина; казнен в Гондолине.
ЭФЕЛЬ ДУАФ — Горы Тьмы, хребет между Гондором и Мордором.
К сожалению, 1946 год тоже не стал переломным.
Слишком много оказалось текущих университетских дел. А дом на Нортмур-роуд вдруг стал слишком большим для семьи. Из Южной Африки вернулся Кристофер, но старшие сыновья окончательно отделились: Джон стал священником, Майкл обзавелся собственной семьей. Для Эдит, Кристофера, Присциллы и самого Толкина восемь спален — конечно, многовато. Да и содержать такой дом дорого.
Новый дом на Мэйнор-роуд, 3, предоставил Толкину колледж. Он был существенно меньше, значит, и требовал меньших вложений, но зато теперь вместо просторного кабинета Толкин вынужден был довольствовался комнатой в мансарде. Зато 9 июля Толкин передал, наконец, Рейнеру Анвину — сыну издателя (он теперь учился в Оксфорде) часть рукописи «Властелина Колец». К 28 июля Рейнер прочел ее и написал отцу: «Странная книга. Блестящая и захватывающая». И далее: «Необычные запутанные события просто ошеломляют. Борьба между тьмой и светом очень мрачна, она воспринимается как некая аллегория. Конечно, превращение невинного кольца в могучее орудие требует некоторых объяснений, но в целом связать „Хоббита“ и новое произведение, кажется, удалось. Не могу, правда, сказать, на какого читателя будущая книга рассчитана. Но если взрослые не сочтут ниже своего достоинства прочесть ее, то получат массу удовольствия»[331].
Книга заслуживает публикации, — считал Рейнер. И предлагал для удобства читателей разделить ее на части — очень уж объемная получилась. И между делом замечал, что, по его мнению, Кольцо Фродо чем-то напоминает Кольцо Нибелунгов.
Толкин ответил длинным письмом; но не Рейнеру, а его отцу:
«С Вашей стороны было очень любезно переслать мне отзыв сына.
Любые критические замечания, приходящие из-за пределов моего узкого круга, конечно, приветствуются. Буду теперь терпеливо ждать, что скажет Рейнер дальше. Следующую порцию вышлю в конце августа. Ведь теперь у меня точно появилась веская причина поскорее закончить книгу.
Жаль, что произведение Рейнера „ошеломило“.
И не хватило мне замечаний по поводу комизма; возможно, осечка.
Я сам терпеть не могу юмористических книг или пьес, по крайней мере, тех, что преподносятся нам как комичные; но, сдается мне, в реальной жизни комичные эффекты чаще всего возникают именно на фоне мировой тьмы. Зато, кажется, мне удалось изобразить нечто действительно ужасное, и это меня обнадеживает, — поскольку в любом героическом романе, написанном всерьез, должен присутствовать явственный отзвук ужаса. Но если после прочтения рукописи остается ощущение, что простые приземленные хоббиты не справились с возникшими перед ними проблемами, значит, я потерпел неудачу. Хотя, сдается мне, нет таких ужасов, которые не смогли бы преодолеть эти существа — в силу их особой благодати (здесь облеченной в мифологические формы). Вот только пусть Рейнер выбросит из головы все эти „аллегории“. В любой стоящей истории есть своя „мораль“, но это — не „аллегория“. Даже „борьба между светом и тьмой“ для меня всего лишь особая фаза истории, скажем так, один из образчиков ее прихотливого узора, но не сам узор. И в качестве актеров там выступают отдельные личности, и каждая такая личность, разумеется, содержит в себе некие универсалии, иначе бы они вообще не жили.
Аллегория и История сходятся воедино в Истине.
Впрочем, и здесь единственной полностью последовательной аллегорией является только сама реальная жизнь; и единственной вполне понятной историей является аллегория. Даже на материале несовершенной человеческой „литературы“ можно видеть, что чем последовательнее аллегория, тем проще ее прочесть именно как „историю“, а чем лучше и плотнее соткана история, тем скорее усмотрят в ней аллегорию те, кто к этому склонен. Можно сделать из Кольца Фродо аллегорию нашего собственного времени, если угодно, аллегорию того неизбежного исхода, что венчает любые попытки победить силу зла — силой, но нельзя написать историю даже о якобы простеньком магическом Кольце без того, чтобы в повествование не ворвалось еще что-то…
Видимо, Рейнер углядел слабое место будущей книги.
Но я рад, что, по его мнению, в целом связать текст удалось.
В общем, я сделал все, что в моих силах, поскольку без хоббитов никак нельзя.
Ну и Бильбо, понятно, здесь полагалось промелькнуть, — в память о прошлом. При этом меня нисколько не тревожит то, что Кольцо, как выяснилось, вещь куда более серьезная, чем ранее казалось. А в объяснениях нуждаются вовсе не поступки Бильбо, а скорее — Голлум, ведь позже (во „Властелине Колец“) именно Голлум станет главным героем, и я не полагаюсь только на то, что Гэндальф прояснит нам его психологию. Гэндальф скорее проницателен, чем — „ему все просто“. Я, конечно, приму во внимание все высказанное Рейнером, перерабатывая главу II для печати; в любом случае я намерен ее сократить. Видимо, самый правильный способ справиться с проблемой — это слегка переделать и главу V в первоначальной истории. Теперь это вопрос не просто практического свойства; — мне хотелось бы оставить после себя вещь в отредактированном, окончательном варианте.
Теперь о вопросе, для кого книга предназначена.
Мир, мне кажется, все больше и больше распадается на разные, часто противостоящие друг другу фракции — на морлоков и элоев, и всяких там прочих. Однако те, кто любит такого рода вещи, любят их очень сильно; им таких книг вечно не хватает, а те, что имеются, недостаточно длинны и голода не утоляют. В численном отношении вкус, возможно, и ограничен (увы!), но и там, где этот вкус существует, он все же не замкнут только возрастом или профессией (разве что исключить тех, кто всей душой предан машинам). Читательская аудитория, до сих пор с удовольствием следившая за созданием „Властелина Колец“, включает в себя некоторое количество престранного народа со сходными литературными вкусами: таких как К. С. Льюис, покойный Чарлз Уильямс, мой сын Кристофер; они, по всей вероятности, составляют небольшое, не приносящее прибыли меньшинство, однако в число читателей подобных книг входят и другие: адвокат, доктор (профессионально занимающийся раком), пожилой армейский офицер, учительница начальной школы, художник и фермер. Подборка довольно широкая, даже если исключить некоторых явных профессионалов от литературы, чьи собственные интересы вроде бы лежат даже в другой области, — как, скажем, Дэвид Сесил…
Что-то разболтался я о своих личных причудах.
Задача моя заключается (и заключалась) в том, чтобы закончить книгу в соответствии с замыслом (иногда меняющимся). Уж простите великодушно! Написана эта книга кровью моего сердца — не знаю, густой или жидкой, уж какая есть. Боюсь, книге придется выстоять или пасть в том виде, в каком она создана. Бесполезно притворяться, что будто бы я не мечтаю о публикации. Ведь искусство для самого себя — это не искусство. Малая толика тщеславия человека падшего отпущена и мне, и все же главное для меня сейчас — завершить свой труд и надеяться, что он несет в себе какой-то смысл»[332].
МГЛИСТЫЕ ГОРЫ — горная гряда, с севера на юг пролегавшая через Средиземье.
МИМ — карлик, в чьем жилище на Амон Руд жил Турин со своей шайкой; предал Турина оркам; убит Хурином в Наргофронде.
ОРКИ — творения Моргота, предположительно искаженные и извращенные авари; уродливы, злобны, враги красоты и порядка, поедатели падали и каннибалы.
ОРЛЫ МАНВЭ — гигантские орлы, гнездившиеся в Криссаэгриме; исполняли веления Манвэ.
СИНДАРИН — наречие Белерианда, произошедшее от эльфийского праязыка, но сильно отличавшееся от квенья.
ДУИН — «длинная река» в АНДУИН, БЕРЕНДУИН, ЭСГАЛДУИН, МАЛДУИН, ТАУР-ИМ-ДУИНАФ.
ДУР — «черный» в БАРАД-ДУР, КАРАГДУР, ДОЛ ГУЛДУР, а также ДУРТАНГ (замок в Мордоре).
ДЭЛЬ — «ужас» в ДЭЛЬДУВАТ; ДЭЛОФ — «отвращение» в ДОР ДАЭДЭЛОФ.
ИАНТ — «мост» в ИАНТ ЙАУР.
ИЛЬМ — корень, появляющийся в ИЛЬМЭН, ИЛЬМАРЭ, а также ИЛЬМАРИН — «Небесное Жилище».
Трудно сказать, в какой именно момент финал книги принял окончательный вид.
В 1948 году в письме Хью Броугану — школьнику, безгранично восхищавшемуся «Хоббитом», — Толкин указывал: «Собственно говоря, я вот уже десять лет пишу еще одну (более длинную) книгу о том же мире и том же историческом периоде. Из этой книги можно будет узнать многое о Некроманте и копях Мории. Вот только проблемы с написанием последних глав и дефицит бумаги пока что не позволяют мне ее опубликовать»[333]. А в письме от 31 октября сообщал все тому же Броугану: «Этим летом мне удалось на время „сокрыться от мира“, и я счастлив, что сумел привести „Властелина Колец“ к успешному завершению»[334].
Правда, в следующем году в письме, отправленном Стэнли Анвину, мы читаем, что Толкин закончил рукопись только после Рождества[335].
Но в любом случае он ее закончил.
В какой же момент Голлум начал играть главную роль в уничтожении Кольца? Судя по письмам Толкина, — где-то между 1944 и 1948 годами, хотя параллельно этому Толкин обдумывал и другие варианты. «Поскольку события у Расселины Рока должны были оказаться жизненно важными для Повествования, — признавался он, — на разных стадиях развития сюжета я сделал несколько пробных вариантов, хотя ни один из них позже не использовал; все они были достаточно далеки от окончательного варианта»[336].
В самом конце 1944 года Толкин, например, сообщал Кристоферу:
«Фродо и Сэма, сражающихся с последним из назгулов на скальном островке в окружении огня, извергающегося из горы Рока, спасет орел Гэндальфа»[337].
Чрезвычайно интересным выглядит обсуждение финала «Властелина Колец» в черновике письма к миссис Эйлин Элгар (1963), которая прямо указала на то, что Фродо оказался не способен выполнить свою задачу — бросить Кольцо в роковую расселину. «Очень немногие (а в письмах так вообще только Вы), — так ответил Толкин миссис Элгар, — отметили или прокомментировали „провал“ Фродо». И далее: «С точки зрения автора, события на горе Рока вытекают просто-напросто из самой логики повествования. События эти никто не подстраивал нарочно и, конечно, не предвидел до тех пор, пока они не случились. Но под конец выяснилось, что Фродо после всего, что с ним произошло, добровольно уничтожить Кольцо уже не сможет. Размышляя о разрешении возникшей проблемы, я почувствовал, что именно она стоит в центре всей представленной мною в Книге „теории“ истинного благородства и героизма»[338].
Толкин рассматривал, по меньшей мере, еще два альтернативных варианта развязки. Один был связан с упущенной возможностью «раскаяния» Голлума в сцене на перевале, а другой — когда Кольцо остается на пальце Фродо (Голлуму не удается его отнять).
Вариант «раскаяния» Голлума:
«Вряд ли Сэм мог вести себя иначе.
А если бы все-таки он повел себя по-другому, что случилось бы?
В Мордор они вошли бы иным путем (то есть Голлум не попытался бы предать их чудовищной паучихе Шелоб. — Г. П., С. С.) и иначе добирались бы они до горы Рока. Думаю, внимание сместилось бы как раз к Голлуму, к той борьбе, что велась в нем между раскаянием и новообретенной любовью — с одной стороны, и Кольцом — с другой. И хотя любовь эта крепла бы день ото дня, все-таки она не смогла бы возобладать над властью Кольца. Думаю, что каким-то странным, извращенным и жалким образом Голлум попытался бы (возможно, что и не сознательно) удовлетворить оба чувства. Наверняка в какой-то момент незадолго до конца он украл бы Кольцо или отобрал его силой (как он и поступает в настоящей повести). Но, думаю, что, удовлетворив „страсть к обладанию“, он пожертвовал бы собой ради Фродо и добровольно бросился бы в огненную бездну»[339].
Вариант сохранения Кольца Фродо:
«Вряд ли кольцепризраки напали бы на Фродо или взяли его в плен; они, скорее, повиновались бы ему или делали вид, что повинуются, что нисколько не препятствовало бы выполнению поручения, возложенного на них Сауроном, который посредством девяти Колец (которыми владел) всецело контролировал их волю. Поручение Саурона заключалось в том, чтобы удалить, увести Фродо от Расселины. Как только он утратил бы способность или возможность уничтожить Кольцо, в исходе сомневаться уже не пришлось бы, если, конечно, не принимать в расчет какую-нибудь помощь извне, на которую, впрочем, едва ли приходилось надеяться»[340].
Толкин не раз подчеркивал роль милосердия в книге:
«Не думаю, что Фродо потерпел крах в нравственном смысле.
В последний момент воздействие Кольца на Фродо достигло своего апогея после многих месяцев нарастающей муки, когда, будучи изголодавшимся и изнуренным, Фродо сделал уже все, что мог. Его смирение (с которым он взялся за дело) и его страдания были по справедливости вознаграждены высочайшими почестями; а его терпение и милосердие по отношению к Голлуму снискало милосердие и к нему самому; неудача его была исправлена»[341].
В эссе «О Беовульфе» и «О чудовищах и критиках» Толкин подчеркивал необычную особенность «северного» героизма. Она в том, считал он, что этот «северный» героизм, в каких бы формах он ни проявлялся, никогда не предполагает никакой конечной победы, — поэтому и тема милосердия не играет для него большой роли. А в эссе «О волшебных сказках» Толкин акцентировал тему создания «вторичного мира» и «счастливого конца», образцом которого является Воскресение Христово.
То, что эволюция отношения к теме милосердия отражает эволюцию (развитие) взглядов самого Толкина, подчеркивается следующим его признанием: «Размышляя о разрешении проблемы милосердия, я почувствовал, что именно она стоит в центре всей представленной мною в книге „теории“ истинного благородства и героизма».
Насколько эта проблема беспокоила Толкина, видно из дальнейших его рассуждений:
«Фродо в восприятии простецов „потерпел неудачу“, не выдержал напряжения, сдался. Я говорю здесь „простецы“ — без всякого презрения; они, эти простецы, вполне отчетливо могут видеть истину и абсолютный идеал, к которым следует стремиться, однако у них есть два слабых места. Во-первых, они не понимают сложности любой заданной ситуации во Времени и, во-вторых, склонны забывать про тот непостижимый элемент Мира, который мы называем Жалостью или Милосердием. А ведь именно этот элемент является абсолютно необходимым условием для морально-этической оценки (поскольку в Божественной природе он присутствует). В высшем своем проявлении он всегда принадлежит Господу»[342].
Эта проблема беспокоит Толкина не только по отношению к роману, но и по отношению к любой человеческой жизни, — в «реальном» (первичном) мире (так же, как и во вторичном мире фантазии): «Для смертных судей, не обладающих всей полнотой знания, он, этот элемент (Жалость и Милосердие. — Г. П., С. С.) должен вести к использованию двух разных мерок „морали“».
И далее: «К себе самим мы должны применять абсолютный идеал безо всяких компромиссов, потому что мы не знаем пределов той силы, что положена нам от природы (+ благодать), и если мы не стремимся к самому высшему, то наверняка не достигнем того максимума, что могли бы достичь. К другим (в тех случаях, когда мы знаем достаточно, чтобы судить) должно применять мерку, смягченную „милосердием“: то есть, поскольку мы в духе доброй воли способны сделать это без предвзятости, неизбежной в наших суждениях о себе самих, мы обязаны оценивать пределы сил ближнего и сопоставлять все это с силой конкретных обстоятельств…»[343]
Говоря о раздвоении оценок, неизбежном в нашем мире, Толкин опять возвращается к своему герою:
«Фродо предпринял свой трагический поход из любви, чтобы спасти знакомый ему мир от беды — за свой собственный счет, если получится; а также в глубоком смирении, понимая, что для такой задачи он, в общем, не подготовлен. Но ведь на самом деле он принимал на себя обязательства сделать лишь то, что он сможет, попытаться отыскать путь и пройти по этому пути, насколько хватит его сил — духовных и физических. Все это он выполнил. Так с какой стати считать слом его разума и воли (под столь демоническим воздействием) нравственным провалом? Гэндальф и Арагорн, и все, кто знал историю похода Фродо от начала и до конца, отнеслись к Фродо как к победителю»[344].
Другое дело, что сам Фродо думал об этом несколько по-другому:
«Поначалу он, похоже, никакого чувства вины не испытывал; к нему даже вернулись рассудок и покой. Он полагал, что принес в жертву собственную жизнь, то есть он думал, что скоро умрет. Однако он не умер; и можно заметить, что вот тогда-то мало-помалу им начало овладевать беспокойство. Арвен первой заметила это — и подарила Фродо в знак своей поддержки драгоценный камень; и задумалась о том, как исцелить Фродо»[345].
Это не только тема милосердия, это и тема жертвы.
Как пишет Толкин в примечании к цитировавшемуся письму:
«О том, как именно ей удалось все устроить, подробно не говорится. Конечно же, Арвен не могла просто взять и передать свой билет на корабль! „Плыть на Запад“ запрещалось всем, кроме тех, кто принадлежал к эльфийскому народу, и для любого исключения требовалось „дозволение свыше“, а сама Арвен не общалась напрямую с Валарами[346], тем более после ее решения стать „смертной“. На самом деле здесь имеется в виду именно то, что это Арвен пришло в голову отправить Фродо на Запад; она попросила за него Гэндальфа (напрямую или через Галадриэль; или же и так, и так) и использовала в качестве аргумента свой собственный отказ от права уплыть на Запад. Ее отречение и страдания были впрямую связаны и неразрывно переплетены с отречением и страданиями Фродо; и то и другое стало частью плана возрождения состояния людей»[347].
Тема невозвратимости, невозможности возврата, тревожила, очевидно, и самого Толкина. «И хотя я мог бы вернуться в Шир, он покажется мне чужим, потому что мне самому уже не стать прежним»[348].
Увы, есть раны, которые до конца не излечиваются.
Фродо отослали или позволили отправиться за Море исцеления ради, — если только исцеление возможно (до того, как герой умрет). Со временем Фродо все равно предстояло «уйти»: никто из смертных не может жить вечно — на Земле или в пределах Времени. Так что Фродо отправился одновременно и в чистилище, и навстречу своему вознаграждению. Вознаграждением этим стал для него срок для раздумий и отдыха, и обретения истинного понимания своего положения — как в ничтожности, так и в величии; срок, который ему предстояло провести по-прежнему во Времени, среди природной красоты «Арды Неискаженной», Земли, не оскверненной злом[349].
Считал ли сам Толкин свой долг, свое назначение выполненным?
На этот вопрос ответить трудно. Но Толкин, повторимся, имел полное право написать Стэнли Анвину: «Написана эта книга кровью моего сердца — не знаю, густой или жидкой, уж какая есть»[350].
Глава восьмая
СОБЛАЗНЫ И ПОЧЕСТИ
Работа над последними главами «Властелина Колец» отчетливо отразила тревожное состояние Толкина. Он утомлен, он не ощущает удовлетворения от завершения такого огромного (во всех смыслах) труда, хотя и понимает значение написанной им книги. И не просто понимает, но и правильно оценивает. По крайней мере, в письмах конца 1940-х годов, касающихся «Властелина Колец», не один раз проскальзывает слово великий (труд, разумеется), пусть и оттененное самоиронией. При этом тревожит Толкина не столько завершение рукописи, сколько возможность ее скорой публикации. Похоже, моральные проблемы, вставшие перед Фродо после уничтожения Кольца, теперь каким-то образом встали и перед самим автором. Ведь это Фродо не без печали сказал в главе «Домой»: «Вот доберусь до Хоббитании, а она совсем другая, потому что я уже не тот»[351].
Комментируя слова Фродо (разумеется, позже), Толкин писал: «На самом деле это было искушение из Тьмы, последний проблеск гордыни: желание возвратиться „героем“, не довольствуясь ролью просто орудия блага. А к искушению подмешивалось еще одно более смутное, однако (в известном смысле) более заслуженное ощущение, что, как бы ни объяснять поступок Фродо, он все равно не хотел теперь бросать Кольцо добровольно: его действительно мучило великое искушение, он не хотел расставаться с Кольцом, терять его (вспомним страдания несчастного Голлума). „Оно сгинуло навсегда, и ныне все темно и пусто“, — говорил Фродо, очнувшись от своего недуга в 1420 году» (по летоисчислению Шира. — Г. П., С. С.)[352].
Толкин так комментировал слова Фродо в 1963 году, но в рукописи они, понятно, появились гораздо раньше. Главным искушением для самого автора (если не в моральном, то в практическом смысле) оказалось в те годы желание не просто опубликовать свою книгу, но опубликовать ее вместе с «Сильмариллионом». В некотором смысле успех «Хоббита» действовал на Толкина как Кольцо власти на Фродо. Ради публикации «Сильмариллиона» Толкин готов был рискнуть многим, хотя понимал, что в процессе нелегких переговоров с разными издателями может навсегда рассориться с «Аллен энд Анвин», ничего не обретя взамен. Хорошо знакомый с тонкостями университетской политики, Толкин знал, как опасно вмешиваться в интриги на «чужом поле». Пожалуй, главным психологическим оправданием поисков Толкина того времени могло служить только то, что он сумел убедить себя, будто в 1937 году издательство «Аллен энд Анвин» действительно (и бесповоротно) отвергло «Сильмариллион».
Вся эта история очень напоминает один из главных сюжетов самого «Сильмариллиона» — клятву Феанора, создателя Сильмариллов. Этот эльфийский король поклялся страшной клятвой, что любой ценой вернет Сильмариллы, похищенные темным властелином Морготом, и его-то упорство и принесло эльфам (и не только эльфам) неисчислимые бедствия…
По мере того как работа над «Властелином Колец» шла к завершению, для Толкина все яснее становилась тесная связь романа именно с «Сильмариллионом». Одновременно росли его раздражение и обида на издательство «Аллен энд Анвин». В конце работы над «Властелином Колец» он снова (не впервые, впрочем) вернулся к рукописям, из которых складывался «Сильмариллион», и еще раз уверился в том, что тексты эти явно стоят публикации. Для раздражения и обид находились и другие поводы: например, Толкину не понравилось то, что послевоенное издание «Хоббита» из экономии вышло в свет без цветных иллюстраций. При этом он считал, что «Аллен энд Анвин» плохо рекламирует «Фермера Джайлса из Хэма» — книжка расходилась не слишком быстро. Рано или поздно недовольство Толкина должно было вылиться в конкретные действия.
И однажды это случилось.
Джервейз Мэтью (1905–1976), один из «инклингов», священник ордена доминиканцев и ученый[353], познакомил Толкина с редактором лондонского издательства «Коллинз» Милтоном Уолдменом, тоже католиком. Время — конец 1949 года, то есть последние месяцы работы над рукописью «Властелина Колец». Напомним, что в июле 1949 года Толкин уже сообщил Стэнли Анвину, что «почти перепечатал чистовой вариант набело»[354]. Узнав, что Толкин — автор известного «Хоббита» и что, по слухам, он написал длинное продолжение этой увлекательной книги, Уолдмен проявил несомненный интерес к написанному, а Толкин давно уже ждал чего-то такого и незамедлительно послал ему отрывки из «Сильмариллиона». Он мог бы послать и рукопись «Властелина Колец», но желание опубликовать «Сильмариллион» оказалось сильнее.
Встречаясь с Уолдменом, Толкин, видимо, уже подумывал о возможности сменить издателя, ведь, прочитав отрывки, тот сказал, что «Сильмариллион», несомненно, замечательное произведение. Тем самым в глазах Толкина он выдержал самое важное испытание. Более того, Уолдмен сообщил, что готов опубликовать «Сильмариллион» при условии, что книга будет наконец дописана. Тогда Толкин пригласил его в Оксфорд и при встрече вручил для прочтения еще и рукопись «Властелина Колец».
Милтон Уолдмен прочел «Властелина Колец» в рождественские каникулы и в начале января написал Толкину, что считает рукопись «поистине творческой работой»[355]. Правда, его беспокоил огромный объем будущей книги, но все же он надеялся, что издательство «Коллинз» такую нагрузку выдержит. Тем более что положение именно этого издательства было тогда гораздо более привилегированным по отношению ко всем другим, включая «Аллен энд Анвин». Рыночные отношения на Западе далеко не настолько свободны, как об этом часто пишут и говорят. В интересующем нас случае после войны в Англии немалую роль играла распределительная система, следствие дефицита военного времени, а компания «Коллинз» была не просто издательством — она торговала писчебумажными принадлежностями, владела несколькими типографиями, и выделяемая ей норма бумаги намного превосходила то, что доставалось другим. К тому же директор компании Уильям Коллинз намекнул Уолдмену, что с радостью опубликует любые художественные тексты автора «Хоббита». Как писал позже Хэмфри Карпентер: «На самом деле Коллинз хотел приобрести в первую очередь „Хоббита“, оказавшегося столь доходным»[356]. Но сам Толкин, завязывая контакты с издательством «Коллинз», очень хотел опубликовать прежде всего «Сильмариллион» — под одной обложкой с «Властелином Колец». «Отбивая» перспективного автора у издательства «Аллен энд Анвин», Милтон Уолдмен, конечно, не мог не обеспокоиться тем, что́ связывает указанное издательство и его автора. Думается, принципиальную роль играли вовсе не моральные соображения, а тот факт, что юридически оформленные обязательства в английском обществе следует воспринимать с полной серьезностью и что юридические обязательства там тесно переплетаются с моральными.
«Правильно ли я понимаю, что Вы не имеете никаких обязательств перед „Аллен энд Анвин“ — ни моральных, ни юридических?»[357]
Чрезвычайно интересно проанализировать документ, отражающий ранний этап взаимоотношений Толкина с издательством «Коллинз» — черновик его письма Милтону Уолдмену от 5 февраля 1950 года (оригинал не найден)[358].
Кроме ощущения некоторой неловкости (в сущности, обсуждается «измена» издательству, с которым Толкина связывали долгие и, в общем, плодотворные отношения), стоит обратить внимание на характер отношений писателя и издателя вообще. До какой степени подчиненным и невыгодным выглядит положение писателя, несмотря на то, что он уже обладает довольно широкой известностью и разговор идет о судьбе действительно выдающегося произведения!
Начало письма кажется даже несколько лукавым:
«Мне страшно жаль, что столько дней пролетело с тех пор, как я получил Вашу записку. Едва я обрушил на Вас рукопись „Властелина Колец“, как тут же устыдился: взвалить на человека, уходящего в отпуск, такую работу способен лишь авторский эгоизм… Исследовав собственную совесть, я вынужден был признать, что, как человек, который одиноко трудился в своем уголке и слышал отзывы лишь нескольких друзей-единомышленников, я, конечно, в значительной степени был побуждаем желанием услышать от „свежего человека“, обладает ли мое произведение какой-нибудь общечеловеческой ценностью или это лишь бесплодное личное хобби…»[359]
На что стоит обратить внимание в этом письме?
Во-первых, видно, что рукопись была передана Уолдмену в 1949 году именно перед Рождеством, так как речь идет о приближающихся каникулах. Во-вторых, слова о том, что Толкин «одиноко трудился в уголке», как и сомнения относительно общечеловеческой ценности «Властелина Колец», выглядят, с учетом того, что мы теперь знаем, «смирением, которое паче гордости». Друзья-единомышленники, о которых упоминает в письме Толкин, — это К. С. Льюис и его брат, покойный Чарлз Уильямс и другие члены кружка «инклингов». Все они были успешными профессиональными литераторами и интеллектуалами высокого полета. Толкин к этому времени знал уже и об отзыве Рейнера Анвина, а в письмах самому Анвину выражал сомнения не столько в значении «Властелина Колец», сколько в возможности его публикации, главным образом из-за объема. Но только после всего этого Толкин переходит к наиболее деликатному вопросу — о своих обязательствах перед издательством «Аллен энд Анвин». И здесь тоже стоит обратить внимание на уклончивость многих формулировок, особенно когда Толкин переходит к личным отношениям с Анвинами:
«Не думаю, что на самом деле обременил Вас под обманным предлогом. Я так понимаю, что никаких юридических обязательств перед „Аллен энд Анвин“ я не несу, поскольку пункт договора на „Хоббита“ касательно предоставления им следующей книги выполнен: либо а) когда они отвергли „Сильмариллион“, либо б) когда они приняли и опубликовали „Фермера Джайлса“. Я был бы рад (как Вы верно подметили) от них отказаться, однако состою в дружеских отношениях со Стэнли (которого тем не менее не слишком-то люблю) и его вторым сыном Рейнером (которого люблю и даже очень)»[360].
Прежде всего, проблема для Толкина была связана с возможностью публикации любимого им «Сильмариллиона».
«Рейнер прочел почти всего „Властелина Колец“, и книга ему нравится: еще маленьким мальчиком он прочитал рукопись „Хоббита“. Сэр Стэнли давно знает о том, что „Властелин Колец“ перерос свое предназначение, и недоволен этим, поскольку считает, что доходов от книги никому не дождаться (так он говорил); и тем не менее ему все равно очень хочется взглянуть на окончательный вариант. Если это является моральным обязательством, значит, я им связан: по крайней мере, мне следует объясниться»[361].
Для того чтобы снять с себя все эти обязательства и тем самым получить больше свободы, Толкин даже пытался спровоцировать Стэнли Анвина на прямой отказ от публикации «Властелина Колец» (в совокупности с еще весьма далеким от окончательного варианта «Сильмариллионом»). Как поводом он воспользовался вопросом читателя, который ему однажды переслало издательство «Аллен энд Анвин». Этот читатель спрашивал: «Правда ли, что мистер Толкин написал „Подлинную историю фэйри“?»[362] Этот вполне невинный вопрос Толкин тут же использовал, чтобы задать издателю свой собственный:
«Маловероятно, чтобы он (читатель. — Г. П., С. С.) подслушал литературную болтовню, в ходе которой кто-нибудь сослался на мой „Сильмариллион“, давным-давно Вами отвергнутый. Но это подводит меня к теме гораздо более важной (для меня, по крайней мере). В одном из последних писем Вы по-прежнему выражали желание взглянуть на рукопись моего предполагаемого произведения, изначально задуманного как продолжение к „Хоббиту“. На протяжении вот уже восемнадцати месяцев я жил ожиданием дня, когда смогу объявить его завершенным. Достиг я этой цели только после Рождества. Теперь книга закончена и пребывает, сдается мне, в том состоянии, когда рецензент вполне может ее прочесть, если не увянет при одном ее виде».
И далее: «Мое детище, несомненно, вырвалось из-под контроля, я породил монстра: невероятно длинный, сложный, довольно горький и крайне пугающий роман, совершенно непригодный для детей (если вообще для кого-то пригодный); и на самом деле это продолжение не к „Хоббиту“, а к „Сильмариллиону“… Но я сбросил, наконец, эту книгу с плеч и боюсь, что ничего уже не смогу с нею поделать, кроме как выправить мелкие огрехи. Хуже того: я чувствую, что роман накрепко связан именно с „Сильмариллионом“»[363].
Усиливая самокритику и фактически провоцируя отказ Стэнли Анвина, Толкин так заканчивал свое послание:
«Возможно, это произведение Вы еще помните: это длинный свод легенд вымышленных времен в „высоком штиле“, где полным-полно эльфов (в некотором роде). Много лет назад по совету Вашего рецензента мою рукопись отклонили. Если мне не изменяет память, он признал за мифами некую кельтскую красоту, в больших дозах для англосаксов непереносимую. К сожалению, я не англосакс; даже убранный на полку (вплоть до прошлого года) „Сильмариллион“ бурно заявлял мне о себе. Он кипел и пузырился, просачивался и, возможно, даже портил все, имеющее хотя бы отдаленное отношение к „фэйри“. Мне с трудом удалось не впустить его в „Фермера Джайлса“, он отбросил густую тень на последние главы „Хоббита“, он завладел „Властелином Колец“ так, что роман просто-напросто превратился в его продолжение и требует „Сильмариллиона“ для полной внятности — без кучи ссылок и разъяснений, которые громоздились бы в одном-двух местах. Скорее всего, Вы сочтете меня вздорным надоедой, но я хочу опубликовать их вместе — и „Сильмариллион“, и „Властелина Колец“. Хотя разумнее, наверное, сказать — „хотел бы“, поскольку рукопись объемом в миллион слов, воспроизведенную без всякого сокращения материала, который англосаксы (или англоговорящая публика) способны выносить лишь в умеренных дозах, скорее всего, не увидит света, даже если бумаги хватит[364].
Тем не менее именно этого мне хочется. Или — ну их совсем!
Мысль о радикальном переписывании или сокращении я даже не рассматриваю. Будучи писателем, я, разумеется, хотел бы видеть написанное мною напечатанным; но уж как есть, так есть. Я сам чувствую: ныне сей предмет „экзорцирован“ и более меня не мучит. Теперь я могу заняться другими вещами.
<…>
Простите, что письмо получилось таким длинным — и обо мне.
На самом деле я вовсе не одержим непомерным тщеславием в том, что касается моих нелепых личных хобби. Но Вы были крайне терпеливы все эти годы, ожидая, что продолжение к „Хоббиту“ подойдет той же самой аудитории; хотя, как я знаю, Вы давно уже поняли, что я свернул с накатанной колеи. Так что я задолжал Вам, конечно, какое-никакое объяснение… Сообщите мне, что Вы думаете, и я вручу Вам всю эту гору писанины, если хотите. Боюсь, рецензенту, который действительно читает, на нее потребуется уйма времени; хотя, возможно, он составит себе мнение и по отрывку. Однако я не затаю обиды (и не слишком удивлюсь), если вы отвергнете предложение, настолько явственно невыгодное, и попросите меня поторопиться и представить книгу более подходящую»[365].
Почти каждая фраза этого письма отражает неловкость положения, в которое Толкин поставил себя. В случае издания «Властелина Колец» и «Сильмариллиона» в издательстве «Коллинз», идея представления какой-либо другой рукописи в «Аллен энд Анвин» выглядела бы в высшей степени сомнительной. Ответ Анвина, кстати, вовсе не являлся безоговорочным отказом, наоборот, он содержал некоторые конструктивные предложения. К примеру, 6 марта Анвин спросил, нельзя ли разрешить проблему объемности двух вместе взятых книг, разбив их на «три-четыре более или менее самостоятельных тома»[366].
Толкин, конечно, тут же ответил. Читая его письмо, трудно отделаться от мысли, что он ищет совершенно определенного конкретного отказа, хотя все еще не может расстаться с мыслью — опубликовать большую книгу у Анвина:
«Касательно вашего вопроса насчет „делимости“ книги. Конечно, любое длинное произведение можно искусственно разбить на более удобные объемы. Но естественным образом Сага о Трех Самоцветах и Кольцах Власти делится лишь на две части, и никак не иначе. При этом в каждой части будет около 600 тысяч слов: „Сильмариллион“ и другие легенды; и „Властелин Колец“. Последняя, кстати, изначально создана цельной и неделимой. При этом в сюжетообразующих целях она, конечно, делится на отдельные части (всего их шесть) и две-три из них, более-менее равной длины, можно было бы переплести в один том, но они, повторяю, ни в коем случае не самостоятельны. Я теперь даже не уверен в том, что многие смогут прочесть произведение столь затянутое, и вообще, будут ли покупать столь длинное произведение отдельными выпусками. Я вполне отдаю себе отчет в Ваших финансовых трудностях и осознаю, что шанс окупить такие непомерные расходы крайне невелик. Так что, пожалуйста, не думайте, что я сочту себя незаслуженно обиженным, если Вы без особых колебаний откажетесь от публикации»[367].
Одновременно (черновик датирован тем же 10 марта, что и письмо Анвину) Толкин готовит письмо Милтону Уолдмену.
«Уважаемый мистер Уолдмен! — пишет он. — Сэр Стэнли Анвин, наконец, соизволил ответить мне лично. Цитирую абзац, имеющий отношение к нашему делу: „Ваше письмо и впрямь создало нам проблему! Ее и до войны было непросто разрешить; а теперь, когда производственные расходы выросли раза в три по сравнению с тогдашними временами, это тем более непросто. Чтобы конкретно оценить, что нам предстоит, ответьте, пожалуйста, возможно ли разбить миллион слов на, скажем, три-четыре более-менее самостоятельных тома. Вы, может, помните, что, когда мы опубликовали великое произведение Мурасаки (‘Повесть о Гэндзи’), мы начали с того, что выпустили книгу шестью отдельными томами“.
Я ответил Анвину в том смысле, что рассматриваю это письмо как знак его доброго расположения, но также вижу, что его мнение таково: эта гора писанины просто для публикации не годится и требует больших денежных вложений. В письме я особо подчеркнул, что „Сильмариллион“ и „Властелин Колец“ идут вместе — как одна длинная Сага о Самоцветах и Кольцах. И что я твердо намерен рассматривать их именно как единое целое. Я отметил, что гора эта делится естественным образом только на „Сильмариллион“ и „Властелина Колец“, но последнюю книгу можно поделить на фрагменты разве что искусственно. Я добавил, что не удивлюсь, если он откажется ввязываться в историю с этой чудовищной Сагой; и что теперь, когда я сбросил ее с плеч, я вполне готов произвести для него что-нибудь попроще и покороче (и даже „для детей“), причем вскорости.
Вот так на данный момент обстоит дело.
Я очень сильно надеюсь, что сэр Стэнли оставит меня в покое, не потребовав рукопись и, соответственно, двух месяцев на рецензию»[368].
Как всегда, Толкина одолевали всякие повседневные дела: он занимался переездом из оказавшегося слишком тесным дома 3 по Мэйнор-роуд в дом 99 по Холиуэлл-стрит (дом этот требовал ремонта, а в дальнейшем оказалось, что там слишком шумно из-за уличного движения), а еще собирался в Ирландию для работы в экзаменационных комиссиях. К тому же Стэнли Анвин ответил ему не сразу, потому что обратился за советом к своему сыну Рейнеру, который к этому времени стал студентом — уже в американском Гарварде. В апреле Рейнер послал отцу записку. Комментарии его вовсе не были адресованы Толкину, но Анвин «случайно» вложил их в конверт.
Вот комментарии Рейнера:
«„Властелин Колец“ — по-своему великая книга, своеобразная, но весьма любопытная, и, так или иначе, издавать ее стоит. Читая ее, я никакой нехватки „Сильмариллиона“ не ощущал… Наверняка редактор сумел бы включить действительно существенно важный материал из „Сильмариллиона“ во „Властелина Колец“ … А если так не получится, я бы сказал: опубликуйте „Властелина Колец“ в дорогом варианте, как своего рода рекламу издательства, а на „Сильмариллион“ гляньте еще раз — и ну его!»[369]
Случайно или нет вложена была в конверт записка Рейнера, мы теперь уже никогда не узнаем, но Толкин предпочел истолковать ответ Анвина именно как отказ. Более того, в том состоянии затяжного недовольства, в котором он находился, он принял сам факт того, что сэр Стэнли вложил в конверт записку сына как намеренное оскорбление — разумеется, из-за «Сильмариллиона». И ответил издателю почти ультиматумом:
«Уважаемый Анвин! Забавно, что письма наши пересеклись[370]. Конечно, я мог бы отправить свое письмо днем позже, но вопрос необходимо решить быстро. У меня каждая неделя на счету. Мне нужно прямо сейчас иметь определенный ответ: да или нет; причем ответ именно на мое предложение, а не по поводу неких воображаемых возможностей»[371].
Очень интересны нюансы того, как (в остальной части письма) за любезными фразами проглядывают реальные чувства Толкина:
«Ваши письма, как всегда, более чем любезны; хотя первое меня озадачило, равно как и вложенный отрывок из письма Рейнера. Этот отрывок, как Вы отметили, для меня не предназначался; в силу чего заинтересовал меня еще сильнее (я не имею в виду содержащийся в нем комплимент). Озадачивает то, что он был сочтен не подходящим для моих глаз (с Вашей точки зрения); так что я гадаю: зачем же Вы тогда мне его прислали?»[372]
И далее: «У меня складывается впечатление, будто в общем и целом Вы с Рейнером совершенно согласны и потому решили, что показать мне его советы — отличный способ сообщить, на что в самом лучшем случае я вправе надеяться, поскольку Рейнер, пожалуй, самый благосклонный из критиков, на какого я только могу рассчитывать. Особенно хороша последняя фраза отрывка (до привета мне): „Если так не получится и т. д.“. По-моему, она разоблачает политику — как она есть. А еще демонстрирует поразительную неспособность понять ситуацию — равно как и мое письмо.
Но больше не скажу Вам ни слова, пока не получу ответа.
Искренне Ваш — Дж. Р. Р. Толкин»[373].
Заметим, что «искренне Ваш» — весьма сухой вариант подписи, обычно употребляемый только в письмах малознакомым людям.
В биографии Толкина, написанной Хэмфри Карпентером, приводится отрывок из черновика того же письма, где Толкин выражается гораздо более определенно и резко. Он пишет, что слова Рейнера подтвердили его подозрения в том, что «„Властелина“ Вы, может быть, и примете, но этого более чем достаточно, и никаких довесков Вам не потребуется… Отказ все-таки есть отказ, и он остается в силе. Но о том, чтобы тихой сапой спустить на тормозах „Сильмариллион“ и взять „Властелина“ (отредактированного), не может быть и речи! Я „Властелина Колец“ на таких условиях не предлагал и не предлагаю — ни Вам, ни кому-то другому, о чем я достаточно недвусмысленно заявил раньше. Я требую однозначного ответа, „да“ или „нет“, на то предложение, которое я сделал, а не на какие-то воображаемые возможные варианты»[374].
Ультиматум привел к желаемому результату.
Хотя, если подумать, ответ Анвина и сейчас не выглядел безусловным отказом. «Мне несказанно жаль, — писал он Толкину, — что Вы сочли необходимым прислать мне ультиматум, тем более что речь идет о рукописи, которой я в окончательном и завершенном виде даже не читал. Поскольку Вы требуете немедленно ответить „да“ или „нет“, ответ мой будет „нет“; но могло бы быть и „да“, если бы вы дали мне время и возможность взглянуть на текст. Увы, придется оставить это как есть»[375].
Любопытно взглянуть на то, как могло бы выглядеть литературное наследие Толкина, не будь опубликован «Властелин Колец». Центральной работой в наследии писателя стал бы, конечно, «Хоббит». Рядом — небольшие сказочные произведения. Вместе с «Хоббитом» они, несомненно, тоже воспринимались бы как детские. Это «Лист работы Ниггля» (опубликован в 1945 году в журнале «Даблин ревю»[376]); «Фермер Джайлс из Хэма» (в 1949 году); «Кузнец из Большого Вуттона» (в 1967 году). Ну и некоторое количество стихотворений и поэм, например, сборник «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги» (всего 16 стихотворений) и разные отдельно опубликованные стихи[377]. В наши дни эти произведения известны только потому, что на них падает отсвет «Властелина Колец» и «Сильмариллиона».
О «Листе работы Ниггля» мы уже говорили — в повести отразился процесс создания Толкином его волшебного мира. «Фермер Джайлс из Хэма» — просто юмористическая сказка, действие которой происходит в Англии во времена раннего Средневековья, вскоре после ухода римлян. Джайлс — всего лишь английская форма имени Юлиус, по римской «номенклатуре» полное имя фермера звучало бы как Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агрикола де Хэммо. Джайлс побеждает великана (весьма глупого) и дракона (хитрого, но трусливого) и становится королем. Действие происходит в некоем Срединном Королевстве. Зная о Средиземье «Властелина Колец» и «Сильмариллиона», эту скромную сказку можно было бы воспринимать как мостик, переброшенный из наших дней в мифологические времена Средиземья. Ну а в «Кузнеце из Большого Вуттона» речь вообще шла о звезде, с помощью которой можно было путешествовать по некоей Волшебной Стране. О такой Волшебной Стране и о человеке, как творце вторичного мира, Толкин рассуждал еще в давнем своем эссе «О волшебных сказках», но только знание «Властелина Колец» и «Сильмариллиона» придает всем перечисленным выше фантазиям глубину и силу. А значительная часть стихов, опубликованных Толкином, без «Властелина Колец» и «Сильмариллиона» воспринималась бы, наверное, всего лишь как чудачество профессора, любящего старину и нисколько не интересующегося современностью.
Репутация «писателя-ученого», конечно, создавалась бы чисто научными трудами, но их тоже осталось не так много — не более двух десятков; и писателем Толкина, конечно, считали бы детским. Очень интересные и глубокие мысли, высказанные им в эссе «О волшебных сказках», но не подкрепленные славой «Властелина Колец», скорее всего, забылись бы.
Такой вот скромный список.
Соблазн любой ценой опубликовать «Сильмариллион» одновременно с «Властелином Колец» не был для Толкина единственным. С завершением романа для него, похоже, наступили смутные времена. А смутные времена приносят с собой новые, тоже смутные соблазны. Всё в мире, включая человеческие отношения, имеет тенденцию запутываться и осложняться. Пытаясь побыстрее опубликовать «Сильмариллион», Толкин рискнул своими отношениями с издательством, благодаря которому вошел в литературу. Одновременно начали сильно портиться отношения и с давним другом Клайвом С. Льюисом. Причем волна холода шла в основном со стороны Толкина.
Прочитав в 1949 году рукопись «Властелина Колец», Льюис писал:
«Дорогой Толлерс (университетское прозвище Толкина. — Г. П., С. С.)! Вот уж действительно uton herian holbytlas („восхвалим же хоббитов!“). Я осушил чашу дивного вина и утолил давнюю жажду. Как только события в рукописи набирают ход, повествование упорно поднимается все выше по величественному и ужасному склону (не лишенному, впрочем, зеленых лощин, без которых напряжение было бы действительно невыносимо), почти не имеющему себе равных во всей литературе, которую я знаю. Думается мне, что эта книга превосходит все остальные, по крайней мере, в двух отношениях: чистое сотворение[378]: Бомбадил, Умертвия, эльфы, онты, словно бы из неиссякаемого источника, — и композиция. И еще — gravitas (серьезность). Ни один другой роман не мог бы столь уверенно отвести от себя обвинение в „эскапизме“. А длинная кода после эвкатастрофы[379], хотел ты того или нет, поневоле напоминает нам, что победа так же преходяща, как и борьба, и потому оставляет конечное впечатление глубокой меланхолии.
Конечно, это далеко не всё.
Мне хотелось бы, чтобы некоторые места ты написал по-иному или вообще опустил. И если я не включаю в это письмо никаких критических замечаний, то только потому, что ты уже слышал и отклонил большую часть из них (отклонил — это мягко сказано; по крайней мере, один раз ты отреагировал более чем бурно!). И даже если бы все мои возражения были справедливы, что, разумеется, маловероятно, то недостатки, которые мне видятся, могут лишь отдалить и ослабить восхищение; — а великолепие, присущее этой истории, затмевает все погрешности. Ubi plura nitent in carmine non ego paucis offendi maculis („He сержусь я, когда в стихах среди блеска несколько пятен мелькнут“).
Поздравляю, все эти долгие годы потрачены не зря.
Твой Джек Льюис»[380].
Мы намеренно процитировали это письмо Льюиса, полное неподдельного энтузиазма, чтобы лишний раз подчеркнуть, что никакие сложности в личных отношениях не были препятствием для бескомпромиссной поддержки Толкина со стороны его близких друзей, хотя сложности, конечно, возникали. Но прежде чем заговорить о них, приведем итоговую оценку его многолетней дружбы с Льюисом, высказанную Толкином. Нижеследующие слова написаны им вскоре после смерти Льюиса и позволяют подойти к завихрениям, омрачавшим в послевоенные годы их отношения, с более достойной и справедливой мерой:
«Мы друг перед другом в великом долгу, и эта связь жива, жива и глубокая привязанность, ею порожденная. То был великий человек; сухие официальные некрологи царапнули лишь по самой поверхности, кое-где погрешив против истины»[381].
Мы уже упоминали о колебаниях Толкина при поддержке кандидатуры Льюиса на очередных «профессорских играх» (когда обсуждалась должность профессора английской литературы в Мертоне)[382]. Вот еще одно письмо (на этот раз от Толкина Льюису), которое отчетливо иллюстрирует сложности их отношений в тот период. Датировано письмо 1948 годом, и переписывались друзья, видимо, по поводу критических замечаний Толкина к одной из работ Льюиса, зачитанной вслух «инклингам»[383].
«Дорогой мой Джек!
Очень любезно с твоей стороны прислать ответ.
Однако пишешь ты главным образом насчет „обиды“; хотя я вроде исправил в моем письме слово „обижен“ на слово „огорчен“, разве нет? Не в наших силах не огорчаться тому, что огорчает. Я отлично понимал, что ты не позволишь огорчению перерасти в озлобленность, даже если таково свойство твоей натуры. Мне жаль, что я причинил тебе боль, даже если у меня и было на это право; и еще больше сожалею о том, что причинил ее чрезмерно и без нужды. Мои стихи и мое письмо — следствие того, что я вдруг осознал (и не скоро о том забуду), сколько боли может примешаться к авторству, в том, что касается как творения, так и „публикации“, каковая является существенной частью процесса в целом. А яркость осмысления, конечно же, объясняется тем, что ты, к кому я давно питаю глубокую привязанность и сочувствие, оказался жертвой, а сам я — обвиняемым. Я ведь не раз вздрагивал под полупокровительственной, полуиздевательской плетью, в то время как дорогие моему сердцу мелочи становились просто-напросто предлогом для словесной живодерни»[384].
Даже Хэмфри Карпентер, составитель сборника писем Толкина, признает не вполне понятным, что́ именно послужило поводом для написания такого письма.
Кто перед кем виноват и в чем?
«Порою (по счастью, нечасто) на меня находит нечто вроде furor scribendi, когда слова подбирает перо, а не голова и не сердце; вот так и на этот раз было. Но ничто ни в речах твоих, ни в поведении не дало мне повода заподозрить, что ты счел себя „обиженным“. Однако я видел, что некие чувства ты испытываешь — ведь ничто человеческое тебе не чуждо, в конце-то концов! — и письмо твое показывает, насколько сильны были эти чувства. Дерзну заметить, что по Божьей милости это скорее должно принести пользу, нежели вред, но это уж между тобою и Богом. Одна из тайн боли заключается в том, что для страдающего она — залог блага, дорога вверх, пусть и непростая. Однако остается она „злом“, и совесть любого человека должна бы устрашаться причинять ее по беспечности или чрезмерно, не говоря уже о том, чтобы умышленно. Но чтобы почувствовать мучительное биение эмоций, знать этого и не требуется. Автор топчется на месте, не решаясь высказать прямо, что его беспокоит, потом все-таки высказывает, отступает назад, пытаясь представить по-иному только что сказанное. Повод остается не очень ясным, однако характер испытываемых им чувств становится все яснее.
<…>
А теперь перейдем к твоему восприятию меня как „критика“, уж мудро там или глупо выполняю я эту функцию. Я вовсе не критик. И быть им не желаю. От случая к случаю (и после долгих раздумий) я, видимо, способен на „критику“, но по природе я человек, критической жилки лишенный. Меня к критике отчасти (и в каком-то смысле вопреки моей натуре) подталкивает сильная „критическая“ тенденция нашего братства. На самом деле я не „гиперкритичен“, ибо обычно просто пытаюсь выразить „предпочтение“, а не универсально значимое критическое замечание. Как правило, я на самом деле просто-напросто теряюсь в чужом, неисследованном море. Мне требуется пища определенного сорта, а не упражнение для моих аналитических способностей (которые обычно используются в иных областях). Ибо есть у меня то, что я всей душой желаю созидать, и к созиданию этому склоняется (как правило, тщетно) моя натура. Даже если оставить в стороне тщеславие и преувеличенные представления о вселенской значимости этого созидания, факт остается фактом: все остальное для меня менее значимо»[385].
В следующем отрывке из письма появляется слово, которое, возможно, что-то, наконец, объясняет в охлаждении давней дружбы:
«Думаю, из меня и не получится сносного критика; а хуже всего я, наверное, выгляжу тогда, когда мысли другого писателя оказываются настолько мне близкими (как порою твои), что того и гляди случится короткое замыкание, вспышка, взрыв — и даже вонь, одним из ингредиентов которой вполне может оказаться самая элементарная зависть»[386].
Но чему, собственно, Толкин мог завидовать?
Неужели той легкости, с которой из-под пера Льюиса выходили произведения, в которых использовались близкие Толкину идеи, в то время как работа над «Властелином Колец» и «Сильмариллионом» постоянно затягивалась? Или легкости, с какой произведения Льюиса публиковались?
Хронологически это вроде бы подтверждается. В начале 1948 года Льюис начал работать над книгой для детей, которая уже в 1950 году вышла под названием «Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» — это была первая из семи книг «Хроник Нарнии». Весной 1949 года Льюис читал на собрании «инклингов» первые главы этой книги, и они, к сожалению, вызвали у Толкина исключительно отрицательную реакцию. «На самом деле это никуда не годится! — писал он. — Ну что это такое: „Жизнь и письма Силена“, „Нимфы и их обычаи“, „Личная жизнь фавна“!» Хэмфри Карпентер приводит эти слова Толкина, ссылаясь на бывшего студента К. С. Льюиса Роджера Ланселина Грина[387], но Толкин никогда и не скрывал своего отношения к повести. Тот же Грин, который иногда принимал участие в собраниях «инклингов», вспоминал, что именно Льюис говорил ему, что первой реакцией Толкина на его чтение было: «Мне это резко не нравится»[388].
По поводу причин этого у нас нет оснований почему-либо не соглашаться с анализом Хэмфри Карпентера, приведенным в книге «Инклинги». Взгляды Толкина и Льюиса на «мифопоэйю», то есть на сотворение мифологического мира по «доверенности» от Творца, были весьма близки, но это не означает, что совпадали их вкусы, а говоря шире — критерии оценки достигнутого. Толкин судил литературные произведения по очень строгим критериям. Как пишет Карпентер: «Он не любил создания воображения, которые были написаны наскоро, содержали несовместимые детали и не всегда оказывались убедительными в описании „вторичного мира“»[389]. Льюис же часто готов был принести эту тщательно выверенную внутреннюю согласованность (которая, кстати, замечается не сразу и не всеми) в жертву непосредственному эмоциональному воздействию. Представления о «роли Вечности в истории» у обоих друзей могли быть похожи, но про Толкина хочется сказать, что он смотрел на воображаемые события, о которых писал в своих книгах, с точки зрения Вечности, тогда как Льюис пытался смотреть на Вечность с человеческой точки зрения.
В этом смысле ярким примером может служить художественная книга Льюиса «Пока мы лиц не обрели» (1956)[390] — некий вариант мифа об Амуре и Психее, рассказанный с точки зрения некрасивой старшей сестры Психеи — Оруаль. Напомним, что в классической версии мифа (у Апулея) Психея стала женой Амура, но встречалась с мужем исключительно в темноте — ей запрещалось видеть лицо бога. Когда однажды две сестры пришли к ней в гости во дворец Амура, они из зависти подговорили Психею зажечь ночью лампу и посмотреть на мужа. У Льюиса же действие происходит в маленьком ближневосточном царстве, которое называется Глом. Местную богиню любви зовут Анджит, ее статуя — это всего лишь бесформенный черный камень, ей приносят кровавые жертвы. У нее есть сын, которого никто не видел и которого многие считают чудовищем. Одно из имен сына — «Зверь из тени» (Shadowbrute).
Младшую сестру, красавицу Психею, у Льюиса зовут Истра. Психеей ее назвал некий учитель-грек, раб царя — отца трех сестер. Сначала народ поклоняется Психее, считая, что она может исцелять больных своим прикосновением. Потом, когда к разразившейся эпидемии присоединяются разные другие бедствия, отношение к Психее меняется, и средняя сестра Редиваль все из той же тайной зависти подговаривает жреца принести ее в жертву. Психею отводят на гору, на которой, как считается, живет сын богини Анджит, и там привязывают к дереву. Уродливая Оруаль, в отличие от Редиваль, любит Психею и вскоре тайком отправляется на гору, чтобы ее спасти. Но, к большому своему удивлению, она обнаруживает, что Психея жива и здорова. Каким-то чудесным образом она освободилась и живет в маленькой зеленой долине у ручья. Ничего другого Оруаль вокруг себя не видит, но Психея почему-то утверждает, что живет вовсе не у ручья, а во дворце бога, который стал ее мужем, и очень удивляется тому, что сестра не видит никакого дворца. Оруаль считает, что Психея сошла с ума, а может, попросту обманута чудовищем. Сестру она любит, но ни с кем не хочет делиться своей любовью. Именно поэтому она подговаривает Психею зажечь лампу, которую принесла с собой…
Роман Льюиса — о любви, человеческой и божественной, собственнической и бескорыстной, о боли неизбежных утрат, о невозвратимости, о лицах, которые скрывают суть, подобно маскам. Может быть, наиболее ярко мысли Льюиса выражают следующие слова, сказанные Оруаль: «Когда придет миг и тебя заставят, наконец, сказать то, что таилось в сердцевине твоей души годами, ты не будешь рассуждать о красоте слов. Теперь я поняла, почему боги не говорят с нами открыто и не дозволяют нам ответить. Пока это слово не будет выкопано на свет, зачем им слушать то, что мы бормочем, думая, что именно его имеем в виду? Как они могут встретить нас лицом к лицу, пока мы не обрели лиц?»[391] Речь здесь, конечно, идет об истинных лицах, а не о лицах-масках.
Мы позволили себе отступление о творчестве Льюиса, чтобы читатель яснее почувствовал линию его размежевания с Толкином. Для Льюиса было не особенно важно, где именно происходит действие его романа, существовала ли ближневосточная богиня по имени Анджит, насколько уместно события мифа помещать в эпоху, в которой Оруаль может владеть греческой рукописью, содержащей слова Сократа. С точки зрения качества «вторичного мира» эти неясности можно считать недостатками, но они ни в коей мере не умаляют силы воздействия книги на обыкновенного читателя. В этом очевидное различие подходов Толкина и Льюиса к сотворению мифа. (В одном из писем Толкин прямо называл Льюиса «чересчур впечатлительным»[392].)
Семь мини-романов Льюиса, посвященных сказочной стране Нарнии, написаны куда более небрежно, чем повесть «Пока мы лиц не обрели». Писались эти романы с поразительной быстротой, примерно по полгода на одну книгу; и публикация шла столь же стремительно. Судите сами: «Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» вышел в 1950 году, а уже в 1956-м была опубликована завершающая часть цикла — «Последняя битва».
Толкина этот на скорую руку собранный коллаж из различных мифологических источников и христианских идей мог только раздражать, а некоторые заимствования Льюиса из его собственного «Сильмариллиона» вообще казались недопустимой вольностью, чуть ли не воровством. В письме Льюису, которое мы цитировали выше, встречается и это неприятное слово: «Вот простейший случай: если человек украл у меня какую-то вещь, тогда я перед лицом Господа объявляю ее — даром»[393]. Вспомним, кстати: в цикле Льюиса лев Аслан создает страну Нарнию пением — подобно тому, как у Толкина в «Сильмариллионе» мир Средиземья возникает из песен Айнуров. Но нарнийский цикл был почти незамедлительно опубликован, а вот «Сильмариллион» при жизни Толкина так и остался в рукописи[394].
С годами отношение Толкина к нарнийскому циклу не изменилось:
«Печально, что „Нарния“ и вся эта часть наследия К. С. Льюиса остаются за пределами моих пристрастий, равно так же, как многие мои произведения — за пределами его»[395].
В целом же отношения с Льюисом Толкин характеризовал так:
«К. С. Льюис был моим ближайшим другом примерно с 1927 по 1940 год, да и после этого оставался мне очень дорог. Его смерть обернулась для меня тяжким ударом. Однако, по правде сказать, виделись мы с ним все реже и реже, после того, как он подпал под неодолимое влияние Чарлза Уильямса, и еще реже — после его престранного брака (в 1956 году)»[396].
По-видимому, Милтон Уолдмен из «Коллинз» был совершенно искренен, когда говорил, что это издательство действительно готово опубликовать «Властелина Колец» и «Сильмариллион», как того желал Толкин. Но не Уолдмен был в «Коллинз» высшей инстанцией, не он принимал решения. Он просто устроил встречу Толкина с Уильямом Коллинзом в лондонском офисе издательства. Там же, в Лондоне, Толкин обсудил и вопросы печатания книги с производственным отделом.
Казалось, все было готово для подписания договора — но рукопись «Сильмариллиона» так и не была полностью закончена. Что ж, ладно, пусть первым выйдет «Властелин Колец». В конце концов, обо всем можно договориться[397]. В мае 1950 года Милтон Уолдмен даже сам приехал в Оксфорд, поскольку считал, что «Властелин Колец» нуждается в сокращениях. Для Толкина это оказалось неприятным сюрпризом, но все же он пообещал что-то сделать, когда найдет время. В свою очередь, для Уолдмена неприятным сюрпризом оказался предполагаемый объем «Сильмариллиона», — по мнению Толкина, до шестисот тысяч слов. При этом, как отмечает Хэмфри Карпентер, Толкин ошибался: во «Властелине Колец» было около пятисот тысяч слов, а в «Сильмариллионе» всего 125 тысяч. Как ни объяснять эту ошибку, все равно получалось, что рукописи, публикации которых так добивался Толкин, имеют огромный объем. Там же, в Оксфорде, Толкин передал Уолдмену для прочтения еще несколько глав «Сильмариллиона», но Уолдмену крайне трудно было понять, как именно полученные им главы сочетаются с теми, которые он прочел ранее.
Договор еще не был подписан, а переговоры все усложнялись и усложнялись. Ко всему прочему, Уолдмен часто болел и значительную часть года проводил в Италии, наезжая в Лондон главным образом весной и осенью. Коллинз же практически полностью передал ведение всех дел с Толкином в руки Уолдмена. Очередной осенний приезд Уолдмена в Лондон был отложен в связи с его болезнью, так что к концу 1950 года перспективы публикации его книг выглядели для Толкина ничуть не более ясными, чем в начале.
Не следовало, однако, сбрасывать со счета и Стэнли Анвина.
Толкин, несомненно, преувеличивал враждебность своего издателя, когда искал повод для передачи своих рукописей в издательство «Коллинз». Несмотря на переговоры с последним, отношения с «Аллен энд Анвин» вовсе не прерывались. К этому времени относится и следующая любопытная история, которая может служить неплохой иллюстрацией их отношений. Еще в 1947 году Толкин послал в «Аллен энд Анвин» новый вариант пятой главы «Хоббита», сопроводив его следующими словами: «Вкладываю также… некоторые замечания по поводу „Хоббита“ и (возможно, это позабавит вас с Рейнером) образец переписанной главы V из этой книги, каковая упростила бы, хотя не обязательно бы улучшила, мою теперешнюю работу (то есть работу над „Властелином Колец“. — Г. П., С. С.)»[398].
В августе 1950 года Толкин получил корректуру нового издания «Хоббита», подготовленного издательством «Аллен энд Анвин». К большому его удивлению, часть главы V была набрана в соответствии с тем вариантом, который он посылал в издательство еще в 1947 году. Надо сказать, что вариант этот выглядит логичнее и глубже, чем первоначальный. В первоначальном варианте Голлум соглашался с тем, что проиграл Бильбо игру в загадки, сожалел, что не может найти Кольцо, которое должно было служить наградой победителю, и сам выводил Бильбо из пещеры. Новый вариант известен всем, читавшим «Хоббита», — Голлум догадывается, что Кольцо у Бильбо, называет его вором и готов убить, чтобы вернуть свое сокровище, но Бильбо спасается, воспользовавшись невидимостью, которую дает ему Кольцо. Отзвуки первоначального варианта сохранились в той версии встречи с Голлумом, которую Бильбо рассказал гномам.
Просмотрев корректуру, Толкин написал издателю:
«Править много не потребовалось, зато понадобилось серьезно поразмыслить. То, что я получил, в известной степени застало меня врасплох. Слишком много времени прошло с тех пор, как я прислал предполагаемые изменения к главе V и гипотетически предложил слегка изменить первоначального „Хоббита“. В ту пору я все еще пытался приладить к месту продолжение (то есть книгу „Властелин Колец“. — Г.П., С. С.), а изменения мою задачу существенно облегчили бы, не говоря уже о том, что удалось бы сократить это непомерно длинное произведение почти на целую главу. Однако Вы не отозвались ни словом, и я так понял, что возможность изменений первоначальной редакции даже не рассматривается. Теперь продолжение основано на раннем варианте; и если исправленный текст, в самом деле, будет опубликован, потребуется существенная переработка продолжения»[399].
Но Толкин был, скорее, доволен: «Я не собирался публиковать исправленный вариант, но получилось вроде бы очень даже неплохо»[400].
Трудно не прийти к мысли, что «старый мудрый Стэнли Анвин» (ему было в это время 65 лет, а Толкину только 58) сознательно распорядился пустить в набор новый вариант сцены с Голлумом без разрешения Толкина, чтобы укрепить взаимоотношения со своим строптивым автором. Конечно, в этом был определенный риск. Совсем недавно, когда Стэнли Анвин «случайно» вложил в свое письмо комментарии Рейнера, где тот советовал опубликовать «Властелина Колец» и пренебречь «Сильмариллионом», реакция Толкина оказалась резко отрицательной. Здесь же риск, что «самоуправство» не понравится Толкину, был гораздо меньше — ведь это «самоуправство» оправдывалось желанием угодить автору! Кроме того, перспектива, что Толкин уйдет к конкуренту, выглядела вполне реальной. И не следует забывать, что целью исправлений, предложенных три года назад Толкином, было как раз это — сделать более логичным переход от «Хоббита» к «Властелину Колец». Внося исправления, Стэнли Анвин тем самым сохранял возможность дальнейшего разговора об издании «Властелина Колец».
Кстати, разговор об исправлениях в «Хоббите» вскоре получил продолжение, как на то и рассчитывал Стэнли Анвин. 14 сентября Толкин написал ему: «Я решил признать существование двух версий главы пятой в том, что касается продолжения, хотя на данный момент у меня нет времени переписывать его в нужных местах. Потому вкладываю кратчайший вариант вводного примечания; это текст для печати, если вы сочтете возможным использовать его в переиздании»[401].
Так что, на наш взгляд, сэр Стэнли Анвин вполне заслужил эпитеты «старый» и «мудрый» — подобно Вяйнемёйнену из «Калевалы».
Конечно, слухи о сложностях с публикацией в конкурирующем издательстве дошли до Стэнли Анвина, и он прямо написал Толкину, что до сих пор питает надежду «быть связанным с публикацией „Властелина Колец“»[402]. Толкин не собирался изображать из себя блудного сына; он ответил дружелюбно, однако ни разу не упомянул о «Властелине Колец» в своем ответе.
Неожиданным отражением мучительной борьбы Толкина за одновременное издание «Властелина Колец» и «Сильмариллиона» оказалось его обширное письмо Милтону Уолдмену.
Как указывал Хэмфри Карпентер в комментариях: «К концу 1951 года никаких определенных договоренностей касательно публикации достигнуто не было, а в издательстве „Коллинз“ общий объем книг вызывал все большее опасение. По всей вероятности, именно по просьбе Уолдмена Толкин написал письмо издателю — длиной почти в десять тысяч слов, с целью доказать, что „Властелин Колец“ и „Сильмариллион“ взаимозависимы и неразделимы. Письмо, заинтересовавшее Уолдмена настолько, что он отдал его в перепечатку, не датировано, но написано, вероятно, в конце 1951 года»[403].
Это письмо — веха. Оно отмечает переход Толкина к новому этапу внутреннего развития — этапу осмысления уже сделанного. Правда, на фоне нерешенного вопроса с публикацией такой доверительный разговор с издателем выглядел несколько странно и вряд ли способствовал прояснению отношений с «Коллинз».
«Вы попросили дать краткое описание материала, имеющего отношение к моему воображаемому миру, — писал Толкин. — Трудно сказать хоть что-нибудь, не сказав при этом слишком многого: при попытке найти пару слов, распахиваются шлюзы энтузиазма, эгоист художник немедленно желает сообщить, как этот материал разрастался, на что похож и что (как ему кажется) автор имел в виду.
<…>
Если говорить о том, когда и как это сочинялось и разрасталось, все это началось одновременно со мной, — хотя не думаю, что это кому-то интересно, кроме меня самого. Я имею в виду, что не помню такого периода в моей жизни, когда бы я это все не созидал. Многие дети придумывают, — или, по крайней мере, берутся придумывать, — воображаемые языки. Сам я этим развлекаюсь с тех пор, как научился писать. Вот только перестать я так и не перестал, и, конечно же, как профессиональный филолог (особенно интересующийся эстетикой языка) я изменился в том, что касается вкуса, и усовершенствовался в том, что касается теории, а возможно, и мастерства.
<…>
Но страстью столь же основополагающей для меня ab initio был миф (не аллегория!) и волшебная сказка, а в первую очередь — героическая легенда на грани волшебной повести и истории, которых на мой вкус в нашем мире слишком мало (по крайней мере, в пределах моей досягаемости). Уже в студенческие годы мысль и опыт подсказали мне, что интересы эти — разноименные полюса науки и романа — вовсе не диаметрально противоположны, но, по сути, родственны.
<…>
Кроме того (и здесь, надеюсь, слова мои не прозвучат абсурдно), меня с самых юных лет огорчала нищета моей любимой родины: у нее нет собственных преданий, связанных с ее языком и почвой, во всяком случае, того качества, которого я искал и находил (в качестве составляющей части) в легендах других земель. Только не смейтесь, но некогда (с тех пор самонадеянности у меня, конечно, поубавилось) я задумал создать цикл более-менее связанных между собою легенд — от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной сказки; так, чтобы более значительные основывались на меньших в соприкосновении своем с землей, а меньшие обретали великолепие на столь обширном фоне; цикл, который я мог бы посвятить просто стране моей, Англии. Одни легенды я бы представил полностью, но многие наметил бы только схематически, как часть общего замысла. Циклы были бы объединены в некое грандиозное целое — и, однако, оставляли бы место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма…
Разумеется, такой самонадеянный замысел сформировался не сразу.
Сперва были просто истории. Они возникали в моем сознании как некая „данность“, и по мере того, как являлись мне по отдельности, укреплялись их связи. Захватывающий, хотя то и дело прерываемый труд (тем более что, даже не говоря о делах насущных, разум порою устремлялся к противоположному полюсу и сосредоточивался на лингвистике); и, однако ж, мною всегда владело чувство, будто я записываю нечто, уже где-то там „существующее“, а вовсе не „выдумываю“. Я сочинял и даже записывал много всего другого (особенно для моих детей). Кое-каким вещицам удалось даже выскользнуть из тисков этой разветвляющейся, всепоглощающей темы, будучи в основе своей и радикально с нею не связанным: например, „Лист работы Ниггля“ и „Фермер Джайлс“ — единственные, что увидели свет. „Хоббит“, в котором куда больше внутренней жизни, задумывался мною абсолютно независимо; начиная его, я еще не знал, что и он оттуда (курсив наш. — Г. П., С. С.). Однако вскоре выяснилось, что „Хоббит“ завершал собою целое, обеспечивал ему спуск на землю и его слияние с „историей“. Как высокие Легенды начала дней предполагают эльфийский взгляд на вещи, так промежуточная повесть о хоббите принимает, по сути дела, человеческую точку зрения.
<…>
Как бы то ни было, во всей этой писанине речь идет главным образом о Падении, Смертности и Машине. О Падении — неизбежно, и мотив этот возникает в нескольких формах. О Смертности, тем более что она оказывает влияние на искусство и тягу к творчеству (или скорее к вторичному творчеству), у которой вроде бы нет никакой биологической функции и которая не имеет отношения к удовлетворению простых, обыкновенных биологических потребностей, с каковыми в нашем мире она обычно враждует. Это стремление одновременно сочетается со страстной любовью к первичному, настоящему миру и оттого исполнено ощущения смертности — и в то же время миром этим не насыщается. В нем заключены самые разные возможности для Падения. Оно может стать собственническим, цепляясь за вещи, созданные „как свои собственные“; творец вторичной реальности желает быть Богом и Повелителем своего личного произведения. Он упрямо бунтует против законов Создателя — особенно же против Смертности. И то и другое (поодиночке или вместе) непременно ведет к жажде Власти, и отсюда к Машине (или Магии). Под последним я разумею любое использование внешних систем или приспособлений (приборов) вместо того, чтобы развивать врожденные, внутренние таланты и силы или даже просто использование этих талантов во имя искаженного побуждения подчинять: перепахивать реальный мир или принуждать чужую волю. Машина — наша более очевидная современная форма, хотя и соотносится с магией теснее, нежели обычно признается.
<…>
Эльфы призваны (в моих историях) демонстрировать разницу. Их „магия“ — это Искусство, освобожденное от многих человеческих ограничений: более легкое и непринужденное, более живое, более полное (произведение и замысел идеально соответствуют друг другу). А целью „магии“ является Искусство, а не Власть, вторичное творчество, а не подчинение и не деспотичная переделка Творения. Эльфы „бессмертны“, по меньшей мере, пока длится этот мир, и потому их скорее занимают горести и тяготы бессмертия среди изменчивого времени, нежели смерть. А врага в последовательных его обличьях всегда „естественным образом“ занимает абсолютная Власть, он — Владыка магии и машин; но проблема, — что это страшное зло может родиться и рождается от вроде бы доброго корня, из желания облагодетельствовать мир и других — быстро и в соответствии с собственными планами благодетеля, — становится повторяющимся мотивом»[404].
Как уже говорилось, Милтон Уолдмен отдал письмо Толкина в перепечатку, и оно сохранилось в архивах издательства. О чем это говорит? О том, что Уолдмен уже знал или предполагал, что рукопись в издательстве «Коллинз» в печать не пойдет, и хотел сохранить копию письма как некий интересный документ? Или думал использовать письмо в каких-то дальнейших переговорах с руководством?
Как бы то ни было, дальнейший ход событий только подчеркивает несамостоятельность Уолдмена и бросает определенный свет на работу сложной издательской машины. Наступила весна 1952 года, а соглашение с «Коллинз» так и не было подписано. Резко выросли цены на бумагу, соответственно, подорожал весь издательский цикл. Уолдмен снова лечился в Италии, Уильям Коллинз вообще надолго отправился в Южную Африку, а Толкин все продолжал дорабатывать свой любимый «Сильмариллион».
Позже Хэмфри Карпентер так написал об этом:
«Толкин (который, по правде говоря, был не менее ответствен за задержку, чем все остальные) написал Коллинзу, что он, Толкин, только даром теряет время. Пусть немедленно публикуют „Властелина Колец“, а не то он отошлет рукопись обратно в „Аллен энд Анвин“. Предвидеть результат не составило труда: Уильям Коллинз любил ультиматумы не больше, чем Стэнли Анвин. Он вернулся из Южной Африки, прочел письмо Толкина и 18 апреля 1952 года ответил: „Боюсь, нас пугает колоссальный объем книги. При нынешних ценах на бумагу это означает, что расходы окажутся непомерно большими“, и согласился с тем, что Толкину, пожалуй, и впрямь стоит отослать рукопись в издательство Стэнли Анвина»[405].
Но, возможно, решающая роль в возвращении рукописи в издательство «Аллен энд Анвин» принадлежала все же «молодому другу» Толкина — Рейнеру.
«Как любезно с Вашей стороны вспомнить обо мне! — написал ему Толкин 22 июня 1952 года. — Я очень виноват перед Вами. Вы написали мне 19 ноября, а я по сей день молчу. А теперь вот на меня свалилось еще одно великое бедствие, и тянуть с ответом и дальше я не могу. Итак, бедствие: меня снова выбрали в председатели экзаменационной комиссии по английскому языку, и ныне удел мой — семидневная рабочая неделя и двенадцатичасовой рабочий день, и продлится эта каторга до самого 31 июля, когда меня, измученного и обессиленного, волна вынесет на августовское мелководье».
Далее Толкин рассуждает о публикации старого стихотворения «Приключение» и только затем заговаривает о состоянии дел после отказа издательства «Коллинз»:
«Что до „Властелина Колец“ и „Сильмариллиона“, с ними все по-прежнему. Первый окончен (и даже отредактирован), второй до сих пор не окончен (или не отредактирован); оба пылятся без дела. Я тут время от времени прихварывал, да и бремя всяких дел навалилось, так что до рукописей руки просто не доходили; да и духом пал, наблюдая, как растет дефицит с бумагой и затраты на производство — все против меня! Однако я отчасти поумерил свои притязания. Лучше хоть что-нибудь, чем вовсе ничего! Хотя для меня эти две книги — одно, и „Властелин Колец“ воспринимался бы лучше (и легче) в составе единого целого, я охотно рассмотрю возможность публикации хотя бы части. Годы теперь на вес золота.
<…>
Как только выкрою минутку-другую, отберу фрагменты „Сильмариллиона“, близкие к завершению, — или, скорее, первоначальный набросок, более-менее законченный, и представлю Вам на прочтение. Проблема, конечно же, в том, что в силу дороговизны услуг машинисток и нехватки времени на то, чтобы сесть за машинку самому (я сам перепечатал почти всего „Властелина Колец“), лишних экземпляров на выдачу у меня нет. Но все же как насчет „Властелина Колец“? Можно ли что-то сделать для того, чтобы отпереть двери, которые я сам же и захлопнул?»[406]
Рейнер (который теперь был полноправным сотрудником издательства «Аллен энд Анвин») ответил Толкину 1 июля: «Мы на самом деле хотим опубликовать Вас — загвоздка лишь в способах и средствах». Он даже предлагал выслать ему рукопись «Властелина Колец» заказным письмом, а для того, чтобы взглянуть на другие рукописи, — встретиться лично[407]. Но Толкин подчеркивал: «лишних экземпляров у меня нет», и на самом деле чистовой экземпляр у него был только один, отправлять его почтой он не решался. Поскольку до сентября возможности встретиться с Рейнером не представилось, он уехал на каникулы в Ирландию, а потом посетил знакомого К. С. Льюиса Джорджа Сейера, преподавателя Малверн-колледжа в соседнем с Оксфордширом Вустершире.
Этот визит примечателен тем, что хозяин записал голос Толкина, читающего «Хоббита» и «Властелина Колец» и напевающего песни оттуда. Сохранился рассказ о том, что Толкин, который до этого случая не имел дела с магнитофоном, начал с того, что прочитал в микрофон «Отче наш» по-готски. В целом опыт ему так понравился, что он сам приобрел магнитофон и сделал немало записей чтения своих собственных произведений.
В конце августа Толкин писал Рейнеру Анвину:
«Наконец-то руки дошли до собственных дел. Ситуация следующая: я очень хочу опубликовать книгу „Властелин Колец“ как можно скорее. Я считаю, что это великое (хотя и не безупречное) произведение. А с остальным — как выйдет, так выйдет. Но поскольку расходы на перепечатку оказались непомерно высокими, мне пришлось все делать самому, так что существует лишь один (более-менее) чистовой экземпляр. Доверять его почте я опасаюсь; и в любом случае я как раз собираюсь посвятить несколько дней окончательной правке. Ради этой цели завтра я удаляюсь от шума и вони Холиуэлл-стрит и перебираюсь в коттедж моего сына на вершине Чилтерна, пока тот с детьми в отъезде. Вернусь 10 сентября. После того загляну со своей тяжкой ношей на Мьюзиум-стрит (адрес „Аллен энд Анвин“ в Лондоне. — Г. П., С. С.) в какой-нибудь удобный для вас день… или Вы могли бы навестить меня».
Рейнер посетил Оксфорд и забрал рукопись 19 сентября.
Глобализация уже давала о себе знать: Стэнли Анвин в это время по делам фирмы находился в Японии, и действовать Рейнеру надлежало самостоятельно. Поскольку он был хорошо знаком с рукописью (Толкин показывал ему более ранние варианты), он начал с оценки производственных расходов. Цель этих расчетов была проста — выяснить, можно ли удержать цену в пределах доступности для обыкновенных читателей и небольших библиотек.
Первоначальная идея, высказанная еще два года назад, о целесообразности разбиения «Властелина Колец» на три тома, в общем, подтвердилась. В этом случае каждый том (с минимальной окупаемостью) можно было бы продавать по цене 21 шиллинг (что примерно соответствует современным 50 долларам). Эта цена была несколько выше того, что считалось верхним пределом для художественной книги, но Рейнер пришел к выводу (после обсуждений в производственном и коммерческом отделах издательства и сравнения расходов в нескольких типографиях), что лучшего добиться едва ли возможно. Он даже говорил о цене с самим Толкином и сумел убедить его в оптимальности разбиения текстов на три отдельных тома. После этого Рейнер послал телеграмму в Японию своему отцу, запрашивая разрешения на публикацию. В телеграмме он отметил, что издание представляет собой значительный риск для фирмы, на нем можно потерять до 1000 фунтов (около 50 тысяч долларов по нынешним ценам), однако, по его мнению, книга — гениальное произведение.
Ответной телеграммой Стэнли Анвин дал согласие на публикацию.
Десятого ноября Рейнер написал Толкину уже официально, от имени фирмы, выражая готовность опубликовать «Властелина Колец». Контракт, который он предлагал, для тех лет уже не был обычным, но Стэнли Анвин продолжал пользоваться контрактами этого типа в тех случаях, когда коммерческий успех книги вызывал у него сомнения. Во времена Диккенса или Уильяма Морриса как раз такие контракты и были основными. Толкину предлагалось «участие в прибылях», то есть он не должен был получать никакого разового авторского гонорара, зато мог рассчитывать на половину прибыли с того момента, когда произведение начнет приносить доход.
Скажем прямо, в тот момент никто не ожидал, что «Властелин Колец» станет бестселлером. Как писал сам Толкин, обсуждая цену будущего издания с Рейнером: «Сколько же экземпляров Вам нужно будет продать, чтобы хотя бы возместить затраты? Безусловно, людей, жадных до такого угощения, на свете куда больше, нежели нам кажется; обычно объем их только радует, и иногда они даже заплатить способны — ценя одну толстую книгу выше четырех тоненьких и не удивляясь, что она выходит в четыре раза дороже одной тонкой. Но, конечно, угадать их численность я не берусь, равно как и предсказать, велик ли шанс с ними встретиться»[408].
Конечно, скоро слух, что судьба «Властелина Колец», наконец, решена, достиг друзей Толкина. К. С. Льюис поздравил его в письме: «Думается, затянувшаяся беременность отняла у тебя слишком много жизненных сил; теперь, когда книга пошла, появятся новая зрелость и свобода»[409].
Эти слова Льюиса выглядят скорее благим пожеланием — с годами скрупулезность Толкина только возрастала. Хорошо уже то, что Рейнер Анвин, которого по праву можно назвать единственным истинным союзником Толкина среди издателей, не стал требовать от него сокращений. Но, как только контракт был подписан, Толкин пожелал еще раз перечитать рукопись, чтобы устранить возможные несоответствия в тексте. Кроме того, раз уж вопрос с публикацией «Сильмариллиона» откладывался на неопределенное время, он хотел добавить несколько приложений. Они должны были содержать те необходимые сведения о народах Средиземья, их языках и истории, которые не удавалось включить в основной текст, не нарушая естественного хода повествования. Наконец, требовались новые карты, ибо те, которые Кристофер изготовил много лет назад, устарели и выцвели.
В подписанном контракте значилась точная дата представления рукописи — 25 марта 1953 года. За день до этого, 24 марта, Толкин отправил Рейнеру следующее письмо:
«Дорогой Рейнер!
Давно уже собирался Вам написать.
Ведь „контрактная дата“, 25 марта, все время неумолимо приближалась, а я по-прежнему с головой увязал в злоключениях, и вот он — канун назначенного дня. В двух словах о том, что со мной случилось: прежде всего, здоровье моей жены неуклонно ухудшалось, и с самого ноября я покоя не знаю. В результате докторского ультиматума я был вынужден львиную долю того времени, что оставляли мне мои обязанности, тратить на поиски и переговоры по поводу покупки дома где-нибудь повыше и посуше, желательно в тихом квартале. Так что сейчас я in articule mortis[410], по крайней мере, ощущение именно такое, — собственно говоря, как раз в процессе переезда. Кошмар, одно слово. В придачу злая воля Мордора постановила, чтобы и сам я расхворался, так что рождественские каникулы по большей части пропали для меня даром. Бреши в броне прошлого триместра так и не нашлось; сейчас я, как председатель, по-прежнему контролирую возню с письменными работами по английскому для „онор-модерейшнз“ на июнь и уже на неделю с этим запаздываю.
Боюсь, в вопросе даты придется мне просить Вашего снисхождения.
Но в Вашем письме я вижу для себя проблеск надежды; я так понял, что первых двух книг вроде бы достаточно для того, чтобы работа не стояла. Я практически закончил детальную правку этих двух, прежде чем на меня навалились несчастья; я смогу отдать их Вам к концу месяца»[411].
Впрочем, и это обещание оказалось слишком оптимистическим.
Одиннадцатого апреля Толкин снова написал в издательство:
«Дорогой Рейнер! Мне страшно неудобно, ведь с конца месяца (марта) прошло уже одиннадцать дней! Но мне пришлось очень несладко, куда хуже, чем я опасался. Невзирая на все предосторожности, переезд оказался катастрофически беспорядочным; я трудился не покладая рук вместо двух дней — десять; и все равно никак не могу отыскать множество нужных мне бумаг и заметок. Вдобавок с экзаменами, за которые я, к несчастью своему, отвечаю, все пошло наперекосяк; а во вторник утром я уезжаю в Глазго читать лекцию памяти У. П. Кера, которая на данный момент готова только наполовину. Но я, наконец, закончил редактуру для печати — надеюсь, вплоть до последней запятой! Это часть I „Властелина Колец“: „Возвращение Тени“, книги I и II. К несчастью, сегодняшнюю почту я пропустил; но отошлю рукопись двумя отдельными бандеролями в понедельник»[412].
Разумеется, в письмах обсуждались и другие вопросы, связанные с подготовкой «Властелина Колец» к печати, например, заголовки каждого из трех томов и подзаголовки частей (каждый том должен был содержать две части). «Аллен энд Анвин» настаивало на независимых заголовках для каждого из томов, в частности, в расчете на большее количество рецензий и на то, что это сделает менее заметным огромный объем книги. Как мы видим, первоначальные заголовки сильно отличались от окончательных. К тому же в целях уменьшения производственных расходов Толкину пришлось отказаться от многих деталей, которые могли бы украсить текст: например, использования цветной печати или факсимильного воспроизведения «Книги Мазарбула», которую Хранители находят в Летописном чертоге:
«Нижний край книги обгорел, она была истыкана мечами или стрелами и заляпана бурыми пятнами — кровью. Гэндальф бережно поднял книгу и осторожно положил ее на могилу Балина…»[413]
Толкин с его стремлением к сотворению совершенного (и только совершенного) «вторичного мира» потратил много часов и дней на создание указанного «художественного объекта», на то, чтобы сделать каллиграфические записи рунами и эльфийским алфавитом на настоящем пергаменте, переплести их, а затем пройтись по книге «огнем и мечом» для полного соответствия. Разумеется, он был весьма огорчен, когда от этого факсимильного воспроизведения пришлось отказаться[414].
Долгий путь к публикации «Властелина Колец» близился к завершению, хотя и на самом последнем отрезке этого пути Толкина поджидали не очень приятные сюрпризы, к счастью, теперь вполне поправимые.
В августе 1954 года он писал Кристоферу:
«Корректура в гранках, как выясняется, занудство редкостное! Им, похоже, конца-краю не предвидится; кроме того, благодаря им я изрядно разочаровался в отдельных частях Великого Шедевра, которые в напечатанном виде выглядят, надо признаться, местами чрезмерно затянутыми. Но сама печать очень хороша, что неудивительно при наборе с почти безупречного экземпляра, вот только наглые наборщики взяли на себя труд править мне правописание и грамматику, по всему тексту меняя dwarves на dwarfs, elvish на elfish, further на farther и, что хуже всего, elven — на elfin. Я выместил свое раздражение, задав нагоняй „А. энд А.“; те пали мне в ноги…»[415]
В октябре «Аллен энд Анвин» получили от Толкина гораздо более тревожное письмо.
«Карты.
Не знаю, что делать.
Просто-таки в панике.
Карты абсолютно необходимы, причем срочно; но начертить их я не могу — и все тут. Я на них пропасть времени убил, а результата никакого. Отсутствие умения плюс нервотрепка. Кроме того, очертания и пропорции „Шира“, каким он описан в произведении, никак невозможно (только моими силами) втиснуть в пределы страницы; не говоря уже о том, что при таком размере никакой информации из карты не извлечешь»[416].
К счастью, главным специалистом по картам в семье Толкинов был Кристофер, он и решил этот вопрос.
Какие еще проблемы задерживали работу?
Например, вопрос о рекламном тексте на суперобложку. Здесь очень помогли Наоми Митчинсон, писательница, всегда искренне восхищавшаяся «Хоббитом», Ричард Хьюз и К. С. Льюис.
Незадолго до выхода книги Толкин писал знакомому католическому священнику, отцу Роберту Мерри: «Я с ужасом жду публикации: ведь не обращать внимания на то, что станут говорить, будет невозможно. Я выставил свое сердце под выстрелы»[417].
Но, понятно, изменить уже ничего было нельзя, и первый том «Властелина Колец» вышел в свет летом 1954 года. А вскоре (если сравнивать с шестнадцатью годами, ушедшими на работу над книгой) появились и два других (в ноябре 1954-го и в октябре 1955 года). Первый тираж этих книг составил три с половиной тысячи экземпляров.
После многочисленных обсуждений с Рейнером Анвином первый том романа был назван «Братство Кольца» (Fellowship of the Ring). Уже в августе начали появляться первые отзывы и рецензии. Они оказались значительно лучше тех, что ожидал Толкин, и немало его порадовали.
«Что до рецензий, — писал Толкин Стэнли Анвину, — то они куда лучше, чем я боялся, и, думаю, могли оказаться еще лучше, если бы мы не процитировали это замечание насчет Ариосто (Льюис неосторожно сравнил Толкина со знаменитым итальянским поэтом Ариосто (1474–1533), автором поэмы „Неистовый Роланд“. — Г. П., С. С.). Или, если на то пошло, не оказались объектом всей этой повышенно бурной враждебности, которую К. С. Л. вызывает в определенных кругах. А ведь он давным-давно меня предупреждал, что его поддержка может причинить мне столько же вреда, сколько и пользы. Я его слова всерьез не воспринял, да и в любом случае никогда не стал бы делать вид, будто не имею к нему никакого отношения: ведь лишь благодаря его поддержке и дружбе я, наконец, завершил свой труд. И тем не менее многие комментаторы, похоже, предпочли проехаться по его замечаниям и рецензии, а не книгу читать…»[418]
Разброс мнений действительно оказался широким.
Из рецензии Эдвина Мьюира[419] в «Обсервер»:
«Эта примечательная книга сразу по выходе явила себя в невыгодном свете. Только воистину великий шедевр выстоит под градом похвал, направленных на него с обложки… „Братство Кольца“ — книга необыкновенная, однако сам я чувствую себя отчасти разочарованным. Возможно, из-за стиля, совершенно не соответствующего теме… А возможно, в силу недостатка чутья и глубины, необходимых для такого сюжета…»
Из рецензии Дж. У. Ламберта в «Санди таймс»:
«Фантастическая чушь, приправленная моралью? Нет; повествование и образы заключают в себе силу, благодаря которой произведение поднимается над подобным уровнем. Книга для развитых детей? Что ж… И да, и нет…»
А. И. Черримен в «Truth»:
«Поразительное произведение… Автор добавил нечто не только к мировой литературе, но и к истории мира…»
Говард Спринг в «Кантри лайф»:
«Это произведение искусства… В нем есть вымысел, фантазия и воображение… Это — мудрая притча об извечной борьбе человека со злом…»
X. А. Фосетт в «Манчестер гардиан»:
«Мистер Толкин — один из тех прирожденных рассказчиков, внимая которым, читатели с широко раскрытыми глазами, точно дети, требуют: дальше, дальше…»
Рецензия в «Оксфорд таймс», подписанная буквами К. X. X., утверждала, что читатели получили книгу «необыкновенную и порой исполненную красоты». Но Питер Грин писал в «Дейли телеграф»: «Я так понимаю, книгу эту предполагается воспринять всерьез, и боюсь, что веских причин к тому я не вижу… И все же это бесформенное произведение заключает в себе некое неоспоримое обаяние: особенно для рецензента, страдающего насморком»[420].
Толкин язвительно откомментировал атаку Грина:
«Должен сказать, не повезло мне угодить в лапы „Дейли телеграф“ в отсутствие Бетжемена[421]. Мое произведение — не по его части, но он, по крайней мере, не невежда и не ставленник бульварной прессы. А вот Питер Грин, похоже, и то и другое. Я не знаком с ним лично и ничего про него не знаю, но он настолько груб, что поневоле заподозришь недоброжелательство. Хотя на самом деле я подозреваю, что „насморк“ послужил для него отличным оправданием, чтобы воспользоваться Эдвином Мьюиром из „Обсервера“ и Ламбертом из „Санди таймс“, слегка их „поперчив“…»
На этом фоне самая, пожалуй, уравновешенная оценка исходила от критика в «Оксфорд таймс»:
«У людей строгих и практичных на этот роман времени не найдется. Те же, чье воображение ждет только искры, чтобы воспламениться, будут полностью захвачены повествованием, сделаются участниками похода, полного удивительных событий, и пожалеют, что впереди еще только два тома…»[422]
Кто были все эти критики?
Кое-что мы о них знаем (не обо всех).
Эдвин Мьюир (1887–1959) — известный поэт, критик и переводчик (он переводил, например, Кафку и Фейхтвангера). Его стихи отличались (по характеристике из Википедии) «простым языком без особых стилистических ухищрений». А. Е. Черримен — это псевдоним одного из самых молодых критиков, восходящей звезды британской журналистики Бернарда Левина (1927–2004). Его рецензия предвосхищала тот восторг, с которым позже принимали Толкина участники молодежных движений. Ну а Питер Грин (родился в 1924 году) — переводчик с латыни и греческого, автор исторических и биографических книг, например, книги об Александре Македонском.
Дж. У. Ламберт был первым, кто отметил в книгах Толкина «полное отсутствие какого бы то ни было религиозного духа и, по сути дела, полное отсутствие женщин»[423]. Позже к этой теме не раз обращались и другие критики Толкина, а сам он подробно высказался на эту тему в письме Роберту Мерри еще до выхода в свет «Властелина Колец».
«Дорогой мой Роб! — писал он. — Чудесно было получить от тебя нынче утром такое длинное письмо… Мне ужасно жаль, если слова, мною брошенные мимоходом, заставили тебя попотеть, разбирая по косточкам мое творение. Но, сказать по правде, хотя похвала твоя и отрадна, меня особенно воодушевило то, что ты говорил и в этот раз, потому что ты гораздо более чуток, особенно в определенных областях, нежели многие прочие; тебе даже мне удалось разъяснить кое-что в моей собственной книге. Сдается мне, я отлично понимаю, что ты имеешь в виду под состоянием Благодати; и, конечно же, под ссылками на Пресвятую Деву, на образе которой основаны все мои собственные смиренные представления о красоте, исполненной как величия, так и простоты. Разумеется, „Властелин Колец“ в основе своей — произведение религиозное и католическое; поначалу так сложилось неосознанно, а вот переработка была уже вполне сознательной. Поэтому я или не вкладывал, или решительно устранял из вымышленного мира практически все ссылки на „религию“, на культы и обряды. Ведь религиозный элемент вобрали в себя сюжет и символика. Тем не менее ужасно неуклюже все это сказано, а звучит куда более самоуверенно, нежели я на самом деле чувствую. Ибо на сознательном уровне я планировал крайне немного и, конечно, должен благодарить судьбу за то, что воспитан (с восьми лет) в Вере, которая вскормила меня и научила тому немногому, что я знаю. Этим я обязан моей матери, которая крепко держалась своей новообретенной веры и умерла совсем молодой, главным образом из-за тягот нищеты, сопряженной с этим обращением»[424].
Первый том «Властелина Колец» расходился так хорошо, что вскоре «Аллен энд Анвин» заказало допечатку книги.
Одновременно образ жизни Толкина начал меняться. Он несколько раз выезжал за пределы Англии, причем не только для работы в экзаменационных комиссиях. В июле его приглашают в Дублин для присвоения почетной докторской степени; в октябре — в Бельгию, в Льеж (еще одна почетная докторская степень).
Второй том «Властелина Колец», с подзаголовком «Две крепости»[425] (Two Towers), вышел в середине ноября. Общий тон рецензий напомнил критику первого тома, но теперь у Толкина уже появилась большая группа поклонников, с нетерпением ожидающая третий. Второй том заканчивался на том, что Фродо попал в плен к оркам. Как писал один из рецензентов, «такая неопределенность мучительна». Читатели бомбардировали издательство письмами с требованием продолжения. Лучше всего прямо сейчас! Но для выхода третьего тома необходимо было получить от Толкина все необходимые приложения и карты.
Вспомним, о чем говорится в этих приложениях.
В окончательной авторской версии «Властелина Колец» их шесть.
Приложение А — «Анналы королей и правителей». Это приложение содержит такие важные сведения, как повествование об Арагорне и Арвен и рассказ о том, что в молодости Арагорн был, под именем Торонгил, главным полководцем и советником гондорского правителя Эктелиона.
Приложение Б — «Сказания о годах». Оно содержит общий хронологический очерк, хронологию Второй и Третьей эпох и детальную хронологию событий тех лет, когда развертывается действие «Властелина Колец».
Приложение В — родословные древа.
Приложение Г — календарь Шира.
Приложение Д — «О письме и произношении».
Приложение Е — «Языки и народы Третьей эпохи».
Конечно, как всегда, Толкин не успевал, о чем говорит его переписка с издательством.
18 сентября 1954 года: «Очень сожалею, что до сих пор никак не вышлю Вам экземпляр „Приложений“. Могу лишь сказать, что приложу все усилия, чтобы составить Приложения до конца месяца. Беда моя — нерешительность (и противоречивые советы); попробуй, отбери хоть что-нибудь из такой кипы материалов!»[426]
27 ноября 1954 года: «Я безнадежно запаздываю с „Приложениями“ к тому III; вечно отвлекает то одно, то другое, да и Кристофер слишком завален делами, чтобы помочь с картами. Что называется, влип»[427].
6 марта 1955 года: «Вынужден принять Ваш вызов. Придется обойтись тем материалом, что я смогу представить к Вашему возвращению. Я надеюсь, карту, без которой на самом деле никак нельзя, включить удастся… Теперь уже жалею, что наобещал кучу всяческих приложений! Потому что, думается мне, в усеченном и сжатом виде они никого не удовлетворят; меня — так точно нет; а из жуть какой уймы писем, которыми меня заваливают, явствует, что и читатели, которым это все по душе, довольными не останутся. А их на удивление много, — в то время как те читатели, которые восприняли книгу всего лишь как „роман героического жанра“ и сочли „не разъясненные перспективы“ частью литературного эффекта, приложения просто-напросто проигнорируют и будут правы»[428].
14 апреля 1955 года: «Эта карта — сущий ад! Я не так тщательно отслеживал расстояния, как следовало бы. Сдается мне, крупномасштабная карта просто-напросто выдает все слабые места — и в придачу должна хоть сколько-то отличаться от уже напечатанной мелкомасштабной карты с вкраплениями картинок»[429].
18 апреля 1955 года: «Я отослал отдельным заказным письмом замечательную карту, перерисованную Кристофером с крупномасштабного черновика, набросанного мною для той области, в которой главным образом и разворачивается действие тома III… Надеюсь, вы ее одобрите… Масштаб (как я заметил, Кристофер его не проставил) увеличен ровно в 5 раз в сравнении с общей картой»[430].
Окончательный текст приложений попал в типографию только 20 мая.
Конечно, появлялись и новые вопросы по ходу работы, однако наступили летние каникулы, и Толкин впервые в жизни поехал в Италию. Это было настоящее семейное путешествие. Толкин с дочерью прибыл на континент на пароме, а дальше они отправились поездом. В это время Эдит с тремя друзьями совершала круиз по Средиземному морю. Толкин написал Кристоферу и его жене Фейт уже из Италии. По тону письма чувствуется, что на какое-то время он, кажется, оставил в стороне обычные заботы и наслаждается поездкой:
«До сих пор потрясен фресками в Ассизи. Вам просто необходимо здесь побывать. Приехали мы и на великий праздник Санта-Кьяры в канун 11–12 августа. Торжественную мессу служит кардинал Микара, а при вознесении даров трубили серебряные трубы!
Печатаю на машинке дневник. По-прежнему влюблен в итальянский; скорблю и горюю, не имея шанса попытаться на нем поговорить! Надо бы поддерживать его на уровне… В целом в том, что касается просто развлечений и удовольствия, больше всего мне понравились первые дни в Венеции. Зато в Ассизи мы жили очень дешево; я привез назад примерно фунтов пятьдесят. Оперу нашу утопило: в четверг весь вечер напролет лил ливень; однако в пятницу (наш последний день в Венеции) дали дополнительное представление, на которое наши билеты были действительны. Так что без „Риголетто“ мы не остались. Абсолютно потрясающе!»[431]
Несколько выдержек из дневника Толкина приводит в своей книге Хэмфри Карпентер:
«Он (Толкин. — Г. П., С. С.) очутился в самом сердце христианства: изгнанник, вернувшийся с границ, из дальних провинций домой, или, по крайней мере, в дом своих отцов. В Венеции, среди каналов, он ощутил себя „почти свободным от проклятой заразы двигателей внутреннего сгорания, душащих весь мир“. Позднее Толкин писал: „Венеция показалась мне невероятно, эльфийски, прекрасной. Для меня все это было как сон о Старом Гондоре или Пеларгире Нуменорских Кораблей, до возвращения Тени…“»[432]
Когда Толкин находился в Ассизи, его догнало деловое письмо с очередными вопросами от типографии. Для немедленного ответа у него не было никакой возможности, поскольку все заметки, необходимые для работы над приложениями, остались в Оксфорде. Неудивительно, что «Возвращение короля» поступило в продажу только 20 октября.
В США «Братство Кольца» вышло в издательстве «Хоутон-Мифлин» в октябре 1954 года, а вскоре после него появились и «Две крепости». Рецензии поначалу были неопределенно осторожными, но статья У. X. Одена в «Нью-Йорк таймс» способствовала смене тона и резкому увеличению продаж. («Ни одна книга, прочитанная за последние пять лет, не доставила мне такой радости»[433].)
Через год, когда уже все три тома вышли в свет, критики наконец смогли оценить произведение в целом. Как и раньше, одну из самых положительных рецензий написал К. С. Льюис. «Эта книга слишком оригинальна и слишком многогранна, чтобы судить о ней с первого прочтения. Но мы сразу понимаем, что она каким-то образом изменила нас. Мы стали иными»[434]. Восторженно отозвался о книге и Бернард Левин (на этот раз он выступил не под псевдонимом). Он назвал произведение Толкина «одним из наиболее примечательных литературных произведений нашего времени, а быть может, и всех времен. В наши смутные дни утешительно еще раз убедиться в том, что смиренные наследуют землю»[435].
Но в целом мнения все больше поляризовались.
Радиопостановка «Властелина Колец» обсуждалась на Би-би-си в программе «Критики»; 16 ноября тот же У. X. Оден в своем радиовыступлении сказал: «Если книга Толкина кому-то не нравится, суждениям этого человека о литературе я в жизни больше доверять не стану». А вот Эдвин Мьюир, отрецензировавший «Возвращение короля» в «Обсервер» (27 ноября), напротив, утверждал: «Все персонажи Толкина — мальчишки, вырядившиеся в одежды взрослых героев… Эти до половой зрелости никогда не дорастут… Из них едва ли хоть кто-нибудь разбирается в женщинах…»[436]
Судя по письму Рейнеру Анвину, Толкина эта ситуация скорее забавляла:
«С мнением „критиков“ насчет радиопостановки я согласился; однако меня возмутило другое: признавшись, что никто из них книги не читал, они, видите ли, сосредоточили внимание именно на ней и на мне — включая предположения касательно моей религиозной принадлежности. Оден мне тоже ужасно не понравился — во всяком случае, стихи читать он не умеет, поскольку чувством ритма обделен; очень сожалею, что он превратил книгу в „тест на литературный вкус“. Ни одно произведение для этой цели не годится; а если попробуешь — так только публику разъяришь… Но, наверное, это все способствует спросу. Моя корреспонденция ныне пополнилась негодующими письмами, в которых бранят и критиков, и постановку. Одна престарелая дама (отчасти прототип Лобелии, хотя сама она об этом не подозревает), сдается мне, непременно отделала бы Одена (и прочих), окажись они в пределах досягаемости ее зонтика».
И далее: «Чума на Эдвина Мьюира с его затянувшимся подростковым инфантилизмом! В его годы пора бы и поумнеть. Хорошо бы ему послушать, что думают женщины насчет его „способности разбираться в женщинах“, особенно в качестве теста на зрелость! Будь он М. А. (магистром искусств. — Г. П., С. С.), я бы выдвинул его в кандидаты на должность профессора поэзии — воистину сладкая месть!»[437]
Интересно, впрочем, что ни в авторизованной биографии Толкина, ни в письмах, опубликованных Хэмфри Карпентером, вообще не упоминается одна из наиболее враждебных рецензий, написанная влиятельным американским критиком Э. Уилсоном (1895–1972). По духу она напоминает рецензию Мьюира, и в целом к ней вполне применимы процитированные выше иронические слова Толкина. Рецензия называется «О, эти ужасные орки!»[438]. Уилсона выводят из себя восторженные отзывы Ричарда Хьюза, Наоми Митчинсон, У. X. Одена и других. Хотя критик утверждает, что он читал всего «Властелина Колец» своей семилетней дочери (и книга ей не понравилась), имя Гэндальфа пишется в ней с ph на конце вместо f. Уилсон пишет о «любительской профессорской» прозе Толкина, о том, что сам он совершенно не способен мысленно представить себе Гэндальфа и что герой (то есть Фродо) не подвергался на протяжении квеста никаким серьезным искушениям.
Вызывает сомнение, что Уилсон вообще прочитал книгу до конца, поскольку он утверждает, что читатель с интересом ждет, что в конце Фродо чудом избежит опасности попытаться самому завладеть Кольцом и превратиться в чудовище — и якобы оказывается разочарован.
В пример Толкину Уилсон ставит писателя Дж. Б. Кэбелла (1879–1958), автора довольно-таки манерных сочинений в жанре фэнтези с примесью социальной сатиры, модных в 1920-е годы. «Что касается меня, — писал Уилсон, — если нам необходимо читать о воображаемых королевствах, дайте мне „Poictesme“ Джемса Брэнча Кэбелла. Он, по крайней мере, пишет для взрослых».
Вот отрывок из рассказа «Тонкая королева Эльфхейма», входившего в упомянутое сочинение Кэбелла, который сразу многое скажет о стиле Кэбелла, а также и о предпочтениях Уилсона, хотя, конечно, следует помнить, что слишком часто рецензии являются лишь оружием в литературной борьбе:
«Сколько нежных дам (убедившись, что их не слышат мужья) возрыдали, когда учтивый Анавальт покинул двор графа Эммерика, — того сказать невозможно. Во всяком случае, число их оказалось велико. Были, однако, — гласит повесть, — три женщины, чья скорбь оказалась неутешна; и они не плакали. Тем временем — тайные печали остались за спиной Анавальта, мертвая лошадь лежала у его ног, а сам рыцарь стоял на распутье и с некоторым сомнением разглядывал внушительных размеров дракона»[439].
Все же передышки, подобные поездке в Италию, были редким исключением. Никто не собирался освобождать Толкина от груза повседневных обязанностей. Публикация «Властелина Колец» нисколько не улучшила ситуацию в университете, скорее, наоборот. Толкин писал своим американским издателям: «Я тону с головой не только в проблемах с „В. К.“ (без секретаря), но еще и в делах профессиональных. Один из способов заставить нас, профессоров, „тихо уйти“ практически без всякой пенсии, это сделать для нас последние два-три года пребывания на должности невыносимо тяжкими — в то время как с выходом „В. К.“ меня просто-таки взяли в клещи. Большинство моих коллег-филологов шокированы тем, что филолог опустился до „банальной беллетристики“. В любом случае молва трубит: „Вот теперь-то мы знаем, на что Вы разбазаривали свое время двадцать лет кряду!“ И ныне гайки закручиваются в том, что касается множества всяческих работ более профессионального плана, давным-давно просроченных. Увы! Мне нравится и то и другое, однако времени-то мне отпущено на одного человека»[440].
Толкин старался, как мог, выполнять накопившиеся обязательства.
Зная о тщательности, с какой он подходил к любому делу, можно себе представить, каких трудов ему это стоило. Публичную лекцию о кельтских элементах английского языка под названием «Английский и валлийский» он прочитал только на следующий день после выхода в свет третьей части «Властелина Колец», — на несколько месяцев позже назначенного ему срока. А были и другие академические обязательства, некоторые из них запоздавшие на много лет, а не на какие-то месяцы, как, например, подготовка к изданию перевода Ancrene Wisse (средневекового женского монашеского устава) с обширными комментариями.
Зато популярность «Властелина Колец» росла.
В 1955–1956 годах Би-би-си осуществила радиопостановку трилогии и, хотя Толкину не нравились попытки «драматизации» его произведений, росту популярности это, конечно, способствовало. Вместе с популярностью росли продажи, до такой степени, что к началу 1956 года Толкин начал получать доход по своему контракту «с участием в прибылях». Первый чек из «Аллен энд Анвин» был на 3500 фунтов — больше чем годовая профессорская зарплата в Оксфорде того времени. Разумеется, увеличились и налоги.
Кстати, в конце 1930-х, когда вышел в свет «Хоббит», налоги в Англии взимались с британцев значительно меньшие. Подоходный брали только с доходов, превышающих средний по стране, и был он гораздо скромнее — в процентном отношении. В 1950-е годы порог, до которого налог не взимался, достигал уже только половины среднего дохода[441]. Для Толкина, любившего оглядываться на прошлое, это служило лишним подтверждением того, что от прогресса никогда не следует ожидать ничего хорошего. Он даже начал жалеть, что не согласился на ранний выход на пенсию. Ранним в Оксфорде считался выход в 65 лет, а Толкин дал согласие работать до шестидесяти семи лет, что тогда считалось нормой. Правда, бывали и приятные неожиданности. В 1957 году католический университет Маркетт, основанный иезуитами в американском «средиземье» на берегу озера Мичиган к северу от Чикаго, по инициативе своего библиотекаря Уильяма Б. Реди предложил Толкину купить у него рукописи всех опубликованных произведений. Толкин за свой архив не держался, и рукописи за 1250 фунтов отправились за океан[442].
Конечно, жизнь менялась.
Менялось и университетское окружение.
К. С. Льюис, к примеру, еще в декабре 1954 года перебрался в Кембридж, где наконец получил должность профессора. А Толкин… Трудно детально проанализировать, что именно в нем менялось, но к нему, несомненно, можно отнести слова философа Анри Бергсона («Творческая эволюция»):
«Вот готовый портрет. Он находит свое объяснение в модели, в характере художника, в красках, нанесенных на палитру. Но, обладая знанием всего, что дает ему объяснение, никто, даже сам художник, не мог бы точно предсказать, чем будет этот портрет, ибо предсказать это — значило бы создать его прежде, чем он был создан: нелепая, сама себя разрушающая гипотеза. Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развивается или деформируется, во всяком случае, изменяется под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что принятой нами формой. С полным основанием можно сказать: то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но следует прибавить, что, в известной мере, мы суть то, что мы делаем и что мы творим себя непрерывно»[443].
Все чаще и чаще в эти годы Толкин обращается в своих письмах к обсуждению уже написанного или, точнее, к обсуждению уже созданного им «вторичного мира». Конечно, и поводов стало больше — ему пишут читатели, о нем делаются передачи, с вопросами обращаются издатели и даже рецензенты:
«Прежде чем написать рецензию на книгу „Властелин Колец“, Майкл Стрейт, редактор „Нью рипаблик“ задал Толкину ряд вопросов: во-первых, есть ли некий „смысл“ в роли Голлума во всей этой истории и в нравственном провале Фродо в решающий момент; во-вторых, имеет ли глава „Освобождение Шира“ прямое отношение к современной Англии; и, в-третьих, отчего в конце книги вместе с Фродо из Серых Гаваней отправляются и другие путешественники. Уж не по той же ли самой причине, что победителям порою не дано воспользоваться плодами своей победы?»[444]
Ответ Толкина (по каким-то причинам не отправленный) оказался обстоятельным:
«Уважаемый мистер Стрейт!
Спасибо Вам за письмо. Надеюсь, „Властелин Колец“ Вам понравился. Понравился — вот ключевое слово. Ибо писалась книга для того, чтобы развлечь (в высшем смысле этого слова): чтобы ее приятно было читать. Ровным счетом никакой аллегории в ней не содержится: ни нравственной, ни политической, ни современной. Это „волшебная сказка“, однако написанная, — согласно убеждению, которое я некогда высказал в пространном эссе „О волшебных сказках“, что именно они — аудитория наиболее подходящая, — для взрослых. Потому что, мне кажется, волшебная сказка отражает „истину“ по-своему, иначе, нежели аллегория или (развернутая) сатира, или „реализм“, причем в определенном смысле куда более действенно. Но прежде всего она должна состояться просто как история (курсив наш. — Г. П., С. С.), увлечь, понравиться и даже в определенных случаях растрогать, и в пределах своего собственного вымышленного мира обрести (литературную) убедительность. В этом и состояла моя первоначальная цель.
Но, конечно же, если собираешься обратиться к „взрослым“ (духовно зрелым людям, по крайней мере), их не удастся порадовать, увлечь или растрогать, если только все в целом или отдельные эпизоды не окажутся посвящены чему-то достойному рассмотрения, — более, например, нежели просто опасность и бегство: должна быть некая соотнесенность с „участью человеческой“ (всех времен). Так что нечто от собственных размышлений и „ценностей“ рассказчика в повествование неизбежно проникнет. И это не то же самое, что аллегория. Мы все, группами или индивидуально, иллюстрируем некие общие принципы, но мы их не олицетворяем. Хоббиты — ничуть не более „аллегория“, нежели (скажем) пигмеи африканских лесов. Голлум для меня — просто-напросто „персонаж“, вымышленная личность, которая, оказавшись в такой-то ситуации, повела себя так-то и так-то под давлением обстоятельств, поскольку такое представлялось вполне вероятным (в любой личности, реальной или вымышленной, есть элемент непредсказуемости; в противном случае он/она представляли бы собою не индивидуальность, но „типаж“).
Попытаюсь ответить на Ваши конкретные вопросы.
Финальная сцена Квеста оформлена так просто потому, что применительно к ситуации и к „характерам“ Фродо, Сэма и Голлума данные события показались мне и технически, и нравственно, и психологически убедительными. Но, конечно же, если Вам требуются дополнительные соображения, скажу что в плане данной истории „катастрофа“ служит примером (одного из аспектов) знакомых слов: „Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого“.
<…>
В контексте моей книги предполагается, что, хотя у каждого события или ситуации есть (по меньшей мере) два аспекта: история и развитие индивидуума (нечто такое, откуда он может почерпнуть добро, добро наивысшее, для себя самого, или потерпеть в этом неудачу) и история мира (которая зависит от его действия самого по себе) — есть тем не менее исключительные ситуации, в которых можно оказаться. „Жертвенные“ ситуации, сказал бы я: то есть положения, в которых „благополучие“ мира зависит от поведения индивидуума в обстоятельствах, которые требуют от него страдания и стойкости, далеко выходящих за обычные рамки. И может даже случиться так (или показаться, с человеческой точки зрения), что потребуется сила тела и духа, которой он не обладает; он в определенном смысле обречен на провал, обречен поддаться искушению или сломаться под давлением вопреки его „воле“: то есть вопреки любому выбору, который он мог бы совершить или совершил бы, не будучи ничем стеснен, не под принуждением.
Фродо оказался именно в таком положении: по всей видимости, в безвыходной ловушке; персонаж, наделенный большей врожденной силой, возможно, не смог бы противиться соблазну власти Кольца так долго; персонаж более слабый не мог бы надеяться противостоять Кольцу в миг финального решения. <…> След., Квест был обречен на неудачу как часть мирского замысла и был обречен закончиться катастрофой как история „облагораживания“ смиренного Фродо, его „освящения“. Неудачей он и обернулся бы; так оно и вышло с отдельно взятым Фродо. Он „оступился“ — и я даже получил одно яростное письмо, в котором утверждалось, что его надо было не чествовать, а казнить как предателя. Поверьте, до того, как я его прочел, я и сам не догадывался, насколько эта ситуация „актуальна“. Она естественным образом возникла из „сюжета“, в общих чертах набросанного в 1936 году. Я даже не подозревал, что еще до того, как книга увидит свет, все мы вступим в темную эпоху, в которой методы пыток и ломки личности успешно посостязаются с Мордором и Кольцом и поставят перед нами практическую проблему того, как честные люди доброй воли, будучи сломлены, превращаются в отступников и предателей.
Но в этот самый миг „спасение“ мира и самого Фродо осуществляется благодаря проявленной им прежде жалости и прощению обиды. В любой момент всякий, кто наделен благоразумием, сказал бы Фродо, что Голлум непременно его предаст и, в конце концов, чего доброго, ограбит. „Пожалеть“ его и не убить было сущим безрассудством — или проявлением мистической веры в абсолютную самоценность жалости и великодушия, даже если во временном мире они пагубны. И Голлум в самом деле ограбил Фродо и причинил ему зло в финале; но, благодаря „благодати“, это последнее предательство произошло в тот самый момент, когда завершающий злой поступок обернулся высшим благодеянием, какое только возможно было совершить для Фродо! Через ситуацию, созданную его „прощением“, он спасся сам и освободился от своего бремени. И высочайшие почести ему оказали по справедливости: ведь ясно, что они с Сэмом и не подумали скрывать истинного хода событий. Что до итогового приговора Голлуму, об этом мне бы задумываться не хотелось. Это означало бы пытать „Goddes privitee“[445], как говорили в Средние века. Голлум жалок, однако он погиб, упорствуя во злобе, и тот факт, что это послужило добру, — не его заслуга. Его потрясающие храбрость и выносливость — здесь он не уступал Фродо с Сэмом, а может, и превосходил их, — поставленные на службу злу, изумительны, но чести ему не делают. Боюсь, во что бы мы ни верили, мы вынуждены взглянуть в лицо тому факту, что есть на свете субъекты, которые уступают искушению, отказываются от своего шанса на благородство или спасение и кажутся „проклятыми“. Их „проклятость“ не измеряется в терминах макрокосма (где может привести и к добру). Но мы, все, кто находится „в той же лодке“, не должны узурпировать место Судии. Подчиняющая власть Кольца оказалась чересчур сильна для подлой душонки Смеагола. Однако он никогда не подпал бы под нее, если бы не стал подлым воришкой еще до того, как Кольцо оказалось у него на пути. А надо ли ему было вообще оказываться у него на пути? А надо ли вообще опасностям возникать на пути у любого из нас? Попытавшись вообразить, как Голлум преодолевает искушение, мы получим своего рода ответ. История сложилась бы совсем по-другому!
<…>
„Шир“ никаких таких особых отсылок к Англии в себе не заключает — кроме того, конечно же, что, как англичанин, выросший в „почти сельской“ местности в уорикширской деревушке на окраине процветающего буржуазного Бирмингема (примерно во времена Бриллиантового юбилея!), я свои „модели“ заимствую, как любой другой, из той жизни, которую знаю сам. Но никаких таких намеков на послевоенный период в книге нет. <…> Хотя дух „Айзенгарда“, если не Мордора, конечно же, вечно о себе заявляет. Взять вот хоть нынешний проект уничтожить Оксфорд, чтобы открыть путь автомобилям.
<…>
Да: я считаю, что „победители“ никогда не могут воспользоваться „победой“ — во всяком случае, так, как они себе это представляли; и чем более сражались они за что-то, чем бы хотели воспользоваться сами (будь то приобретение или просто сохранение), тем менее удовлетворительной покажется „победа“. Но уход Хранителей Колец заключает в себе и совсем иной аспект в том, что касается Трех. Разумеется, за всей этой историей стоит определенная мифология. <…> Должен сказать, что это „монотеистическая“, но „вторично-творческая“ мифология. Там нет воплощения Единого, Господа, который остается вдали за пределами Мира и напрямую доступен лишь для Валар, или Управителей. Они-то и занимают место „богов“, будучи при этом сотворенными духами, созданиями первичного творения, что по собственной своей воле вступили в мир. Но Единый сохраняет за собою всю полноту верховной власти и оставляет за собою право внедрять в историю перст Божий, то есть производить явления, которые невозможно вывести даже из полного представления о предшествующем прошлом, но которые, будучи реальными, становятся частью неотъемлемого прошлого для всех последующих времен… Согласно преданию, эльфы и люди явились первым из таких „внедрений“, будучи созданы еще когда „повествование“ было только повествованием — повествованием „неосуществленным“. Поэтому они не были задуманы и созданы богами и звались эрухини или „Дети Господни“ и для Валар оказались непредсказуемым элементом. То есть они были разумными созданиями, наделенными по отношению к Господу свободной волей, принадлежали к той же исторической категории, что и Валар, только обладали значительно меньшей духовной и интеллектуальной силой.
Разумеется, на самом-то деле вне моей истории эльфы и люди — это всего лишь разные аспекты Человечности и символизируют проблему Смерти с точки зрения личности конечной, однако обладающей самосознанием и свободной волей. В данном мифологическом мире эльфы и люди в своих воплощенных обличьях приходятся друг другу родней, но в том, что касается отношения их „духа“ к миру во времени, представляют собою различные „эксперименты“, каждый из которых наделен своей собственной врожденной направленностью, а также и слабостью. Эльфы воплощают, так сказать, художественный, эстетический и чисто научный аспект человеческой натуры, только возведенный на более высокий уровень. То есть они самозабвенно любят физический мир и желают наблюдать его и понимать ради него же самого и как „нечто иное“ — то есть как реальность, исходящую от Господа в той же степени, что и они сами, — а вовсе не как материал для использования или как платформу для власти. А еще они наделены непревзойденной способностью к художеству или „вторичному творчеству“. Потому они „бессмертны“. Не „навечно“; им суждено существовать вместе с сотворенным миром и в его пределах, пока длится его история. Будучи „убиты“ путем повреждения или разрушения их воплощенной оболочки, они не вырываются из-под власти времени, но остаются в мире, либо развоплощенными, либо возрождаясь заново. По мере того как длятся века, это становится тяжким бременем, тем более в мире, где существуют злоба и разрушение (мифологическую форму, в которую облеклась Злоба или Падение Ангелов в этом предании, я опустил). Сами перемены как таковые не представлены как „зло“: перемены — это развертывание истории, и отказываться принять их, конечно же, означает — противиться замыслу Божьему. Однако эльфийская слабость в этом контексте, естественно, состоит в том, чтобы жалеть о прошлом и не желать иметь дело с переменами: как если бы человек возненавидел очень длинную книгу, которая все никак не кончается, и захотел остановиться на любимой главе. Таким образом, эльфы в определенной степени поддались Сауроновым обольщениям: они пожелали „власти“ над явлениями как таковыми (которая от искусства разительно отлична), чтобы реализовать свое стремление к сохранению: остановить перемены и сберечь все вокруг себя навечно прекрасным и свежим. „Три Кольца“ оставались „неоскверненными“, поскольку эта цель в ограниченном смысле являлась благой, ведь она включала в себя исцеление подлинного вреда, причиненного злобой, а не только замедление перемен; и эльфы не желали подчинять себе чужую волю, не говоря уже о том, чтобы узурпировать весь мир собственного удовольствия ради. Но с ниспровержением „Власти“ их собственные слабые попытки сохранить прошлое пошли прахом. В Средиземье для них ничего не осталось, только усталость. Потому-то Элронд и Галадриэль уходят. Гэндальф — случай особый. Он не ковал Кольца́, и изначально не он им владел: Кольцо передал ему Кирдан, дабы помочь в его миссии.
Гэндальф возвращался, завершив свои труды и исполнив поручение, домой, в землю Валар.
Уход за Море — это не Смерть. Данная „мифология“ эльфоцентрична. Согласно ей, изначально подлинный Земной Рай, дом и королевство Валар, существовал как физическая составляющая земли.
Ни в этой истории, ни в мифологии в целом „воплощения“ Творца нет. Гэндальф — это „сотворенное“ существо; хотя возможно, что и дух, существовавший прежде в физическом мире. Его функция как „мага“ — angelos, или посланника Валар или Управителей, — содействовать разумным созданиям Средиземья в их сопротивлении Саурону, чья власть оказалась слишком велика, чтобы справиться с ней без помощи свыше. Но поскольку в контексте данного предания и мифологии Власть, — когда она подчиняет или стремится подчинить чужую волю и умы (кроме как с их осознанного согласия), — есть зло, эти „маги“ приняли облик обитателей Средиземья и потому испытывали боль как физическую, так и душевную. Они также, по той же причине, тем самым подвергались опасности существ воплощенных: возможность „падения“, греха, если угодно. В их случае опасность главным образом облекалась в форму нетерпения, что вело к желанию принудить других поступать во благо им же самим, и так, неизбежно, под конец — к просто-напросто желанию утверждать свою волю любыми средствами. Этому злу и предался Саруман. А Гэндальф — нет. Однако с падением Сарумана положение настолько ухудшилось, что от стороны „добра“ потребовалось больше усилий и жертв. Так Гэндальф встретил и принял смерть; и вернулся или был послан назад, как говорит он сам, обретя еще большую силу. Но хотя это отчасти напоминает Евангелие, на самом деле это — совсем не то же самое. Воплощение Господа — явление бесконечно более великое, нежели всё, о чем я дерзнул бы написать. Здесь меня интересует только Смерть как составляющая природы Человека, как физической, так и духовной, и Надежды без каких-либо гарантий. Вот почему я считаю повесть об Арвен и Арагорне наиболее важной из Приложений. Это — часть ключевой истории, и помещена она в Приложения лишь потому, что невозможно было включить ее в основное повествование, не нарушив его структуры: оно задумано было как „хоббитоцентричное“, то есть в первую очередь как рассказ об облагораживании (или освящении) смиренных и малых»[446].
Однажды Толкину пришло письмо от настоящего Сэма Гэмджи (Скромби в одном из наиболее известных русских переводов). Этот Сэм даже не читал книгу, просто не раз слышал от знакомых, что там упоминается его имя. «Надеюсь, Вы не возражаете, — писал он, — что я обращаюсь к Вам касательно „Властелина Колец“, транслируемого по радио по частям… Мне стало интересно, откуда Вы взяли имя Сэм Гэмджи, потому что меня тоже так зовут. Сам я постановки не слышал по причине отсутствия радио, зато слышал от моих знакомых…»
«Уважаемый мистер Гэмджи! — ответил Толкин. —
С Вашей стороны очень любезно было мне написать.
Можете представить себе мое изумление, когда я увидел подпись!
Могу лишь сказать Вам в утешение, что надеюсь, что этот самый „Сэм Гэмджи“ из моей истории — персонаж весьма героический и его от души полюбили многие читатели, даже несмотря на его деревенское происхождение. Так что, возможно, Вы не рассердитесь, что имя вымышленного персонажа (жившего, как предполагается, много веков назад) совпадает с Вашим.
А воспользовался я этим именем вот по какой причине.
В детстве я жил неподалеку от Бирмингема, и мы называли словом „гэмджи“ вату; так что в моей истории семейства Коттон и Гэмджи связаны между собой. В детстве я этого не знал, но сейчас знаю, что „гэмджи“ — это сокращение от „повязки Гэмджи“, названной так в честь изобретателя (хирурга, если не ошибаюсь), который жил между 1828 и 1886 годами. Возможно, тот Гэмджи, что умер в этом году 1 марта в возрасте 88 лет и на протяжении многих лет занимал должность профессора хирургии в Бирмингемском университете, приходился ему сыном. По всей видимости, имя „Сэм“ или что-то вроде этого часто встречается в этом семействе — хотя узнал я об этом не далее как несколько дней назад, когда мне на глаза попался некролог профессора Гэмджи и я обнаружил, что он — сын Сэмпсона Гэмджи, и, заглянув в словарь, выяснил, что изобретатель звался С. Гэмджи (1828–1896) и, значит, возможно, это он и есть…
А нет ли у Вас какого-нибудь семейного предания касательно истинного происхождения Вашего прославленного и редкого имени? — заканчивал письмо Толкин. — Поскольку у меня у самого имя редкое (порой от него масса беспокойства!), мне это тем более интересно»[447].
Выйдя в свет и попав в руки многочисленных читателей, книга Толкина («Властелин Колец») обрела, наконец, свою собственную судьбу, которая теперь все меньше и меньше зависела от автора. Одновременно издательство «Аллен энд Анвин» начало вести переговоры с иностранными издательствами. В результате в 1956 году «Властелин Колец» вышел в Голландии. Перевод этот Толкину не понравился, особенно попытки переводчика по-своему переиначивать имена.
«Я со всей категоричностью, — писал Толкин Стэнли Анвину, — возражаю против „перевода“ имен собственных (даже компетентным специалистом). Удивляюсь, с какой это стати переводчик считает себя призванным это делать. То, что речь идет о „воображаемом“ мире, не дает ему никаких прав перекраивать его по своему капризу, даже будь он способен в течение нескольких месяцев воссоздать согласованную систему, над которой сам я трудился долгие годы.
Я так полагаю, что, если бы мои хоббиты разговаривали по-итальянски, по-русски, по-китайски или как угодно, он оставил бы их имена в покое. Или если бы я сделал вид, что „Шир“ — это какой-нибудь там вымышленный Ломшир в реально существующей Англии. Однако на самом деле в вымышленной стране и в вымышленный период со своей внутренней логикой, как в данном случае, система имен и названий — элемент более важный, нежели в „историческом“ романе. Конечно, если опустить „вымысел“ далекого прошлого, „Шир“ основан на сельской Англии и ни на какой иной стране мира — и из всех европейских стран здесь, пожалуй, менее всего уместна Голландия, ландшафт которой не имеет ничего общего с ландшафтом Шира. (По правде сказать, они настолько разные, что, невзирая на родство языков и во многом — идиоматики, что должно бы отчасти облегчить труд переводчику, ее топонимика крайне не подходит для этой цели.) Топонимы Шира — взять хоть первый список — это „пародия“ на названия сельской Англии, почти в той же степени, что и его обитатели; они нераздельны, и так оно и было задумано. В конце концов, книга написана по-английски и англичанином; и, по всей видимости, даже те, кто хотел бы переложить повествование и диалог на понятный им язык, не станут требовать от переводчика, чтобы он сознательно попытался уничтожить местный колорит. Вот и я от переводчика этого не требую, хотя, возможно, порадовался бы глоссарию в тех случаях, когда (очень редко) значение топонима играет важную роль. Мне бы не хотелось в книге, где в первых главах дается картина вымышленной Голландии, встретить „Плетень“, „Герцогс’куст“, „Орлодом“ или „Яблонев-шип“, даже будь они „переводом“ названий „sGravenHage“, „Hertogen-bosch“, „Arnhem“ или „Apeldoom“! Эти „кальки“ вообще не английские — они просто безродные…
Разумеется, здесь еще упущена вот какая ключевая мысль: даже когда носители языка способны понять смысл топонима (случай нечастый), как правило, они все равно над ним не задумываются. Если в воображаемой стране используются настоящие названия или названия, тщательно составленные так, чтобы соответствовать знакомым образцам, они становятся неотъемлемой составляющей, „звучат как настоящие“, и переводить их, разлагая по смыслу, вовсе не следует. Нидерландские названия этого голландца должны звучать по-нидерландски и не иначе. Конечно, в нидерландском я не специалист, однако не думаю, что в большинстве случаев дело обстоит именно так, как у переводчика. На мой взгляд, большинство названий тут — сущая бессмыслица или вообще ошибочны; все равно как если бы в тексте встретились такие названия, как Цветково, Новоград, озеро Как, Документы, Ветчинбери и Румянник, а потом оказалось, что автор-то писал: Флоренция, Неаполь, Комо, Шартр, Гамбург и Флашинг-Флиссинген!
Вкладываю, в подтверждение моих придирок, свой подробный комментарий к спискам. Уверен: правильный (равно как и более экономичный как для издателя, так и для переводчика) подход — это по возможности оставить карты и имена собственные в покое, а вместо нескольких наименее важных приложений поместить глоссарий названий (где бы давались значения, но без ссылок). Я могу такой список предоставить — для перевода. И да позволено мне будет заявить сейчас и немедленно, что я не потерплю подобной халтуры в отношении имен. Равно как и в отношении названия/слова „хоббит“. Избавьте меня от новшеств вроде „Hompen“ или „Hobbel“ или что угодно. Эльфы, гномы (при любом написании: Dwarfs/ves), тролли — да; это всего лишь современные эквиваленты правильных терминов. Но хоббит (и орк) принадлежат к тому миру, который я построил, и таковыми должны остаться, независимо от того, насколько по-нидерландски звучат эти слова…
Если вы сочтете, что я веду себя нелепо, я глубоко огорчусь; но, боюсь, мнения своего не изменю. Должен признаться, те немногие люди, с которыми мне удалось посоветоваться, высказываются не менее резко…»
И в заключение: «Я — не лингвист, однако в именах и топонимах мало-мальски разбираюсь, специально их изучал и, если честно, зол просто ужасно»[448].
Возмущение Толкина вызвало и шведское издание, отчасти из-за качества перевода, отчасти из-за предисловия, в котором переводчик представлял «Властелина Колец» как аллегорию современной политики, к тому же описывал домашнюю жизнь Толкина, о которой не имел никакого представления. Предисловие в дальнейшем было снято, но шведский переводчик Оке Ольмаркс решительно отказывался от внесения каких-либо поправок в текст. Кроме того, он использовал свое влияние, чтобы помешать публикации других переводов, в силу чего его перевод оставался в Швеции единственным до 2004 года. К слову, когда в доме переводчика в 1982 году случился пожар, он обвинил в этом последователей Толкина, которые якобы подожгли дом при помощи черной магии[449].
В 1961–1963 годах вышел польский перевод Марии Скибневской[450].
В связи с растущей известностью Толкина за границей он стал получать множество приглашений, но принял только одно. Весной 1958 года он побывал в Голландии, где был принят поистине по-королевски. Центральным событием стал там «ужин хоббитов», организованный владельцем крупного книжного магазина в Роттердаме. Толкин даже произнес пародийную речь, подражая выступлению Бильбо на прощальном ужине в начале «Властелина Колец». В этой речи он специально смешал английские, голландские и эльфийские языки и закончил ее тостом:
«Прошло ровно двадцать лет с тех пор, как я всерьез принялся составлять историю наших досточтимых предков, хоббитов Третьей эпохи. Я смотрю на Восток, на Запад, на Север, на Юг — и Саурона нигде не видать; однако у Сарумана развелось множество потомков. У нас, хоббитов, нет против них никакого волшебного оружия. Однако, господа мои хоббиты, я предлагаю вам такой тост: за хоббитов! Пусть они переживут всех Саруманов и снова увидят деревья, распускающиеся по весне!»[451]
Нынешним читателям, которые знакомы с последними киноверсиями «Властелина Колец» и «Хоббита», наверное, интересно будет узнать, что впервые разговор об экранизациях книг Толкина зашел еще в конце 1957 года. Стэнли Анвин понимал, что вопрос об экранизациях неизбежно возникнет, и заранее обсудил с писателем план возможных действий. Они сошлись на том, что по крайней мере одно из двух предварительных условий должно выполняться непременно для любого серьезного разговора: либо постановщики должны с уважением относиться к книге, либо они готовы будут очень хорошо платить.
Но первое предложение, к сожалению, никак не удовлетворяло ни первому, ни второму условиям: Толкину прислали сценарий мультфильма, в котором имена героев сплошь и рядом искажались (например, Боромир стал Боримором), герои почти не ходили пешком, а летали на орлах, эльфийский «лембас» описывался как пищевой концентрат, и все такое прочее. Со свойственной ему тщательностью Толкин написал весьма подробный разбор сценария, а несколько позже столь же безжалостно оценил работу сценариста М. Г. Циммермана[452].
«Если Ц. и/или другие возьмутся за сценарий, их, возможно, раздосадует или огорчит тон многих моих замечаний. Ежели так, то мне очень жаль (хотя я и не удивлюсь). Но я бы попросил их напрячь воображение и попытаться понять досаду (а порой и обиду) автора, который обнаруживает, чем дальше, тем больше, что с его произведением обращаются небрежно, местами бездумно, и, по всему судя, вообще не понимая, о чем оно»[453].
Как бы то ни было, появление предложений об экранизации свидетельствовало о постоянно растущей популярности «Властелина Колец».
Однако настоящим «мировым бестселлером» книга Толкина стала в результате банальной истории пиратства, связанной с американскими издателями.
Кульминация этой истории пришлась на 1965 год. Серьезных событий к тому времени произошло много. В 1959 году Толкин вышел на пенсию. В 1963 году умер К. С. Льюис. Продажи «Властелина Колец» и «Хоббита» продолжали неуклонно расти. Толкин получал чеки и постоянно ворчал по поводу налогов, съедающих значительную часть литературного дохода, хотя в целом был, конечно, доволен. «Боюсь, я не могу отрицать, что у „более приземленных проявлений литературной славы“, как недавно выразился один насмешливый критик, действительно есть свои хорошие стороны»[454].
Но были у этой славы и темные стороны. Например, в начале 1965 года Толкин узнал, что американское издательство «Асе Books» готовит пиратское издание «Властелина Колец». Слово асе означает по-английски «туз» (в картах) или «ас» (пилот). Такое название было выбрано издателями не зря, оно должно было отражать их новаторство и смелые коммерческие практики. Владельцы «Асе Books» первыми в мировой практике начали выпускать так называемые книги-перевертыши, в которых объединены два произведения, причем обе стороны переплета — начальные: для того, чтобы перейти ко второму, книгу надо просто перевернуть[455].
«Асе Books» специализировалось главным образом на изданиях фантастики и детективов — оно печатало, к примеру, романы Роберта Ховарда о Конане, книги Филипа К. Дика и Урсулы ле Гуин. В 1965 году директору издательства Д. Уоллхейму пришла в голову «интересная» идея попытаться использовать пробел в тогдашнем американском законе об авторских правах[456]. Книги, выходившие в издательстве «Хоутон-Мифлин» (а именно там появился «Властелин Колец»), печатались в английских типографиях, что выводило их из-под защиты американского закона[457]. Поэтому-то «Асе Books» срочно подготовило дешевое издание «Властелина Колец» в мягкой обложке, рассчитывая на растущую популярность Толкина среди американских студентов. Разумеется, американцы не собирались платить Толкину никаких авторских отчислений. В итоге положение создалось настолько тревожное, что Рейнер Анвин сам приехал в Оксфорд — поговорить с Толкином. Единственным способом помешать пиратам (на взгляд Анвина) было срочное собственное издание в мягкой обложке. Для этого текст следовало обновить, чтобы зарегистрировать его как новый в американском бюро по защите авторских прав.
Толкин согласился внести некоторые изменения во «Властелина Колец» и (на всякий случай) в «Хоббита». Рейнер Анвин вернулся в Лондон успокоенный, но Толкин, славившийся своей медлительностью, как всегда, затянул работу. С возрастом энергии в нем становилось все меньше. Он сам отмечал в 1965 году: «Работать становится трудно: начинаю стареть, жар затухает»[458]. Впрочем, его отвлекали и просто текущие дела: он заканчивал сказку «Кузнец из Большого Вуттона», трудился над переводом «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» и над примечаниями к эльфийской поэме «Намарие», к которой писал музыку композитор Дональд Суонн. В результате к июню, когда вышло в свет американское пиратское издание, работа над изменениями не сильно продвинулась. «Мне придется очень постараться, чтобы успеть отослать текст в Бостон к первому июля»[459], — писал Толкин Анвину.
В ответ на обвинения в пиратстве владельцы «Асе Books» спокойно отвечали, что не нарушали никаких законов. Один из курьезов, возможно, связанный с их уверенностью в собственной безнаказанности, состоял в том, что они, не задумываясь, скопировали даже фразу из предисловия, обещавшую в конце книги указатель имен, и извинения в конце по поводу того, что указатель так и не удалось подготовить.
Рейнер Анвин слал в Оксфорд отчаянные напоминания, но окончательный текст с изменениями Толкин прислал в «Хоутон-Мифлин» только в августе. Официальное право на издание «Хоббита» и «Властелина Колец» в мягких обложках принадлежало издательству «Ballantine Books», и то, что они незамедлительно переиздали «Хоббита», лишний раз свидетельствует о том, что доходность книг Толкина ни у кого уже не вызывала сомнений. Хотя «баллантайновское» издание и было «дружественным», Толкин опять сильно обиделся. На обложке почему-то были изображены два эму и лев — на фоне поросших кипарисами холмов. А еще на переднем плане росло какое-то дерево с розовыми плодами. «Создается такое впечатление, — писал Толкин Анвину, — что эти люди (в „Ballantine Books“. — Г. П., С. С.) писем вообще не читают или обладают высокоразвитой глухотой ко всему, кроме „благоприятных отзывов“»[460]. Та же иллюстрация (за исключением того, что лев был закрашен) была использована позже и для издания первого тома «Властелина Колец», хотя для двух последующих использовали все-таки рисунки самого Толкина.
Впрочем, с точки зрения борьбы с пиратами самым важным оказалось прямое предупреждение автора, напечатанное в каждом экземпляре книги: «Только это, и никакое другое издание в мягкой обложке напечатано с моего согласия и при моем сотрудничестве. Надеюсь, что люди, склонные уважать волю авторов (хотя бы тех, что еще живы), будут покупать только его».
А потом эта история приобрела вдруг неожиданный поворот. Вместо того чтобы «печь» сиквелы или хотя бы своевременно присылать издателям свои отредактированные рукописи, Толкин тратил чрезвычайно много времени на переписку с читателями. Опубликованные письма дают слабое представление об объеме этой переписки. Как указывал Хэмфри Карпентер: «Толкин немало часов „тратил впустую“, отвечая на бесчисленные письма своих поклонников. Зато теперь оказалось, что благодаря этому он успел обзавестись десятками восторженных друзей, в первую очередь — в Америке, и все они были готовы с радостью встать на защиту его интересов»[461]. Стоит отметить, что по крайней мере одно из писем Толкина было адресовано непосредственно «тану» американского Толкиновского общества, образованного как раз в 1965 году[462]. И по мере развития конфликта с «Асе Books» Толкин начал включать в свои письма информацию о том, что издание «Асе» осуществляется без какого-либо разрешения автора; и просьбу — сообщать об этом друзьям.
Эффект превзошел вскоре все возможные ожидания. Многие американские поклонники Толкина не только отказывались покупать издания «Асе», но и начали требовать убрать их с полок в книжных магазинах. К начавшейся кампании присоединилось Толкиновское общество. За ним выступила в защиту писателя Ассоциация американских фантастов, от которой «Асе Books» во многом зависела[463]. К концу года продажи начали снижаться с такой скоростью, что руководство издательства обратилось к Толкину с предложением мира. Теперь «Асе» обещало платить авторский гонорар со всех продаж и не допечатывать тираж после того, как существующий тираж будет распродан. После этого мирный договор был наконец подписан.
Главным результатом этой «войны» оказался невероятный взлет популярности Толкина. В 1965 году было продано около ста тысяч экземпляров в издании «Асе», но продажи авторизованного издания, которое появилось в магазинах позже, вскоре достигли миллионного рубежа. Очень многое во «Властелине Колец» привлекало симпатии студенческого поколения 1960-х годов, не в последнюю очередь — защита нетронутой природы. Еще больше нравился читателям сам герой романа. «Фродо — жив!» — писали на стенах студенческих кампусов. «Властелин Колец» вдруг стал для всего американского студенчества Главной книгой, Книгой с большой буквы. В конце 1966 года одна из газет писала: «В Йеле трилогия раскупается быстрее, чем „Повелитель мух“ Уильяма Голдинга. В Гарварде она обгоняет „Над пропастью во ржи“ Дж. Д. Сэлинджера»[464].
Трудно более выразительно написать о взрывном росте популярности произведений Толкина, чем это сделал Хэмфри Карпентер:
«Ветви „Толкиновского общества“ дали побеги по всему Западному побережью и в штате Нью-Йорк и, в конце концов, выросли в „Мифопеическое общество“, посвященное также изучению произведений К. С. Льюиса и Чарлза Уильямса. Члены многочисленных фэн-клубов устраивали „хоббитские пикники“, на которых ели грибы, пили сидр и рядились в одежды персонажей „Властелина Колец“. В конце концов, произведения Толкина начали приобретать вес и в академических кругах Америки. Защищались диссертации с названиями вроде „Параметрический анализ антитетического конфликта и иронии у Дж. Р. Р. Толкина“. В книжных магазинах университетских городков появились сборники критических статей, посвященных Толкину. Дочь президента (Линдона Джонсона. — Г. П., С. С.), известный космонавт (Скотт Карпентер. — Г. П., С. С.) и даже какая-то кинозвезда написали Толкину, выражая восторг по поводу его произведений. Среди настенных граффити можно было прочесть многочисленные надписи вроде „Дж. Р. Р. Толкин — творец хоббитов“.
Пламя шумного американского энтузиазма перекинулось и на другие страны. На карнавале в Сайгоне видели популярного вьетнамского танцора с Багровым Оком Саурона на щите, на Северном Борнео возникло „Общество Фродо“. В это же время заметно возрос интерес к книгам Толкина в самой Англии, отчасти потому, что те, кто прочел их в детстве, успели вырасти и теперь заражали энтузиазмом своих друзей, отчасти — как отражение американского бума. Объем продаж книги в Англии резко пошел в гору. В Лондоне и по всей стране образовывались многочисленные „Толкиновские общества“, студенты Уорикского университета переименовали кольцевую автодорогу вокруг своего студгородка в „дорогу Толкина“, даже появился психоделический журнал под названием „Сад Гэндальфа“, целью которого было „собрать вместе весь дивный народ“. В первом номере журнала говорилось, что Гэндальф „быстро врастает в умы молодежи всего мира как мифологический герой эпохи“[465]. Что же касается самого Толкина, то в письме своему коллеге Норману Дэвису он назвал весь этот бум, связанный с его книгами, — „моим злосчастным культом“»[466].
Не без влияния всех этих событий Толкин написал несколько набросков возможного продолжения «Властелина Колец», в которых говорилось, что после смерти Арагорна среди гондорской молодежи начали входить в моду подражания побежденным темным силам…
Конечно, Толкин хотел, чтобы его книги читали, но литературная слава не была для него самоцелью; просто он надеялся на то, что эта слава поможет ему, наконец, опубликовать свою великую мифологию. В работе «Эволюция великих преданий»[467] Кристофер Толкин выделил несколько особенно интенсивных периодов работы отца над «Книгой утраченных сказаний»:
1. Ранний период, начавшийся после возвращения Толкина с фронта в 1917 году. Вершиной этого периода явилось написание нескольких поэм, среди них «Турин, сын Хурина, и дракон Глорунд»[468], а также «Лэ о Лейтиан», в котором впервые была упомянута история Берена и Лутиэн. Своего рода конспектом идей раннего периода явился «Очерк мифологии», имеющий непосредственное отношение к «Детям Хурина», написанный для преподавателя школы короля Эдуарда Р. У. Рейнольдса (кстати, того самого Дикки Рейнольдса, который когда-то отвез Толкина в Оксфорд на своем автомобиле).
2. Период с 1930 по 1937 год, когда были созданы «квенты» — «истории». Начался он с написания (в прозе) «Квенты Нолдоринва» (истории эльфов-нолдор), а в самой середине периода появился заголовок «Квента Сильмариллион». «Может показаться странным, — писал Кристофер Толкин, — но „Квента“ 1930 года так и осталась единственным (после „Очерка мифологии“) завершенным текстом „Сильмариллиона“»[469]. Этот период оборвался в 1937 году, когда Толкин получил отрицательный отзыв на «Книгу утраченных сказаний», причем он в буквальном смысле прервал работу на середине главы.
3. Возвращение к работе над мифологией в 1950 году. «Когда много лет спустя, в начале 1950-х, был закончен „Властелин Колец“, отец снова решительно взялся за „Предания Древних Дней“, что ныне стали „Первой Эпохой“, и в последующие годы извлек на свет немало старых рукописей. Именно тогда, вернувшись к „Сильмариллиону“, он испещрил аккуратный текст под названием „Квента Сильмариллион“ многочисленными исправлениями и дополнениями…»[470]
4. И, наконец, период, охватывающий всю оставшуюся жизнь Толкина. Хотя Кристофер и не говорит об этом прямо, но в «Эволюции великих преданий» он группирует все сведения о последующей работе Толкина над мифологией Средиземья именно по указанному выше принципу:
«В прозаическом повествовании „Падение Гондолина“, начатом, по всей видимости, еще в 1951 году, отец рассказал о странствии Туора и его провожатого — эльфа Воронвэ»[471]. «Закончив с „великим вторжением“ и распрощавшись с „Властелином Колец“, отец, по всей видимости, вернулся к „Древним Дням“, рассчитывая возродить грандиозный размах, с которого начиналась „Книга утраченных сказаний“. Он по-прежнему задавался целью завершить „Сильмариллион“, однако „великие предания“, развившиеся на основе исходных вариантов, так и не были закончены»[472].
Сам Толкин тоже не раз писал о своем возвращении к работе над «Сильмариллионом», хотя работа продвигалась с большими перерывами, и ему уже не удавалось достичь прежней сосредоточенности:
«Теперь я непременно, если получится, опубликую те грандиозные исторические хроники, что были написаны первыми — и отвергнуты»[473].
«Что до „Сильмариллиона“ и приложений к нему: всё уже написано, но пребывает в беспорядке… Я-то надеялся, что к этому времени уже с головой уйду в работу, необходимую для приведения хотя бы части материала в пригодный для публикации вид… Думаю, буду выпускать его частями. Первая часть, если достанет здоровья и бодрости, отправится в печать в следующем году»[474].
«„Сильмариллион“ продвигается отнюдь не быстро. Домашняя ситуация, мамина доблестная, но обреченная на поражение битва со старостью и бессилием (и болью), и мои собственные годы, и необходимость прерываться из-за „дел“ времени особо не оставляют. По правде говоря, до сих пор я занимался главным образом тем, что пытался как-то скоординировать систему имен самых ранних и более поздних фрагментов „Сильмариллиона“ с раскладом „Великого кольца“. В моем сознании имена по-прежнему разрастаются в „истории“, но это — задача крайне сложная и запутанная»[475].
Работа над «Книгой утраченных сказаний» так и не была завершена. Более того, при жизни ни один сколько-нибудь значительный фрагмент этой книги так и не был опубликован.
Об огромном объеме мифологии, над которой многие годы работал Толкин и по отношению к которой «Властелин Колец» — только вершина айсберга, наглядно свидетельствуют 12 томов «Истории Средиземья», подготовленных к печати Кристофером Толкином уже после смерти отца и выходивших в свет с 1983 по 1996 год. Общий объем серии — более 3500 страниц. Фактически это справочник, составленный Кристофером (с добавлением комментариев, указателей и т. д.) по сохранившимся рукописям отца и рассчитанный в основном на поклонников и исследователей его творчества.
Вот эти тома[476].
HOME I. Книга утраченных сказаний, ч. 1 (The Book of Lost Tales, part 1, George Allen & Unwin, 1983).
HOME II. Книга утраченных сказаний, ч. 2 (The Book of Lost Tales, part 2, George Allen & Unwin, 1984).
HOME III. Баллады Белерианда (The Lays of Beleriand, George Allen & Unwin, 1985).
HOME IV. Устроение Средиземья (The Shaping of Middle-earth, George Allen & Unwin, 1986).
HOME V. Утраченный путь и другие истории, язык и легенда до «Властелина Колец» (The Lost Road and Other Writings, Language and Legend before The Lord of the Rings, Unwin Hyman, 1987).
HOME VI. Возвращение Тени, история «Властелина Колец», ч. 1 (The Return of the Shadow, The History of The Lord of the Rings, Part I, Unwin Hyman, 1988).
HOME VII. Измена Изенгарда, история «Властелина Колец», ч. 2 (The Treason of Isengard, The History of The Lord of the Rings, Part II, Unwin Hyman, 1989).
HOME VIII. Война Кольца, история «Властелина Колец», ч. 3 (The War of the Ring, The History of The Lord of the Rings, Part III, Unwin Hyman, 1990).
HOME IX. Саурон побежденный (Sauron Defeated, Harper-Collins, 1992).
HOME X. Кольцо Моргота, поздний «Сильмариллион», ч. 1 (Morgoth’s Ring, The Later Silmarillion, Part I. The Legends of Aman, HarperCollins, 1993).
HOME XI. Война Самоцветов, поздний «Сильмариллион», ч. 2 (The War of the Jewels, The Later Silmarillion, Part II. The Legends of Beleriand, HarperCollins, 1994).
HOME XII. Народы Средиземья (The Peoples of Middle-earth, HarperCollins, 1996).
Тома выходили один за другим, но медленно — так медленно, что за время их выхода само издательство «Аллен энд Анвин» дважды успело перейти из рук в руки.
До начала 1950-х годов могло показаться, что Толкин никогда не расстанется со всегда нравившейся ему клубной жизнью — ЧКБО, «Инклинги». Это ведь были не какие-то там буржуазные или аристократические клубы, а самые обыкновенные дружеские компании, объединенные общими интеллектуальными интересами. Неудивительно, что с закатом «Инклингов», в котором не последнюю роль сыграло постепенное расхождение с Льюисом, стиль жизни Толкина начал существенно меняться.
В 1956 году Льюис женился. Для его избранницы Джой Дэвидман этот брак был вторым и оказался недолгим и трагическим: вскоре после женитьбы у Джой обнаружили рак, и она скончалась в 1960 году. Толкин, если говорить о внешней стороне дела, совершенно не готов был принять сам факт брака его друга на разведенной женщине — такого рода браки не признавались католической церковью.
В 1951 году умерла миссис Мур, мать одного из друзей Льюиса, погибшего на войне, которой он в какой-то степени заменил сына. Хотя Льюис большую часть времени жил в своих комнатах при колледже, с миссис Мур они совместно владели домом под названием Килнз на окраине Хедингтона, предместья Оксфорда. В этом доме с некоторых пор жил и брат Льюиса Уорни[477]. Поразительно, но характер миссис Мур никогда не отличался легкостью, так что понятны слова Уорни, записанные им в его дневнике после ее смерти: «Закончилась таинственная тирания, под игом которой Дж. добровольно жил по меньшей мере лет тридцать»[478].
В том же несчастливом 1951 году К. С. Льюис получил письмо от читательницы из Нью-Йорка, подписанное именем Джой Гришем. «Еще одна американская поклонница, — записал в том же дневнике его брат, — с той разницей, что она весьма отличалась от толпы преследовательниц забавными и хорошо написанными письмами, и скоро Дж. с ней стали „друзьями по переписке“»[479]. В 1952 году Джой ненадолго приехала в Англию, и Льюис пригласил ее в Оксфорд. Родилась она (Хелен Джой Дэвидман) в Нью-Йорке в 1915 году. Она была дочерью еврейских эмигрантов из Восточной Европы. В восемь лет Джой объявила себя атеисткой (по ее словам), прочтя «Очерки истории» Герберта Уэллса. В детстве (опять же, по ее словам) она верила в «американское благополучие», но вера эта скоро была разрушена Великой депрессией, и к шестнадцати годам Джой уже не верила ни во что. «Люди, сказала я себе, это только обезьяны. Любовь, искусство и альтруизм — это только секс. Мир — только материя. Материя — только энергия. Странно, но я забыла, каким „только“ являлась энергия…»
Джой писала стихи, запоем читала книги, интересовалась сверхъестественным, но при этом ни во что не верила. После школы поступила в Хантер-колледж, потом в Колумбийский университет, получила степень магистра по английской литературе, стала преподавать в нью-йоркских школах. Поиски смысла жизни привели к тому, что она вступила в коммунистическую партию. «Впервые в жизни я захотела помочь своим братьям. Поэтому кинулась к знакомому, который состоял в компартии, и сказала, что я тоже хочу в нее вступить».
Джой стала партийной активисткой. Но и это не помешало ей издать книгу энергичных стихов «Письмо к товарищу» и даже получить за нее две литературные премии. В 1940 году вышел ее первый роман «Аня», в котором живо описывалась еврейская местечковая жизнь на Украине в самом конце XIX века. Как и автор романа, отбросив вековые предрассудки своего народа, героиня покидает родину и родителей в поисках любви. Несколько месяцев Джой работала в Голливуде в качестве младшего сценариста, а в 1942 году вышла замуж (опять же за товарища по партии — Уильяма Линдси Гришема). У них родилось двое детей. До этого Гришем, который был на шесть лет старше Джой, успел поучаствовать в гражданской войне в Испании и вернулся оттуда с тяжелыми психическими проблемами. По возвращении даже пытался повеситься, но прошел курс психоанализа, и его состояние вроде бы улучшилось.
Однажды, благодаря своему интересу к духовным вопросам, Джой наткнулась на книги К. С. Льюиса «Письма Баламута» и «Расторжение брака». Книги запомнились, над ними стоило подумать, но подрастали дети, и Джой было не до размышлений[481]. А тут еще муж, который работал журнальным редактором, позвонил ей из редакции, чтобы сообщить, что он сходит с ума и не может заставить себя пойти домой. Повесив трубку, он исчез на несколько долгих дней. Джой вспоминала: «Я уложила детей спать. Впервые в жизни я почувствовала себя беспомощной; впервые моя гордость вынуждена была признать, что я не являюсь в конечном счете „хозяйкой своей судьбы“ и „капитаном собственной души“. Все мои оборонительные сооружения — стены нахальства и самоуверенности, за которыми я пряталась от Бога, в один момент рухнули. И Бог пришел»[482].
Муж все-таки вернулся домой и без всяких вопросов принял новый опыт жены — религиозный. Они вместе начали изучать основы теологии. Сначала Джой думала вернуться к «реформированному» иудаизму, но потом все же склонилась к христианству. В 1948 году Билл Гришем страстно просил Бога помочь ему бросить пить и, как он сам утверждал, молитва эта была услышана. Джой и он стали пресвитерианцами. И оба сделали несомненные успехи как писатели. Роман Билла Гришема «Аллея кошмаров» («Nightmare Alley», 1946) был экранизирован, а второй роман Джой — «Залив плача» («Weeping Вау», 1950) тоже был хорошо встречен и критикой, и читателями. В 1951 году оба опубликовались в протестантской антологии. Но брак их снова вступил в трудную полосу, и в 1952 году Джой решила предпринять поездку в Англию с детьми отдельно от мужа. К. С. Льюис (напомним, они состояли в активной переписке) пригласил ее посетить Оксфорд, и в честь Джой Гришем был даже организован специальный ланч в Модлине.
Уорни Льюис записал в своем дневнике:
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как я к ней отношусь. Она оказалась еврейкой, точнее, обращенной в христианство представительницей еврейской расы, среднего роста, с хорошей фигурой, очки в роговой оправе, удивительно раскованной».
К. С. Льюис тоже был изумлен.
«Ее ум был гибок, быстр и мускулист, как леопард, — позже писал он. — Страсть, нежность и боль неспособны были разоружить его. Ее ум мгновенно чувствовал любое лицемерие, любую сентиментальность и сбивал вас с ног, прежде чем вы понимали, что происходит. Сколько моих мыльных пузырей лопнуло из-за нее! Я быстро научился не говорить чепухи, разве что для удовольствия, чтобы дать ей возможность разоблачить и посмеяться».
В январе 1953 года Джой Гришем вернулась в Нью-Йорк (как писал Уорни: «К нашему искреннему сожалению и с надеждой, что она приедет снова»). Ей было ясно, что ее брак подходит к концу, и она позволила мужу развестись с ней, представив в качестве основания «уход супруги», хотя реальным мотивом для Билла Гришема было желание жениться на ее кузине. В конце ноября Джой с детьми вернулась к Льюисам в Килнз. «На прошлой неделе развлекал в течение четырех дней леди из Нью-Йорка, с ее мальчиками, семи и девяти лет соответственно»[483], — писал Льюис знакомому.
У Джой не было никакого желания возвращаться в Америку, возможно, еще и потому, что времена маккартизма не сулили ей, бывшему члену компартии, ничего хорошего. Она сняла квартиру в Лондоне, но часто виделась с Льюисом. Одну из книг нарнийского цикла («Конь и его мальчик») Льюис посвятил ее детям — Дэвиду и Дугласу[484]. Он же помогал оплачивать их школьные занятия.
Живя в Лондоне, Джой написала книгу «Дым на горе» («Smoke on the Mountain»), в которой, в духе апологетических книг Льюиса, говорилось о десяти заповедях и их значении в современном мире. В 1955 году книга эта вышла в свет с предисловием Льюиса. Когда в 1954 году, получив должность профессора, Льюис переезжал в Кембридж, Джой ему помогала. Друзьям она жалостливо писала: «Бедный ягненок, он страдал, как новичок, поступивший в знаменитую школу, — ходил кругом и бормотал: „О, что я за дурак! У меня был такой хороший дом, а я его бросил!“»[485].
Джой с карандашом в руках читала рукопись автобиографии К. С. Льюиса со знаменательным названием «Surprised by Joy» (буквально: «Настигнут радостью»). А в 1955 году она, наконец, окончательно переехала в Оксфорд и сняла дом неподалеку от Килнз. Льюис активно пользовался ее помощью и советами при написании своей книги «Пока мы лиц не обрели» («Till we have faces»). Брат Льюиса прозорливо и с иронией отмечал в дневнике: «Ясно, к чему идет дело»[486]. Но сам Льюис, похоже, долгое время воспринимал (или пытался воспринимать) свои отношения с Джой именно как дружеские, хотя в его книге «Четыре любви» («The Four Loves») о христианском понимании любви есть и такие слова: «То, что одной стороной предлагается как дружба, другой вполне может быть признано за Эрос, со смутными и причиняющими боль последствиями».
В начале 1956 года «Хоум оффис» (британское УФМС) отказал Джой в продлении вида на жительство и, спасая писательницу от высылки, Льюис предложил ей замужество. 23 апреля 1956 года они зарегистрировали гражданский брак в Оксфордском бюро регистрации актов гражданского состояния. Правда, Льюис и теперь утверждал (в разговоре с Роджером Ланселином Грином), что этот брак — «всего лишь дружеский жест». А Уорни записал: «Дж. уверил меня, что Джой будет продолжать жить в своем доме как миссис Гришем и что брак этот — чистая формальность, для того, чтобы позволить ей оставаться в Англии»[487].
Жить они действительно продолжали раздельно, хотя Льюис проводил в доме Джой долгие вечера, что, конечно, вызывало сплетни соседей, поскольку они не знали, даже не догадывались об их браке. А затем случилось ужасное. В октябре 1956 года Джой сломала бедро, и в больнице обнаружилось, что у нее рак груди, успевший дать костные метастазы, — совершенно неизлечимый случай.
«Никто не может определить точно, в какой момент дружба становится любовью», — написал К. С. Льюис одному из друзей, когда узнал о болезни Джой; и даже скептичный Уорни отметил в дневнике: «Никогда я не любил ее больше, чем когда на нее обрушился этот удар. Ее мужество и приветливость выше всяких похвал, и она говорит о своей болезни и ее ходе, как будто говорит не о себе, а о ком-то из друзей. Дай Бог, чтобы она поправилась…»[488]
В конце концов, Льюис и Джой решился сочетаться церковным браком, но так как Льюис принадлежал к англиканской церкви, это оказалось непросто. В вопросах брака и развода англиканская церковь близка к католической. Они получили официальный отказ, но Льюис давно придерживался того мнения, что развод не должен мешать той стороне, которая неповинна в измене. В случае с Джой это было именно так, и Льюису удалось найти священника, бывшего своего студента, который согласился их обвенчать. 21 марта 1957 года это и произошло — прямо в больнице, где Джой проходила курс химиотерапии.
Можно себе представить отношение убежденного католика Толкина ко всей этой запутанной истории, тем более что узнал он о ней задним числом. После смерти Льюиса он написал: «Мы отдалились друг от друга сперва из-за внезапно появившегося Чарлза Уильямса, а потом из-за странного брака, о котором Льюис мне так ничего и не сообщил; я узнал о нем спустя много времени после события как такового…»[489]
Венчание, однако, произвело удивительное воздействие на ход болезни. Фактически в течение полутора лет К. С. Льюис и его близкие были убеждены, что Джой чудесным образом исцелилась. Вскоре после венчания она уже обходилась без инвалидного кресла и даже без трости. Более того, она смело взялась за ремонт дома в Килнз. Сама занималась садом: забора там не было, и для того, чтобы отпугнуть возможных воров, Джой иногда выпаливала в воздух из стартового пистолета, о чем Льюис с восторгом рассказывал друзьям. Всё ему в ней нравилось: и то, что Джой когда-то была коммунисткой, и то, что писала белые стихи, и то, что напечатала в молодости роман в стиле Д. Г. Лоуренса («Аня»). В своей книге о Толкине Хэмфри Карпентер не без иронии писал, что будь Чарлз Уильямс (покойный друг Льюиса. — Г. П., С. С.) жив, он, несомненно, заметил бы, что, выбирая жену для Льюиса, Всемогущий продемонстрировал «сардоническую точность». И далее: «Толкин был глубоко задет тем, что Льюис скрыл свой брак от него. Он был огорчен тем, что Льюис женился на разведенной женщине, поскольку его собственные взгляды на развод и повторный брак были гораздо менее либеральными, чем у Льюиса. В его глазах Джой оставалась по-прежнему миссис Гришем. Но была и другая, более глубокая причина, почему Толкин не принимал этот брак. По словам Роберта Мерри, создавалось впечатление, что Толкин считал, что Льюис опять предал какую-то глубокую дружескую связь…»[490]
В 1958 году Льюис и Джой посетили Ирландию. Они летели туда самолетом, причем оба — в первый раз.
Казалось, болезнь действительно отступила. Но октябрь 1959 года разрушил эти иллюзии. Все равно Джой продолжала бороться. Она даже настояла на планировавшейся ими поездке в Грецию. И они с Льюисом съездили в Грецию, но весной 1960 года Джой окончательно слегла. По случайности она оказалась в одной больничной палате с Эдит — женой Толкина, которая страдала от артрита. Как ни странно, женщины подружились, и это несколько смягчило отношение Толкина к другу.
Двадцатого мая 1960 года Джой сделали операцию, которая прошла неплохо. Через две недели ее даже выписали, но теперь она вновь была вынуждена пользоваться креслом-каталкой. Накануне ее смерти (которую трудно было назвать неожиданной) Льюис и Джой играли в крестословицу, затем Джой уснула, и уже перед рассветом у нее начались жестокие боли в позвоночнике.
Ее забрали в больницу, и там она умерла.
К. С. Льюис продолжал работать в Кембридже. Он опубликовал (под псевдонимом) новую книгу «Исследуя скорбь». Издал (под своим именем) «Письма к Малькольму: главным образом о молитве». Он оправился после серьезного сердечного приступа, но в ноябре 1963 года пришла и его пора: он скоропостижно скончался.
После смерти друга Толкин написал дочери:
«Дорогая моя! До сих пор я чувствовал себя так, как и полагается человеку в моем возрасте — как старое дерево, что теряет свои листья один за другим: а вот теперь ощущение такое, будто мне подрубили самые корни. Горестно это, что в последние годы мы (с Льюисом. — Г. П., С.С.) настолько отдалились друг от друга; но времена близкого нашего общения мы всегда бережно хранили в памяти. Нынче утром я заказал мессу, и был на ней, и прислуживал; присутствовали также Хавард и Дандас Грант. Заупокойная служба в Святой Троице, церкви Хедингтон-Кворри, прихожанином которой был Джек (Льюис. — Г. П., С. С.), была совсем скромная; пришли только близкие друзья и кое-кто из Модлина, включая ректора… Благослови тебя Господь,
Папа»[491].
Глава девятая
БЕРЕН И ЛУТИЭН
Еще в 1957 году Толкин писал о «Властелине Колец»: «Моя история вполне соотносима с современностью. Но если бы меня спросили, я бы ответил, что в истории на самом деле речь идет не о Власти и Господстве, это — только двигатели сюжета; моя история — о Смерти и жажде бессмертия. А это почти то же самое, что сказать: эта история написана человеком!»[493]
Как мы уже говорили, в 1959 году Толкин вышел на пенсию. В прощальной речи, произнесенной в Мертон-колледже, он не удержался от язвительных замечаний по поводу изменений в учебных программах и работы аспирантов, подчиненной принципам «плановой экономики», но закончил тем, что прочитал отрывки из эльфийской прощальной песни «Намариэ»[494].
В переводе это означало:
Толкин все еще надеялся, что издательство «Аллен энд Анвин» опубликует «Сильмариллион», и готовился к интенсивной работе, чтобы, наконец, окончательно подготовить рукописи к публикации.
Между тем с выходом на пенсию (особенно после кончины Льюиса) постепенно пришел конец его регулярному общению с университетскими друзьями и коллегами. Если бы не все возрастающая переписка с поклонниками и не «воздушная громада» мифологии, можно было сказать, что жизнь Толкина стала обычной жизнью пенсионера.
Еще в 1953 году они с Эдит переехали в Хедингтон, пригород Оксфорда. Переезд был необходимостью, поскольку предыдущий дом, по Холиуэлл-стрит, который Толкину выделил колледж, выходил на очень шумную улицу. Толкин не без сожаления писал о днях своего «краткосрочного возвышения до почетного старинного колледжского дома на Холиуэлл» (дом был построен в XVII веке), но отмечал, что «как только сняли ограничения на бензин, улица превратилась в ад». В Хедингтоне Толкин купил дом на Сэндфилд-роуд, и они прожили там целых 15 лет (чуть меньше, чем на Нортмур-роуд), однако и это место не оказалось идеальным.
«Когда я сюда въехал, — писал Толкин сыну, — Сэндфилд-роуд представляла собою тупик, но вскорости ее противоположный конец открыли для проезда, и на какое-то время, пока не достроили Хедли-Уэй, она превратилась в неофициальный объезд для грузовиков. А теперь в верхнем конце улицы — автостоянка стадиона „Оксфорд юнайтед“. И при этом сами жители делают все, на что только способны радио, телевизоры, собаки, мотороллеры, грохотоциклы и машины всех размеров, кроме самых маленьких, чтобы обеспечивать шум спозаранку и часов этак до двух ночи. В довершение удовольствия в трех домах от нас живет один из участников группы юнцов, по всей видимости, вознамерившихся уподобиться „Битл“ (так у автора. — Г. П., С. С.). В те дни, когда в порядке очередности репетируют у него, шум стоит неописуемый»[496].
К сожалению, обрело значение и то, что Сэндфилд-роуд находилась гораздо дальше от центра Оксфорда, чем Холиуэлл. Казалось бы, раз не надо больше ездить в колледж, не надо и выбираться в центр. Но Эдит должна была делать покупки для дома, а автобусная остановка находилась не близко. Раньше это было терпимо, но теперь Эдит, страдая от артрита, передвигалась с трудом. Для любой поездки в центр приходилось вызывать такси…
Все мы знаем, что иногда даже небольшое изменение маршрутов транспорта, переезд в один из соседних кварталов, смена расписания работы неожиданно и резко сказываются на круге общения. Большинство университетских знакомых, с которыми Толкин часто встречался, работая в Оксфорде, теперь приезжали редко. Время от времени появлялся только Алистер Кемпбелл (1907–1974), сменивший Чарлза Ренна (когда-то сменившего Толкина) на посту роулинсоновского и босуортовского профессора англосаксонского, ну и регулярно делил ланчи с Толкинами Норман Дэвис (1913–1989).
Дэвис был яркой личностью и при этом отлично умел смешиваться с толпой. Родился он в Новой Зеландии, изучал там сравнительную филологию, но в 1934 году получил Родсовскую стипендию в Мертоновском колледже. Позже он продолжил изучение сравнительной филологии на практике — преподавал в Каунасе (Литва), в Софии (Болгария). О Дэвисе есть несколько страниц в книге о новозеландцах, прославившихся за пределами родной страны, — «Танец павлинов: новозеландцы в изгнании во времена Гитлера и Мао»[497]. Он любил хвастаться, что, работая в Софии, сумел добавить к болгарскому алфавиту еще одну букву. К сожалению, мы не знаем какую.
С началом войны Дэвис стал сотрудником британской разведки в отделе специальных операций, продолжая числиться пресс-атташе при британском посольстве в Болгарии. В 1941 году он даже переправил в Турцию Георгия Михова Димитрова, лидера Земледельческого союза и противника нацистской Германии. (Не путать с коммунистом Г. Димитровым, который в это время находился в Москве.)
В дальнейшем Дэвис вместе с женой Линой (Магдалиной) занимался подпольной работой в Турции. В Болгарии, когда эта страна была союзницей нацистов, его заочно приговорили к повешению, зато в конце войны он был удостоен ордена Британской империи. В 1944 году Дэвис вернулся в Оксфорд, некоторое время учился у Толкина и получил степень магистра. Преподавал средневековый английский в Оксфорде и Глазго. В 1959 году был избран мертоновским профессором английского языка и литературы — после Толкина. Согласно мемориальной странице его alma mater (университета Отаго в Новой Зеландии), он владел шестнадцатью языками[498].
Можно предположить, что Толкину было интересно общаться с Дэвисом. Хэмфри Карпентер пишет: «Дэвис с женой скоро поняли, что встречи с Толкинами очень для них важны, поскольку вносят приятное разнообразие в уединенную и рутинную домашнюю жизнь на Сэндфилд-роуд. А потому, примерно раз в неделю, они заезжали за Толкинами и отправлялись в какую-нибудь сельскую гостиницу, которую Толкины предпочитали на тот момент. Толкины нигде не задерживались надолго: либо потому, что в ресторане недостаточно хорошо готовили, либо потому, что слишком дорого брали за обед, либо же потому, что туда надо было ехать по новой дороге, которая портила пейзаж. В гостинице заказывали по рюмочке чего-нибудь крепкого — Эдит обнаружила, что порция бренди идет на пользу ее пищеварению, а потом — хороший ланч и побольше вина. За ланчем Лина занимала разговором Эдит, которую очень любила, а мужчины вели свою беседу. Кроме этих ланчей да визитов детей у Толкинов было довольно мало возможностей для общения»[499].
К этому времени Кристофер преподавал в Новом колледже в Оксфорде. Жил он теперь на Холиуэлл, 99, где до этого жил сам Толкин. Дочь Толкина Присцилла стала социальным работником и тоже работала в Оксфорде, но жила гораздо дальше. Двое других сыновей были далеко: Джон стал приходским священником в Стаффордшире, а Майкл преподавал в Стонихерст-колледже к северо-западу от Лидса.
Кристофер появлялся в родительском доме обычно со своей женой Фейт. Она была скульптором. По заказу английского факультета она даже сделала гипсовый бюст Толкина, который факультет подарил ему к выходу на пенсию. Позже факультет предложил установить этот бюст в факультетской библиотеке. Толкин согласился передать университету бюст и даже за свой счет отлить его в бронзе, чтобы уберечь от обычных для гипсовых скульптур повреждений. Он писал по этому поводу Дэвису:
«Дорогой Норман!
Я и моя сноха (скульптор) весьма польщены тем, что факультет изъявил желание поместить мой бюст в библиотеке английского факультета на видном месте — если, конечно, по зрелому размышлению Вы не решите, что украшенная легендарными сюжетами ваза была бы там более уместна. С превеликим удовольствием подарю бюст факультету… Но гипсовый бюст довольно хрупок, и его легко повредить. Потому предлагаю для преподнесения отлить его в бронзе (за мой счет). Я уже обсудил этот вопрос со скульптором: она знает, как такие вещи делаются. Отлитому в бронзе бюсту не повредят ни почести, ни оскорбления. Я сам, бывало, частенько вешал шляпу на бюст русского царя, любезно подаренный им Мертону.
Неизменно Ваш —
Рональд»[500].
Поначалу на Сэндфилд-роуд кабинет Толкину заменяла студия (она же спальня) на втором этаже, но когда он вышел на пенсию, ему пришлось забрать в дом свои книги из колледжа. К тому же по почте постоянно приходили не только письма или книги, но и множество самых разнообразных подарков от поклонников. Шлемы, мечи, ножны, кисеты с табаком, трубки, роги, украшенные рунами, эльфийские украшения. Присылали даже гобелены, картины и скульптуры. Дом для всего этого оказался совершенно неприспособленным. Тогда Толкин нашел решение — превратил в кабинет гараж, который все равно не использовался (машины у него не было).
Писали Толкину разные люди. И он отвечал всем — школьникам и профессорам, знакомым и незнакомым. Если можно было ограничиться благодарностью, благодарил, если в письмах были вопросы, отвечал. Если письмо вдруг оказывалось интересным, мог потратить и день, и два, и неделю на обдумывание, иногда посылая адресату целый трактат. Когда издательство «Аллен энд Анвин» предложило Толкину помочь с перепиской, он согласился с благодарностью. Ему, наконец, выделили секретаршу. В первое время это была сотрудница университета Элизабет Ламсден. После нее — Наоми Коллиер, Филлис Дженкинсон, Джой Хилл. Последняя в 1969 году приняла участие в вечере под названием «После полудня в Средиземье». Она выступила со специальным докладом «Справляясь с культом», а в буклете, посвященном тому же событию, поместила заметку «О письмах поклонников», в которой писала: «Они (письма. — Г. П., С. С.) приходят со всего мира; на английском, французском, немецком и эльфийском языках… Их приносят трижды в день, пять дней в неделю… Они идут и идут… Не по нескольку в день, а все возрастающим потоком… Англичане обычно осторожны в выражениях и часто начинают письма со слов: „Я долго не решался написать и поблагодарить Вас“, зато авторы с другого берега Атлантики гораздо нахальнее. „Дорогой милый профессор, — написал один хиппи из Сан-Франциско, — я тут побывал в Средиземье, и это вправду прекрасное место. Мне необходимо с вами повидаться“. А одно письмо из Норфолка (штат Виргиния) заканчивалось словами: „Однажды я вас загоню в угол на далекой маленькой звезде, и мы поговорим“»[501].
Все секретарши становились друзьями Толкина и Эдит. Той же Джой Хилл стареющий Толкин, например, подарил машинописный текст «Последней песни Бильбо» с надписью: «Копия этого стихотворения подарена мисс Джой Хилл 3 сентября 1970 года, равно как и право собственности на копирайт этого стихотворения, с тем чтобы она имела право опубликовать его или же передать копирайт — кому она пожелает, в любое время после моей смерти»[502].
Сейчас такие раритеты иногда возникают на аукционах.
Секретарши вели самую рутинную часть переписки, но на многие письма Толкин отвечал сам, и о многом в мире Средиземья мы теперь знаем благодаря именно ответам Толкина. Он как бы продолжал участвовать в работе и после своей смерти. Готовя к печати «Сильмариллион» и 12 томов «Истории Средиземья» (НОМЕ), Кристофер постоянно пользовался письмами отца, ставшими незаменимым подспорьем в работе.
«Циклы, — писал Толкин сыну, — начинаются с космогонического мифа „Музыка Айнур“. Там явлены Бог и Валар (или Власти; в английском языке именуемые богами). Последние являются ангелическими силами, функция которых — осуществлять делегированную власть в своих сферах (правления и руководства, но не творения, созидания или переделывания). Они „божественны“, то есть изначально пришли „извне“ и существовали „до“ сотворения мира. Их могущество и мудрость проистекают из Знания космогонической драмы, которую они восприняли сперва как драму (как в некотором смысле мы воспринимаем историю, сочиненную кем-то другим), а позже — как „реальность“.
<…>
Сразу же после этого мы переходим к „Истории эльфов“ или „Сильмариллиону“ как таковому; к миру, как мы его воспринимаем, но, конечно же, преображенному, по-прежнему полумифическому: то есть в нем действуют разумные воплощенные создания, более-менее сопоставимые с нами. Знание Драмы Творения было неполным: неполным у каждого отдельно взятого „бога“; и осталось бы неполным, даже если соединить воедино все знание пантеона. Ибо (отчасти, чтобы исправить зло бунтаря Мелькора, отчасти ради того, чтобы замысел был исполнен и завершен до мельчайших подробностей) Творец явил отнюдь не все. Двумя величайшими из тайн стали создание и природа Детей Господних.
<…>
Это — Перворожденные, эльфы, и Пришедшие Следом, люди. Судьба эльфов — бессмертие и любовь к красоте этого мира, расцветающая благодаря их утонченным, совершенным дарам; их бытию дано длиться, пока существует мир, и не покидают они его, даже будучи „убиты“, но возвращаются — и, однако же, с появлением Пришедших Следом удел эльфов — наставлять их, и уступать им место, и „угасать“ по мере того, как Пришедшие Следом обретают силу и вбирают в себя жизнь, от которой оба рода произошли. Судьба (или Дар) людей — это смертность, свобода от кругов мира. Поскольку весь цикл представлен с эльфийской точки зрения, смертность через миф не объясняется; это — тайна Господа, о которой ведомо лишь одно: „то, что Господь назначил людям, сокрыто“, и здесь — источник печали и зависти для бессмертных эльфов.
Как я уже сказал, свод легенд „Сильмариллион“ — вещь необычная и отличается от всех известных мне подобных произведений тем, что он не антропоцентричен. В центре его — не люди, но „эльфы“. Люди неизбежно оказываются вовлечены в повествование. В конце концов, автор — человек, и если обретет аудиторию, это будут люди, и люди по необходимости фигурируют в наших преданиях как таковые, а не только преображенные или отчасти представленные под видом эльфов, гномов, хоббитов и прочее. Однако они остаются на периферии — как пришедшие позже (курсив наш. — Г. П., С. С.), и хотя значимость их неуклонно растет, вовсе не они — главные герои.
На космогоническом плане имеет место падение: падение ангелов, сказали бы мы. Хотя, конечно же, по форме совершенно отличное от христианского мифа. Эти предания „новые“, они не заимствованы напрямую из других мифов и легенд, но неизбежно содержат в себе изрядную долю древних широко распространенных мотивов или элементов. В конце концов, я считаю, что легенды и мифы в значительной степени сотканы из „истины“ и несомненно представляют отдельные ее аспекты, которые воспринять можно только в такой форме; давным-давно определенные истины и формы воплощения такого рода были открыты и неизбежно возникают вновь и вновь. Не может быть „истории“ без падения — все истории в конечном счете повествуют о падении, по крайней мере для человеческих умов, таких, какие мы знаем и какими наделены.
Итак, продолжаем: эльфы пали прежде, чем их „история“ смогла стать историей в повествовательном смысле этого слова. (Первое падение людей, в силу приведенных причин, нигде не фигурирует: когда люди появляются на сцене, все это осталось в далеком прошлом; существуют лишь слухи о том, что на какое-то время люди оказались под властью Врага и что некоторые из них раскаялись.) Основной корпус предания, „Сильмариллион“ как таковой, посвящен падению одареннейшего рода эльфов, изгнанию их из Валинора (некое подобие рая, обитель Богов) на окраинном Западе, их возвращению в Средиземье, землю, где они родились, но где давно уже господствует Враг, их борьбе с ним, пока еще зримо воплощенной силой Зла. Название книги объясняется тем, что связующей нитью для всех событий становится судьба и суть Первозданных Самоцветов, или Сильмарилли („сияние чистого света“). Сотворение драгоценных камней главным образом символизирует собой эльфийскую функцию вторичного творчества, однако же Сильмарилли — нечто большее, чем просто красивые вещицы. И был Свет. И был Свет Валинора зримо явлен в Двух Древах — Серебряном и Золотом. Враг убил их из злобы, и на Валинор пала тьма, хотя от них, прежде чем они умерли окончательно, был взят свет Солнца и Луны… Однако главный искусник эльфов (Фэанор) заключил Свет Валинора в три непревзойденных самоцвета, Сильмарилли, еще до того, как Древа были осквернены и погибли. Таким образом, впредь сей Свет жил лишь в этих драгоценных камнях. Падение эльфов является следствием собственнического отношения Фэанора и его семерых сыновей к этим камням. Враг завладевает ими, вставляет их в свою Железную Корону и хранит их в неприступной твердыне. Сыновья Фэанора дают ужасную, кощунственную клятву вражды и мести — против всех и кого угодно, не исключая и богов, кто дерзнет посягнуть на Сильмарилли или станет утверждать свое право на них. Они сбивают с пути большую часть своего народа; те восстают против богов, покидают рай и отправляются на безнадежную войну с Врагом. Первым следствием их падения становится война в раю, гибель эльфов от руки эльфов; и это, а также их пагубная клятва, неотступно сопутствует всему их последующему героизму, порождая предательство и сводя на нет все победы. „Сильмариллион“ — это история Войны эльфов-Изгнанников против Врага, все события которой происходят на северо-западе мира (в Средиземье). В него включено еще несколько преданий о триумфах и трагедиях, однако заканчивается это все катастрофой и гибелью Древнего Мира, мира долгой Первой эпохи. Самоцветы обретены вновь (благодаря вмешательству богов под самый конец) — однако для эльфов они навсегда утрачены: один канул в море, другой — в земные недра, а третий стал звездой в небесах. Этот легендариум завершается повествованием о конце мира, о его разрушении и возрождении, о возвращении Сильмарилли и „света до Солнца“ — после последней битвы, которая, как мне кажется, более всего прочего навеяна древнескандинавским образом Рагнарёка, хотя не слишком-то на него похожа.
По мере того как предания становятся менее мифологичными и все более уподобляются историям как таковым и эпосам, в них вступают люди. По большей части это „хорошие люди“ — семьи и их вожди, что, отрекшись от служения Злу и прослышав о Богах Запада и Высоких эльфах, бегут на запад и вступают в общение с эльфами-Изгнанниками в разгар их войны. В преданиях фигурируют главным образом люди из Трех Домов Праотцов; их вожди стали союзниками эльфийских владык. Общение людей и эльфов уже предвещает историю более поздних эпох, и повторяющейся темой звучит мысль о том, что в людях (таковых, каковы они сейчас) есть толика „крови“ и наследия эльфов и что людские искусство и поэзия в значительной степени зависят от нее или ею определяются. Таким образом, имеют место два брачных союза представителей рода смертных и эльфов: оба впоследствии объединяются в роду потомков Эарендиля, представленном Эльрондом Полуэльфом, который фигурирует во всех историях и даже в „Хоббите“. Главное из преданий „Сильмариллиона“ и притом наиболее разработанное — это „Повесть о Берене и эльфийской деве Лутиэн“. Здесь, помимо всего прочего, мы впервые встречаемся со следующим мотивом (в „Хоббитах“ он станет доминирующим): великие события мировой истории, „колесики мира“, зачастую вращают не владыки и правители, и даже не боги, но те, кто вроде бы безвестен и слаб. <…> Не кто иной, как Берен, изгой из рода смертных, добивается успеха (с помощью Лутиэн, всего лишь слабой девы, пусть даже эльфийки королевского рода) там, где потерпели неудачу все армии и воины: он проникает в твердыню Врага и добывает один из Сильмариллей Железной Короны. Таким образом, он завоевывает руку Лутиэн и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной.
История как таковая является героико-волшебным эпосом, что само по себе требует лишь очень обобщенного, даже поверхностного знания предыстории. Но одновременно она — одно из основных звеньев цикла, и, вырванная из контекста, часть значимости утрачивает. Ибо отвоевание Сильмарилля, высшая из побед, ведет к катастрофе. Клятва сыновей Фэанора вступает в действие, и желание завладеть Сильмариллем обрекает все эльфийские королевства на гибель.
В цикл входят и другие предания, почти столь же полно разработанные и почти столь же самодостаточные — и, однако ж, связанные с историей в целом. Есть „Дети Хурина“ — трагическая повесть о Турине Турамбаре и его сестре Ниниэль, где в качестве главного героя выступает Турин, персонаж, как сказали бы (те, кому нравятся такого рода рассуждения, хотя толку в них чуть), унаследовавший ряд черт Сигурда Вёльсунга, Эдипа и финского Куллерво. Есть „Падение Гондолина“: главной эльфийской твердыни. А еще — предание, или целый ряд преданий, о „Страннике Эарендиле“. Это крайне значимый персонаж, поскольку он приводит „Сильмариллион“ к финалу; он же через своих потомков обеспечивает основные связки и персонажей для преданий более поздних эпох. Его функция как представителя обоих Народов, людей и эльфов, заключается в том, чтобы отыскать путь через море назад в Землю богов и в качестве посланника убедить их вновь вспомнить об Изгнанниках, сжалиться над ними и спасти их от Врага. Его жена Эльвинг происходит от Лутиэн и до сих пор владеет Сильмариллем. Однако проклятие по-прежнему действует, и сыновья Фэанора разоряют дом Эарендиля. Но тем самым обретен выход: Эльвинг, спасая Самоцвет, бросается в Море, воссоединяется с Эарендилем, и благодаря силе великого Камня они наконец-то попадают в Валинор и выполняют свою миссию — ценой того, что отныне им не позволено вернуться ни к людям, ни к эльфам. Тогда боги вновь выступают в поход, великая рать является с Запада, и Твердыня Врага разрушена; а сам он выдворен из Мира в Пустоту, дабы никогда более не возвращаться в воплощенном виде. Оставшиеся два Сильмарилля извлечены из Железной Короны — и снова утрачены. Последние двое сыновей Фэанора, побуждаемые клятвой, похищают Самоцветы — и через них находят свою гибель, бросившись в море и в расщелину земли. Корабль Эарендиля, украшенный последним Сильмариллем, вознесен в небеса как ярчайшая из звезд. Так заканчивается „Сильмариллион“ и предания Первой эпохи.
В следующем цикле речь идет (или пойдет) о Второй эпохе. Но для Земли это темные времена, об истории которых рассказывается немного (да больше и не стоит). В великих битвах против Изначального Врага материки раскололись и подверглись разрушениям, и Запад Средиземья превратился в бесплодную пустошь. Мы узнаем, что эльфам-Изгнанникам если не приказали, то, по крайней мере, настоятельно посоветовали возвратиться на Запад и жить в покое и мире. Им предстояло навечно поселиться не в Валиноре, но на Одиноком острове Эрессэа в пределах видимости Благословенного Королевства. Людей Трех Домов вознаградили за доблесть и верность союзникам тем, что позволили им поселиться „западнее всех прочих смертных“, в Нуменоре, на огромном острове — „Атлантиде“. Смертность, судьбу или дар Господень боги, конечно же, отменить не в силах, однако нуменорцам отпущен долгий срок жизни. Они подняли паруса, отплыли из Средиземья и основали великое королевство мореходов почти в виду Эрессэа (но не Валинора). Большинство Высоких эльфов тоже возвратились на Запад. Но не все. Часть людей, тех, что в родстве с нуменорцами, остались в землях неподалеку от морского побережья. Некоторые из Изгнанников возвратиться вообще не пожелали или отложили возвращение (ибо путь на запад для бессмертных открыт всегда, и в Серых Гаванях стоят корабли, готовые уплыть без возврата). Да и орки (гоблины), и прочие чудовища, выведенные Изначальным Врагом, уничтожены не все. Кроме того, есть Саурон. В „Сильмариллионе“ и в Преданиях Первой эпохи Саурон, один из обитателей Валинора, предался злу, перешел на сторону Врага и стал его главным полководцем и слугой. Когда Изначальный Враг терпит сокрушительное поражение, Саурон в страхе раскаивается, но в итоге не является, как ему приказано, на суд богов. Он остается в Средиземье. Очень медленно, начиная с благих побуждений, — преобразования и восстановления разоренного Средиземья, „о котором боги позабыли“, — он превращается в новое воплощение Зла и существо, алчущее Абсолютной Власти, — и потому снедаем все более жгучей ненавистью (особенно к богам и эльфам). На протяжении сумеречной Второй эпохи на Востоке Средиземья растет Тень, все больше и больше подчиняя себе людей — которые умножаются в числе по мере того, как эльфы начинают угасать. Таким образом, три основные темы сводятся к следующему: задержавшиеся в Средиземье эльфы; превращение Саурона в нового Темного Властелина, повелителя и божество людей; и Нуменор — Атлантида. Они представлены в виде анналов и в двух Преданиях, или Повестях: „Кольца Власти“ и „Низвержение Нуменора“. Оба важны в качестве фона для „Хоббита“ и его продолжения.
В первом представлено что-то вроде второго падения или, по крайней мере, „заблуждения“ эльфов. По сути, не было ничего дурного в том, что они задержались… <…> в землях их древних героических деяний. Однако же им хотелось один пирог да съесть дважды. Им хотелось наслаждаться миром, блаженством и совершенной памятью „Запада“ — и в то же время оставаться на бренной земле, где их престиж как высшего народа, стоящего над дикими эльфами, гномами и людьми, был несравненно выше, нежели на нижней ступени иерархии Валинора. Так они стали одержимы „угасанием“ — именно в этом ключе они воспринимали временные изменения (закон мира под солнцем). Они сделались печальными, искусство их (скажем так) обращено в прошлое, а все их старания сводились к своего рода бальзамированию — даже при том, что они сохранили древнее стремление своего народа к украшению земли и исцелению ее ран. Мы узнаем об уцелевшем королевстве под властью Гил-Гэлада — на окраинном северо-западе, примерно на тех древних землях, что остались еще со времен „Сильмариллиона“, и о других поселениях — таких, как Имладрис (Ривендел) близ Элронда; и обширный край Эрегион у западного подножия Туманных гор близ Копей Мории главного гномьего королевства Второй эпохи. Там в первый и единственный раз возникла дружба между обычно враждебными народами (эльфами и гномами), а кузнечное ремесло достигло высшей ступени развития. Однако многие эльфы прислушались к Саурону. В те стародавние дни он еще обладал прекрасным обличьем, и его побуждения вроде бы отчасти совпадали с целями эльфов: исцелить разоренные земли. Саурон отыскал слабое место эльфов, предположив, что, помогая друг другу, они сумеют сделать западное Средиземье столь же прекрасным, как Валинор. На самом-то деле то был завуалированный выпад против богов; подстрекательство попытаться создать отдельный, независимый рай. Гил-Гэлад все эти предложения отверг, как и Эльронд. Но в Эрегионе закипела великая работа — и эльфы оказались на волосок от того, чтобы взяться за „магию“ и машины. При помощи Сауроновых познаний они сделали Кольца Власти („власть“ во всех этих преданиях — слово зловещее и недоброе, за исключением тех случаев, когда оно применяется по отношению к богам). Главное их свойство (в этом Кольца были схожи) состояло в предотвращении или замедлении упадка (то есть „перемен“, воспринимаемых как нечто нежелательное), в сохранении всего желанного или любимого, или его подобия, — такой мотив более или менее характерен для эльфов в целом. Но при этом Кольца усиливали врожденные способности владельца — тем самым приближаясь к „магии“, а это побуждение легко исказить и обратить во зло, в жажду господства. И, наконец, они наделены и другими свойствами, которыми они обязаны Саурону уже непосредственно („Некроманту“ — так именуется он, роняющий мимолетную тень, как предзнаменование, на страницы „Хоббита“): например, делают невидимыми материальные объекты и видимыми — сущности незримого мира.
Эльфы Эрегиона создали почти исключительно силой своего собственного воображения без всякой подсказки три несказанно прекрасных и могущественных Кольца, направленных на сохранение красоты: эти невидимостью не наделяли. Но тайно, в подземном Огне, в своей Черной Земле, Саурон создал Единое Кольцо, Правящее Кольцо, что заключало в себе свойства всех прочих и контролировало их, так что носящий это Кольцо мог прозревать мысли всех тех, кто пользовался меньшими Кольцами, мог управлять всеми их действиями и в конечном счете мог целиком и полностью поработить их. Однако Саурон не принял в расчет мудрости и чуткой проницательности эльфов. Едва он надел Единое Кольцо, эльфы узнали об этом, постигли его тайный замысел и устрашились. Они спрятали Три Кольца, так что даже Саурон не сумел отыскать их, и они остались неоскверненными. Остальные же Кольца эльфы попытались уничтожить.
В последовавшей войне между Сауроном и эльфами Средиземье, особенно в его западной части, подверглось новым разрушениям. Эрегион был завоеван и разорен, и Саурон захватил в свои руки немало Колец Власти. Их он раздал тем, кто согласился принять Кольца (из честолюбия или жадности), дабы окончательно исказить и поработить их. Отсюда — „древние стихи“, ставшие лейтмотивом „Властелина Колец“:
Таким образом, Саурон обрел в Средиземье почти абсолютную власть. Эльфы еще держатся в потаенных укрытиях (до поры не обнаруженных). Последнее эльфийское королевство Гильгалада расположено на окраинном западном побережье, где находятся гавани Кораблей: положение его крайне непрочно. Эльронд Полуэльф, сын Эарендиля, хранит своего рода зачарованное убежище в Имладрисе (Ривенделл по-английски) на восточной границе западных земель. Однако Саурон повелевает умножающимися ордами людей, которые никогда не общались с эльфами, а через них, косвенно, — с истинными и непадшими Валар и богами. Он правит растущей империей из гигантской темной башни Барад-Дур в Мордоре, близ Горы Огня, владея Единым Кольцом.
Но, чтобы достичь этого, ему пришлось вложить большую часть своей собственной внутренней силы (распространенный и весьма значимый мотив в мифе и волшебной сказке) в Единое Кольцо. Когда он надевал Кольцо, его власть над землей, по сути дела, возрастала. Но даже если Кольца он не надевал, эта сила все равно существовала и пребывала „в контакте“ с ним: он не „умалялся“. До тех пор, пока кто-либо другой не захватил бы Кольца и не объявил бы его своим. Если бы такое произошло, новый владелец мог бы (если бы был от природы достаточно силен и героичен) бросить вызов Саурону, овладеть всем, что тот узнал или сотворил со времен создания Единого Кольца, и, таким образом, сверг бы Саурона и узурпировал бы его место. В этом и заключался основной просчет: пытаясь (по большей части безуспешно) поработить эльфов и установить контроль над умами и волей своих слуг, Саурон сам неизбежно оказывался уязвим. Было и еще одно слабое место: если Единое Кольцо уничтожить, истребить, тогда сила Саурона растаяла бы, а само его существо умалилось бы вплоть до полного исчезновения, так что он превратился бы в тень, в жалкое воспоминание о злонамеренной воле. Но такой возможности он не рассматривал и не опасался этого. Кольцо не сумел бы уничтожить ни один кузнец, уступающий искусством самому Саурону. Его нельзя было расплавить ни в каком огне, кроме лишь того неугасимого подземного пламени, где оно было отковано, — недосягаемого пламени Мордора. И так силен был соблазн Кольца, что любой, кто им пользовался, подпадал под его власть; ни у кого недостало бы силы воли (даже у самого Саурона) повредить Кольцо, выбросить его или пренебречь им. По крайней мере, так он думал.
<…>
Таким образом, на протяжении Второй эпохи у нас есть великое Королевство и теократия зла (ибо Саурон также — божество для своих рабов), что набирает силу в Средиземье. На западе (собственно говоря, северо-запад — единственная подробно описанная область в этих преданиях) находятся ненадежные прибежища эльфов, а люди тех земель остаются более или менее неиспорченными, пусть и невежественными. Лучшие, более благородные люди по сути дела являются родней тех, кто уплыл в Нуменор, но пребывают в состоянии „гомеровской“ простоты патриархально-племенной жизни.
Тем временем богатство, мудрость и слава Нуменора все росли под властью рода великих королей-долгожителей, прямых потомков Эльроса, сына Эарендиля, брата Эльронда. „Низвержение Нуменора“, Второе Падение людей (людей исправленных и все-таки смертных) оборачивается катастрофой, что положила конец не только Второй эпохе, но и Древнему Миру, первозданному миру легенды (представленному как плоский и имеющий предел). После этого начинается Третья эпоха — Век Сумерек, Medium Aevum, первая эпоха расколотого, измененного мира и последняя для длительного владычества зримых, полностью воплощенных эльфов; и последняя, когда Зло принимает единое, исполненное могущества, воплощенное обличье.
„Низвержение“ отчасти является результатом внутренней слабости в людях — следствия, если угодно, первого Падения (о котором в преданиях речи не идет): люди раскаялись, но окончательно исцелены не были. Награда на земле для людей куда опаснее наказания! Падение свершилось благодаря тому, что Саурон коварно воспользовался этой слабостью. Центральной темой здесь (как мне кажется, в истории о людях это неизбежно) является Воспрещение, или Запрет.
Нуменорцы живут у предела видимости самой восточной из „бессмертных“ земель Эрессэа. И поскольку они единственные из людей говорят по-эльфийски (этот язык они выучили во времена Союза), они постоянно общаются со своими давними друзьями и союзниками, — и теми, что живут на благословенном Эрессэа, и теми, что из королевства Гильгалада на берегах Средиземья. Таким образом, они сделались и видом, и даже способностями почти неотличимы от эльфов, однако ж оставались смертны, хотя наградой им стал тройной и более чем тройной срок жизни. Награда оборачивается для них гибелью — или орудием искушения. Их долгая жизнь способствует достижениям в искусстве и умножению мудрости, но порождает собственническое отношение к тому и к другому; и вот они уже жаждут больше времени на то, чтобы всем этим наслаждаться. Отчасти, предвидя это, боги с самого начала наложили на нуменорцев Запрет: никогда не плавать к Эрессэа и на запад — лишь до тех пор, пока виден их собственный остров. Во всех прочих направлениях они могли путешествовать, куда хотели. Людям не дозволялось ступать на „бессмертные“ земли, чтобы те не пленились бессмертием (в пределах мира), которое противоречит предписанному им закону, особой судьбе или дару Илуватара (Господа): сама их природа, по сути дела, бессмертия не выдержала бы.
В отпадении нуменорцев от благодати можно проследить три фазы. Сперва покорность, послушание свободное и добровольное, пусть и без полного понимания. Затем на протяжении долгого времени они повинуются неохотно, ропщут все более и более открыто. Под конец они восстают — возникает раскол между людьми Короля, бунтовщиками, и небольшим меньшинством преследуемых Верных.
На первой стадии, будучи народом мирным, нуменорцы проявляют свою доблесть в морских плаваниях. Потомки Эарендиля нуменорцы стали превосходными мореходами, и, поскольку на Запад им путь был закрыт, они плавают до самого Крайнего Севера, и на юг, и на восток. По большей части пристают они у западных берегов Средиземья, где помогают эльфам и людям в борьбе с Сауроном и навлекают на себя его непримиримую ненависть. В те дни они являлись к дикарям почти как божественные благодетели, принося дары искусства и знания, и вновь уплывали, — оставляя по себе немало легенд о королях и богах, приходящих со стороны заката.
На второй стадии во дни Гордыни и Славы и недовольства Запретом они стали стремиться скорее к богатству, нежели к благоденствию. Желание спастись от неминуемой смерти породило культ мертвых; богатства и искусства расточались на гробницы и монументы. Теперь они основали поселения на западном побережье, но поселения эти становились, скорее, крепостями и „факториями“ владык, взыскующих богатств; нуменорцы превратились в сборщиков дани и увозили за море на своих огромных кораблях все больше и больше добра. Нуменорцы принялись ковать оружие и строить машины.
Со вступлением на престол тринадцатого короля из рода Эльроса — Тар-Калиона Золотого, самого могущественного и гордого из всех королей, эта фаза закончилась и началась последняя. Узнав, что Саурон присвоил себе титул Короля Королей и Владыки Мира, Тар-Калион решил усмирить „узурпатора“. В ореоле мощи и величия он отправляется в Средиземье, и столь громадна его армия и столь ужасны нуменорцы в день своей славы, что слуги Саурона не смеют противостоять им. Саурон смиряется, преклоняется перед Тар-Калионом и отвезен в Нуменор в качестве заложника и пленника. Но там, благодаря своему коварству и познаниям, он стремительно возвышается от слуги до главного королевского советника и своими лживыми наветами склоняет к злу короля и большинство лордов и жителей острова. Он отрицает существование Бога, утверждая, что Единый — это всего лишь выдумка завистливых Валар Запада, оракул их собственных желаний. А главный из богов — тот, что обитает в Пустоте, тот, что одержит Победу и создаст в пустоте бесчисленные королевства для своих слуг. Запрет же — не более чем обманная уловка, подсказанная страхом и рассчитанная на то, чтобы не позволить Королям Людей отвоевать для себя жизнь вечную и соперничать с Валар.
Возникает новая религия и поклонение Тьме, со своим храмом, выстроенным по наущению Саурона. Верных преследуют и приносят в жертву. Нуменорцы приносят зло и в Средиземье и становятся там жестокими и злыми владыками-некромантами, убивая и мучая людей; древние легенды заслоняются новыми преданиями, мрачными и ужасными. Однако на северо-западе ничего подобного не происходит; ибо туда, где живут эльфы, приплывают только Верные, оставшиеся эльфам друзьями. Главная гавань неиспорченных нуменорцев находится близ устья великой реки Андуин. Оттуда влияние Нуменора, все еще благое, распространяется вверх по Реке и вдоль побережья на север вплоть до самого королевства Гильгалада, по мере того, как складывается Всеобщее наречие.
Но, наконец, замысел Саурона осуществляется. Тар-Калион чувствует, как к нему подступают старость и смерть, прислушивается к последнему наущению Саурона и, построив величайшую из флотилий, отплывает на Запад, нарушая Запрет, и идет на богов войной, дабы силой вырвать у них „жизнь вечную в пределах кругов мира“. Перед лицом подобного бунта, этого вопиющего безумства и кощунства, а также и перед лицом вполне реальной опасности (ибо нуменорцы, направляемые Сауроном, вполне могли учинить разор в самом Валиноре) Валар слагают с себя доверенную им власть, взывают к Богу и получают силу и дозволение действовать; старый мир разрушен и изменен. Разверзшаяся в море пропасть поглощает Тар-Калиона и его флотилию. Сам Нуменор, оказавшись на краю разлома, обрушивается и навечно исчезает в бездне вместе со всем своим величием. После этого на земле не остается зримых обиталищ существ божественной и бессмертной природы. Валинор (или рай) и даже Эрессэа изъяты и сохранились лишь в памяти земли. Теперь люди могут плыть на Запад, если захотят, и так далеко, как только могут, но к Валинору и к Благословенному Королевству они не приблизятся, а вновь окажутся на востоке и так возвратятся обратно; ибо мир стал круглым и ограниченным, и из сферы его не вырваться иначе как через смерть. Лишь „бессмертные“, задержавшиеся на земле эльфы, до сих пор могут, устав от кругов мира, взойти на корабль и отыскать „прямой путь“ — достичь древнего или Истинного Запада и обрести там покой.
Итак, ближе к концу Второй эпохи происходит великая катастрофа, однако эпоха еще не окончена. Остались те, кто выжил в катаклизме: Элендиль Прекрасный, предводитель Верных (имя его означает „Друг эльфов“) и его сыновья Исильдур и Анарион. Элендиль, персонаж, уподобленный Ною, не принимал участия в бунте; на восточном побережье Нуменора стояли его корабли, подготовленные к отплытию и с людьми на борту. Он бежит прочь перед всесокрушающей бурей гнева Запада и подхвачен и высоко вознесен вздымающимися волнами, разрушившими запад Средиземья. Он и его люди выброшены на берег; отныне они — изгнанники. Там они основывают нуменорские королевства: Арнор на севере, близ владений Гил-Гэлада, и Гондор близ устьев Андуина дальше к югу. Саурон, будучи бессмертным, едва спасается при гибели Нуменора и возвращается в Мордор, где спустя некоторое время набирает достаточную силу, чтобы бросить вызов изгнанникам Нуменора.
Вторая эпоха завершается созданием Последнего Союза (людей и эльфов) и великой осадой Мордора. Она заканчивается низвержением Саурона и уничтожением второго зримого воплощения зла. Исильдур, сын Элендиля, срубил Кольцо с руки Саурона — и сила покинула Саурона, а дух его бежал во тьму. Однако зло начинает действовать. Исильдур объявляет Кольцо своим как „виру за отца“ и отказывается бросить его в Огонь тут же, рядом. Он уводит войско, но тонет в Великой Реке; Кольцо утрачено и исчезает бесследно неведомо куда. Однако оно не уничтожено, и Темная Башня, отстроенная с его помощью, все еще стоит, пустая, но не разрушенная. Так заканчивается Вторая эпоха — с утверждением нуменорских владений и гибелью последнего короля Высоких эльфов.
В Третью эпоху события вращаются в основном вокруг Кольца. Темный Властелин уже не восседает на троне, но его чудовища истреблены не полностью, и его жуткие слуги, рабы Кольца, по-прежнему здесь — тени среди теней. Мордор обезлюдел, Темная Башня пуста, на границах этой недоброй земли выставлена стража. У эльфов еще остались потаенные убежища: в Серых Гаванях, где стоят их корабли, в Доме Эльронда и в других местах. На севере королевством Арнор правят потомки Исильдура. Южнее, по обоим берегам Великой Реки Андуин, стоят города и крепости нуменорского королевства Гондор, где правят короли из рода Анариона. Далеко на неизведанных (в контексте этих преданий) Востоке и Юге находятся страны и королевства людей диких или злобных, схожих лишь в своей ненависти к Западу, почерпнутой у своего хозяина Саурона: однако Гондор и его мощь преграждают им путь. Кольцо потеряно — есть надежда, что навсегда; и три Кольца эльфов в руках у тайных хранителей действуют, сохраняя память о красоте древности и поддерживая зачарованные островки мира, где Время словно бы застыло и распад обуздан, — подобие благоденствия Истинного Запада.
Но на севере Арнор приходит в упадок, распадается на мелкие княжества и, наконец, исчезает. Остатки нуменорцев становятся потаенным бродячим народом, и хотя род истинных Королей наследников Исильдура отнюдь не прервался, известно это только в Доме Эльронда. На юге Гондор достигает апогея могущества, почти уподобившись Нуменору, а затем медленно угасает до упаднического средневековья — нечто вроде надменной, освященной веками, но все более беспомощной Византии. Надзор за Мордором ослабевает. Натиск восточан и южаков усиливается. Род Королей прерывается, в последнем городе Гондора Минас Тирите („Башне Стражи“) — правят потомственные Наместники. Заключен бессрочный союз с Коневодами Севера, рохиррим или Всадниками Рохана; они расселяются на ныне безлюдных зеленых равнинах, что некогда составляли северную часть королевства Гондор. На обширный первозданный лес — Зеленолесье Великое, расположенный к востоку от верховьев Великой Реки, падает тень; тень растет, лес становится Мирквудом, то есть Лихолесьем. Мудрые обнаруживают, что источник тени — Чародей (Некромант „Хоббита“), чей потаенный замок находится на юге Великого Леса.
В середине этой эпохи появляются хоббиты. Происхождение их неизвестно даже им самим, поскольку великие народы, из тех, что составляют летописи, их своим вниманием обошли, а сами хоббиты ничего не записывали, довольствуясь лишь невразумительными устными преданиями, пока не покинули границ Мирквуда, спасаясь от Тени, и не забрели на Запад, вступив в сношения с последними обитателями королевства Арнор.
Главное их поселение, все обитатели которого — хоббиты и где поддерживается упорядоченная, цивилизованная, пусть простая деревенская жизнь, — это Шир, изначально — пахотные земли и леса Арнора, пожалованные в лен; однако к тому времени, как о Шире стало хоть что-то известно, „Король“, создатель законов, давно сгинул, оставив по себе лишь воспоминания. Бильбо — хоббит и герой одноименной повести — отправляется „в приключение“ в 1341 году Шира (или в 2941 году Третьей эпохи; то есть в последнем ее столетии).
В этой истории, заново пересказывать которую нет смысла, сущность хоббитов и положение дел с хоббитами никак не объясняются, но представлены как нечто само собой разумеющееся, и то немногое, что рассказывается об их истории, преподносится в форме случайного упоминания о чем-то и без того известном. „Мировая политика“ в целом, обрисованная выше, разумеется, тоже подразумевается; на нее также периодически ссылаются как на события, подробно записанные где-то в другом месте. Эльронд — персонаж весьма значимый, хотя его величавость и благородство, его великое могущество и происхождение несколько затушевываются и в полной мере не явлены. Есть также отсылки к истории эльфов, к падению Гондолина и т. д. Тени и зло Мирквуда обеспечивают на сниженном плане „волшебной сказки“ одну из главных составляющих приключения. Лишь в одном эпизоде вся эта „мировая политика“ срабатывает как часть сюжетного механизма: маг Гэндальф отозван по крайне важному делу — это попытка справиться с угрозой Некроманта — и бросает хоббита в самый разгар „приключения“ без помощи и совета, вынуждая его научиться стоять на своих собственных ногах и стать по-своему героем. (Многие читатели отметили этот момент и догадались, что Некромант непременно должен сыграть весьма заметную роль в продолжении или в других преданиях о тех временах.)
Тон и стиль „Хоббита“, в целом иной, объясняется тем (с точки зрения происхождения), что это произведение воспринималось мною как материал из грандиозного цикла, который можно обработать в виде „волшебной сказки“ для детей. Кое-какие особенности тона и манеры изложения, как мне теперь видится, ошибочны — даже с этой точки зрения. Но мне не хотелось бы менять многое. Ведь в сущности это — эскиз простого, заурядного человека, не наделенного ни творческим потенциалом, ни благородством и героизмом (впрочем, не без зачатков всего этого) на возвышенном фоне; и по сути дела (как отметил один из критиков), тон и стиль книги меняются по мере развития самого хоббита, от волшебной сказки к благородному и высокому, — и вновь снижаются в эпизоде возвращения.
Поход за драконьим золотом, главная тема повести „Хоббит“ как таковой в рамках общего цикла является периферийной и не то чтобы значимой — и связана с ним главным образом через историю гномов, а таковая ни в одном предании не выдвигается на первый план, хотя зачастую роль играет важную. Но в ходе приключения хоббит вроде бы „по чистой случайности“ становится владельцем „волшебного кольца“, главное и единственно очевидное на первый взгляд свойство которого заключается в том, чтобы делать владельца невидимым. И хотя в контексте повести это лишь случайность, непредвиденная и ни в какие планы похода не включенная, она оказывается залогом успеха. По возвращении хоббит, ставший мудрее и дальновиднее, пусть его манера изъясняться ничуть не изменилась, сохранил Кольцо как свой маленький секрет.
Продолжение („Властелин Колец“) — самая объемная и, хотелось бы надеяться, пропорционально лучшая часть всего цикла. Я попытался включить в роман и довести до логического разрешения все элементы и мотивы предшествующего материала: эльфов, гномов, Королей Людей, героических „патриархально-эпических“ всадников, и орков и демонов, и ужасы слуг Кольца и некромантии, и неизъяснимый ужас Темного Трона. А что до стиля — будничную разговорность хоббитской речи, поэзию и самый что ни на есть возвышенный прозаический слог. Нам предстоит увидеть низвержение последнего воплощения Зла, уничтожение Кольца, окончательный уход эльфов и возвращение истинного Короля, которому предстоит принять Владычество над людьми, унаследовав все то, что можно заимствовать из эльфийского мира через судьбоносный брак с Арвен, дочерью Эльронда, равно как и через происхождение по прямой линии от королевского дома Нуменора. Но в то время, как самые ранние Предания воспринимаются, так сказать, глазами эльфов, это последнее великое Предание, спускающееся с уровня легенды и мифа на бренную землю, воспринимается главным образом глазами хоббитов; таким образом, оно становится, по сути дела, антропоцентричным. Глазами хоббитов, а не людей как таковых, поскольку последнее Предание должно со всей отчетливостью проиллюстрировать повторяющуюся тему: какое место занимают в „мировой политике“ непредвиденные и непредсказуемые волеизъявления и достойные деяния тех, кто на первый взгляд мал, невелик, позабыт в уделах Великих и Мудрых (как добрых, так и злых). А мораль всего этого очевидна: без возвышенного и благородного простое и вульгарное непередаваемо гнусно; без простого и обыденного благородная героика бессмысленна»[503].
АВАРИ — имя, данное эльфам, отказавшимся присоединиться к походу на запад от Куйвиэнэн.
АДАНЫ — «Вторые», название людей в Сумеречном Наречии: в Белерианде так называли людей из Трех Домов Друзей Эльфов.
АКАЛЛАБЕТ — «Падшая Земля», название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора.
АНАР — квенийское название Солнца. МИНАС — «башня, крепость» в АННУМИНАС, МИНАС АНОР, МИНАС ТИРИФ, и т. д. Тот же корень появляется в словах, обозначающих уединенно стоящие предметы, напр. МИНДОЛЛУИН, МИНДОН; вероятно, родствен квенийскому МИНИА — «первый»; ср. ТАР-МИНИАТУР — имя первого короля Нуменора.
МОР — «темный, черный» в МОРДОР, МОРГОТ, МОРИА, МОРИКВЭНДИ, МОРМЕГИЛЬ, МОРВЕН и т. д.
НАР — «огонь» в НАРСИЛЬ, НАРЬЯ; присутствует также в первоначальной форме имени АЭГНОР (АЙКАНАРО — «Острый Огонь» или «Яростный Огонь») и ФЕАНОР (ФЕАНОРО — «Огненный Дух»). Синдаринская форма НАУР употреблена в САММАТ НАУР — «Палаты Огня» в Ородруине. От того же древнего корня (А)НАР произошло название Солнца — квенийское АНАР (см. АНАРИОН) и синдаринское АНОР (см. МИНАС АНОР, АНОРИЭН).
Письма Толкина читателям раскрывают многие особенности созданного им мира. Собственно говоря, просматривая эти письма, как бы вчитываешься еще в одну необычную книгу:
«В воображаемой реальности всей этой истории мы сейчас живем на физически круглой Земле. Однако весь „легендариум“ в совокупности заключает в себе переход от мира плоского (по крайней мере со всех сторон ограниченного) к сфере: переход неизбежный, на мой взгляд, для современного „мифотворца“, чье сознание настроено на те же „иллюзии“, как у древних, и отчасти вскормлено их мифами, но при этом с младенчества приучено к мысли о том, что Земля круглая»[504].
Говорят письма и о «повседневности», которая, может быть, недостаточно раскрыта в «Хоббите» и «Властелине Колец»:
«Я более остро сознаю схематичность своего описания археологии и экономики: одежды, сельскохозяйственных орудий, работы по металлу, гончарного дела, архитектуры и т. д., не говоря уже о музыке и ее инструментарии. Не то, чтобы я совершенно не был способен к экономическому мышлению и ему чужд. Поскольку речь идет о „смертных“ — людях, хоббитах и гномах, ситуация задумана так, что экономическое правдоподобие там присутствует: у Гондора достаточно „городских земель“ и фьефов с нормальным водоснабжением и дорожным сообщением, дабы обеспечить нужды населения; и со всей очевидностью там наличествуют многочисленные отрасли промышленности, хотя упоминания о них практически отсутствуют. Расположение Шира относительно гор, обилие воды, расстояние до моря и широта обеспечивают ему естественное плодородие почвы, даже если не принимать во внимание, что земли эти уже были хорошо освоены, когда на них обосновались новые жители (вне всякого сомнения, переняв также более древние искусства и ремесла). Ширские хоббиты в металлах особой потребности не испытывают, но гномы — торговцы, и в восточной части гор Люн находятся гномьи копи (как явствует из более древних легенд): вне всякого сомнения, это и есть причина (или одна из причин) того, что гномы часто проезжают через Шир. Некоторые обнаруженные у них атрибуты современной жизни (например, зонтики) наверняка являются ошибкой того же плана, что и их нелепые имена, и терпимы лишь как намеренная „англизация“ для подчеркивания контраста между ними и другими народами наиболее доступным образом. Я не думаю, что народ такого типа, уровня жизни и развития может одновременно отличаться мирным характером, исключительной храбростью и стойкостью „в час нужды“. Опыт двух войн укрепил меня в этом мнении. Но хоббиты — это не утопический образ и вовсе не рекомендуются как идеал своего века или любого другого. Они, как любой народ в определенной ситуации, — историческая случайность, и в перспективе — преходящая…»[505]
Впрочем, достаточно сделать шаг в сторону — и мы снова оказываемся в гуще самых серьезных вопросов:
«Я не реформатор и не „бальзамировщик“! Не „реформатор“ (через применение власти), — поскольку это обречено на саруманизм. Но и „бальзамирование“ таит свои опасности. Например, некоторые рецензенты охарактеризовали мое сочинение как примитивное: дескать, самая обыкновенная борьба между Добром и Злом, где всё хорошее хорошо, и только; а дурное дурно, и только. Пожалуй, оно простительно (хотя Боромира, по меньшей мере, проглядели) для людей, читающих в большой спешке, да притом лишь отдельный фрагмент, и, конечно же, при отсутствии написанных раньше, но так и не увидевших света эльфийских хроник (мысли Толкина всегда были заняты „Сильмариллионом“. — Г. П., С. С.). Но эльфы не всецело благи и не всегда правы. И не столько потому, что заигрывали с Сауроном, сколько потому, что с его ли помощью или без таковой были „бальзамировщиками“. Им хотелось жить в смертном историческом Средиземье, поскольку эльфы прониклись к нему любовью (может, потому, что там они пользовались преимуществом высшей касты), остановить процесс перемен, ход истории, сохранить Средиземье как некий декоративный садик, в котором они могут оставаться „художниками“, — и при этом их тяготит печаль и ностальгические сожаления. И люди Гондора были по-своему таковы: угасающий народ, чьи единственные „святыни“ — это его гробницы. Но в любом случае это — повесть о войне, и, если война дозволена (по крайней мере в качестве темы и декораций), нет смысла жаловаться, что все приверженцы одной стороны отчего-то выступают против тех, кто на другой. Но у меня даже здесь не все так просто: есть, скажем, Саруман, и Денетор, и Боромир; и даже среди орков случаются раздоры и предательство»[506].
И снова о смерти и бессмертии:
«Со всей определенностью, Смерть — не то же самое, что Враг!
Я сказал или пытался сказать, что „ключевая мысль“ сводится к тому, сколь страшна опасность — перепутать истинное „бессмертие“ с этим бесконечно повторяющимся долгожительством. Свобода от Времени, и цепляние за Время. Эта путаница — работа Врага и одна из главных причин человеческой трагедии…»[507]
И далее — о Средиземье, о месте его в мире, о его обычаях: «Будь это все просто „историей“, непросто оказалось бы подогнать земли и события (или „культуры“) к наличествующим у нас археологическим или геологическим свидетельствам касательно ближайших или удаленных областей того, что сегодня называется Европой; хотя насчет Шира, например, со всей определенностью утверждается, что он находился именно в наших краях[508]. Я мог бы подогнать подробности с большим правдоподобием, если бы история не продвинулась слишком далеко, прежде чем такой вопрос пришел мне в голову. Сомневаюсь, что от этого книга бы заметно выиграла; и надеюсь, что, со всей очевидностью, долгий, хотя и неопределенный временной разрыв (я полагаю, разрыв этот составляет около шести тысяч лет; так что мы сейчас находимся в конце Пятой эпохи, если эпохи по длине примерно соответствовали В. Э. и Т. Э. Однако я думаю, они ускорились. Сдается мне, на самом деле сейчас заканчивается Шестая эпоха, или даже Седьмая. — Прим. авт.) между Падением Барад-дура и нашими Днями вполне достаточен для „литературной убедительности“. Я так понимаю, что создал воображаемое время, однако в том, что касается места, твердо стоял на родной матушке-земле. И такой подход я предпочитаю современным тенденциям искать удаленные планеты в „космосе“»[509].
О влиянии современности:
«На самом деле „Властелин Колец“ начат был как отдельное произведение около 1937 года и продвинулся до трактира в Бри до того, как на мир пала тень второй войны. Лично мне кажется, что ни та, ни другая войны (даже атомная бомба) не повлияли хоть сколько-нибудь на сюжет и на то, как он развивался. Вот разве что на пейзажи. Мертвые болота и подступы к Мораннону отчасти обязаны Северной Франции после битвы на Сомме. А еще больше они обязаны Уильяму Моррису и его гуннам и римлянам, как, скажем, в „Доме сынов Волка“ или в „Корнях горы“»[510].
О любви Фарамира и Эовин:
«Эовин. Вполне возможно одновременно любить более чем одного человека (противоположного пола), хотя и по-разному и с разной силой. Не думаю, что чувства Эовин к Арагорну на самом деле сильно изменились; а когда оказалось, что он настолько выше нее и по происхождению, и по положению, она вполне могла продолжать любить его и восхищаться им. Он был стар, и речь тут идет не просто о физическом качестве: почтенный возраст, если ему не сопутствует физическое одряхление, может внушать тревогу или благоговение. Кроме того, сама она не была честолюбива в политическом смысле этого слова. Хотя по характеру и не „нянька“, воином или „амазонкой“ она тоже не была, но, как многие отважные женщины, в момент кризиса могла проявить великую воинскую доблесть…
Сдается мне, Фарамира Вы толком не поняли. Фарамир робел перед отцом, — и не только в том смысле, как это водится в обычной семье, где царит строгий и надменный отец с исключительно сильным характером, но и как нуменорец перед владыкой единственного сохранившегося нуменорского государства. У него не было ни матери, ни сестры (Эовин тоже росла без матери), зато был заправила-брат. Фарамир привык уступать и держать свое мнение при себе, однако умел и подчинять себе людей — как человек, который со всей очевидностью наделен личной храбростью и решимостью, но при этом еще и скромен, беспристрастен, и исключительно справедлив, и бесконечно сострадателен. Думаю, он очень хорошо понимал Эовин. Кроме того, титул князя Итилиэнского, первого среди знати после Дол Амрота в возрожденном нуменорском государстве Гондор, которому вскоре суждено было обрести имперское могущество и престиж, это вовсе не „должность огородника“…
Касательно критики того, как стремительно развивались отношения или „любовь“ Фарамира и Эовин. По собственному опыту знаю, что подобные чувства и решения зреют очень быстро (по меркам просто „часового времени“, которое, собственно говоря, сюда неприложимо) в период великого напряжения и особенно в ожидании неминуемой смерти. И я не думаю, что люди высокого положения и происхождения нуждаются во всех этих пустеньких пикированиях и авансах в вопросах „любви“. В этом предании речь идет не о временах „куртуазной любви“ с ее претенциозностью, но о культуре более примитивной (то есть менее развращенной) и более благородной»[511].
О том, что могло случиться, отними Голлум у Фродо Кольцо:
«Противостояние Фродо с Кольцом и Восьмерки можно сравнить с ситуацией, когда маленький отважный человечек, обладатель разрушительного оружия, оказывается лицом к лицу с восемью свирепыми дикарями великой силы и ловкости, к тому же вооруженными отравленными клинками. Слабость человека в том, что он пока еще не знает, как пользоваться своим оружием; при этом его характеру и воспитанию всякое насилие претит. Их же слабость в том, что оружие человека внушает им ужас как некий устрашающий объект их религиозного культа, в рамках которого их приучили угождать тому, кто таким объектом владеет. Думаю, они и выказали бы „угодничество“ и приветствовали бы Фродо как „Владыку“. Учтивыми речами они убедили бы его покинуть Саммат Наур — чтобы, например, „взглянуть на свое новое королевство и узреть вдалеке новообретенным взором оплот власти, каковой ему ныне должно объявить своим и использовать в своих целях“. А едва бы тот вышел из пещеры и принялся глазеть по сторонам, кто-то из них завалил бы вход. К тому времени Фродо, по всей вероятности, уже слишком увлекся бы великими замыслами правления и преобразования — в духе того видения, что искушало Сэма (III, 177), только куда обширнее, куда грандиознее, — чтобы это заметить. Но если бы он все-таки сохранил какую-никакую способность мыслить здраво и отчасти понял бы смысл происходящего и отказался бы отправиться с ними в Барад-дур немедля, они бы просто подождали, пока не явится сам Саурон. В любом случае, если бы Кольцо осталось целым и невредимым, Фродо очень скоро столкнулся бы с Сауроном. А в результате сомневаться не приходилось. Фродо был бы обращен в пыль или обречен на мучительную участь утратившего рассудок раба. Уж Саурон-то Кольца бы не устрашился! Кольцо принадлежало ему, подчинялось его воле»[512].
О других возможных владельцах Кольца:
«В присутствии Саурона никто, за исключением очень немногих, равных ему в могуществе, не мог даже надеяться уберечь от него Кольцо. Из „смертных“ вообще никто, даже Арагорн, хотя в споре за палантир Арагорн был законным владельцем. Кроме того, борьба происходила на расстоянии, а в произведении, где допускается воплощение могучих духов в физической и уничтожимой форме, их сила должна непомерно возрастать при непосредственном, физическом присутствии. Саурон принимал обличье человека ростом выше обычного, правда, не великана. В прежних инкарнациях он был способен скрывать свое могущество (как Гэндальф) и являл собою фигуру весьма величественную, исполненную великой мощи, и выглядел и держался он воистину по-королевски. Предположительно мог одолеть его только Гэндальф: будучи посланником Валар и существом того же чина — бессмертным духом, облекшимся в зримую физическую форму. В „Зеркале Галадриэли“ создается впечатление, будто Галадриэль считала себя способной владеть Кольцом и занять место Темного Властелина. Если это правда, значит, то же самое могли и остальные хранители Трех, в особенности — Эльронд. Но это другой вопрос. Суть мороков Кольца отчасти и состояла в том, чтобы заполонить сознание образами высшей власти. Но Великие хорошо о том подумали и отвергли такой путь, как явствует из слов Эльронда на Совете. То, что Галадриэль отказалась от искушения, было основано на предшествующих размышлениях и решении. В любом случае Эльронд или Галадриэль стали бы продолжать политику, ныне проводимую Сауроном: они построили бы империю с могучими и полностью зависимыми от них военачальниками, и армиями, и военными машинами и со временем смогли бы бросить Саурону вызов и уничтожить его силой. Поединок с Сауроном один на один, без какой бы то ни было помощи, даже не рассматривался. Можно представить себе сцену, в которой в подобном положении оказался бы, скажем, Гэндальф. Хрупкое вышло бы равновесие. На одной стороне — то, что Кольцо сохраняет верность Саурону; на другой — превосходящие силы, поскольку Саурон Кольцом уже не владеет. К тому же мощь его ослаблена, уж слишком долго он искажал и растрачивал волю. Если победителем вышел бы Гэндальф, для Саурона результат был бы тем же, что и уничтожение Кольца; для него Кольцо и впрямь было бы уничтожено, отнято навсегда. Но Кольцо и все его труды остались бы. И, в конце концов. Кольцо одержало бы верх. А Гэндальф как Владыка Кольца оказался бы, возможно, куда хуже Саурона. Он остался бы „праведным“, да только чересчур уверенным в своей праведности. Он бы продолжал управлять и распоряжаться „во благо“, во имя выгоды своих подданных, согласно своей мудрости (каковая была и осталась бы — велика)»[513].
Об энтах (онтах) и истории Средиземья:
«В историях более древних энтов нет или не было, потому что энты на самом деле явились моему взгляду, когда я дошел до главы IV Книги Третьей; я их преднамеренно не придумывал и на сознательном уровне о них даже не подозревал. Но поскольку Древобороду известно было о затонувшей земле Белерианд (к западу от гор Люн), где разворачивались боевые действия в войне против Моргота, их пришлось включить. Однако на момент встречи с хоббитами со времен войны в Белерианде минуло около семи тысяч лет, так что, вне всякого сомнения, энты были уже не те: не столь мудры, не столь сильны, более пугливы и необщительны (их собственный язык упростился, а других языков они почти не знали). Но я могу предположить одно их военное выступление, имеющее некоторое отношение к „Властелину Колец“. Это случилось в лесном краю Оссирианд, потаенном и загадочном, у западных подножий Эред Луин, где Берен и Лутиэн жили какое-то время после возвращения Берена из страны Мертвых. Берен больше не являлся среди смертных, за исключением одного-единственного раза: он перехватил воинство гномов, что спустились с гор, разорили королевство Дориат, убили короля Тингола, отца Лутиэн, и унесли богатую добычу, включая ожерелье Тингола с вправленным в него Сильмариллем. У брода через одну из Семи рек Оссира произошла битва. Сильмариль был отвоеван и перешел к Диору, сыну Берена, и к Эльвинг, дочери Диора, и к ее мужу Эаренделю (отцу Эльроса и Эльронда). Не приходится сомневаться, что к Берену пришли на помощь энты, что, конечно же, не способствовало особенной любви между энтами и гномами»[514].
О попытке написать продолжение к «Властелину Колец»:
«Я в самом деле начал повесть, действие которой происходит примерно сто лет спустя после Низвержения (Мордора. — Г. П., С. С.), но она оказалась слишком уж мрачной и тягостной. Поскольку мы имеем дело с людьми, мы неизбежно столкнемся с самой прискорбной чертой их натуры: они быстро пресыщаются хорошим. Так что во времена мира, справедливости и процветания люди Гондора сделались бы недовольными и беспокойными, в то время как королевская династия, потомки Арагорна, умалились бы до самых обыкновенных королей и управителей, вроде Денетора или даже хуже. Я обнаружил, что даже в эти ранние времена возникали революционные заговоры вокруг центра тайного сатанинского культа; а гондорские мальчишки играли бы в орков и безобразничали в округе. Я мог бы написать „триллер“ про заговор, его обнаружение и подавление, но к этому бы все и свелось. Оно того не стоило»[515].
О судьбе коня Гэндальфа:
«Думаю, Шэдоуфакс (мы скорректоровали неправильное написание имени Shadowfax в русском переводе писем. — Г. П., С. С.) наверняка отправился бы с Гэндальфом за Море, хотя об этом нигде не говорится. Мне кажется, лучше не сообщать всего (действительно, так получается более реалистично, ведь в хрониках и летописях „подлинной“ истории многие факты из тех, что любопытствущий не прочь бы узнать, опущены, так что истину приходится выяснять или угадывать, исходя из имеющихся свидетельств). Я бы рассудил так: Шэдоуфакс принадлежал к особой породе, к так сказать, эльфийскому аналогу обыкновенных коней: его „род“ пришел с „Запада из-за Моря“, так что ему „уйти на Запад“ вполне подобает. Гэндальф вовсе не „умирал“ и не отправлялся особой милостью в Западную землю, прежде чем удалиться „за пределы кругов мира“: он возвращался домой, будучи одним из „бессмертных“, ангельским посланником ангельских распорядителей (Валар) Земли. И он, конечно, взял бы с собою или, по крайней мере, мог бы взять то, что полюбил. В последний раз Гэндальфа видели верхом на Шэдоуфаксе. Он, очевидно, приехал в Гавани верхом, и невозможно представить, чтобы он ехал верхом на каком-либо ином скакуне, кроме Шэдоуфакса; так что и Шэдоуфакс наверняка там был»[516].
О порочности орков (в ответ на замечание У. X. Одена, что эта неисправимая порочность выглядит откровенной ересью с точки зрения христианства):
«Что до „Властелина Колец“, я не настолько теолог, чтобы судить, в самом ли деле мое представление об орках отдает ересью или нет. Я не чувствую себя обязанным „подгонять“ свою историю к формализованной христианской теологии, хотя на самом-то деле старался сделать ее созвучной христианской мысли и вере. И Фродо подтверждает, что изначально орки не были злом»[517].
О Галадриэли (одна читательница сравнила ее с Богоматерью):
«Пожалуй, этот персонаж действительно многим обязан христианскому и католическому учению и представлениям о Марии, но на самом деле Галадриэль была кающейся грешницей: в юности она входила в число возглавивших бунт против Валар (ангелических хранителей). В конце Первой эпохи она гордо отказалась от прощения и разрешения вернуться. Ей отпустили вину, поскольку она воспротивилась последнему, неодолимому искушению завладеть Кольцом для себя»[518].
Камилле, дочери Рейнера Анвина, которой в школе пришлось писать сочинение на тему «В чем смысл жизни?», Толкин ответил как равный равной, — ничем не подчеркивая своего превосходства:
«Уважаемая мисс Анвин! Извините, что задержался с ответом.
В чем смысл жизни? Какой глобальный вопрос! Не думаю, что „мнения“ (все равно чьи) представляют хоть какую-то ценность сами по себе, без объяснений, как человек к ним пришел; и что значит этот вопрос на самом деле.
Прежде всего, термины „смысл“ и „жизнь“ нуждаются в определении.
Речь идет о Человеке или о Вселенной? „Как мне попытаться использовать срок жизни, мне отмеренный?“ или „Какому смыслу / замыслу служит жизнь всего живого?“ Ответить на первый вопрос можно (если вообще можно) только после того, как будет внимательно рассмотрен второй.
Думаю, вопросы насчет какой-то „цели“ имеют смысл только тогда, когда речь идет об осознанных целях или намерениях представителей рода человеческого, или об использовании вещей, ими задуманных и сделанных. Что же до „прочих вещей“, их ценность — в них самих: они ЕСТЬ и существовали бы, даже если бы не было нас. Но поскольку мы существуем, одна из их функций — быть созерцаемыми нами. Если мы поднимемся по иерархии бытия до „других живых существ“, таких как, скажем, какое-нибудь мелкое растеньице, оно являет собою и форму, и структуру: „модель“, узнаваемую (при наличии вариаций) в родственных ему растениях и его же отпрысках; и это невероятно интересно, потому что эти явления — „другие“, не мы их создали, они словно бы берут начало в источнике вымысла, который неизмеримо изобильнее нашего собственного. Человеческое любопытство, конечно, задается вопросом — КАК, каким образом так вот вышло? А поскольку узнаваемая „модель“ все же предполагает некий (явный или неявный) замысел, мы переходим к вопросу — ЗАЧЕМ? Но ЗАЧЕМ (имея в виду — причины и побуждения) может относиться только к РАЗУМУ. Лишь Разум может ставить цели, неким образом сопоставимые с человеческими целями. Так что любой вопрос типа: „Отчего жизнь, сообщество живых организмов, появилась в материальной Вселенной?“ — сразу приводит к вопросу: „Есть ли Бог, Творец и Созидатель, Разум, которому сродни наши собственные разумы?“ А это приводит к религии и морально-этическим представлениям, из нее вытекающим. О таких вещах скажу лишь, что у „морали“ всегда две стороны. Исхожу из того факта, что все мы — индивидуумы (как в определенной степени все живые организмы — индивидуумы), но не живем и не можем жить в изоляции, и всегда тесно связаны со всем прочим, и делаемся все ближе к абсолютной связи с нашим собственным родом человеческим. Так что именно мораль должна служить руководством для жизни: (а) — способами, посредством которых наши индивидуальные таланты могут развиваться, так, чтобы ими не злоупотреблять и не растрачивать их впустую; (б) — не причиняя вреда нашим ближним и не мешая их развитию.
Но это — лишь ответы на меньший вопрос.
А на более значимый вопрос никакого ответа нет, поскольку здесь требуется полное знание Господа, каковое изначально недостижимо. Если мы спросим, зачем Господь включил нас в свой Замысел, то в любом возможном ответе сможем лишь сказать: да потому что — включил; и не больше. Если вы не верите в своего Бога, — вопрос „в чем состоит цель жизни?“ задавать бесполезно: ответа на него нет. Но поскольку в далеком уголке (или далеких уголках) Вселенной развились существа, наделенные разумом, которые и задают такие вопросы, и даже пытаются на них ответить, можно обратиться к одному из таких курьезных существ. Будучи одним из указанных выше существ, дерзну заявить (говоря с нелепой самонадеянностью от имени Вселенной): „Я таков, каков есть. И ничего с этим не поделаешь. Можно продолжать пытаться выяснить, что я такое, кто я такой, но преуспеть вы не преуспеете. И зачем вам это знать, понятия не имею. Возможно, жажда знания ради самого знания как-то связана с молитвами, которые некоторые обращают к тому, что называют Богом. В высшем своем проявлении они, как мне кажется, просто благодарят Его за то, что Он таков, какой есть, и за то, что Он создал то, что создал, таким, каким создал“. Те же, кто верит в своего Бога, Создателя, вовсе не считают, что Вселенная достойна поклонения сама по себе, хотя увлеченное изучение ее может оказаться одним из способов почитать Его. И пока, будучи живыми существами, мы находимся (отчасти) в пределах Вселенной, наши представления о Господе и способы их выразить будут в значительной мере почерпнуты из созерцания окружающего нас мира. (Хотя всегда были и есть откровения, явленные как всему роду человеческому, так и отдельным людям.) Так что можно сказать, что основная цель жизни для любого из нас — это умножать в меру способностей наше знание о Боге всеми доступными средствами и через него быть подвигнутыми к восхвалениям и благодарению. Поступать так, как говорим мы в „Gloria in Excelsis“ — „Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика Слава Твоя“. И в минуты наивысшего восторга мы можем воззвать ко всем тварным созданиям — присоединиться к нашему хору, говоря от их имени, как в Псалме 148 и в Песни трех отроков в огненной пещи в Книге пророка Даниила: „Хвалите Господа… горы и все холмы… деревья плодоносные и все кедры… пресмыкающиеся и птицы крылатые…“ Вот какой длинный получился ответ и в то же время слишком короткий. На такой-то вопрос!
С наилучшими пожеланиями —
Дж. Р. Р. Толкин»[519].
Толкином и его произведениями начали интересоваться профессионалы. Первой «ласточкой» (или одной из первых) стал профессор Клайд С. Килби (1902–1986) из колледжа Уитон, штат Иллинойс. Конечно, Килби не столь яркая личность, как Рой Кэмпбелл или Норман Дэвис, однако целеустремленности ему было не занимать. Научной деятельностью Килби занялся достаточно поздно — получил степень магистра в 1931 году, а степень доктора философии (заочно) в университете Нью-Йорка в 1938 году. С 1951 года заведовал английской кафедрой в Уитоне. С 1940-х годов активно переписывался с К. С. Льюисом — до самой его смерти в 1963 году. А в 1964 году Килби побывал с визитом в Оксфорде, и там ему удалось встретиться и с Толкином. Вот как он сам вспоминал об этом:
«Я в первый раз встретил Толкина в конце дня 1 сентября 1964 года. Его слава росла, и он уже пытался любым способом избегать встреч с поклонниками. У его дверей более или менее постоянно толклись всякие посетители, и телефон был занят. Причины для этого были. Звоня из Соединенных Штатов, люди иногда забывали о разнице во времени и поднимали его с постели в два или три утра…
Не без волнения я подошел к дому 76 по Сэндфилд-роуд, открыл ворота, приблизился к двери и позвонил в колокольчик. Я ждал, как мне показалось, очень долго и уже собирался уходить, когда дверь открылась и там стоял Толкин. Он, как будто это само собой разумелось, пригласил меня войти, и мы прошли в кабинет на нижнем этаже, переделанный из гаража…
Я вкратце объяснил Толкину, кто я такой, и сказал, что, подобно тысячам других читателей, люблю его великую историю и рассматриваю ее как своего рода классику. Он высмеял идею быть классиком при жизни, но, думаю, слышать это ему было приятно. После этого он как будто стал оправдываться и сказал, что некоторые считают, что он живет в мире мечты. Он сказал, что это абсолютная неправда, и объяснил, что он всего лишь — заваленный работой филолог и обыкновенный гражданин, интересующийся повседневными делами, как все другие»[520].
В 1965 году Клайд С. Килби открыл в Уитонском колледже центр по изучению творчества Толкина, К. С. Льюиса, Г. К. Честертона, Джорджа Макдональда, Дороти Сейерс, Чарлза Уильямса и Оуэна Барфилда. Сейчас этот центр называется The Marion Е. Wade Center, по имени основного спонсора. А в конце года Килби даже предложил Толкину приехать в Англию, чтобы помочь ему в работе над подготовкой «Сильмариллиона» к печати.
Толкин согласился, и лето 1966 года Килби провел у него.
В 1976 году, уже после смерти Толкина (но до выхода в свет «Сильмариллиона», подготовленного Кристофером), Килби напечатал небольшую книжку «Толкин и „Сильмариллион“», которую мы выше уже цитировали. Книжка эта до сих пор считается весьма полезным источником сведений о поздних годах жизни Толкина. Килби в ней писал: «Часто чувствовалось, что он (Толкин. — Г. П., С. С.) не успевает с достаточной скоростью и четкостью выговаривать слова — создавалось ощущение, что все его идеи одновременно пускаются в галоп, сопровождаемые калейдоскопическими сменами выражения лица»[521].
Но рассказ Килби о работе над «Сильмариллионом» многих разочаровал. Автор нарисовал образ скучного престарелого джентльмена, страдающего от избытка неожиданно свалившейся на него популярности, измученного судебными баталиями, постоянно разгоравшимися вокруг его произведений, и слишком старого и усталого для того, чтобы завершить свой гигантский труд, чего ждали от него читатели чуть ли не всего мира. По впечатлениям Килби, Толкин в те дни практически не работал — ни над «Сильмариллионом», ни над чем-либо другим. Возможно, был прав один из рецензентов, отметивший, что книге Килби повезло выйти до того, как «Сильмариллион», подготовленный к печати Кристофером Толкином, появился на прилавках книжных магазинов.
Конечно, утверждая, что Толкин в те годы ни над чем не работал, профессор Килби был не совсем прав. Именно тогда (1965–1966) был написан «Кузнец из Большого Вуттона» — последнее законченное произведение, напечатанное при жизни Толкина.
«Эта сказка возникла странным образом, — писал Хэмфри Карпентер. — Американский издатель попросил Толкина (в сентябре 1964 года. — Г. П., С. С.) дать ему предисловие к новому изданию сказки Джорджа Макдональда „Золотой ключ“. Толкин в таких случаях обычно отказывался, но на этот раз, без всякой видимой причины, вдруг согласился. Он приступил к работе в конце января 1965 года. В тот период он пребывал в особенно мрачном настроении. К тому же он обнаружил, что книга Макдональда нравится ему гораздо меньше, чем раньше. „Дурно написанная, бессвязная и вообще плохая, несмотря на то, что в ней есть несколько запоминающихся моментов“. Надо заметить, что Толкин не разделял страстной любви, например, К. С. Льюиса к Джорджу Макдональду. Ему нравились книги про Керди, но большая часть творчества Макдональда была для него отравлена аллегорией и моралью. Однако, невзирая на всю свою нелюбовь к этой сказке, он усердно взялся за дело, как будто желал доказать самому себе, что он все еще способен работать, как раньше, и может закончить начатую работу. Пытаясь объяснять юным читателям, для которых предназначалось издание, смысл слова „волшебство“, он начал предисловие так:
„Волшебство обладает немалой силой.
Даже плохому автору не дано его избежать.
Видимо, он создает свою сказку из обрывков других сказок, более древних, или из того, что сам помнит лишь смутно, и эти полузабытые вещи могут оказаться слишком могущественными, чтобы он сумел их испортить или лишить очарования. И возможно, кто-нибудь впервые встретится с ними в его глупой сказке, и увидит в них отблеск Волшебной страны, и захочет отыскать что-то лучшее. Ну а чтобы это стало понятнее, расскажу небольшую историю. Жил-был повар, который однажды задумал испечь пирог для детского праздника. Он считал, что для такого пирога главное — быть очень сладким…“»[522].
Толкин собирался изложить свой пример всего лишь в нескольких абзацах, но история начала развиваться, и вскоре Толкин понял, что перешел все границы предисловия. В первом варианте толкиновская сказка так и называлась «Большой пирог», но в конце концов Толкин выбрал для нее другое заглавие — «Кузнец из Большого Вуттона». Кстати, предисловие к сказке Макдональда так и не было закончено.
В мае 1965 года Толкин послал рукопись Рейнеру Анвину и вскоре получил от него ответ, обрадовавший его. «Я страшно рад, что „Кузнец“ Вам понравился; без Вашей помощи я никак не мог определиться на его счет»[523].
И это отнюдь не всё. Одновременно с «Кузнецом из Большого Вуттона» Толкин работал над корректурой книги «Сэр Гавейн, Перл и сэр Орфео» и над внесением изменений в текст «Властелина Колец», вызванных конфликтом с «Асе Books». Так что не всем словам Килби можно верить.
Адрес Толкина в Хедингтоне был многим известен, а телефон указан в телефонном справочнике. Одни поклонники бесцеремонно пытались фотографировать писателя прямо через окна, другие звонили в дверь, чтобы попросить автограф или (находились и такие) «одолжить» денег. И все же следует указать, что самые большие неприятности исходили вовсе не от чрезмерного энтузиазма или недостаточной цивилизованности обыкновенных читателей. Однажды среди посетителей Толкина, принадлежавших академическому миру, оказался известный архивист и библиотекарь Уильям Б. Реди (1914–1981). Мы о нем уже упоминали в предыдущей главе как об организаторе покупки рукописей Толкина университетом Маркетт в 1957 году. В авторизованной биографии Хэмфри Карпентера имя Реди упоминается всего один раз, причем не в связи с покупкой рукописей. «Побывал у Толкина и другой преподаватель с американского Среднего Запада Уильям Реди, который потом опубликовал книгу о Толкине. Толкин назвал эту книгу „хамской и оскорбительной“ и с тех пор стал вести себя с визитерами куда осмотрительнее»[524].
В жизни Толкина Уильям Реди оставил болезненный след, и это, несомненно, послужило причиной для сведения к минимуму каких-либо упоминаний о нем в авторизованной биографии, хотя сам по себе Реди был довольно яркой личностью. Его без скидок можно назвать «акулой» архивного дела. Помимо рукописей Толкина он приобрел для университета Маркетт архив философа Бертрана Рассела и коллекцию документов писателя и драматурга Сэмюэла Беккета. Архив Рассела был приобретен за немалую сумму — 520 тысяч долларов; в нем содержалось более двухсот тысяч документов, среди них тридцатистраничное письмо советского лидера Хрущева. Узнав о возможности купить этот архив, Реди организовал хитроумную операцию по получению денег — в основном у частных и государственных фондов Канады и США, а также по поиску поводов для исключения возможных конкурентов. Так, например, препятствием (скорее всего, подсказанным именно Уильямом Реди) для покупки архива одним из американских университетов стало то, что в свое время Рассел активно выступал против войны во Вьетнаме…
Узнав о коллекции писем и рукописей Сэмюэла Беккета, хранившейся у частного коллекционера в Швейцарии, Реди отлично организовал и эту покупку: он приобрел письма и рукописи буквально за несколько дней до получения Беккетом Нобелевской премии по литературе. Сам коллекционер об этом ничего не знал, а вот Реди, несомненно, располагал инсайдерской информацией…
Уильям Реди провел с Толкином гораздо меньше времени, чем Клайд С. Килби, но это не помешало ему в 1968 году издать свою собственную книгу о Толкине[525]. Как отмечал в 1971 году Ричард Уэст, еще один исследователь творчества Толкина, книга Реди повторяла с незначительными дополнениями уже известные к тому времени биографические детали. При этом многие даты, к сожалению, давались ошибочно: например, исследователь добавил шесть лет жизни матери Толкина. Печально известно и утверждение Реди о том, что Мэйбл Саффилд (мать Толкина) якобы до замужества «работала вместе со своими сестрами в качестве миссионерки в гареме султана Занзибара». Даже комментарий к книге вызывал вполне обоснованные подозрения, ведь он как бы указывал на длительные и тесные контакты между Толкином и автором книги, а сам Толкин не раз публично отрицал наличие таковых[526].
Разумеется, многие утверждения Реди были опровергнуты. В статье Вэйна Дж. Хэммонда и Кристины Скалл «Истина или последствия: история-предупреждение про изучение Толкина»[527] специально подчеркивалось, что Мэйбл Саффилд вышла замуж сразу по достижении совершеннолетия. Было бы крайне странно, если бы отец позволил своим дочерям до их совершеннолетия отправиться в какой-то Занзибар, не говоря уже о том, что султан Занзибара вряд ли бы позволил молодым английским христианкам заниматься прозелитизмом среди своих жен.
Легко понять, как глубоко был задет всем этим Толкин. Впрочем, Реди это не смутило. Он так ответил на критику его книги:
«Читатели и те, кто писал о Толкине, включая меня самого, вынуждены были пользоваться вторичными источниками информации о его происхождении, так что возникало множество фактических ошибок». Реди признавал также, что «гнев и отвращение Толкина сменили нашу дружбу, когда я опубликовал „The Tolkien Relation“, хотя я гораздо в меньшей степени агиограф, чем иконокласт. Я приветствовал Толкина как гения, и не отгораживался от него экраном, который бы не позволил некоторым несовершенствам просочиться, и ставил (критические. — Г. П., С. С.) вопросы относительно некоторых аспектов его искусства, что, конечно, не может нравиться человеку, осознающему свои годы и чудачества и предпочитающему похвалы и восхищение. „Оскорбительной и агрессивной“ назвал Толкин (в беседе с Хэмфри Карпентером. — Г. П., С.С.) мою книгу. Его гнев бы уменьшился, если бы я (как Карпентер. — Г. П., С. С.) мог работать с документами»[528].
Как бы то ни было — время прошло, споры позабылись, рукописи Толкина давно находятся в университете Маркетт и многие исследователи отправляются для работы с ними именно в США, подобно тому, как исследователи архива Бертрана Рассела отправляются в Макмастерский университет в Канаде.
Теперь уже можно другими глазами взглянуть на книгу Уильяма Реди, так рассердившую Толкина. Да, конечно, в ней есть вымыслы, причем повторяемые неоднократно, что не позволяет считать их случайной ошибкой. Реди любил перечисления, и все они, похоже, преследовали одну и ту же цель — зацепить внимание американского читателя, воспитанного на модном в те годы Фрейде. «В нечетко видимом семейном прошлом Толкина, — писал Реди, — на заднем плане где-то присутствуют Саксония, проповедничество матери у султана Занзибара, рождение в глубине вельда около Блумфонтейна, похищение черным Исааком, бегство от змеи через высокую сухую траву, жгучее солнце Африки»[529]. Реди довольно пренебрежительно отзывается о К. С. Льюисе и Ч. Уильямсе, но только для того, чтобы выделить своего героя: «Толкин достиг успеха; его друзей ждал провал»[530].
В целом книга относилась к жанру литературной критики, а не биографии. И эта критика остротой суждений — и в похвале, и в хуле — очень напоминала русскую революционную критику XIX века: Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Для современной западной литературы такая критика не характерна, возможно, потому, что за слишком резкие и личные суждения любого критика можно засудить[531]. Бывают, конечно, книги, нацеленные на скандал, но и в этом случае автор и издатель обычно предварительно советуются с юристами, взвешивая все «за» и «против». Книга Реди все же не относилась к скандальной литературе, а в конце ее автор честно предупреждал: «Эта книга о нем (Толкине. — Г. П., С. С.) ему не понравится и не для этого предназначена. Это не букет цветов, но и не кусок кирпича. Это всего лишь взгляд одного человека на другого и на его послание. Труд Толкина — великое произведение; даже недостатки этого произведения помогают ему стать единственным в своем роде вкладом в английскую литературу»[532].
Впрочем, наша книга не об Уильяме Реди. Мы просто говорим о людях, которые так или иначе были с Толкином связаны. В книжке Реди немало проницательных замечаний и почти пророческих высказываний, вызванных чтением работ Толкина. Например, он считает, что «Властелин Колец» — это прежде всего книга о Человеке, о его роли во Вселенной, хотя в центре повествования все же находятся хоббиты. Впрочем, в результате разрушения Кольца все-таки наступает эра человека:
«Толкин связывает драконов с чудовищами современности, хотя он не пишет ни слова о нашем времени. Человек не может отозвать Машину назад, и она заменяет старые формы жизни новыми. Все человеческие действия теперь подчиняются условиям, которые создают Машины. Какие-то вещи не делаются только потому, что они не нравятся Машинам. Разрушение прошлого осуществляется при помощи этих сил. Из руин поднимается новый Саурон, который всегда начинает как Человек, а потом становится Контрольным Советом, даже может вызывать образы будущего, в котором нет ни слез, ни кровавого пота. Все будет исполнено, чтобы удовлетворить желания Человека, достаточно только мигнуть, но ценой станет то, что всем будущим этого Человека отныне будет распоряжаться Совет компьютерно-ориентированный — могущественный-вне-всякого-сравнения-с-обычным-Человеком Совет. Если всё будет делаться по планам Саурона, то, в конце концов, останется только этот Совет, и он будет собираться отнюдь не в глухой чаще Лихолесья, а в устланных коврами, прослушивающихся или защищенных от прослушки конференц-залах, за сверкающими стеклянными стенами которых внизу будет сиять Город, а еще ниже — весь Мир. Даже семя Человека будет записано, проанализировано и помещено в пробирки, чтобы собрать вместе правильные составляющие, которые понадобятся в надлежащее время, прежде чем ему будет позволено оплодотворять. Аборт заменит Благословенное Событие, Эвтаназия — Соборование. Состояния окружающей среды, разработанные программистами, скореллированные со словами и звуками, будут творить поэзию, музыку, под которую танцуют, по схемам куда лучшим, чем созданные человеком в те дни, когда он танцевал от радости нового рождения, от радости нового Воскресенья. Будет даже создана музыкальная комедия о распятии»[533].
В отличие от Уильяма Реди Хэмфри Карпентер бывал в гостях у Толкина гораздо чаще, впервые явившись к нему еще весной 1967 года. В биографии Толкина (авторизованной, как уже не раз нами подчеркивалось) Карпентер подробно описал свой самый первый визит и портрет, оставленный Карпентера, несомненно, один из лучших литературных портретов писателя.
«Весеннее утро — так начал Хэмфри Карпентер. — Я выехал из центра Оксфорда через мост Магдалины, по лондонскому шоссе, поднялся на холм — и очутился в респектабельном, но унылом пригороде — Хедингтоне. У женской частной школы сворачиваю налево — на Сэндфилд-роуд, улицу, застроенную двухэтажными кирпичными коттеджами, перед каждым из которых разбит аккуратный палисадничек. Стены дома номер семьдесят шесть выбелены, и с улицы его почти не видно: его заслоняют высокий забор, зеленая изгородь и разросшиеся деревья. Ставлю машину у обочины, открываю калитку под небольшой аркой, и дорожка, вьющаяся меж роз, приводит меня к дверям. Я звоню. Довольно долго стоит тишина, доносится только шум машин с шоссе. Я уже начинаю прикидывать — позвонить мне еще раз или просто уйти, когда дверь открывается.
Меня встречает профессор Толкин.
В своих книгах Толкин придает большое значение росту, и я слегка удивлен, обнаружив, что сам он — несколько ниже среднего, не намного, но достаточно, чтобы это было заметно. Я представляюсь. О моем визите было договорено заранее, меня ждали, а потому вопросительный и немного настороженный взгляд, которым меня встретили, сменяется улыбкой. Мне протягивают руку и приветствуют крепким рукопожатием.
За спиной хозяина виднеется прихожая — маленькая, чистенькая, именно такая, какую ожидаешь увидеть в доме престарелой супружеской четы, принадлежащей к среднему классу. У. X. Оден однажды совершенно необдуманно назвал этот дом „кошмарным“ (его замечание потом цитировали в газетах), но это чепуха. Обыкновенный пригородный коттедж. Ненадолго появляется миссис Толкин поприветствовать меня. Она еще ниже мужа, аккуратная пожилая леди с гладко зачесанными седыми волосами и темными бровями. Мы обмениваемся любезностями, а потом профессор выходит на улицу и ведет меня в „кабинет“, расположенный рядом с домом.
Кабинет этот оказывается не чем иным, как бывшим гаражом. Но, конечно, машины нет и в помине — хозяин поясняет, что не держит машину с начала Второй мировой войны, а когда вышел на пенсию, вообще переоборудовал гараж под кабинет и перенес сюда книги и бумаги, которые хранил дома и в колледже. Полки забиты словарями, книгами по этимологии, по филологии на самых разных языках, но больше всего здесь книг на староанглийском, среднеанглийском и древнеисландском, а несколько полок заставлены переводами „Властелина Колец“: польский, голландский, датский, шведский, японский; к подоконнику приколота кнопками карта выдуманного им „Средиземья“. На полу — старый-престарый чемодан, набитый письмами, на столе — чернильницы, металлические перья, перьевые ручки-вставочки и две пишущие машинки. Пахнет книгами и табачным дымом. То есть тут не особенно уютно, и профессор извиняется за то, что принимает меня в гараже. В комнате, служащей ему кабинетом и спальней, объясняет он, чересчур тесно. Впрочем, говорит он, это все временно: он надеется вскоре завершить хотя бы основную часть большого труда, обещанного издателям, и тогда они с миссис Толкин смогут позволить себе переехать в дом поуютнее, в более приятной местности, подальше от докучливых посетителей. Говоря это, он несколько смущается.
Я пробираюсь мимо электрокамина и по приглашению хозяина усаживаюсь в старинное кресло. Он достает трубку из кармана твидового пиджака и принимается объяснять, почему может уделить мне не более десяти минут. В другом углу комнаты громко тикает блестящий голубой будильник, как бы подчеркивая, что время дорого. Толкин сообщает, что ему нужно ликвидировать вопиющее противоречие в одном месте „Властелина Колец“, на которое указал в письме кто-то из читателей, — дело срочное, потому что исправленное издание вот-вот пойдет в печать. Он объясняет все это очень подробно и говорит о своей книге так, будто это вовсе не что-то придуманное им, а хроника реальных событий. Такое впечатление, что он воспринимает себя не как автора, сделавшего малозначительную ошибку, которую надо либо просто ликвидировать, либо просто разъяснить, а как историка, которому предстоит пролить свет на весьма темное место в каком-то историческом документе. Похоже, при этом он думает, что я знаю книгу так же хорошо, как он сам. Это несколько выбивает меня из колеи. Нет, конечно, я книгу читал, и даже несколько раз, — но профессор говорит о деталях, о которых я не имею никакого представления или весьма смутное. Я побаиваюсь, что он вот-вот задаст мне какой-нибудь каверзный вопрос, который раскроет всю глубину моего невежества. И такой вопрос действительно задан; по счастью, он чисто риторический и не требует ничего, кроме подтверждения. Но я нервничаю. А вдруг за первым вопросом последуют другие, куда более сложные? Нервозность усиливается и оттого, что я разбираю далеко не все сказанное профессором. Голос у него странный — низкий, глухой; произношение чисто английское, но с необычным оттенком, а с каким — трудно сказать. Такое впечатление, что этот человек принадлежит иному веку или иной культуре. Он горячится, выпаливает слова залпами. Целые фразы съедаются, комкаются, теряются в спешке. Время от времени хозяин теребит губы рукой, отчего речь его становится еще менее разборчивой. Он изъясняется длинными сложноподчиненными предложениями, почти не запинаясь, — но внезапно останавливается. Следует длительная пауза. Видимо, от меня ждут ответа. Ответа на что? Если прозвучал вопрос, я его не расслышал. Но пауза кончается, профессор снова начинает рассуждать (так и не закончив предыдущего предложения) и с пафосом завершает речь. На последних словах он даже сует в рот трубку, договаривает сквозь стиснутые зубы и, поставив точку, чиркает спичкой.
Я лихорадочно пытаюсь придумать, что бы такого умного сказать.
Но профессор снова принимается говорить. По какой-то тонкой, одному ему понятной ассоциации он начинает обсуждать замечание в некоей газете, которое его разгневало. Тут я, наконец, вижу возможность поучаствовать в разговоре и вставляю что-то, что, как я надеюсь, звучит достаточно умно. Профессор выслушивает меня с вежливым интересом, но отвечает весьма пространно, подхватывая мое высказывание (на самом деле довольно тривиальное) и развивая так, что, в конце концов, мне начинает казаться, будто я и впрямь сказал что-то стоящее. Потом перескакивает на какую-то новую тему, и я снова теряюсь. Я могу лишь односложно поддакивать тут и там; однако мне приходит в голову, что, возможно, мною дорожат не только как собеседником, но и как слушателем. Во время разговора Толкин непрерывно двигается, расхаживает взад-вперед по темной комнатушке, с энергичностью, смахивающей на непоседливость. Он жестикулирует трубкой, выколачивает ее о край пепельницы, снова набивает, чиркает спичкой, раскуривает, но делает не больше нескольких затяжек. У него небольшие, аккуратные, морщинистые руки, на среднем пальце левой руки — простенькое обручальное кольцо. Одежда помята, но сидит хорошо. Ему семьдесят шестой год, под пуговицами яркого жилета — лишь намек на брюшко. Я почти все время, не отрываясь, смотрю ему в глаза. Временами профессор рассеянно обводит глазами комнату или смотрит в окно, но то и дело оборачивается — то искоса глянет в мою сторону, то, сказав что-то важное, опять вопьется в меня взглядом. Вокруг глаз — тонкие морщинки, которые непрестанно двигаются, подчеркивая любую перемену настроения.
Потом поток слов ненадолго иссякает — профессор раскуривает трубку.
Я улучаю момент и сообщаю, наконец, зачем пришел, хотя теперь цель визита кажется мне уже не столь важной. Однако Толкин реагирует на мои слова с большим энтузиазмом и внимательно меня выслушивает. Завершив эту часть разговора, я поднимаюсь, чтобы уйти, — но, очевидно, хозяин не рассчитывает, что я отбуду прямо сейчас, потому что снова начинает говорить. Теперь он рассуждает о своей мифологии. Его взгляд завороженно устремлен вдаль. Похоже, хозяин забыл о моем присутствии — он сунул трубку в рот и говорит сквозь зубы, не отпуская мундштука. Мне приходит в голову, что со стороны Толкин — вылитый оксфордский дон, рассеянный профессор, какими их изображают в комедиях. Но на самом деле он совсем не такой! Скорее, это какой-то неведомый дух прикинулся пожилым оксфордским профессором. Тело может расхаживать по тесной комнатенке в пригороде Оксфорда, но мысль — далеко отсюда, возможно, бродит по равнинам и горам Средиземья…
А потом беседа заканчивается. Меня выпускают из гаража и торжественно провожают к калитке напротив входной двери, объясняя, что ворота приходится держать запертыми на амбарный замок, чтобы болельщики, приехавшие смотреть футбол на местный стадион, не ставили машины на дорожке, ведущей к дому. К моему немалому удивлению, меня приглашают заходить еще. Правда, не в ближайшее время: они с миссис Толкин приболели, уезжают отдохнуть в Борнмут, и работа стоит вот уже несколько лет, и скопилась куча писем, на которые надо ответить. „Но вы все равно заходите!“
Профессор пожимает мне руку и потерянно удаляется в дом…»[534]
«Теперь он рассуждает о своей мифологии…»
Действительно, жизнь Толкина была отдана «Сильмариллиону».
Со студенческих лет длилась эта нескончаемая (и так и не законченная работа).
АЗАГХАЛ — царь гномов Белегоста; в Нирнаэф Арноэдиад ранил Глаурунга и был убит им.
Придуманная это личность, придуманный эпизод?
Да нет, конечно. Азагхал существовал. В воображении Толкина.
И то, что во время Нирнаэф Арноэдиад (битвы бессчетных слез) он ранил дракона, и все последующее за этим, конечно, вовсе не придуманный эпизод, а самая настоящая (для Толкина) жизнь, пусть и параллельная. Таков парадокс.
Но, работая над «Сильмариллионом», Толкин оставался типичным оксфордским доном. Он, как всегда, читал лекции, принимал экзамены, выполнял самые разные административные обязанности, с удовольствием составлял комментарии к новому изданию «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря», готовил к публикации (для Общества по изданию древних английских текстов) всякие темные рукописи, вроде упоминающейся «Ancrene Wisse» и т. д. Но главной для Толкина — всегда! — всегда оставалась работа над «Сильмариллионом».
АКАЛЛАБЕТ — «Падшая Земля», название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора.
АМОН РУД — одинокая гора в землях к югу от Брефиля; там жил карлик Мим и скрывалась шайка Турина.
ГОНД — «камень» в ГОНДОЛИН, ГОНДОР, ГОННХИРРИМ, АРГОНАФ, СЕРЕ ГОН. Название для потаенного города Тургон первоначально взял из квенийского наречия (ОНДО — ГОНД и ЛИНДЭ — «петь») — ОНДОЛИНДЭ; но в легендах была более известна синдаринская форма названия — ГОНДОЛИН (ГОНДДОЛЕН — «Потаенный Камень»).
Толкин помнил письмо своего давнего друга Дж. Б. Смита. В этом письме, полученном еще в июле 1916 года, Смит сообщал о гибели Роберта Гилсона, и это означало не просто потерю близкого друга, но потерю многих надежд на будущие достижения Великой четверки.
Толкин тогда ответил, признаться, несколько странно:
«Не могу избавиться от твердой уверенности, что не следует ставить знак равенства между тем величием, что снискал себе Роб (своей гибелью. — Г. П., С. С.), и тем величием, в котором сам он не раз сомневался. Робу отлично было ведомо, что я никоим образом не предаю свою любовь к нему, говоря, что если величие, которое со всей отчетливостью подразумевали мы трое, и в самом деле — удел ЧКБО, то смерть одного из членов клуба — это не более чем просто жестокий отсев тех, кто для этого величия не предназначен (курсив наш. — Г. П., С. С.). Дай Господи, чтобы это не прозвучало самонадеянностью. Воистину смирения у меня поприбавилось: сейчас я ощущаю себя куда более слабым и жалким, чем раньше. Величие, о котором я говорю, — это величие могучего орудия в руках Господних: величие вдохновителя, деятеля, свершителя великих замыслов или хотя бы зачинателя деяний крупных и значимых…»
И далее: «Да, ЧКБО, возможно, воплощало все наши мечты — и в итоге труды ЧКБО закончат трое или двое уцелевших или даже один (курсив наш. — Г. П., С. С.), а роль прочих Господь отведет тому вдохновению, которое, как мы отлично знаем, мы обретали и продолжаем обретать друг в друге. На это возлагаю я ныне все свои надежды и молю Господа, чтобы избранников, призванных продолжить дело ЧКБО, оказалось не меньше, чем трое».
Теперь мы знаем, что на самом деле их оказалось меньше.
Даже не двое (после смерти Гилсона и Смита), а один — Толкин.
Потому что четвертый, Кристофер Уайзмен, к сожалению, ничем особенным не обозначил свой след в истории[535].
В последние годы жизни, после выхода на пенсию, работа над «Сильмариллионом» стала для Толкина жизненной необходимостью — даже, можно сказать, долгом. Правда, в письмах, выдержки из которых приводятся ниже, чувствуется и многое другое, например, сомнения в том, что его работа будет завершена, а главное — сможет ли, успеет ли он передать другим то, ради чего работал всю жизнь.
В 1959 году Толкин писал Рейнеру Анвину:
«Я задержался с ответом на Ваше письмо от 3 декабря главным образом потому, что вновь с головой ушел в работу, в которой Вы заинтересованы. Боюсь, что Вас скорее встревожит, нежели удивит (Вам ли не знать авторских причуд — или, по меньшей мере, моих), если я скажу, что идет она не в той последовательности. С помощью моей секретарши я стремительно продвигался с переделкой „Сильмариллиона“ и т. д., и Ваше письмо сработало примерно, как если бы поводья натянули — очень вовремя, хотя и некстати. Конечно, что мне следует немедленно взяться за „Гавейна“»[536].
В 1963 году (ему же):
«Да, „Сильмариллион“ вновь разрастается в моих мыслях. (Я не имею в виду — становится больше, но — опять одевается листвой и надеюсь, что цветами.) Однако я до сих пор не закончил с „Гавейном“ и т. д. Тяжким выдался этот год, бесконечно приходилось отвлекаться, устал невероятно, и теперь этот завершающий удар — смерть К. С. Л. (Льюиса. — Г. П., С. С.)»[537].
Снова Рейнеру (1965):
«Боюсь, что среди завалов моих бумаг не найдется ничего похожего и сопоставимого по объему с этой рукописью. Неопубликованных материалов там полным-полно, но все это отчетливо принадлежит к „Сильмариллиону“ или всему тому миру»[538].
Клайду С. Килби, — который предлагал приехать в 1966 году, чтобы оказать помощь в подготовке «Сильмариллиона» для печати:
«Я никогда не был особо уверен в моем собственном труде — и даже сейчас, когда меня убеждают (не перестаю этому с благодарностью изумляться), что он имеет ценность в глазах других людей, я робею, так сказать, выставить мой воображаемый мир на суд чужих глаз и ушей — вероятно, презрительный. Если бы не поддержка К. С. Л., не думаю, что я когда-нибудь закончил бы или предложил к публикации книгу „Властелин Колец“. „Сильмариллион“ совсем другой; и, если хоть сколько-нибудь хорош, то хорош совершенно по-иному; и я, на самом деле, не знаю, как с ним быть. Я начал его в госпитале и во время отпуска по болезни (1916–1917); и с тех пор с ним не разлучался, а сейчас он в жутком беспорядке, поскольку в промежуток времени между тогда и теперь я его всячески переделывал, дописывал и перерабатывал. При содействии ученого, одновременно сочувственно и критически настроенного, как Вы, я, наверное, сумел бы подготовить часть этих материалов к публикации. Мне требуется живое присутствие рядом друга и советчика — именно то, что Вы предлагаете. Как мне представляется, вскорости я освобожусь и смогу вернуться к „Сильмариллиону“; так что июнь, июль и август в нашем распоряжении»[539].
Майклу Толкину (1970):
«С „Сильмариллионом“ я продвигаюсь отнюдь не быстро.
Домашняя ситуация, мамина доблестная, но обреченная на поражение битва со старостью и бессилием (и болью), и мои собственные годы, и необходимость прерываться из-за всяких „дел“ времени особо не оставляют. По правде, до сих пор я занимался главным образом тем, что пытался скоординировать систему имен самых ранних и более поздних фрагментов „Сильмариллиона“ с раскладом „Властелина Колец“. В моем сознании имена по-прежнему разрастаются в „истории“, но это — задача крайне сложная и запутанная»[540].
Уильяму Кейтеру (1971):
«Что до моей работы, сейчас все выглядит более обнадеживающе, нежели в последнее время; очень возможно, что уже в этом году я смогу отослать в „Аллен энд Анвин“ часть „Сильмариллиона“»[541].
Майклу Салмону (1972):
«Спасибо за Ваше письмо, такое сердечное, и за Ваш интерес к моим произведениям в целом. Однако ж ныне я — старик, что изо всех сил тщится закончить хотя бы некоторые из своих трудов. Любая дополнительная работа, пусть и пустяковая, уменьшает мои шансы когда-либо опубликовать „Сильмариллион“. Так что, надеюсь, вы поймете, отчего для меня никак невозможно тратить время на комментарии о себе самом или своих книгах»[542].
Лорду Халсбери (1973):
«Как только Вы сами выйдете на пенсию, я непременно воззову к Вам о помощи. Начинаю думать, что без нее мне не суждено произвести хотя бы часть „Сильмариллиона“»[543].
Весной 1966 года Толкин и Эдит отметили золотую свадьбу.
В Мертоновском колледже по случаю юбилея был устроен прием.
Праздновали пышно, с большим размахом. Исполнялся, в частности, цикл песен на стихи Толкина — The Road Goes Ever On. Музыку написал композитор Дональд Суон, пел баритон Уильям Элвин под аккомпанемент самого Суона. Постановка должна была напоминать праздники при дворе эльфийских королей, о которых не раз писал сам Толкин. И, кажется, это получилось.
Событием стало и чтение Толкином сказки «Кузнец из Большого Вуттона» — в зале Блэкфрайарз («Черных монахов») при Центре теологических исследований в Оксфорде.
«Я не предупредил тебя насчет моего выступления в среду вечером, — писал Толкин своему внуку Майклу Джорджу Толкину, в это время аспиранту в Оксфорде. — Думал, ты будешь слишком занят. На самом деле я не с лекцией выступил, а прочел небольшое произведение, написанное недавно и пока не опубликованное; ты его тоже сможешь прочесть, когда время будет, — „Кузнец из Большого Вуттона“, если я тебе его еще не всучил. Это мероприятие поразило меня до глубины души, равно как и устроителей всего цикла лекций — настоятеля Блэкфрайарз и главы Пьюзи-Хауса. Вечер выдался дождливым и мерзким. Но при этом в Блэкфрайарз хлынула такая толпа, что пришлось освободить трапезную (длинный зал, никак не меньше церкви), и все равно все не поместились. На скорую руку обеспечили трансляцию в коридоры. Мне рассказывали, что пришло более 800 человек. Ужасно душно было…»[544]
«Толкин с Эдит по-прежнему оставались очень разными людьми, с очень разными интересами, — писал в своей книге Хэмфри Карпентер. — Даже теперь, через пятьдесят лет супружеской жизни, отношения между ними были далеко не идеальными. Случались минуты взаимного раздражения, обид, но и великая любовь и сильная привязанность никуда не делись, а возможно, даже возросли теперь, когда семейных забот поубавилось. У них, наконец, появилось время просто посидеть и поговорить; и они много разговаривали, особенно летними вечерами после ужина, устроившись на скамеечке на парадном крыльце или в саду среди роз. Он курил трубочку, она — сигарету (Эдит пристрастилась к курению уже в старости). Разумеется, беседовали они по большей части о семейных делах, которые неизменно интересовали обоих»[545].
Консервативность Толкинов резче всего проявлялась в быту.
Телевизор — зачем? Бытовая техника в передовом американском стиле? Справимся и без техники! Готовкой и большей частью домашнего хозяйства занималась Эдит, но здоровье ее, к сожалению, ухудшалось. Артрит оказался серьезной помехой даже для работы в саду. Конечно, приходила наемная домработница, но дом был недостаточно велик, чтобы обеспечить ее постоянной работой, а поселить экономку было негде. Впрочем, найти экономку в 1960-е, даже при наличии денег, тоже было непросто, не то что в Викторианскую эпоху. Конечно, кое-что по дому Толкин делал сам, но теперь он уже не мог двигаться так легко, как раньше. К тому же, как во всех типично английских домах, спальни на Сэндфилд-роуд располагались наверху и в них надо было подниматься по довольно крутой лестнице.
Толкины решили в очередной раз переехать. На этот раз — в типично пенсионерский городок Борнмут, пляжный курорт на берегу Ла-Манша, который они хорошо знали, поскольку Эдит не раз ездила туда отдыхать, а после выхода Толкина на пенсию он и сам не раз сопровождал туда жену. Останавливались Толкины в отеле «Мирамар» на берегу моря, в кирпичном здании с белыми наличниками и колоннами, выдержанном в стиле английской сельской усадьбы, — дорогом комфортабельном отеле, в котором селились в основном представители английского «высшего среднего класса». Эдит чувствовала себя в этой среде гораздо уютнее, чем в академическом Оксфорде[546]. Окружение, материально обеспеченное и без особых интеллектуальных претензий, напоминало ей годы, проведенные в Челтнеме перед замужеством. Многие из постояльцев отеля были титулованными и богатыми, но мировая слава Толкина вполне заменяла ему титулы. Несмотря на постоянные жалобы на чрезмерные и несправедливые налоги, недостатка денег Толкины не чувствовали. К тому же «Мирамар» избавлял Эдит от хлопот по дому.
Постепенно Толкины пришли к мысли совсем переехать в Борнмут. Возможно, какую-то роль в этом решении сыграли и слова Одена: этот знаменитый поэт в 1966 году, рассказывая о знаменитом оксфордском доне на заседании Толкиновского общества в Нью-Йорке, воскликнул: «Дом, в котором он живет, просто кошмарен! Я вам передать не могу, насколько он кошмарен, и картины на стенах тоже кошмарны»[547].
Газеты процитировали Одена, и, конечно, Толкин обиделся. В этом мимолетном столкновении можно (при желании) увидеть и просто конфликт двух эстетических концепций: Толкина, любовавшегося «хоббитской» домашностью, и модернистского «эстетизма» Одена. А возможно, Оден (он эмигрировал в США в 1939 году) просто уже ориентировался на чисто американскую публику, которой всегда было трудно понять и принять странную, на их взгляд, привязанность англичан к недостатку современного комфорта.
В конце концов, Толкины купили небольшой дом в Борнмуте по адресу Лейксайд-роуд, 19, недалеко от отеля «Мирамар». Летом 1968 года супруги переехали туда. В доме было центральное отопление — большое новшество для консервативной Англии. Еще удобно было то, что дом относился к типу «бунгало», то есть в нем не было никаких лестниц, а то незадолго до переезда Толкин упал с лестницы в старом доме и несколько недель провел в больнице.
Чтобы избежать наплыва назойливых поклонников, новый адрес Толкин решил держать в секрете. Клайду С. Килби он написал: «В конце апреля и в начале мая положение дел у меня дома дошло до того предела, когда необходимо было что-то предпринять, причем быстро. Я покидаю Оксфорд и переселяюсь на южное побережье. На данный момент предполагается, что перееду я в конце месяца или в самом начале следующего. Чтобы защитить себя, я изыму свой адрес из всех справочных изданий и прочих списков. Согласно договоренности, моим адресом станет: „Аллен энд Анвин“ — для передачи такому-то; а моего настоящего адреса запрашивающим сообщать не станут. Когда все, наконец, утрясется, я выдам свой адрес тем немногим избранным, кому могу доверять и кто не станет его обнародовать»[548].
Среди всех забот Толкина радовали дети.
Да и как можно было ими не гордиться?
Майкл во время войны был награжден медалью за службу в зенитных войсках, защищавших аэродромы во время авианалетов за Англию, а Джон стал католическим священником. Кристофер же постепенно превратился в ближайшего и незаменимого литературного помощника Толкина.
На Лейксайд-роуд, 19, у Толкинов появились наконец хорошо оборудованная кухня и, кроме гостиной, столовой и двух спален, еще и рабочий кабинет. Впрочем, и гараж не остался без дела: поскольку машину Толкины не держали, его переоборудовали под библиотеку, как на Сэндфилд-роуд. Дом отапливался. На веранде можно было спокойно выкурить вечером трубку или сигарету. Калитка в дальнем конце сада выводила прямо в заросший лесом овраг, известный как Бранксомское ущелье. Каждый день к Толкинам приходила домработница, да и отель «Мирамар» всегда был под рукой — там Эдит в любой момент могла отдохнуть от домашнего быта. Когда приезжал кто-то из членов семьи или близких друзей, их тоже можно было поселить в «Мирамаре». Гонорары от переизданий и переводов «Хоббита» и «Властелина Колец» на другие языки позволяли жить гораздо свободнее, чем раньше. Прогулки по торговым заведениям, ужины в дорогих (часто меняющихся) ресторанах, черный вельветовый пиджак и цветные жилеты, сшитые по заказу, — как писал Хэмфри Карпентер, — с возрастом писатель чувства юмора не потерял. Он легко заводил дружбу с таксистами, с полицейскими, соседями, хотя никогда не забывал о классовых различиях. Викторианец в Толкине вовсе не умер: «Я не „демократ“ хотя бы потому, что смирение и равенство — это те духовные принципы, которые при любой попытке механизировать и формализовать их безнадежно искажаются. В результате мы имеем не всеобщее умаление и смирение, а всеобщее возвеличивание и гордыню, пока какой-нибудь орк не завладеет кольцом власти; тогда мы получаем — рабство».
Еще в 1943 году Толкин писал Кристоферу:
«Мои политические убеждения все больше и больше склоняются к анархии (в философском смысле, конечно; разумею под этим отмену контроля, а не усатых заговорщиков с бомбами) или к „неконституционной“ монархии. Я арестовывал бы всех, кто употребляет слово „государство“ (в каком-либо ином значении, кроме как „неодушевленное королевство Англия и его жители“), и, дав им некоторый шанс отречься от своих заблуждений, казнил бы их, если бы они продолжали упорствовать! Правительство — это всего лишь абстрактное существительное, означающее искусство и сам процесс управления; писать это слово с большой буквы или использовать его по отношению к живым людям до́лжно объявить правонарушением. Если бы люди взяли за привычку говорить: „совет короля Георга… Уинстон и его банда…“ это бы сразу прояснило мысли и приостановило жуткую лавину, увлекающую нас в „кто-то-кратию“. Как бы то ни было, человеку до́лжно изучать все что угодно, кроме Человека; а уж самое неподобающее занятие для любого и даже святых (они-то, по крайней мере, соглашались на него с крайней неохотой) — это распоряжаться другими людьми. На миллион человек не найдется ни одного, кто бы подходил для такой роли, а уж менее всего те, кто к ней стремятся. По крайней мере, проделывается это очень небольшой группкой людей, отлично знающих, кто их хозяин. Люди Средневековья были абсолютно правы, когда лучшим доводом, какой только мог привести человек в пользу того, чтобы его избрали епископом, находили этот — nolo episcopari („не хочу быть епископом“). Дайте мне короля, который интересуется главным образом марками, железными дорогами или скачками! Который обладает властью уволить своего помощника, если тот явится в брюках не того покроя! Ну и так далее, в том же духе. Но весь мир валяет дурака старым, добрым, бездарным, давно привычным способом.
Тщеславные греки умудрились выстоять против Ксеркса, однако гнусные инженеры и химики вложили теперь такую силу в Ксерксовы руки и во все государства-муравейники, что у людей порядочных, похоже, никаких шансов не осталось. Все мы пытаемся уподобиться Александру, но именно Александр и его военачальники первыми набрались восточного духа. Бедный олух вообразил (или попытался внушить людям), что он — сын Диониса и умер от пьянства. Та Греция, которую стоило спасать от Персии, все равно погибла, превратилась в нечто вроде Эллады Виши, или Эллады Сражающейся (которая вовсе даже и не сражалась), рассуждающей об эллинской чести и эллинской культуре и богатеющей за счет продажи древнего эквивалента пошлых открыток. Но особый ужас современного мира состоит в том, что весь он, треклятый, — в одном мешке. И бежать некуда. Подозреваю, что даже несчастные северные самоеды питаются консервами, а деревенский репродуктор рассказывает им на ночь сталинские сказочки про демократию и гадких фашистов, которые едят младенцев и воруют упряжных собак. Есть во всем этом лишь одна светлая сторона, это — крепнущая привычка недовольных взрывать фабрики и электростанции; надеюсь, что этот обычай, ныне поощряемый как проявление „патриотизма“, со временем войдет в привычку…
Ну да ладно, всего тебе хорошего, дорогой мой сынок. В темную пору мы родились, в неподходящее (для нас с тобой) время. Утешение только одно: родись мы в другое время, мы не узнали бы и не полюбили так сильно все то, что на самом деле любим. Думается мне, что только рыба, вынутая из воды, имеет хоть какое-то представление о том, что такое вода. Кроме того, остались же у нас еще наши маленькие мечи. „Не сдамся пред Железною Короной, не отшвырну свой скипетр золоченый!“ Задай же оркам жару, забросай их крылатыми словами, острыми стрелами — но только, прежде чем стрелять, хорошенько прицелься»[549].
Конечно, в отличие от Эдит, с точки зрения привычного круга, Толкин постоянно чувствовал себя в Борнмуте в изоляции; больше, чем на Сэндфилд-роуд. «Я себя чувствую хорошо, — писал он Кристоферу через год после переезда в Борнмут. — И все-таки, все-таки… Я совсем не вижусь с людьми своего круга, мне не хватает Нормана (Дэвиса. — Г. П., С. С.). И в первую очередь не хватает тебя»[550].
Для Толкина переезд был сознательной жертвой. Он хотел сделать счастливыми хотя бы последние годы Эдит. И, в общем, исключая неизбежные в ее (и в его) возрасте болезни, ему это удалось.
Говоря о Толкине, всегда надо помнить о его глубокой религиозности.
Он был убежденным католиком. Он хорошо помнил мучения матери, сменившей (против воли близких) конфессию, но только теперь, с годами, по-настоящему понял ее терзания — от самых высоких до «низких», бытовых. Чуть ли не каждый воскресный день Толкина начинался с поездки к мессе в церковь. В Оксфорде это была церковь Святого Алоизия, принадлежавшая ораторианцам, в Хедингтоне — приходская церковь Святого Антония Падуанского. В Борнмуте ближайшей к дому Толкинов была церковь Святого Сердца. Как утверждал Хэмфри Карпентер, Толкин рано установил для себя жесткий свод правил. Он, например, никогда не причащался, не исповедовавшись (таково правило, идущее от раннего христианства, хотя в годы Толкина оно соблюдалось все менее строго. — Г. П., С. С.), а если исповедоваться по какой-то причине не удавалось, настроение Толкина сильно падало. Так же терзали его богослужения, которые велись на английском языке, а не на латыни. Он считал латынь единственным истинным языком церкви, по крайней мере католической. Какими-то странными нитями он связывал свою религиозность, прекрасный латинский язык и страдания своей матери — это, несомненно, было его личным чувством; он был убежден, что Мэйбл Саффилд погибла по вине окружения, не понимавшего, не желавшего понимать двигавших ею мотивов.
Потеряв мать, Толкин в детстве смог опереться только на церковь (в том числе на отца Фрэнсиса). Наверное, поэтому он и в старости оставался человеком крайностей: в депрессии чувствовал себя опустошенным, в радости — забывал обо всем, что еще буквально час назад омрачало его настроение. «Хочется, чтобы добро всегда побеждало, — говорил он. — Поэтому я иногда смотрю боевики со Стивеном Сигалом. Там сразу понятно, на чьей стороне правда».
Переезд в Борнмут избавлял Толкина от постоянного нервного напряжения, вызываемого назойливыми почитателями, и, наконец, давал время для работы над «Сильмариллионом». Частично секретарские обязанности взяла на себя Джослин, жена местного доктора Дениса Толхерста, лечившего Толкинов в Борнмуте, а иногда из Лондона приезжала Джой Хилл, секретарша, которой издательство «Аллен энд Анвин» поручило заниматься почтой писателя.
И Толкин снова взялся за свой бесконечный труд. Можно представить, какой безнадежной, видимо, казалась ему поставленная им же самим задача, — ведь рукописи, с которыми он работал, позже составили 12 толстых томов «Истории Средиземья». При этом всё, что следовало написать, было уже Толкином написано. Из многих тысяч страниц всего лишь оставалось выбрать самые «правильные», поскольку параллельно существовали разные версии, написанные в разное время. О трудностях этого (простого только на первый взгляд) процесса рассказал Кристофер Толкин в «Обосновании текста» — специальном приложении к «Детям Хурина», одной из главных легенд в «Сильмариллионе»:
«Что касается структуры повествования — от бегства Турина из Дориата до пристанища разбойников на Амон Руд, — писал Кристофер, — то отец держал в уме несколько сюжетообразующих „элементов“: суд Тингола над Турином; дары Тингола и Мелиан Белегу; дурное обращение изгоев с Белегом в отсутствие Турина; встречи Турина и Белега. Отец по-разному располагал эти элементы по отношению друг к другу, часто помещая фрагменты диалогов в разный контекст, однако никак не мог свести все к некоему единому устоявшемуся „сюжету“»[551].
Многие имена (Толкин считал это чрезвычайно важным) тоже одновременно существовали в различных вариантах. Их упорядочение оказалось чрезвычайно трудной задачей. У Кристофера было больше времени и энергии, чем у отца, но и ему не всегда удавалось справиться с ней.
И все же часто удавалось:
«Внимательно сопоставив рукописи, я убедился доподлинно: отец отказался от имени Саэрос (имя эльфа, который высокомерно издевается над Турином. — Г. П., С. С.) и заменил его именем Оргол (Orgol), которое в силу „лингвистической случайности“ совпадает с древнеанглийским словом orgol, orgel — „гордость, гордыня“. Но я решил, что менять вариант Саэрос слишком поздно»[552].
Проблемой оказалось еще и то, что во «Властелине Колец» действовали персонажи, которым уделялось недостаточно внимания в «Сильмариллионе» — например, эльфийская королева Галадриэль. А энты, пастыри древ, в рукописи «Сильмариллиона» вообще нигде не упоминались. Живя в Борнмуте, Толкин кое-что сделал, чтобы исправить это положение, но временами он сам отчетливо (и с большой горечью) стал сознавать, что в таком виде «Сильмариллион» действительно вряд ли будет опубликован при его жизни…
Люди смертны. Им не дана долговечность эльфов.
Двадцать девятого ноября 1971 года в возрасте восьмидесяти двух лет умерла (приступ острого холецистита) жена Толкина — Эдит Брэтт, с которой он в любви прожил 56 лет и которая родила ему трех сыновей и дочь.
«С прискорбием сообщаю Вам, что сегодня утром скончалась моя жена, — написал Толкин своему другу Уильяму Кейтеру. — Ее мужество и стойкость (о которых Вы отзывались совершенно справедливо) всячески ее поддерживали: казалось, она уже на грани выздоровления, но внезапно приключился рецидив, с которым она тщетно боролась почти три дня. Наконец она упокоилась в мире. Я понес тяжелейшую из утрат и пока что никак не приду в себя; но мои близкие постепенно съезжаются ко мне, и многие друзья тоже. Сообщения появятся в „Таймс“ и в „Телеграф“. Я рад, что в четверг (18-го числа) Вы застали ее еще бодрой, до того, как в пятницу ночью (19-го) ей стало хуже. Я сберегу Ваше письмо от 26-го, особенно ради последних его строк. Всегда неизменно Ваш — Рональд Толкин»[553].
Мессу по покойной служил старший сын Толкинов — Джон.
Потеряв Эдит, жить с кем-то из детей Толкин не захотел. Почти без колебаний он принял приглашение Мертон-колледжа. «Дорогой мой, — написал он тотчас своему сыну Майклу. — Думаю, последние новости утешат и обрадуют тебя. Проявив исключительное великодушие (в этом, конечно, сыграл свою роль Кристофер, младший сын Толкина. — Г. П., С. С.), Мертон-колледж предоставил мне превосходнейшую квартиру (куда, по всей видимости, поместится основная часть моей уцелевшей „библиотеки“) и при этом предоставил на самых неожиданных условиях:
рента будет чисто номинальной, — совершенно пустяковая сумма в сравнении с рыночной стоимостью;
вся необходимая мебель предоставляется колледжем бесплатно — мне уже выдали огромный уилтонский ковер — шерстяной, с коротким ворсом и восточным узором. Этого ковра хватило на всю гостиную, а площадью она почти не уступает нашей большой гостиной на Лейксайд-роуд, 19;
поскольку дом 21 по Мертон-стрит юридически является частью колледжа, домашняя прислуга тоже предоставляется бесплатно — в лице смотрителя, живущего при доме и его жены в качестве экономки;
мне причитается бесплатный ланч и ужин в течение всего времени, пока я там проживаю. В общем, это составляет — за вычетом девятинедельного отсутствия — пожалование в размере где-то между 750 и 900 фунтами в год, в которые сборщикам налогов когти запустить не удастся;
колледж бесплатно предоставляет мне два телефона: для местных звонков и для звонков с добавочным номером — бесплатно; и для междугородных звонков, для которых установлен отдельный номер — за них буду платить я. Это удобно: деловые и частные звонки родным и друзьям не будут проходить через перегруженный коммутатор привратницкой. Загвоздка лишь в том, что номер неизбежно появится в телефонной книге, а не вносить его в книгу нельзя. Но если уж меня начнут слишком допекать, я установлю автоответчик;
никаких коммунальных налогов; оплата за газ и электричество — по сниженным тарифам;
и, наконец, я могу пользоваться двумя прекрасными профессорскими кабинетами (на расстоянии 100 ярдов), где всегда есть писчая бумага (бесплатная), газеты и кофе — в первой половине дня (тоже бесплатно).
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это так. Разумеется, многое зависит от моего здоровья. Сам я особой уверенности не испытываю со времен последнего октябрьского приступа, от которого окончательно оправился только после Рождества. Однако такое ощущение вызвано, возможно, в основном той огромной потерей, которую мы понесли. Я чувствую себя как бы не вполне „настоящим“, я утратил цельность; в определенном смысле мне и поговорить-то теперь не с кем. С тех пор как в юности закончилась наша трехлетняя разлука с Эдит, мы делили с ней на двоих все наши радости и горести и все наши мнения (в согласии или как-то иначе), так что я до сих пор ловлю себя на том, что думаю: „Надо рассказать об этом Эдит“, а в следующий миг, очнувшись, чувствую себя точно потерпевший кораблекрушение: вот остался я один-одинешенек на бесплодном острове под равнодушным небом, утратив огромный корабль. Помню, как после смерти матери я пытался описать такое же чувство своей кузине Марджори Инклдон, а ведь мне тогда и тринадцати не исполнилось. Я указывал на небеса и только повторял: „Так пусто, так холодно“. И я помню такую же пустоту после смерти о. Фрэнсиса, моего „второго отца“ в 1935 году. Я сказал тогда Клайву С. Льюису: „Чувствую себя так, словно реальный мир сгинул, а я, единственный уцелевший, затерян в новом, чужом для меня мире“. В 1904 году нам (моему брату Хилари и мне) нежданно-негаданно достался чудесный дар: любовь, забота и юмор о. Фрэнсиса. А через пять лет я встретил Лутиэн Тинувиэль моего собственного, личного „романа“ — с длинными темными волосами, с глазами, как звезды, и с мелодичным голосом. И вот она ушла… Раньше своего Берена… И не обладает ее Берен никакими возможностями растрогать неумолимого Мандоса в Падшем Королевстве Арды, в котором поклоняются прислужникам Моргота»[554].
И еще одно письмо — Кристоферу. Оно было начато 11 июля, но закончено только 15-го.
«11 июля.
Наконец-то я занялся маминой могилой. Мне бы хотелось сделать на ее могильной плите следующую надпись: Эдит Мэри Толкин, 1889–1971, Лутиэн. Имя Лутиэн значит для меня гораздо больше, чем бесчисленное множество любых других имен; ибо Эдит и была моей Лутиэн (и знала об этом)».
И далее:
«13 июля.
Скажи, без утайки, что ты думаешь об этом добавлении.
Я начал это письмо в глубоком потрясении, во власти сильного переживания и горя, — и вновь и вновь на меня накатывает (иногда с возрастающей силой) ужасное чувство утраты. Я надеюсь, что никто из моих детей не сочтет использование имени Лутиэн просто сентиментальной причудой. Как бы то ни было, с цитированием ласкательных прозвищ в некрологах оно ни в какое сравнение не идет. Я в жизни никогда не называл Эдит „Лутиэн“ — однако именно Эдит дала начало легенде, со временем ставшей центральной частью „Сильмариллиона“. Эта легенда пришла мне в голову на небольшой лесной полянке, заросшей болиголовом — под Русом в Йоркшире. Там, в Йоркшире, я недолгое время командовал аванпостом хамберского гарнизона в 1917 году. В те дни волосы у Эдит были черные как вороново крыло, кожа — атласная, глаза сияли ярче, нежели когда-либо, и она умела петь — и танцевать. Но теперь и эта легенда исказилась; я оставлен, и мне не дано просить перед неумолимым Мандосом…
Сейчас я ничего более к сказанному не прибавлю, но со временем хотелось бы побеседовать с тобой. Похоже, я никогда не напишу своей упорядоченной биографии. Не в моем это характере. Я выражаю свои чувства в основном через предания и мифы. Но кто-нибудь близкий мне сердцем человек должен узнать все то, что записи не увековечивают: про ужасающие страдания нашего детства, от которых мы с Эдит спасали друг друга, но так и не смогли полностью исцелить раны; про страдания, что выпали на нашу долю уже после того, как мы полюбили друг друга. Все это, наверное, поможет простить или хотя бы понять те темные моменты и превратности, что порой портили нам жизнь, — и объяснить, почему эти превратности не смогли затронуть самых глубин и омрачить воспоминаний о нашей юношеской любви. Ибо мы всегда (особенно оставшись одни) встречались на лесной поляне и столько раз, рука об руку, уходили, спасаясь от тени неминуемой смерти вплоть до нашей последней разлуки».
И еще письмо (от 11 июля):
«Вчера побывал в Хемел-Хемпстеде. За мной прислали машину, и я отправился в огромное новое (серо-белое) здание, в котором расположены офисы и магазины „Аллен энд Анвин“. Явился я туда с официальным визитом и несколько оторопел, обнаружив, что все это предприятие со множеством отделов (от бухгалтерии до рассылки) занимается в основном моими произведениями. Меня ждал восторженный прием (плюс очень хороший ланч), и я побеседовал со всеми сотрудниками, начав с совета директоров и далее по убывающей. „Бухгалтерия“ сообщила мне, что объемы продаж „Хоббита“ взлетают до недосягаемых прежде вершин. Только что поступил огромный отдельный заказ на книгу „Властелин Колец“. Когда я не выказал в полной мере ожидаемого радостного удивления, мне мягко разъяснили, что отдельный заказ на 100 экземпляров прежде считался очень неплохим (и сегодня считается таким, для других книг), но заказ на „Властелина Колец“ составил шесть тысяч экземпляров…»[555]
И письмо к Марджори Инклдон (кузине):
«Колледж отнесся ко мне с исключительной добротой и великодушием: мне дали чудесную квартиру с двумя просторными комнатами и ванной в одном из домов на Мертон-стрит, и тамошний смотритель (и его жена) заботятся о моих домашних нуждах. Я проживаю здесь в качестве почетного члена колледжа, пользуясь всеми привилегиями такового (как, скажем, бесплатный ланч и ужин за общим столом), и при этом — никаких обязанностей. Для них я, конечно, явление чисто декоративное. Часть людей здесь — действительные члены колледжа, профессора, занимающие долговременные посты, а остальные — студенты и преподаватели. <…> Уровень знаний невероятно повысился с тех пор, как я был действительным членом колледжа: они охватывают практически все отрасли науки, и почти все преподаватели (в разной степени) очень славные собеседники, хотя по большей части трудятся не покладая рук и вечно заняты. Все равно я чувствую себя ужасно одиноко и мечтаю о смене обстановки! Когда триместр заканчивается (то есть когда студенты разъезжаются), я остаюсь один в огромном доме. Смотритель — далеко внизу, в цокольном этаже, а поскольку я личность приметная и меня вечно осаждают разные незваные гости, живу я за запертыми дверями. Разумеется, „юридически“ я волен приезжать и уезжать, когда мне вздумается, однако в качестве члена совета колледжа я связан определенными обязательствами учтивости (и благодарности — за то, что был спасен из отчаянного положения), и одно из главных таких дел: это заседание всех членов совета перед началом триместра в октябре (в этом году — 11 октября). Я уже заверил ректора, что непременно буду»[556].
Но даже теперь Толкин занимался «Сильмариллионом».
Вдумывался в каждую деталь, тщательно всё разрабатывал.
К сожалению, при жизни Толкину не удалось увидеть главный труд своей жизни напечатанным — книга вышла только в 1977 году, подготовленная к печати его сыном Кристофером.
Но она вышла. Все-таки вышла. И теперь ее можно открыть на любой странице.
ОРОДРУИН — Огненная Гора в Мордоре, где Саурон сковал Кольцо Всевластья: называлась также Амон Амарт — Роковая Гора.
ПАЛАНТИРЫ — «Видящие Издалека», семь Всевидящих Камней, которые привезли из Нуменора Элендиль и его сыновья; были сделаны в Амане Феанором.
ПРИЗРАКИ КОЛЬЦА — они же назгулы, улайры; рабы Девяти колец и слуги Саурона.
ГИЛЬ — «звезда» в ДАГОР-НУИН-ГИЛИАФ, ОСГИЛИАФ (ГИЛИАФ — «множество звезд»); ГИЛЬ-ЭСТЭЛЬ, ГИЛЬ-ГАЛАД.
В 1972 году королева Елизавета II удостоила оксфордского дона (и знаменитого писателя) Джона Рональда Руэла Толкина титула кавалера ордена Британской империи 2-й степени. Орден этот дается только за особо выдающиеся заслуги перед империей, и Толкин им весьма гордился. А Оксфордский университет присвоил писателю почетную степень доктора литературы.
В 1973 году Толкин увиделся, наконец, и со своим старым другом по ЧКБО (ах, школьные дни!) Кристофером Уайзменом, который жил в Милфорде-на-Море, недалеко от Борнмута.
«Дорогой мой Крис! — написал ему Толкин 27 мая 1973 года. — Я уже много раз собирался с тех пор, как ты вытащил меня из моего логова в Борнмуте и свозил в Милфорд, написать тебе; а теперь от того, как стремительно время летит, я просто в ужасе. Ну а непосредственной причиной моего послания послужило следующее. Разбирая письма и отмечая те немногие, что стоит сохранить, я обнаружил письмо, полученное в мае 1972 года, и от кого же? Да от К. В. Л. Лайсетта, причем из Лос-Анджелеса! Письмо его полно воспоминаний о школе короля Эдуарда. Вот тебе отрывок: „Ты просто не представляешь, как я мальчишкой смотрел на тебя снизу вверх и восхищался и завидовал остроумию вашего избранного узкого круга, в который входили Дж. Р. Р. Толкин, К. Л. Уайзмен, Д. Б. Смит, Р. К. Гилсон, В. Траут и Пейтон. А я топтался на окраине, подбирая драгоценные камни. Ты, надо думать, даже не подозревал об этом моем школьническом поклонении“[557].
<…> Обосновался я в Мертоне и по-прежнему довольно бодр, хотя только недавно оправился от затянувшегося приступа, что приключился после вечеринки в честь моего 81-летия — 3 января. Ну, связывать эти события не надо. Просто по времени так совпало и вечеринка тут ни при чем! После того как мои внутренности изрядно просветили рентгеном (в целом результаты обнадеживающие), я лишился права пить любые вина и посажен на неопределенно ограниченную диету; зато мне позволено курить и поглощать алкогольную продукцию, произведенную из ячменя (то есть пиво. — Г. П.,С. С.), сколько душа пожелает. Так что, если пожелаешь поднять перчатку и ответить, буду страшно рад.
С наилучшими пожеланиями, и отдельный привет твоей жене.
Твой преданный друг — Дж. Р. Р. Толкин, ЧКБО»[558].
Толкин провел пару недель и у старшего сына Джона в его приходе в Стоук-он-Трент. Они вместе съездили в гости к младшему брату Толкина Хилари, по-прежнему жившему на ферме в Ившеме. Братья стали теперь походить друг на друга даже больше, чем в юности. Сливовые деревья за окном, с которых Хилари терпеливо собирал урожай более сорока лет, состарились и почти не плодоносили. По-хорошему, их следовало бы вырубить и насадить молодые саженцы, но Хилари для этого был уже староват. Так что братья просто разговаривали, смотрели по телевизору крикет и пили пиво — вполне обычные занятия для пожилых англичан.
Двадцать восьмого августа, во вторник, Толкин отправился в Борнмут — в гости к своему давнему другу доктору Денису Толхерсту на день рождения его жены. Чувствовал он себя не лучшим образом, поэтому ел за обедом мало, только позволил немного шампанского в честь виновницы торжества. А ночью ему неожиданно стало плохо. В частной клинике, куда доставили Толкина, врачи обнаружили сильное кровотечение — открылась язва, не замеченная при предыдущем обследовании. Врачи были уверены, что справятся с болезнью, но к субботе развился гнойный плеврит, и в ночь на воскресенье 2 сентября 1973 года оксфордский дон и знаменитый писатель Джон Р. Р. Толкин скончался.
Отпевание состоялось в Оксфорде — через четыре дня после смерти, в скромной современной церкви в Хедингтоне, где он часто бывал у мессы. Молитвы и чтения специально отобрал его сын Джон, который и служил мессу с помощью старого друга Толкина, отца Роберта Марри, и приходского священника Дорана. Проповеди не было, цитаты из произведений Толкина не звучали. А похоронили писателя рядом с его женой в католическом секторе Оксфордского кладбища.
На надгробном камне теперь было выбито:
Edith Mary Tolkien
Luthien
1889–1971
John Ronald Reuel Tolkien
Beren
1892–1973
Давным-давно, еще в XIX веке в годы правления королевы Виктории, будущий писатель Джон Рональд Руэл Толкин пришел в этот мир в далекой Южной Африке, а затем прочно обосновался в Англии, где испытал много трудностей, прошел через отчаяние и страдания. Он пришел в наш мир, когда никто ничего ни слова не знал о странной и великой стране Средиземье, а уходя, оставил эту страну обжитой, населенной многими народами, говорящими на разных языках и наречиях. Теперь его в последний путь провожали не только эльфы и гномы, не только тролли и гоблины; почтить память своего создателя пришли Фродо, Сэм, Бильбо Бэггинс и все их многочисленные родственники. Пришли бородатый человек-медведь Беорн и говорливый Том Бомбадил. И слоны-олифанты были замечены в молчаливой прощальной процессии, и злобные, но тоже опечаленные волки по обочинам, и гордые орлы в небесах, откуда, нахмурившись, смотрел вниз Илуватар. Даже кровожадные орки явились проводить его, и метался вдоль молчаливой процессии несчастный Голлум, пришептывая, постанывая: «Моя прелесссссть». И смотрел, опираясь на посох, вслед уходящему создателю (вот слово, подходящее Толкину) маг и волшебник Гэндальф, а с ним благородный Арагорн и прекрасная королева эльфов Галадриэль со своим скорбящим народом. И, как пламенные облака, плыли в небе огнедышащие драконы; и старый Древень, покряхтывая, стоял на склоне; и сам Саурон молчал; и застыли, позабыв вечный голод, серые пауки во главе с гнусной Шелоб; и ждал в Серой Гавани мудрый Кирдан Корабел, готовясь поднять паруса для Последнего — или первого? — путешествия оксфордского дона.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖОНА РОНАЛЬДА РУЭЛА ТОЛКИНА
1892, 3 января — Джон Рональд Руэл Толкин родился в городе Блумфонтейн (Южная Африка) в семье Артура Руэла Толкина и Мэйбл Саффилд.
1894, 17 февраля — там же, в Блумфонтейне, появился на свет его младший брат Хилари (Хилари Артур Руэл Толкин).
1895, апрель — из-за тяжелых климатических условий Мэйбл Саффилд увозит мальчиков в Англию; муж временно остается в Блумфонтейне.
1896, 15 февраля — Артур Толкин после тяжелой болезни умирает. Овдовевшая Мэйбл снимает недорогой домик в Сэрхоуле под Бирмингемом; она и ее сыновья прожили там четыре года.
1897, июнь — «бриллиантовый» юбилей королевы Виктории.
1900, лето — Мэйбл Саффилд из англиканской веры переходит в католическую. Оскорбленные родственники отказывают ей в финансовой помощи. Семья переезжает из Сэрхоула в более бедный Моузли (пригород Бирмингема), где Рональд поступает в школу короля Эдуарда.
1901, лето — Мэйбл с сыновьями переезжает в Кингз-Хит, еще один пригород Бирмингема.
1902, весна — там же, в Бирмингеме. Семья Мэйбл Саффилд переезжает в Эгбастон. Рональд и Хилари зачислены в католическую школу Святого Филиппа.
1903 — получив право на стипендию, Рональд возвращается в школу короля Эдуарда. Его интересуют древние языки. Мэйбл Саффилд всячески поддерживает католический священник отец Фрэнсис, впоследствии ставший опекуном ее сыновей.
1904 — в начале года врачи обнаруживают у Мэйбл диабет, несколько недель она проводит в больнице. Летом семья перебирается в деревню Реднол, и там 14 ноября Мэйбл Саффилд умирает.
1905 — отец Фрэнсис поселяет братьев Толкинов у их родной тети Беатрис Саффилд.
1908, лето — братья Толкины живут в доме миссис Фолкнер на Дачесс-роуд. Рональд знакомится с девушкой по имени Эдит Брэтт. Она старше его на три года, но это не мешает их дружбе.
1909, осень — отец Фрэнсис узнает о дружбе Рональда и Эдит и категорически запрещает Рональду встречаться с девушкой вплоть до его совершеннолетия.
1910, декабрь — Рональд получает открытую стипендию в Эксетер-колледже (Оксфорд).
1911 — с друзьями К. Уайзменом, Р. К. Гилсоном и Дж. Б. Смитом Толкин создает при школе короля Эдуарда «Чайный клуб», позже получивший приставку — «Бэрровианское общество» (ЧКБО). Члены ЧКБО самостоятельно изучали английскую литературу и готовили себя к великому будущему.
1913, январь — Рональду исполняется 21 год. Он пишет Эдит, и они восстанавливают давнюю дружбу. В феврале Толкин сдает экзамен на степень бакалавра, летом переходит на факультет английского языка и литературы. Он занимается кельтскими языками, пишет стихи и чрезвычайно увлечен финским эпосом «Калевала».
1914, январь — по настоянию Толкина Эдит переходит из англиканской в католическую веру. Официальная помолвка проходит на фоне тревожных слухов о близкой войне. 4 августа Великобритания действительно объявила войну Германии. Друзья Толкина записываются в армию: Р. Гилсон — в Кембриджширский батальон, Дж. Б. Смит — в Оксфордширскую легкую пехоту, К. Уайзмен — на флот. Толкин проходит военную подготовку в Оксфорде.
12 декабря — встреча ЧКБО (Толкина, Гилсона, Смита и Уайзмена) в Лондоне на квартире родителей Уайзмена. У Толкина она вызовет прилив поэтического творчества на мифологические темы, предвестие будущей работы над мифологией.
1915, лето — Толкин идет в армию (в то время британская армия была еще добровольческой).
1916, 22 марта — Эдит Брэтт и Рональд Толкин заключают брак, и Эдит переезжает в Грейт-Хейвуд, чтобы быть поближе к мужу, но в июне Толкин со своей частью отбывает во Францию. 1 июля в боях на Сомме погибает Р. Гилсон. В ноябре Толкин заболевает «окопной лихорадкой» и возвращается в Англию. 6 декабря во Франции умирает от ран Дж. Б. Смит.
1917, январь — во время лечения в Грейт-Хейвуде Толкин начинает работу над «Книгой утраченных сказаний», впоследствии переименованной в «Сильмариллион». Над грандиозной мифологией он будет работать до конца своих дней.
16 ноября — у Толкина рождается первый сын — Джон Фрэнсис Руэл Толкин.
1918, лето — Толкина, получившего звание лейтенанта, переводят в Хамберский гарнизон, затем в Стаффордшир. 11 ноября в 5 часов 10 минут утра в Компьенском лесу подписано перемирие. Великая война (так называли в те годы Первую мировую) закончилась. Толкин возвращается в Англию и входит в штат составителей «Нового словаря английского языка» (Оксфорд).
1920, осень — Толкин преподает английский язык в Лидском университете.
22 октября — У Толкинов появляется второй сын — Майкл Хилари Руэл Толкин.
1924 — Толкин становится профессором английского языка Лидского университета. В ноябре Эдит родила третьего сына — Кристофера Джона Руэла Толкина.
1925, июль — возвращение в Оксфорд.
1926, 11 мая — Толкин знакомится с К. С. Льюисом, преподававшим в Оксфорде средневековую литературу. На основе студенческого клуба друзья создают дискуссионное общество, названное ими «Углегрызы».
1929, 18 июня — у Толкинов родилась дочь — Присцилла Анна Руэл Толкин.
1930 — продолжая «Книгу утраченных сказаний» («Сильмариллион»), Толкин начинает писать книгу о хоббите Бильбо («Хоббит»).
1933 — Толкин и Льюис создают в Оксфорде литературно-дискуссионный клуб «Инклинги». Среди его членов ученые и писатели Уоррен Льюис (брат Клайва Льюиса), Чарлз Уильямс, Оуэн Барфилд, Чарлз Ренн, Джон Уэйн и др.
1935, 11 июня — умирает отец Фрэнсис, опекун братьев Толкинов.
1936, октябрь — Толкин заканчивает рукопись «Хоббита» и отдает ее в издательство «Аллен энд Анвин». Выходит эссе «Беовульф: чудовища и критики».
1937, 21 сентября — «Хоббит» выходит в свет.
Декабрь — Толкин набрасывает первую главу будущего «Властелина Колец».
1938 — «Хоббит» издан в США, в издательстве «Хоутон-Мифлин».
1939, февраль — «Властелин Колец» продвинулся до 12-й главы.
Март — в университете Сент-Эндрюс (Шотландия) Толкин читает лекцию «О волшебных сказках».
1 сентября — войска германского вермахта начинают боевые действия против Польши. Эти события считаются официальным началом Второй мировой войны.
1940 — оккупация гитлеровскими войсками Бельгии, Нидерландов и Северной Франции. Массированные бомбардировки Англии, реальная угроза вторжения на Британские острова. Майкл — зенитчик. Служит под Лондоном. Старший сын Джон (священник) захвачен войной в Риме, где проходил стажировку. Замедление работы над «Властелином Колец» (хранители достигли Мории).
1941,22 июня — гитлеровские войска пересекли границу СССР. Опасность вторжения на Британские острова значительно уменьшилась.
1942 — в Лондоне при бомбардировке сгорел склад с последними экземплярами «Хоббита». К осени Толкин набрасывает несколько глав из будущей третьей книги «Властелина Колец».
1943 — Толкин продолжает работу над «Властелином Колец», возвращаясь время от времени к «Сильмариллиону». В конце года работа резко замедляется. Младший сын Толкина — Кристофер — призван в британские ВВС. Первоначально он проходит тренировку на территории Англии.
1944, январь — Кристофер переведен в Южную Африку. Толкин активно переписывается с сыном и высылает ему главы «Властелина Колец», который теперь быстро движется вперед.
1945, январь — публикация в «Даблин ревю» «Листа работы Мелкина».
9 мая — капитуляция Германии.
Лето — Толкина избирают профессором английского языка и литературы в Мертон-колледже (Оксфорд).
1946, 9 июля — Толкин передал Рейнеру Анвину (сыну издателя) значительную часть рукописи «Властелина Колец» для прочтения.
1947, 31 июля — Толкин пишет Стэнли Анвину о завершении книги.
1949 — Толкин окончательно завершает рукопись «Властелина Колец» и пытается договориться с издательством «Коллинз» об издании сразу «Властелина Колец» и «Сильмариллиона». Выходит «Фермер Джайлс из Хэма».
1950, апрель — отказ (временный) от публикации «Властелина Колец» в «Аллен энд Анвин».
1952, апрель — отказ «Коллинз» от публикации «Властелина Колец» вместе с «Сильмариллионом», как хотел Толкин. В июне возобновляются переговоры с «Аллен энд Анвин».
1953 — Толкины переезжают в дом 76 по Сэндфилд-роуд в Хедингтоне (пригород Оксфорда).
1954, август — ноябрь — опубликованы первые два тома романа «Властелин Колец» — «Братство Кольца» и «Две твердыни».
1955, октябрь — опубликован третий том «Властелина Колец» — «Возвращение короля».
1959 — Толкин выходит на пенсию.
1962 — публикация «Приключений Тома Бомбадила».
1963, 22 ноября — умирает друг Толкина К. С. Льюис.
1964 — выходит в свет книга «Дерево и лист».
1965 — американское издательство «Асе Books» выпустило пиратское издание «Властелина Колец». С помощью многочисленных читателей-поклонников Толкину удалось заставить американцев извиниться и выплатить ему гонорар.
1966 — «золотая свадьба» Эдит и Толкина.
1967 — публикация «Кузнеца из Большого Вуттона».
1968 — Толкины переезжают в Борнмут — тихий пляжный курорт на берегу Ла-Манша. Толкин продолжает работу над «Книгой утраченных сказаний».
1971, 29 ноября — умерла от приступа холецистита жена Толкина Эдит Брэтт, с которой он прожил 56 лет.
1972 — Толкин возвращается в Оксфорд. Мертон-колледж предоставляет ему, как почетному профессору, отдельную квартиру. Указом королевы Елизаветы II Толкин удостоен звания кавалера ордена Британской империи. Оксфордский университет присваивает Толкину почетную степень доктора литературы.
1973 — встреча со старым другом, членом давно распавшегося ЧКБО — Кристофером Уайзменом.
28 августа — Толкин едет в Борнмут в гости к своему другу доктору Денису Толхерсту — на день рождения его жены. Ночью писателю стало плохо: открылось сильное желудочное кровотечение.
2 сентября — в ночь с субботы на воскресенье Джон Рональд Руэл Толкин скончался. Похоронен в католическом секторе Оксфордского кладбища — рядом с женой.
1976 — выходят в свет «Письма Деда Мороза». В СССР издан первый русский перевод «Хоббита».
1977 — издан «Сильмариллион», подготовленный к печати сыном писателя Кристофером Толкином.
1979 — изданы «Рисунки Дж. Р. Р. Толкина».
1982 — издан «Мистер Блисс». В СССР выходит перевод первой книги «Властелина Колец».
1983–1996 — выходят в свет 12 объемистых томов «Истории Средиземья» (НОМЕ) под редакцией Кристофера Толкина.
1989 — первое полное издание «Властелина Колец» на русском языке.
2001, лето — на аукционе выставлен на продажу за 85 тысяч фунтов стерлингов экземпляр первого издания «Хоббита». В декабре в мировой прокат выходит первая часть фильма «Властелин Колец» («Братство Кольца»). Вторая и третья части этого фильма вышли на экран в 2002 и 2003 годах соответственно.
2012–2014 — в мировой прокат выходит кинотрилогия по «Хоббиту».
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
The Hobbit: or There and Back Again («Хоббит, или Туда и обратно»). London, 1937.
Leaf By Niggle («Лист работы Ниггля») // The Dublin Review, January 1945 (позднее повесть была опубликована под одной обложкой с эссе «On Fairy-Stories» («О волшебных сказках») в составе сборника «Tree and Leaf» («Дерево и лист»). London, 1964).
Farmer Giles of Ham («Фермер Джайлс из Хэма»). London, 1949.
The Fellowship of the Ring: being the First Part of The Lord of the Rings («Братство кольца»). London, 1954.
The Two Towers: being the Second Part of the Lord of the Rings («Две крепости»). London, 1954.
The Return of the King: being the Third Part of the Lord of the Rings («Возвращение короля»), London, 1955.
The Adventures of Tom Bombadil and other verses from the Red Book («Приключения Тома Бомбадила»), London, 1962.
Once Upon a Time and The Dragon’s Visit (Стихотворения «Давным-давно» и «Визит дракона» в составе сборника «Winter’s Tales for Children:
I. Caroline Hillie». London, 1965).
Smith of Wootton Major («Кузнец из Большого Вуттона»). London, 1967.
The Road Goes Ever On and On: A Song Cycle («Ведет дорога от ворот». Стихотворения Дж. Р. Р. Толкина, положенные на музыку Дональдом Сваном). London, 1967.
Guide to the Names in The Lord of the Rings («Руководство к переводу имен во „Властелине колец“»). — В кн.: A Tolkien Compass. Ed. J. Lobdell. London, 1975.
The Father Christmas Letters. Ed. В. Tolkien («Письма Деда Мороза»). London, 1976.
The Silmarillion. Ed. C. Tolkien («Сильмариллион», под редакцией К. Толкина). London, 1977.
Pictures by J. R. R. Tolkien («Рисунки Дж. Р. Р. Толкина»). London, 1979.
Unfinished Tales of N menor and Middle-earth («Неоконченные сказания о Нуменоре и Средиземье», под редакцией К. Толкина). London, 1980.
Mister Bliss («Мистер Блисс»). London, 1982.
The Monsters and the Critics and Other Essays («Чудовища и критики и другие эссе», под редакцией К. Толкина). London, 1983.
The History of Middle-earth. Twelve volumes, all edited by C. Tolkien (История Средиземья: В 12 т., под редакцией К. Толкина).
I. The Book of Lost Tales, Part One. London, 1983.
II. The Book of Lost Tales, Part Two. London, 1984.
III. The Lays of Beleriand. London, 1985.
IV. The Shaping of Middle-Earth: The Quenta, the Ambarkanta and the Annals. London, 1986.
V. The Lost Road and other Writings. London, 1987.
VI. The Return of the Shadow. London, 1988.
VII. The Treason of Isengard. London, 1989.
VIII. The War of the Ring. London, 1990.
IX. Sauron Defeated: The End of the Third Age, the Notion Club Papers and the Drowning of Anadune. London, 1992.
X. Morgoth’s Ring: The Later Silmarillion, Part One. London, 1993.
XI. The War of the Jewels: The Later Silmarillion, Part Two. London, 1994.
XII. The Peoples of Middle-earth. London, 1996.
A Middle English Vocabulary. Oxford, 1922.
Chapter on «Philology. General Works». The Year’s Work in English Studies, vol. IV, 1923, pp. 20–37.
The Devil’s Coach Horses // The Review of English Studies, volume 1, по. 3, pp. 331–336.
Sir Gawain and the Green Knight, co-edited with E. V. Gordon, Oxford, 1925.
Some Contributions to Middle-English Lexicography // The Review of English Studies, volume 1, по. 2, 1925, pp. 210–215.
Chapter on «Philology. General Works». The Year’s Work in English Studies, vol. V, 1924, pp. 26–65. (London, Oxford University Press, 1926.)
Chapter on «Philology. General Works». The Year’s Work in English Studies, vol. VI, 1925, pp. 32–66. (London, Oxford University Press, 1927.)
Ancrene Wisse and Hali Mei had // Essays and Studies by members of the English Association, Oxford, volume 14, 1929, pp. 104–126.
The Oxford English School // The Oxford Magazine, vol. XLVIII, n. 21, 1930, pp.778–782 (Реформа программы).
The Name 'Nodens' // Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, n. IX, 1932, pp. 132–137.
Sigelwara Land parts I and II // Medium Aevum, Oxford, volume 1, по. 3 (December 1932), pp. 183–196 and volume 3, по. 2 (June 1934), pp. 95–111.
Chaucer as a Philologist: The Reeve’s Tale //Transactions of the Philological Society, London, 1934, pp. 1–70.
Beowulf: the Monsters and the Critics // Proceedings of the British Academy, 22, 1936, pp. 245–295.
Preface to Beowulf and the Finnesburg Fragment: A Translation into Modern English Prose by John R. Clark Hall, revised by C. L. Wrenn. London, 1940.
Sir Orfeo, Oxford, 1944.
The Lay of Aotrou and Itroun // The Welsh Review, vol. IV, по. 4, 1945, pp. 254–266.
«Ipplen» in Sawles Warde // English Studies, vol. XXVIII, по. 6, 1947, pp. 168–170. (With S.R.T.O. d’Ardenne.)
On Fairy-Stories // Essays presented to Charles Williams, Oxford University Press, 1947, pp. 38–89.
Ofermod and Beorhtnoth’s Death, two essays published with the poem The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthelm’s Son // Essays and Studies by members of the English Association, volume VI, 1953, pp. 1–18.
Middle English «Losenger» // Essais de Philologie Moderne, 1951, pp. 63–76. In: Biblioth que de la Facult de Philosophie et Lettres de l’Universit de Lige, fasc.129, Paris: Les Belles Lettres, 1953.
Preface to the Ancrene Riwle, translated into Modem English by M. B. Salu. London, 1955.
Ancrene Wisse: the English text of the Ancrene Riwle (introduction by N. R. Ker). London, 1962.
English and Welsh. Angles and Britons // O’Donnell Lectures. Cardiff, University of Wales Press, 1963, pp. 1–41.
Contribuition as a translator to the Jerusalem Bible. London, 1966.
Anderson D. A. (ed.). The Annotated Hobbit. London, 1988.
Carpenter H. J. R. R. Tolkien: A Biography. London, 1977 (Карпентер Х. Дж. Р. Р. Толкин. Биография. M., 2002).
Carpenter H. The Inklings: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams and their Friends. London, 1978.
Carpenter H (ed., with assistance of Christopher Tolkien). The Letters of J. R. R. Tolkien, London, 1981.
Carter L. Tolkien: A Look Behind The Lord of the Rings. N.Y., 1969.
Kilby C. S. Tolkien and the Silmarillion. London, 1976.
Colbert D. The Magical Worlds of J. R. R. Tolkien. N.Y., 2002 (Колберт Д. Волшебные миры «Властелина колец». М., 2003).
Caldecott S. Secret Fire: The Spiritual Vision of J. R. R. Tolkien. Darton, 2003 (Колдекот С. Тайное пламя. Духовные взгляды Толкина. М., 2008. Пер. С. Лихачевой).
Hammond W. G., Scull С. The Lord of the Rings: A Reader’s Companion. N.Y., 2005.
Hammond W. G. J. R. R. Tolkien. A Descriptive Bibliography. Winchester, 1993 (2 ed. 2002.)
Hooker M. T. Tolkien Through Russian Eyes. N.Y., 2003.
Olsen C. Exploring J. R. R. Tolkien’s «The Hobbit». N.Y., 2012 (Олсен К. Хоббит. Путешествие по книге. СПб., 2013).
Ready W. Understanding Tolkien and the Lord of the Rings. (The Tolkien Relation.) N.Y., 1969.
Shippey T. The Road to Middle-earth. 2nd ed. London, 1993 (Шиппи T. Эльфийская традиция. — В кн.: Дорога в Средьземелье. СПб., 2003).
White М. Tolkien: A Biography. N.Y., 2003 (Уайт М. Толкиен. Биография. СПб., 2013).
«Хоббит»
Хоббит, или Туда и обратно. Сказочная повесть. / Пер. Н. Рахмановой; худ. М. Беломлинский. Л., 1976.
Хоббит, или Туда и обратно: Сказочная повесть / Пер. Н. Рахмановой; худ. А. Шуриц. Новосибирск, 1989.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. В. А. М.; худ. Е. Б. Мартынец и др. Хабаровск, 1990.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. Н. Рахмановой; худ. Д. Гордеев. СПб., 1991.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. Н. Рахмановой; худ. Е. Селиванов, В. Терещенко. Алма-Ата, 1991.
Хоббит/ Пер. Н. Рахмановой. Новосибирск, 1991.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. Н. Рахмановой; худ. В. Галимуллин. Магадан, 1991.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. З. Бобырь; Обр. текста Ю. Баталиной, илл. А. Кытманова. Пермь, 1992.
Хоббит, или Туда и обратно / Пересказ Ч. Диксона, Ш. Деминга в пер. Л. Каминской; худ. Д. Вензел. М., 1993.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. С. Степанова, М. Каменкович; Коммент. М. Каменкович, В. Каррика. СПб., 1999.
Хоббит, или Туда и обратно / Худ. Д. Свит. М., 2000.
Хоббит / Пер. К. Королева. М.; СПб., 2000.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. К. Королева; худ. И. Олейников. М., 2000.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. Л. Л. Яхнина. М., 2001.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. А. А. Грузберга; худ. Е. Нитылкина. Екатеринбург, 2001.
Хоббит, или Туда и обратно: Сказочная повесть / Пер. И. Тогоевой. М., 2003.
Хоббит, или Туда и обратно / Пер. Н. Прохоровой; стихи в пер. М. Виноградовой; худ. Д. Гордеев. М., 2005.
«Властелин колец»
Хранители: Летопись первая из эпопеи «Властелин колец» / Сокр. пер. А. Кистяковского, В. Муравьева; стихи в пер. А. Кистяковского; послесл. В. Муравьева; рис. Г. Калиновского. М., 1982.
Хранители: Летопись первая из эпопеи «Властелин колец» / Пер. В. Муравьева (Пролог и Книга первая), А. Кистяковского (Книга вторая и все стихотворения); предисл. В. Муравьева. М., 1989.
Две Твердыни: Летопись вторая из эпопеи «Властелин колец» / Пер. В. Муравьева. М., 1991.
Возвращение Государя: Летопись третья из эпопеи «Властелин колец» / Пер. В. Муравьева. М., 1992.
Властелин колец. Ч. I. Братство Кольца. Ч. II. Две крепости. Ч. III. Возвращение Короля / Пер. Н. Григорьевой, В. Грушецкого. Л., 1991.
Властелин колец: В 2 т. / Пер. Н. Григорьевой, В. Грушецкого. М., 1993.
Властелин колец: В 3 т. / Пер. с англ. В. А. М.; Хабаровск, 1991. Повесть о Кольце: Роман: В 3 ч. / Пер. З. А. Бобырь. М., 1990.
Властители колец. Ч. I. Хоббит, или Туда и обратно. Содружество // Пер. З. И. Бобырь. М., 1991.
Властелин колец: В 3 т. / Пер., предисл., коммент. М. Каменкович, В. Каррика, С. Степанова. СПб., 1995.
Другие произведения
Дерево и лист / Пер. Н. Прохоровой, С. Кошелева. М., 1991 (Содержание: «О волшебных историях», «Лист работы Мелкина»).
Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки / Пер. с англ; сост. В. Т. Бабенко; послесл. В. Л. Гопмана; рис. Г. М. Берштейна. М., 1991 (Содержание: «Хоббит, или Туда и обратно», «Лист работы Мелкина», «Фермер Джайлс из Хэма», «Кузнец из Большого Вуттона», «О волшебных сказках»).
Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги. М., 1992 (Содержание: «Лист Никля», «Приключения фермера Джайлса», «Кузнец из Большого Вуттона», «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги», «О волшебных сказках»).
Сильмариллион / Пер. Н. Григорьевой, В. Грушецкого. СПб., 1993.
Приключения Тома Бомбадила и другие истории: Сборник / Пер. с англ.; сост. О. Неве. СПб., 1994 (Содержание: «Кузнец из Большого Вуттона», «Фермер Джайлз из Хэма», «Лист работы Мелкина», «Явление Туора в Гондолин», «Повесть о детях Хурина», «Приключения Тома Бомбадила», «Дракон прилетел», «Имрам», «Баллада об Аотру и Итрун», «Возвращение Бьортнота. Сына Бьортхельма», «О волшебных сказках»).
Полная история Средиземья в одном томе. М., 2012. Содержание: «Предыстория» (В. Муравьев), «Хоббит» (пер. К. Королев), «Властелин колец» (пер. В. Муравьев, перевод стихотворений А. Кистяковского), «Сильмариллион» (пер. Н. Эстель), «Дети Хурина» (пер. С. Лихачева).
Сказки Волшебной страны. М., 2010 (Содержание: «Роверандом», «Фермер Джайлс из Хэма», «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги»; «Кузнец из Большого Вуттона», «Лист Ниггла»).
Хоббит, или Туда и обратно; Фермер Джайлс из Хэма; О волшебных сказках. М., 2003.
Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин: Повесть о детях Хурина / Пер. С. Лихачевой; худ. А. Ли. М., 2011.
Обширную (и постоянно пополняющуюся) информацию можно найти на сайте Санкт-Петербургского Толкиновского общества: http://www.tolkien.spb.ru/ и на форуме http://www.kulichki.com/tolkien/
Превосходное представление о переводах «Властелина колец» на русский язык дает статья: Семенова Н. Пять переводов «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина // Альманах переводчика / Сост. Н. М. Демурова, Л. И. Володарская; отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 2001. С. 159–198.
См. также F. A.Q. по переводам и переводчикам Дж. Р. Р. Толкина. Составители Corwin Celebdil, Алла Хананишвили, Наталья Семенова, http://kniga2001.narod.ru/faq/