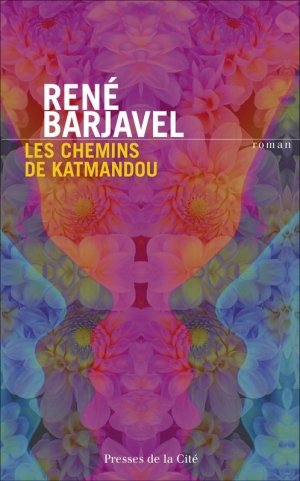
За стеной тумана полыхал пожар. Джейн видела его багровые отблески на ветровом стекле справа сверху. Расплывчатое пятно в рамке ветрового стекла походило на кадр пленки, засвеченной солнцем. Но слева и справа от машины по-прежнему медленно струился грязно-серый туман, как будто машина плыла по реке, в которую целую вечность сбрасывали отходы.
Джейн не знала, где находится, и не представляла, что могло пылать там, за туманом. Она почти забыла, кто она такая. Она больше не хотела знать ничего, совсем ничего, и пусть горит весь мир, пусть он рухнет на нее и раздавит вместе с ее головой все, что она видела, все, что слышала. Внезапно помертвевшее лицо отца, незаконченный жест изумления, слова чужой женщины, ее рука, ее смех, растерянный взгляд отца, неподвижная сцена, навсегда запечатлевшаяся, словно черно-белая фотография, в ее окоченевшей памяти.
Почему она открыла дверь его кабинета? Почему? Опрометью бросилась на улицу, кусая губы, чтобы не кричать, кинулась в свою машину, толкнулась в бампер передней машины, потом в бампер задней, проскрежетала по дверце автобуса цвета запекшейся крови и нырнула в поток серого тумана. Когда это было? Несколько часов, несколько дней тому назад? Для нее не было ни часов, ни дней, вообще не было времени. Она мчалась по улицам, останавливалась, снова трогалась с места, не сводя глаз с задних огней машины перед ней, которая тоже то двигалась, то останавливалась на дне мертвой реки, затопившей город.
Но вот сигнальные огни передней машины остановились в очередной раз и погасли. Она куда-то приехала. Красное зарево на ветровом стекле справа сверху продолжало пульсировать. Из серого потока снаружи доносились приглушенные, словно завернутые в вату, звуки: колокола, сирены, чьи-то крики, чьи-то слова. Джейн выбралась из машины, не заглушив двигателя. Это была спортивная модель с конвейера какого-то завода на континенте, красивый автомобиль лимонного цвета. Туман обволакивал его, словно чехол из грязного брезента. Джейн пошла куда глаза глядят, даже не захлопнув дверцу. Через несколько шагов оказалась на тротуаре и остановилась, наткнувшись на садовую решетку. Двинулась вдоль нее.
Джейн не ощущала ни холода, ни запаха тумана. Она шла вдоль забора, за которым был какой-то дом, потом еще и еще один. И так повторялось снова и снова, ограда, совершенно одинаковая, продолжалась бесконечно. Она не видела ни ее начала, ни ее конца, только три металлических звена одновременно в уголке левого глаза; все остальное тонуло в волнах серой реки.
Ее короткое платье из зеленого шелка, под которым у нее были только оранжевые трусики, совершенно промокло и стало почти прозрачным. Оно плотно облегало ее едва наметившиеся бедра, ее небольшие нежные груди, которые безжалостно стискивал холод. Она шла и шла вдоль ажурной железной стены. Пока не натолкнулась на темную массу, гораздо выше и шире, чем она сама. На ней остановился взгляд стоявшего вплотную мужчины. Ему показалось, что на девушке не было ничего из одежды, кроме тумана. Она хотела обогнуть его, чтобы идти дальше. Он вытянул перед ней руку. Она остановилась. Он молча взял ее за руку, довел до конца ограды, прошел вместе с ней узкой аллеей, затем спустился по нескольким ступенькам куда-то вниз, открыл дверь, легонько толкнул девушку внутрь и закрыл за собой дверь.
В темной комнате сильно пахло соленой селедкой. Мужчина повернул выключатель. На потолке под розовым абажуром вспыхнула тусклая лампочка. Слева вдоль стены стояла узкая тщательно застеленная кровать. Рисунок на белом вязаном покрывале изображал ангелов с трубами. Свисавшая с постели часть покрывала заканчивалась ромбиками с кисточками. Мужчина аккуратно сложил покрывало и повесил его на спинку стула, стоявшего в изголовье. На стуле стоял транзисторный приемник и лежала закрытая книга. Он нажал на черную кнопку приемника, и голоса поющих битлов заполнили комнату. Слушая их, Джейн ощутила что-то вроде внутреннего тепла; это была дружеская поддержка. Она неподвижно стояла у двери. Мужчина подошел, взял ее за руку, подвел к кровати и усадил. Сняв с нее трусики, уложил ее на постель, раздвинул ей ноги. Когда он лег на нее, она закричала. Он спросил, почему она кричит. Не зная, что ответить, она замолчала.
Битлы перестали петь. Вместо песни по радио теперь звучал печальный размеренный голос. Это выступал премьер-министр. Джейн молчала. Мужчина на ней негромко пыхтел, старательно отдаваясь наслаждению. Прежде чем премьер-министр приступил к плохим новостям, мужчина затих. Через несколько секунд он вздохнул, слез с нее, вытерся оранжевыми трусиками, валявшимися возле постели, подошел к столику, стоявшему возле газовой плиты, вылил в стакан остатки пива из бутылки и выпил.
Потом он вернулся к постели, осторожно прикасаясь к Джейн и бормоча что-то ласковое, заставил ее встать, поднялся с ней по нескольким ступенькам, довел до конца узкой аллеи, проделал еще несколько шагов вдоль ограды и осторожно подтолкнул в туман. Еще несколько мгновений она виднелась в белесой массе, словно зеленоватый призрак, потом пропала.
Свен находился в Лондоне уже две недели. Здесь закончился первый этап его путешествия. Он не знал города, но ему удалось найти убежище у друзей, супружеской пары немецких хиппи, которые познакомили его со злачными местами Лондона. Они сами поселились в Лондоне только потому, что это был город их юности; Свен же покинул свой дом для того, чтобы добраться до гораздо более далеких мест.
Каждый день после обеда он отправлялся в Гайд-парк, садился где- нибудь под деревом и раскладывал на газоне вокруг себя множество разных предметов: картинки с цветами и птицами, изображения Будды, Иисуса, Кришны, мусульманского полумесяца, печати Соломона, свастики и египетского креста, там были и другие портреты и религиозные символы, нарисованные им самим на листках разноцветной бумаги, а также фотографии Кришнамурти, молодого и красивого, словно Рудольф Валентино, и Гурджиева, выделявшегося гладко выбритым черепом и казацкими усами. Эти пестрые бумажки казались цветами на зеленом газоне и соответствовали, по его представлениям, радостно цветущему многообразию Единой Истины. Истины, в существовании которой он был уверен и которую мечтал познать. В этом заключались смысл его существования и цель его путешествия. Он оставил родную Норвегию, чтобы отправиться искать Единую Истину в Катманду. Лондон был первой остановкой на его пути. Катманду находился на другом краю Земли. Чтобы продолжать путешествие, ему нужно было иметь хотя бы немного денег. Среди его разукрашенных бумажек лежала дощечка с надписью: «Возьмите картинку и оставьте монетку для Катманду». Он ставил на дощечку пустую консервную банку и садился на траву, опираясь спиной на ствол дерева. Затем начинал петь написанные им самим песни, лаская струны гитары. Это были песни почти без слов, и в них постоянно повторялось: Бог, любовь, свет, птицы, цветы. Для него все эти слова означали одно и то же. И их общий смысл он надеялся обнаружить в Катманду, самом святом городе мира, где встречались все религии Азии.
Проходившие мимо англичане не представляли, где находится Катманду. Некоторые были убеждены, что слово, написанное на дощечке, было именем парня со светлой бородкой и длинными волосами, красивого, каким должен был быть Иисус-подросток в самые загадочные годы своей жизни, когда никто еще не знал, кем он был. Может быть, он просто таился в те годы, спасая свою жизнь, слишком нежный и слишком прекрасный, пока не стал человеком достаточно жестким, за что его прибили к кресту. Несколько секунд прохожие вслушивались в ностальгическую песню, из которой понимали только несколько слов, хотя там других и не было. Они разглядывали парня, светлого и красивого, с короткой золотистой бородкой, с длинными волосами. У его гитары был стерт лак в том месте, по которому он отстукивал ритм пальцами правой руки, а вокруг себя он аккуратно разложил картинки, раскрашенные в десятки цветов. Прохожие чувствовали, что нечто непонятное ускользало от их понимания. Покачав головой и испытывая нечто вроде угрызений совести, они бросали в консервную банку несколько монеток прежде чем уйти и быстро забыть как облик этого парня, так и мелодию его песни, чтобы ничем не нарушить привычное течение своей жизни. Некоторые поднимали с земли раскрашенный клочок бумаги и уходили, не представляя, зачем они это сделали. Теперь, лишившись соседства других листков, он казался не таким уж жизнерадостным. Он был как цветок, бесцельно сорванный с клумбы, который, оказавшись в руках, становится какой-то бесполезной мелочью, к тому же, умирающей. Они уже жалели, что взяли эту бумажку, но не знали, как от нее избавиться. Одни складывали ее и совали в карман или в сумочку. Другие торопливо бросали ее в мусорную урну.
Иногда женщины, в большинстве не очень молодые и усталые, пристально смотрели на Свена и завидовали его матери. Потом они наклонялись и опускали в консервную банку серебряную монету.
Мать Свена не знала, где сейчас находится ее сын. И не очень старалась узнать. Он был достаточно взрослым, чтобы делать то, что ему хочется.
Сегодня после полудня он устроился на своем обычном месте. Он разложил вокруг себя пестрые картинки, фанерку с надписью и пустую банку и начал петь. Внезапно на него опустился туман. Он сложил свое имущество, натянул на голову капюшон куртки и продолжал петь, но не потому, что надеялся заработать какую-нибудь мелочь, а потому, что петь нужно даже в тумане. Струны его гитары ослабли от влажности, и мелодия стала минорной и меланхолической. Течение медленной реки поднесло к нему тело Джейн. На уровне глаз перед ним проплыли оборки платья утопленницы, ее мокрые стройные ноги и бессильно повисшая рука. Он поднял взгляд, но верхняя часть туловища и лицо растворились в серой воде. Он схватил ледяную руку в тот момент, когда она уже почти исчезла. Вскочив, он открыл для себя лицо Джейн. Оно походило на цветок, раскрывшийся в сумерках и убежденный, что вокруг него существует только ночь. В одно мгновение Свен понял, что он должен подарить этому цветку солнце. Он снял куртку, набросил ее девушке на плечи и старательно застегнул, передав девушке сохраненное курткой тепло своего тела.
Г-н Сеньер приподнялся, опираясь на локоть, и попытался сесть на краю кровати. Ему это не удалось. Вся масса Земли навалилась ему на живот, вдавливая в матрас. Но что с ним? Что у него там, в животе? Нет, это, конечно, не… Это не то, что… Стоп, нельзя даже в мыслях произносить это слово. Врач сказал, что это энтеро… Что-то вроде этого. Уплотнение, воспаление. В общем, болезни, которые излечивают. Но не. Не думать об этом. Нужно лечиться, нужно потерпеть, быстро не получится. Но сегодня все излечивают, медицина способна на все. Прогресс, как-никак. Сейчас не те времена, когда врачи не умели. Они проверяли пульс. «Покажите язык». Представить только, язык! Можно только пожалеть тех, кто жил раньше. Сейчас лечат по-настоящему. Врачи получают образование. Они знают, что надо делать. Мне ведь делали анализы. Они прекрасно разобрались, что это не. Доктор Вире — это замечательный доктор. Молодой, энергичный.
Г-н Сеньер взглянул на ночной столик, на котором стопками возвышались коробки с лекарствами, образуя уменьшенную копию небоскребов Нью-Йорка. Г-н Сеньер прочитал все проспекты, находившиеся в коробках. Там было много слов, которые он не только не понял, но даже прочитал с трудом. Но врачи, они понимают. Они ведь учились, так что все знают, все понимают. Они лечат вас. Проспекты пишут ученые, это дело серьезное. Врачи, ученые — это прогресс. Современность. С ними ты ничем не рискуешь.
Г-н Сеньер опустился на постель. Лицо у него покрылось капельками пота. Его огромный живот отказывался подчиняться. И он уже не был уверен, есть ли у него ноги там, на другом конце живота. Он позвал мадам Мюре, домработницу. Но кухня, где мадам Мюре занималась завтраком, была заполнена Мирей Матье, изливавшей жалобы своим медным голосом, потому что мужчина, которого она любила, уезжал на поезде. Она кричала ему вслед, что никогда его не забудет, что будет ждать его всегда, все дни и все ночи. Но мадам Мюре хорошо знала, что он не вернется. Если мужчина уезжает на поезде, не оборачиваясь, значит, этот мужчина не вернется. Она покачала головой, попробовала белый соус и добавила в него немного перца. В это время Мирей закончила свои рыдания. На доли секунды образовалась пауза, и мадам Мюре услышала призыв г-на Сеньера.
Она взяла с полки свой транзистор и распахнула двери в комнату. Это был замечательный транзистор, японского производства, в кожаном футляре с дырочками с одной стороны, что делало его немного похожим на дуршлаг. Транзистор подарила ей Мартин. Сама она никогда бы не решилась купить такую вещь. Ей всегда приходилось считать каждый франк. Мать Оливье частенько запаздывала с очередным переводом. К счастью, с тех пор, как г-н Сеньер заболел, и так как мадам Сеньер была занята в лавке, ее наняли на целый день по четыреста франков за час, и последнее время она неплохо зарабатывала. Кроме того, ей полагался обед. Вечером она могла забрать с собой все, что оставалось в кастрюле, чтобы накормить Оливье. Вернувшись домой, она ставила кастрюлю на газ и добавляла туда соуса или несколько картофелин, как будто только что приготовила это блюдо для них двоих. И это всегда было очень вкусно. Она была хорошей кулинаркой. Оливье не обращал внимания на это ее достоинство, он привык к хорошей кухне и считал ее чем-то обычным. Сейчас он почти стал мужчиной, таким красивым, таким милым. Ей так повезло с внуком, это большое счастье.
Она никогда не расставалась со своим транзистором. С того момента, как он появился, она не чувствовала себя одинокой. Теперь она больше не встречалась с жуткой тишиной, когда нужно было думать. Теперь вокруг нее постоянно кипела жизнь. Разумеется, новости не всегда были хорошими, но известно, что мир таков, каков он есть, его не объясняют, в нем ничего не изменишь, главное — хорошо делать то, что ты обязан делать, и не причинять никому зла, и если бы все так вели себя, дела никогда не шли бы наперекосяк. Кроме того, в транзисторе были песни, юноши и девушки, такие юные, поющие круглые сутки. Они согревали ей сердце. Сама она не умела петь. Поэтому она слушала. Время от времени, когда очередной певец в очередной раз исполнял песню, которую она уже много раз слышала, она позволяла себе увлечься и начинала мурлыкать слова песни вместе с ним. Но быстро останавливалась. Она знала, что у нее не слишком красивый голос.
Хор дикторов ворвался вместе с ней в комнату г-на Сеньера.
«Только в паштетах Птижан есть питательная добавка!»
Г-н Сеньер застонал.
— Вы не могли бы заставить эту штуку замолчать хотя бы на минуту?
— Конечно, конечно, — согласилась мадам Мюре. — Сейчас я его выключу. У нас что-нибудь не в порядке?
«Благодаря нашей добавке паштеты Птижан невероятно питательны, но не приводят к полноте!»
— Сходите за моей женой, мне нужно судно.
— Разве вы не знаете, что сейчас час пик. К тому же, она едва справляется в лавке с двумя девчонками. Я сама подам вам судно.
Она поставила транзистор на ночной столик рядом с небоскребами из коробочек с лекарствами.
— Когда человек болен, какой может быть стыд? Повернитесь на бок. Еще, еще немножко. Все, можете лечь на спину. Вот и все!
«Благодаря питательной добавке, которая разрушает крахмал, паштеты Птижан насыщают вас, не перегружая клетки вашего тела!»
— Хотелось бы попробовать этот паштет, — сказала мадам Мюре. — Я попрошу мадам Сеньер принести пакетик из лавки. Это как раз то, что нужно вам с вашим животом.
Теперь песню трагическим голосом исполняла Далида. Ее тоже бросили. Можно подумать, что бедные женщины существуют только для того, чтобы их бросали.
«Может быть, стоит взять баночку паштета Птижан для Оливье, — подумала мадам Мюре. — Если добавить тертого сыра и приличный кусочек масла.» Оливье нужно пополнеть. Он быстро вырос и много работает. Ей так хотелось, чтобы он прибавил в весе.
Оливье остановился. На газоне справа от него что-то шевелилось. Бледное трепещущее пятно на темном фоне тронутой морозом травы словно цеплялось за последние проблески света перед окончательным наступлением сумерек. Это был раненый голубь, попытавшийся спастись, когда он приблизился. Оливье осторожно подобрал его. Его пальцы погрузились в теплые перья, и он уловил тревожное биение сердечка. Он приоткрыл свою канадку из коричневой ткани и спрятал перепуганную птицу в сохраняемое шерстью тепло.
Небо было светлым; ночь ожидалась холодной. Оливье просунул правую руку под куртку, чтобы удержать голубя, который едва не выпал, и направился к дому Патрика. Он уже был однажды поблизости, сопровождая приятеля, когда они шли пешком с юридического факультета. Патрик сдержанно улыбался, когда Оливье с пылом излагал свои мысли о том, что нужно все вокруг разрушить и создать заново. Сначала разрушить абсурдный мир несправедливости, а затем вместе со всеми построить новый мир. Родители Патрика жили на краю Марсова поля. Оливье еще ни разу не заходил к ним. Он нажал на кнопку звонка левой рукой.
Ему открыл Андре, личный секретарь мадам Вибье.
Господина Патрика еще не было дома, но он должен был скоро прийти.
Андре пошел предупредить мадам Вибье, что друг ее сына ждет его в салоне. Она положила шариковую ручку на стол и сложила очки. Мадам занималась тем, что редактировала свою речь, которую должна была произнести послезавтра в Стокгольме. Она попросила Андре позвонить мистеру Кобану в ЮНЕСКО, чтобы уточнить цифры сбора риса в Индонезии в 64-м и 65-м годах и попытаться раздобыть цифры урожая в 66-м году. Мадам Вибье знала, что была слишком лирической натурой, ее фразы не всегда были достаточно строгими. А участникам конгресса нужны прежде всего факты. Вернуться в Париж она собиралась во вторник самолетом, который прилетал в 9 часов утра. Андре должен был подготовить ответы на пришедшие за это время письма, ну, хотя бы на те, на которые сможет. У нее будет мало времени, потому что в 5 часов вечера должна лететь в Женеву. А у нее еще назначена встреча на 2 часа у Кариты.
— Получается, что Вы не сможете повидать месье? — спросил Андре. — Он вернется не раньше среды.
— Мы встретимся с ним в воскресенье в Лондоне, — сказала она. — Может быть, Патрик пригласит гостя пообедать. Предупредите Мариэтт. Да, вино, которое мы пили в обед, было неважным. Его поставил нам Фурке?
— Да, мадам.
— Позвоните, пусть заберет его назад, я такого не хочу. Если у него нет хорошего божоле, пусть пришлет легкое бордо без резкого вкуса винограда, вино на каждый день. Но когда я говорю про вино на каждый день, это не означает, что это бог весть какое вино!
Она встала, чтобы посмотреть на приятеля сына. Ей нравилось общаться с молодежью. Но с Патриком никакие контакты были невозможны. Когда она пыталась побеседовать с ним, он смотрел на нее с легкой улыбкой, словно все, что она говорила, не имело никакого значения. На все ее слова он мягко отвечал: «Да, мама», так что в конце концов она замолкала, обескураженная.
Почти точно посреди салона, прямо на полу, на краю китайского ковра, стояла большая старинная ваза бледно-зеленого фарфора с розами. Рядом располагался клавесин бледно-зеленого цвета, расписанный гирляндами роз. Войдя в салон, Оливье направился к цветам и наклонился над ними, но большие цветы на длинных стеблях ничем не пахли. Между двумя окнами с видом на Эйфелеву башню и дворец Шайо, на низком столике стоял еще один букет. Он был составлен из сухих цветов, пальмовых листьев и перьев; на вершине букета сидела птица с переливающимся оперением, раскрывшая крылья, словно бабочка.
Над букетом сухих цветов висел Гоген с фиолетовыми и пурпурными женщинами и желтой лошадью, над клавесином — купальщица Ренуара, вся залитая солнцем, посреди стены напротив окон — большой портрет строгого кардинала в красном; краски на нем немного потрескались.
Глядя на портрет, Оливье нашел у кардинала глаза и нос Патрика, и когда появилась мадам Вибье, ему показалось, что в салон вошел сам кардинал, только коротко подстриженный, без бороды и без мантии.
Он встал. Мадам Вибье направилась к нему, улыбаясь и протягивая руку. Патрик быстро вытащил из-под полы куртки правую руку, в которой держал голубя, переложил его в левую руку и протянул правую мадам Вибье.
Его правая рука была в крови, а голубь в левой был мертв.
— Боже мой, — воскликнула мадам Вибье, — вы охотитесь на голубей?
— Как охочусь? — ошеломленно пробормотал Оливье.
— Бедная птичка! Какой ужас!
Мадам Вибье прижала руку к груди, не отводя взгляда от голубя, головка которого, с раскрытым клювом и помутневшим глазом, свисала между большим и указательным пальцами Оливье.
Оливье почувствовал, что его лицо стало багровым от смущения и гнева. Как можно было подумать, что он. Его уши пылали. Он швырнул голубя к ногам кардинала и в несколько шагов пересек салон. У выхода он ошибся дверью, сунулся в гардероб, потом в кабинет, наконец обнаружил нужную дверь, скрытую портьерой сливового цвета, хлопнул дверью, добежал до середины Марсова поля, потом до Военного училища. Здесь он почувствовал, что ледяной воздух обжигает ему легкие. Он закашлялся и остановился.
— А что, по-твоему, она могла подумать? — спросил Патрик. — Поставь себя на ее место.
Он смотрел на Оливье дружелюбно, слегка иронично. Они сидели на террасе кафе. Оливье пил апельсиновый сок, тогда как Патрик заказал минеральной воды.
Патрик был очень похож на свою мать; можно сказать, он был ее уменьшенной копией. Такой же высокий, как мать, он был слишком тощ. Казалось, что жизненные силы рода исчерпались после того, как построили его скелет, вытянутый кверху. И у них ничего не осталось, чтобы нарастить плоть на этот костяк. Его светлые волосы были подстрижены почти «под ноль» с короткой прядкой спереди. Очки без оправы сидели на большом тонком носу со следами перелома, слегка свернутом набок, точно так, как у матери и у кардинала. На месте зажившего перелома сквозь тонкую кожу слегка просвечивала кость. Большой рот, бледные губы, любящие жизнь. Они могли бы принадлежать гурману, если бы под кожей было больше крови. Небольшие уши идеальной формы. Девичьи уши, как в шутку говорила мать. Одно ухо, каждый раз другое, было более розовым, в зависимости от солнца или от направления ветра. Улыбка открывала идеально белые зубы, слегка прозрачные на концах. Они казались новыми и хрупкими.
При всей бледности, худощавости и хрупкости в нем неожиданно проявлялось нечто твердое: взгляд карих глаз, необычно внимательный и живой.
— Что ты делал сегодня дома? — спросил он.
— Карло только что сказал мне, что ты уезжаешь, я подумал, что ты еще можешь изменить планы.
— Ты же знаешь, что я давно все решил.
— Я всегда думал, что это просто слова, но когда узнал, что ты на самом деле уезжаешь.
— Да, я еду завтра.
— Ты свихнулся! Их же восемьсот миллионов!
— Пятьсот!
— Пусть пятьсот. И ты считаешь, что этого недостаточно? Что им нужен еще ты, чтобы копать колодцы?
— Там, куда я еду, все именно так.
— Глупости! Ты едешь не для них, а для себя. Ты просто хочешь сбежать, ты дезертируешь.
Совершенно спокойный Патрик, слегка улыбаясь, смотрел на Оливье.
— Все что мы делаем, мы делаем прежде всего для себя. Даже Иисус на кресте. Он был не очень доволен тем, какими стали люди. Это постоянно терзало его. И он сделал так, чтобы его распяли, чтобы избавиться от душевных мук. Конечно, физически он страдал, но зато потом смог обрести покой.
— И ты думаешь, что Бог все еще спокоен, наблюдая за нами со своего облака? Он спокоен, твой бородач?
Улыбка исчезла с лица Патрика.
— Не знаю. Не думаю, что. — Он повторил едва слышно: — Не думаю, что. — Он стал крайне серьезным и пробормотал: — Наверное, он снова страдает. Наверное, нужна новая жертва.
— Не смеши меня, — бросил Оливье. — Ты просто хочешь сбежать от нас в Индию, ты всегда исчезаешь в нужный момент, бросаешь всех.
— Я совсем не нужен вам. Здесь хватает крепких парней.
— Согласен! Чтобы наломать дров, когда мы возьмемся за дело, ты нам не нужен. Но таких типов, как ты, всегда будет не хватать, когда придется строить все заново. Нужно будет придумывать что-то совершенно новое! Ты слышал, Коэн говорил вчера вечером, что нужно будет создать новые основы! Самое главное, это определить отношения человека с.
Патрик зажал уши руками. Он сморщился так, словно слышал скрежет железа по стеклу.
— Прошу тебя, — сказал он. — Все это слова и слова, разговоры и снова разговоры! Они меня переполнили, я не могу ничего больше слышать, у меня ваши слова уже выливаются из ушей!
Он вздохнул и отпил глоток минералки.
— Разговоры? Это совсем не разговоры, — сказал несколько озадаченный Оливье. — Просто нужно.
— Ладно, хватит, — спокойно произнес Патрик. — Каждый раз, когда отец с матерью дома, я слышу, как они говорят о мерах, которые нужно предпринять, чтобы бороться с голодом в нашем мире, о планах, которые нужно разработать, чтобы помочь несчастным. А если их нет дома, значит, они где-то выступают с докладом о том же самом перед своими комитетами или подкомиссиями в Женеве, в Брюсселе, в Вашингтоне, в Сингапуре или в Токио, везде, где можно найти достаточно большой зал для делегатов со всего света, которые тоже рвутся выступить с речью о том, как победить голод! И ты, и твои приятели точно такие же! Вы только говорите, все время говорите, но ваши слова остаются пустой болтовней. Что такое общество потребления? Бессмысленное сочетание звуков! Два слова, произнося которые, вы всего лишь щекочете себе глотку, а заодно и мозги! Маленькое удовольствие. Ваши слова — просто словесная мастурбация. Ты что, знаешь общества, которые не потребляют? Но я действительно знаю. Взять хотя бы то общество, куда я еду. Люди там спят на земле и ничего не потребляют, потому что им нечего потреблять. А в это время повсюду произносятся речи. Вы болтаете, а превратившиеся в скелеты люди в это время умирают. У них нет даже такого утешения, как знание того, что о них заботятся, что рано или поздно для них будут придуманы новые основы общества. Даже если ваша революция произойдет на следующей неделе, им будет все равно, потому что к этому времени они уже загнутся.
— Ничего себе! — сказал Оливье. — И это говорит человек, который не любит речей!
— Я закончил, — бросил Патрик. — Я уезжаю. Я уезжаю, потому что мне стыдно. Стыдно за нас всех. Я буду копать, как ты говоришь, небольшие ямки в песке. И даже если мне удастся извлечь из песка всего несколько капель воды, чтобы вырастить редиску, которую человек съедает за несколько секунд, все равно это будет дело, а не слова.
Потом наступил май. Пока тянулась зима, Джейн постепенно забыла страшный шок, испытанный ею ноябрьским днем, когда туман затопил город, словно мертвая река. Но слово «забыла» будет не совсем точным. Черно-белая картинка, застывший кадр остались запечатленными в памяти, но она уже не придавала им значения. В ее мире не было больше ничего трагического, все вокруг нее переменилось.
Она не вернулась в дом к отцу. Ее мать жила в Ливерпуле, где снова вышла замуж. Ее мужем стал человек, имевший суда на всех морях. Теперь Джейн понимала, почему мать решилась на развод. Может быть, только потому, что ее отец остался один, он. В общем, неважно. Ее отец — человек свободный. Свен говорил ей: свобода, любовь. Love. Любовь ко всему живому. Бог — это любовь. Человек должен вновь найти дорогу к любви. Пройдя ее, он найдет Бога. Иногда Свен давал ей затянуться марихуаной. И тогда она снова погружалась в туманную реку, но теперь туман был розовым и теплым, ей было хорошо в тумане, ее охватывала дремота и все мерзости жизни куда-то исчезали.
Она жила вместе со Свеном, Карлом и Брижит в комнате, которую снимал Карл. Там стояли две кровати, газовая плитка и керосиновый обогреватель. Свен украсил стены рисунками цветов.
Карл и Брижит приехали из Гамбурга. После того как Свен рассказал им о Катманду, они решили отправиться туда вместе с ним. Вечерами они зажигали керосинку и несколько свечей. Они не любили электричество. От пламени свечи Свен зажигал сигарету, и они передавали ее друг другу. Такие сигареты найти было нелегко, и они стоили очень дорого. В Катманду гашиш продается на базаре, естественно, совершенно свободно, как перец в Европе. И никто ничего вам не запрещает. Это страна, где рядом со всеми присутствует Бог. Свобода. Love. И гашиш там ничуть не дороже, чем перец. Может быть, даже дешевле.
День за днем Джейн чувствовала, как скорлупа страха, эгоизма, запретов, обязанностей и упреков, которую создали вокруг нее воспитание и отношения с другими людьми, постепенно раскалывается, рассыпается и опадает. Она сознавала себя освобожденной, ей казалось, что она родилась во второй раз в мире, где люди не сражаются между собой, а протягивают друг другу руку с дружеской улыбкой.
Свен объяснил ей, что общество, которое заставляет и запрещает, очень плохое. Оно делает человека несчастным, потому что человек создан для свободы, как птица в лесу. Ничто никому не принадлежит, и все принадлежит всем. Деньги, которые позволяют накапливать личное богатство, — это зло. Работа, если она является обязанностью, — тоже зло. Нужно расстаться с этим обществом, жить за его рамками. Бороться с ним тоже плохо. Насилие — это зло, потому что оно создает победителей и побежденных, заменяя прежнее принуждение новыми обязанностями. Все отношения между людьми, не имеющие ничего общего с любовью, — тоже зло. Нужно бросить это общество, уйти из него. Когда тех, кто покинет его, будет много, оно рухнет само собой.
Потом, когда Свен брал гитару и начинал петь, Джейн чувствовала себя свободной, окрыленной. Она знала, что общество, в котором она жила раньше, абсурдно и отвратительно. Теперь она оказалась вне его. Она могла теперь смотреть на него как на тюрьму, из которой только что вышла. Там, за железными воротами и стенами, щетинящимися осколками стекла, заключенные продолжают сражаться, уничтожая друг друга. Она жалела их, любила их, но ничем не могла помочь им. Они должны сами постараться найти выход. Конечно, она могла звать их, протягивать им руку, но она не в состоянии разбить ворота. Теперь она находилась снаружи тюрьмы, ее окружали солнце и покой, она была с друзьями, с любовью. Побросав свои доспехи и оружие, они остались нагими и свободными.
Сигарета переходила из рук в руки, Свен пел, повторяя имя Бога. God. Love. Есть туман за стенами их комнаты или нет, им все равно. Свечи заливали их комнату золотым светом. Запах марихуаны смешивался с запахами воска и керосина. Они свободны. Они занимались любовью, немного, как во сне. Love.
Чтобы пересечь границу, Джейн нужны паспорт и разрешение отца. Она пришла к нему и сообщила, что уезжает. Полиция пригнала ее машину после туманного дня. Отец никому не сказал об исчезновении дочери, опасаясь скандала. Он обратился в частное агентство, контору весьма серьезную, и очень быстро получил сведения о дочери.
Он врач. И он сразу обнаружил марихуану, посмотрев в глаза Джейн. Встревоженный, он протянул руку и прикоснулся к ней. Джейн улыбнулась. Ему показалось, что эта улыбка пришла к нему из бесконечной дали, преодолев годы и пустоту. И он отдернул руку.
Она решилась на долгое и опасное путешествие. Он знает это. Но он не может ничего поделать, ничего сказать, он утратил право запрещать и советовать. Он предложил ей денег, но она отказалась. Несколько мгновений они смотрят друг на друга, потом он вздохнул: «Да поможет тебе Бог.» Она смотрит на отца и раскрывает рот, чтобы поговорить с ним, но продолжает молчать. Потом она уходит.
Они уехали, плотно заполнив небольшой автомобильчик лимонно-желтого цвета. В Милане у них закончились деньги. Джейн продала машину и кольцо, Брижит рассталась с золотым ожерельем. Вырученных денег хватило на четыре билета на самолет до Бомбея. Свен мечтал пересечь Индию, прежде чем попасть в Непал, но в консульстве им отказались выдать визу, пока они не предъявят обратные билеты. Индия не может принимать и содержать бесполезные рты. Тогда они обменяли два прямых билета на два обратных, а на оставшиеся лиры купили подержанный мотоцикл и немного долларов, которые разделили пополам.
Карл и Брижит проводили Свена и Джейн в аэропорт. Они видели, как самолет оторвался от земли и устремился в небо, опираясь на четыре столба серого дыма. Потом он развернулся, словно странствующий голубь, старающийся уловить призыв Востока, и исчез за горизонтом, над которым каждое утро встает солнце.
Карл сел за руль мотоцикла, Брижит устроилась позади него. Ловким движением ноги он запустил двигатель, заставив его выплевывать шум и дым в ознаменование радостного отправления. Потом они медленно тронулись на восток, в Югославию, Грецию, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию, Непал. В Катманду.
Это было замечательное путешествие. Они были свободны, время не имело для них значения, у них было достаточно долларов на бензин. С пропитанием, решили они, будет видно потом. А для ночлега у них всегда было место под небом.
Мотоцикл был красным, Карл был рыжим. Его волосы падали густыми прядями на плечи, словно у вельможи XVII века. Борода и усы рыжим пламенем обрамляли лицо. Голова с рыжей шевелюрой походила на солнце.
У него были полные, розовые губы и большие глаза, сиявшие весельем. Для защиты глаз он купил темные очки, огромные, словно иллюминаторы, а чтобы волосы не падали на лицо, он использовал ленту из зеленого шелка, завязав ее узлом на затылке. На нем были штаны с разноцветными вертикальными полосами и рубашка цвета ржавчины с изображениями подсолнечников. Тоненькая Брижит сидела позади, прижимаясь к широкой спине, обхватив Карла руками за талию. Ее клонило в сон, потому что она с утра курила марихуану. На ней были джинсы и бледно-голубая рубашка из хлопка, а также ожерелье из древесины оливы. Ее черные волосы были коротко подстрижены без намека на фасон. Она расправлялась с ними самостоятельно, вооружившись ножницами.
Их путешествие закончилось, когда они проделали около половины пути. К этому времени они давно расстались с мотоциклом, много раз выходившим из строя, с покрышками, превращенными в лохмотья каменистыми дорогами. Кроме того, все труднее и труднее было добывать бензин. Дальше они продвигались пешком по бесконечной пустынной дороге от одной жалкой деревушки до другой; изредка их подвозили грузовик или допотопная легковушка. Они были изнурены отсутствием наркотика и голодом, раздавлены жаждой и пылью, обожжены солнцем.
В этот день они долго шагали по безлюдной местности, не встречая ни человека, ни животного, преследуемые и терзаемые тучей мух. Оводы, привлеченные запахом пота, кружились вокруг них в надежде улучить мгновение, чтобы сесть на обнаженную часть тела и вонзить в него свое жало. По обеим сторонам дороги до горизонта и за него тянулась обожженная солнцем местность с красными холмами, изрезанными водой и ветром, без единого деревца, без единой травинки. Садившееся за их спинами солнце бросало на дорогу перед ними все более и более длинные тени, на фоне которых выделялись белые пятна камней. Они продолжали идти, несмотря на усталость, в надежде добраться к наступлению ночи до какой-нибудь деревни, где, возможно, найдется не только вода, но и немного еды. У каждого из путников за спиной висел небольшой завязанный веревкой мешок со скудным имуществом. У Брижит когда-то он был белый, у Карла желтый, но теперь оба они стали одинакового цвета от рыжей пыли, превращенной потом в замазку.
Карл первым услышал шум двигателя. Он остановился и обернулся. К ним приближалось облако пыли, окрашенной огромным шаром солнца в багровый цвет. Потом они увидели грузовик. Когда он приблизился, Карл замахал руками, и грузовик остановился. Это был старый немецкий грузовик, прошедший, по крайней мере, три войны. Ветровое стекло было усеяно трещинами, дверцы отсутствовали. За рулем сидел почти черный великан с бритым черепом. Он смотрел на Карла, и под его пышными усами змеилась улыбка. Сидевшие рядом двое мужчин смеялись и выкрикивали что-то. В кузове на груде кирпича сидели мужчины; их было около десятка. Некоторые из них носили местные одеяния, на других была изношенная до лохмотьев европейская одежда. И тех, и других покрывал густой слой пыли. Смеясь, они махали путникам руками, предлагая забраться к ним. Кузов был очень высоким. Карл подтолкнул вверх Брижит, у которой совсем не было сил. Какой-то усач подхватил ее за руки и поднял, словно перышко. За ней в кузов забрался Карл. Грузовик зарычал и тронулся с места. Один из мужчин усадил Брижит перед собой на груду кирпича и со смехом схватил ее за грудь. Она ударила его по руке, стараясь высвободиться. Тогда он наклонился, ухватил рубашку за самый низ и резко рванул кверху, заставив ее этим движением поднять руки, несмотря на сопротивление. Сидевший позади нее другой мужчина уже рвал бретельки ее лифчика. Карл кинулся на них. Кто-то ударил его по голове кирпичом.
Кирпич раскололся. Карл упал. Они повалили Брижит на кирпичи. Некоторое время, пока они сдирали с нее джинсы, она еще сопротивлялась. При виде небольших бледно-голубых трусиков все дружно расхохотались. Теперь они держали ее за руки и за ноги так, что она не могла шевельнуться. Первый из мужчин быстро закончил с ней. Следующий тут же вдавил ее в кирпичи своим весом. После четвертого она потеряла сознание. Водитель остановил грузовик и вместе с напарниками забрался в кузов.
Солнце садилось. Небо на западе было багровым, словно раскаленное железо; с противоположной стороны горизонта на совершенно черном фоне ярко светилась большая звезда.
У водителя не хватило терпения дожидаться своей очереди. Он схватил Карла, валявшегося без сознания с залитой кровью головой, и сбросил его на землю. Потом он содрал с него одежду и принялся забавляться. Спустившиеся за ним напарники, среди которых был старик с белой бородой и грязным тюрбаном на голове, со смехом наблюдали за ним.
Боль заставили Карла очнуться, и он закричал. Старик заткнул ему рот босой ногой. Подошва ноги была похожа на потрескавшийся камень. Карл отвернул лицо и с криком забился, пытаясь высвободиться. Старик наклонился и перерезал ему горло ножом. Нож был самодельный, с длинным кривым лезвием и белой, инкрустированной медью костяной рукояткой. Это был красивый, искусно сделанный нож, мечта любого туриста.
Когда все, включая старика, удовлетворили свою похоть, кто с Брижит, кто с Карлом, а некоторые с обеими жертвами, они раздробили Брижит голову кирпичом и оттащили обнаженные тела за ближайший придорожный бугорок. Они не забыли содрать кольцо с пальца Карла, а также ожерелье и браслет с Брижит; забрали они и всю их одежду.
Зловещий горизонт тускло светился, словно угасающие угли. Огненная каемка бросала багровые отблески на тела, выпачканные в крови и сперме.
За холмами неподалеку завыл голодный дикий пес; к нему присоединились другие голоса из глубин надвигавшейся ночи.
Грузовик тронулся в путь, плюясь дымом и гремя рессорами. В кузове мужчины с оживлением потрошили рюкзаки; то и дело вспыхивал спор из-за какой-нибудь мелочи. Старик повесил себе на шею ожерелье из кусочков дерева. Он радостно смеялся. Его открытый рот походил на бездонную черную дыру. Водитель включил фары. Горела только левая. Правой не было совсем.
Это было в мае 1968 года, в понедельник, который на следующий день газеты назвали «красным понедельником» только потому, что еще не знали, что за ним последуют другие, еще более красные дни. Студенты, уже несколько недель разрушавшие факультет Нантерр, объявили в субботу, что во вторник они проведут демонстрацию возле Сорбонны. Это можно было сравнить с объявлением о том, что они собираются разжечь костер на сеновале. Естественно, при этом могла сгореть вся ферма. И они это знали. Можно было не сомневаться, что именно к этому они и стремились. Поджечь весь балаган. Известно, что зола — это хорошее удобрение для нового урожая.
Суета вокруг баррикады постепенно усиливалась. Студенты выдирали из проезжей части улицы куски асфальта и швыряли их в полицейских. Те возвращали эти подарки обратно. Некоторые студенты выскакивали из-за баррикады, чтобы выпустить свой снаряд с разбегу, сопровождая криками траекторию его полета. Все это напоминало танец, живой и легкий, его участники были молодыми и стройными, движение переполняло их, словно приподнимая над землей. На перекрестке с улицей Сены быстро росла толпа. Небольшие группы отделялись от нее и подходили к баррикаде, чтобы принять участие в метании в полицейских камней и кусков асфальта.
Полицейские начали отвечать им гранатами со слезоточивым газом; те взрывались с негромким хлопком, испуская белый дым, стелящийся над самой землей. Нападавшие тут же разбегались в стороны от пораженной зоны, затем снова переходили в наступление, вызывая этим очередную порцию гранат. Движение людской массы напоминало быстро чередующиеся приливы и отливы.
В действиях студентов некоторое время сохранялось нечто непринужденное, словно они развлекались забавной игрой. Но это продолжалось недолго, словно это было время перед бурей, когда еще под голубым небом возникают редкие порывы сильного ветра, срывающие листья с деревьев и позволяющие почувствовать приближение урагана. Если повернуться спиной к горизонту, над которым уже навис пронизанный зарницами мрак, то видны только деревья, которым ветер настойчиво предлагает освободиться от рабства корней. Они со стонами клонятся в разные стороны в безуспешных попытках взлететь.
Посреди зародыша баррикады, взгромоздившись на самый большой ящик, возвышался Оливье. Он что-то кричал, размахивая руками. Он был в своей куртке из коричневого бархата, за спиной у него развевался конец обмотанного вокруг шеи оранжевого шарфа, связанного бабушкой. Сегодня утром она заставила его надеть этот шарф, потому что он кашлял и у него начало побаливать горло.
Длинные шелковистые волосы обрамляли его лицо, скрывая еще детские ямочки на щеках. Матовая, словно покрытая загаром кожа сильно побледнела от усталости. Глаза под черными ресницами, такими густыми, словно он их накрасил, казались спелыми орехами, упавшими в траву и поблескивавшими от росы в лучах утреннего солнца.
Жестикулируя правой рукой, он призывал товарищей прекратить бесполезную суету и присоединиться к колонне на Данфер-Рошеро. Но окружающие не слышали ничего, кроме биения своих сердец и шума крови в ушах. Они наслаждались беготней и криками. Приливы и отливы все более плотной толпы возбуждали их. Атаки становились более быстротечными и в то же время более опасными; с каждым разом они все дальше продвигались вперед. Все чаще мелькали булыжники и обломки чугунной ограды.
Противостоящие им полицейские образовали плотную группу. Прижавшись плечом к плечу, в касках и черных плащах, блестевших, словно от дождя, они сплотились в массу, пугающую своим молчанием и неподвижностью. Сзади к ним медленно подъехали автобусы с решетчатыми окнами и выстроились в несколько рядов от тротуара до тротуара, на всю ширину проезжей части улицы. Когда перестроение закончилось, люди и машины пришли в движение, напоминая своей угрожающей медлительностью какое-то доисторическое чудовище, от шагов которого дрожала земля. Из черной массы неожиданно выдвинулись мощные водяные хоботы, опрокидывавшие и сметавшие с тротуаров урны, рекламные щиты и людей; они выбивали стекла из окон нижних этажей и врывались в помещения, заливая их. Повсюду падали и взрывались гранаты со слезоточивым газом. В наступавших сумерках струи дыма казались еще более белыми. Студенты быстро рассеялись по боковым улочкам. Полицейские гнались за ними по пятам. На улице Катр-Ван неожиданно проснулся спавший на куче песка клошар. Бывший легионер, еще довольно крепкий, хотя здоровье и было основательно подорвано вином и одиночеством. Увидев людей в мундирах, бездомный бродяга вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и отдал им честь.
На перекрестке с улицей Сены полицейских остановил град булыжников. В ответ они засыпали нападавших гранатами. Туман едкого газа поднялся до окон самых верхних этажей. Большие белые облака неторопливо ползли над крышами зданий. Откуда-то вылетел грохочущий мотоцикл с двумя журналистами в белых масках и больших желтых шлемах, на которых были видны названия их газеты. Сидевший за рулем тут же получил удар булыжника в грудь; под передним колесом мотоцикла взорвалась граната. Мотоцикл упал на бок перед витриной галантерейного магазина. Его хозяин уже опустил решетку на входную дверь. Потрясенный боевыми действиями на улице, он пытался разглядеть через стекло происходящее. Это было началом конца его мира. Потом он попытался спасти висевшие на витрине рубашки, стал торопливо снимать их и передавать жене.
В 5 часов утра мадам Мюре спустилась вниз из своей небольшой квартиры, захватив с собой транзистор. Она пересекла два мощенных булыжником дворика, остановилась на тротуаре и посмотрела сначала направо, потом налево, надеясь увидеть Оливье с обмотанным вокруг шеи шарфом. Но улица Шерш-Миди была пустынной. На исходе ночи мертвеннобледный свет уличных фонарей казался уставшим. Воздух был насыщен кислым запахом, заставившим ее заморгать, словно она чистила лук. Транзистор мурлыкал какую-то песенку. Ноги отказывались держать ее, и она присела на торчавшую сбоку от ворот тумбу. Промчался дешевый ситроен, гудевший, как большое насекомое. Внутри него сидел только один человек. Она не успела разглядеть, был это мужчина или женщина.
Она знала о событиях в городе благодаря своему транзистору. Баррикады, сожженные машины, сражения между полицейскими и студентами. Из своей квартиры она слышала взрывы, то и дело доносившиеся со стороны улицы Ренн, завывания полицейских автомобилей и сирены машин «скорой помощи», на полной скорости проносившихся мимо. Каждый раз у нее останавливалось сердце. Оливье, мой малыш, мой взрослый внук, мой младенец. Ведь это невозможно, чтобы они увозили тебя? Как только его вынесли из роддома, она взяла его на руки и больше не отпускала. Тогда ему было несколько дней; сейчас юноше было 20 лет. Иногда, когда он был еще малышом, появлялась его мать. Она увозила его на одну-две недели на Лазурный Берег, в Сен-Мориц или Бог знает куда еще. Мать возвращала его уставшим и похудевшим, а иногда простуженным. Он был в восторге от этих поездок, и его голову заполняли истории, ни одну из которых он не мог рассказать до конца. Ночью он просыпался с криком, а днями ходил с мечтательным видом. Проходило много дней, пока он не успокаивался.
По мере того, как он рос, мать все чаще и чаще находила причины, не позволявшие брать его с собой. Оливье так надеялся, что когда-нибудь он вернется вместе с ней к своим прерванным мечтам, но она, появляясь у них, всегда страшно торопилась. Она успевала только поцеловать его, бросала «в следующий раз, пока» и исчезала, оставив ему шикарные шмотки, всегда или слишком большие, или слишком маленькие, которые потом бабушка пыталась поменять. Иногда она оставляла игрушки, не подходящие для его возраста.
После каждого такого молниеносного визита матери, оставлявшего в небольшой квартирке на улице Шерш-Миди долго сохранявшийся аромат дорогих духов, Оливье на много дней или даже недель становился мрачным, сердитым и вспыльчивым.
Иногда мать привозила журналы на разных языках, заполненные ее цветными фото. Встречались среди них даже журналы из Японии и Индии, со странными, похожими на картинки буквами. Оливье увешал стену над своей кроватью фотографиями из этих журналов. Некоторые из них были размером в целую журнальную страницу, другие меньше. Он старательно вырезал их старыми бабушкиными ножницами, а потом наклеивал на листы плотной цветной бумаги, розовые, голубые, зеленые или черные.
Все лица матери, такие разные, в шляпке или без нее, с длинными или короткими волосами, гладкими или волнистыми, черными, светлыми, рыжими или даже серебристыми, с розовыми или кроваво-красными губами, все они имели одну общую особенность: бледно-голубые глаза, большие и казавшиеся удивленными и даже немного испуганными, словно у девочки, впервые увидевшей море. Бесчисленные лица матери занимали всю стену, поднимаясь до потолка небольшой комнаты Оливье. Когда он смотрел на них, то представлял себе небо, на котором у всех звезд были глаза его матери. В большом конверте, лежавшем в ящике его старого письменного стола под тетрадями и разными бумагами, он хранил те фотографии, на которых она была почти обнаженной.
Когда ему исполнилось 17 лет, она подарила ему в день рождения трубку и коробку с голландским табаком. Бабушка заказала торт мокко у кондитера с улицы Ренн. Тот пообещал ей положить в торт только масло, потому что она была постоянной клиенткой. Но торт оказался обычным, на маргарине, с небольшой добавкой масла для запаха. На вывеске его лавки было написано «Кондитерские изделия на сливочном масле», значит, если он клал в торт хотя бы немного масла, то в использовании маргарина не было ничего противозаконного.
Бабушка накрыла на кухне небольшой круглый стол белой скатертью с вышивкой, поставив на стол три тарелки с позолоченным ободком и положив старинные серебряные приборы. В универмаге «Призюник» она купила бутылку шампанского и воткнула в торт 17 небольших голубых свечек. На газовой плите в чугунной кастрюле доходил до кондиции цыпленок с молодым картофелем и зубчиками чеснока. Рецепт этого блюда бабушка получила от мадам Сеньер, родившейся и выросшей в Авиньоне. Трудно представить, каким вкусным, каким нежным может быть мясо, приготовленное таким образом. Это подлинное наслаждение.
Оливье, дежуривший у окна, увидел, как из-под арки, соединявшей два дворика, выскочил небольшой красный «Остин», развернулся почти на месте, попятился до лестницы и замер. Из автомобильчика вышла мама. Она была в кожаном костюме цвета морской волны с очень короткой юбкой, в голубой блузке и с длинным нефритовым ожерельем на шее. Сегодня ее волосы были очень светлыми и гладкими, совсем как у сына. Она нырнула в салон и тут же выпрямилась, держа обеими руками большой пакет из серебряной бумаги, из которого торчал длинный стебель цветущей розовой азалии. На указательном пальце у нее на тесемке висел голубой пакетик, а на сгибе руки — сумочка из зеленой кожи, несколько более темной, чем ее костюм. Весь ее облик говорил о некотором смущении, но она была очаровательна, как всегда.
Счастливый Оливье скатился вниз по ступенькам, чтобы помочь матери.
Бабушка, которой вручили азалию, растерянно покачала головой. Она не представляла, куда можно ее пристроить. Обойдя вместе с азалией обе комнаты, она вернулась на кухню. Цветок был слишком громоздким. В конце концов она поставила его в раковину. Растение поднималось гораздо выше крана, достигая примерно середины шкафчика для продуктов. Листья на боковых ветках дотягивались до спинки стула, на котором сидел Оливье. Азалия всем мешала; теперь по кухне можно было передвигаться только с большой осторожностью. Собравшись с духом, бабушка попросила у мадам Сеньер разрешения поставить растение в ее доме, в столовой. Но как туда его транспортировать? В автобусе ни за что не разрешат. Остается такси. На это потребуется столько денег, сколько мадам зарабатывает за час. Ах, конечно, мама Оливье очень мила, но она, как всегда, ни о чем не подумала.
Оливье уселся за стол, чтобы развернуть пакет с подарком. Он с ужасом увидел кисет из кожи антилопы, очень красивый, с позолоченными уголками, а также отделанную кожей трубку с чашечкой из пенки и с янтарным мундштуком. Он постарался улыбнуться, прежде чем поднял взгляд на мать, и тут же отвернулся. Ведь он написал ей в начале учебного года, что они вместе с Патриком и Карно решили не курить до тех пор, пока в мире есть бедняки, для которых стоимости всего лишь одной сигареты будет достаточно, чтобы не умереть с голоду. И каждый из них дал клятву. Это была торжественная клятва, настоящий обет. Для Оливье принятое решение было очень важным; он рассказал о нем матери и разъяснил мотивы, толкнувшие его на этот поступок, в длинном письме. Неужели она уже забыла об этом? Может быть, она просто не читает его писем. Ведь в ответ она прислала только открытку. Может быть, она никогда не получала этого письма. Ведь почте приходится гоняться за ней по всему свету.
Он обернулся к матери, которая склонилась над стоявшей на плите кастрюлей, принюхиваясь к поднимавшемуся из нее аромату.
— Ах, как это должно быть вкусно!
Можно было подумать, что перед ней находится редчайшее блюдо, гастрономическое чудо, которое ей никогда не приходилось отведать.
— Как замечательно пахнет! Какая жалость! У меня самолет в четверть третьего. Мне нужно бежать, у меня совсем нет времени. Только бы не было пробок по дороге в аэропорт.
Она торопливо расцеловала сына и мать, поклялась скоро еще приехать, потребовала у Оливье обещание быть умницей, быстро спустилась вниз в сопровождении дробного перестука каблучков, подняла взгляд на окно на втором этаже, улыбнулась и помахала рукой, прежде чем нырнуть в красный «Остин», который заворчал, взвыл сигналом и вихрем исчез в арке между дворами.
Оливье некоторое время стоял, стиснув зубы и играя желваками на скулах. Он смотрел, не отрываясь, на темную арку, под которой скрылся автомобильчик петушиной раскраски.
Державшаяся за его спиной бабушка с тревогой смотрела на внука и молчала. Она знала, что в такие моменты лучше ничего не говорить, все сказанное прозвучит фальшиво, любые слова будут только ранить. Шум мотора красного автомобильчика давно затерялся в отдаленном шуме квартала. Все звуки с улицы достигали второго дворика в виде приглушенного гула, настолько однообразного, что его быстро переставали слышать. Трудно было найти более спокойное место в таком оживленном квартале. Именно это побудило господина Палейрака, витрина мясной лавки которого выходила на улицу, приобрести все левое крыло здания. Здесь он оборудовал современную квартиру с неоновыми светильниками, располагавшимися между выступами на потолке. Бывшую конюшню он использовал как гараж для грузовичка и двух легковых автомобилей. В дальнем отсеке он держал металлические емкости для костей и прочих отходов, за которыми по вторникам приезжал чей-то грузовик. Палейрак говорил, что отходы использовались как удобрение, но большинство жителей квартала было уверено, что грузовик имеет отношение к маргариновой фабрике, тогда как некоторые считали, что из отбросов делают бульонные кубики. Зимой хранилище отходов никак себя не проявляло, но как только наступали теплые дни, этот угол двора начинал испускать ароматы гниющего мяса; запах привлекал больших зеленых мух, заодно посещавших все квартиры.
Оливье отвернулся от окна и медленно подошел к столу. Чтобы пройти, не задев азалию, ему пришлось отодвинуть стул. Остановившись, он взглянул на свою тарелку. Дорогая трубка и шикарный кисет лежали на бумаге, в которую были завернуты. Светло-коричневая лента, которой был обвязан пакет, резко выделялась на белой скатерти. На ленте можно было разглядеть буквы, из которых складывалось название магазина, где были приобретены трубка и кисет. Оливье завернул их в бумагу и протянул сверток бабушке.
— Послушай, ты ведь можешь продать это. Тебе этих денег хватит, чтобы купить зимнее пальто.
Вернувшись в свою комнату, Оливье снял туфли, взобрался на постель и принялся сдирать со стены фотографии матери, начав с самых верхних. Некоторые из них были прикреплены к обоям с помощью скотча, другие держались на кнопках. Если они не хотели отставать, он отдирал их кусками. Закончив, он пошел на кухню, держа в руках стопку фотографий, как целых, так и сильно испорченных. Он открыл ногой дверцу шкафчика под раковиной, где стояла корзина для мусора, и наклонился под ветками азалии.
— Оливье! — остановила его бабушка.
Он замер на мгновение, потом огляделся, пытаясь найти место, куда можно было бы положить то, что он держал в руках и что больше не хотел видеть.
— Дай-ка мне это, — промолвила бабушка. — Все-таки, не стоит так. Она делает все что может. Если ты думаешь, что жизнь всегда такая легкая.
Она взяла фотографии и отнесла в свою комнату. Она не представляла, куда их деть. Может быть, найдется место в шкафу. Пока же положила их на мраморный столик, а сверху водрузила транзистор. Когда Оливье был дома, приемник она не включала, звуки его раздражали Оливье. Впрочем, когда внук был рядом, она не нуждалась в музыке.
Транзистор радостно сообщил, что беспорядки закончились, последние демонстрации рассеяны, пожары потушены, разборка баррикад вот-вот должна была завершиться. Оливье еще не вернулся. Она была уверена, что внук был ранен и попал в больницу. Страх сдавил ей сердце. Ей показалось, что каменная тумба, на которой она сидела, внезапно рассыпалась под ней, а стена за спиной зашаталась. Она зажмурилась и помотала головой. Нужно собраться и пойти в комиссариат полиции, чтобы навести справки. В тот момент, когда она встала, до нее донеслось тарахтенье мотоциклетного двигателя. Это был Робер, продавец, работавший у Палейрака. Он всегда первым появлялся по утрам в лавке, и у него был ключ от входных дверей. На работу его приняли в 1946 году, сейчас ему было уже 52 года, и клиентов он знал лучше, чем его патрон.
Робер выключил двигатель и слез с мотоцикла. Потом он заметил мадам Мюре, прошедшую мимо него, словно призрак.
— Куда это вы направляетесь так рано? Что с вами?
— Оливье не пришел домой. Я иду в комиссариат. С ним наверняка что-то случилось.
— Перестаньте! Этой ночью он и его приятели устроили приличную кутерьму, так что сейчас они наверняка обмывают свой успех!
— Но он же не пьет ничего! Даже пиво!
— Еще бы, ведь он употребляет только фруктовый сок, и это большой недостаток. Но вам не стоит идти в полицию, туда можно позвонить. Подождите минутку, я сейчас открою лавку, и вы сможете позвонить отсюда.
Робер, высокий сухощавый мужчина со стальными мускулами, быстро закатил мотоцикл во двор. Когда они подошли к телефону, он сказал, что обдумал ситуацию и решил, что звонить в полицию не стоит. Нельзя называть имя Оливье, они обязательно занесут его в свои списки. А тот, кого угораздило попасть в список подозрительных лиц, остается в нем на всю жизнь.
— О Боже мой, — пробормотала мадам Мюре.
Ей нужно было сесть, но стульев в лавке не было, если не считать стула для кассирши, но он был закреплен на своем месте. Робер хотел проводить ее домой, но она ответила, что ей лучше оставаться внизу, потому что в квартире сойдет с ума. И она вернулась к тумбе, на которой сидела. Транзистор снова принялся напевать какую-то песенку. Он всегда по ночам передавал только музыку. То, что он сейчас возобновил музыкальную передачу, можно было считать хорошим знаком.
Оливье вернулся домой без четверти семь. Он был совершенно измотан, но лицо его сияло. На правой щеке у него была черная полоса, куртка спереди тоже была запачкана. Он очень удивился, увидев бабушку на улице. Поцеловав ее, он немного поворчал. Потом, помогая ей подняться по лестнице, принялся уговаривать ее не бояться за него, ведь они были сильнее полиции, и когда в следующий раз население Парижа присоединится к молодежи, прогнивший режим рухнет. И тогда можно будет все перестроить.
Сердце мадам Мюре стучало в груди мелкими частыми ударами, словно у раненой птицы. Она только что решила, что с наступлением утра кошмар закончился; теперь же ей стало ясно, что все только начинается. Чтобы скрыть, как дрожат у нее руки, она занялась хозяйством. Поставив кастрюлю с водой на плиту, она посоветовала Оливье полежать, пока не будет готов кофе. Но когда завтрак был на столе, Оливье уже спал. Его ноги свешивались с постели, потому что он не потрудился снять обувь и ему не хотелось пачкать покрывало. Очень осторожно мадам Мюре сняла с него ботинки и подняла ноги на постель. Оливье приоткрыл глаза, улыбнулся ей и тут же снова заснул. Она достала из шкафа одеяло. Это был американский пуховик из стеганой материи, когда-то красной, но со временем выцветшей до светло-розового цвета. Накрыв внука одеялом, мадам Мюре осталась стоять возле кровати. Когда она видела его, такого спокойного, словно дитя, погруженного в глубокий сон, жизнь снова возвращалась к ней. Он тихо дышал, лицо его расслабилось, мягкие волосы разметались по подушке, слегка приоткрыв уши.
Мадам Мюре вернулась на кухню. Вылила кофе из кружки назад в кастрюлю и поставила на плиту. Когда он проснется, достаточно будет только зажечь газ. Ей теперь нужно бежать к господину Сеньеру, нельзя же бросить беднягу в таком состоянии.
Когда она вернулась вечером домой, Оливье уже не было. Он выпил кофе с молоком, съел тартинки, уничтожил все, что оставалось от баранины, и даже половину курицы. На кухонном столе лежала записка: «Не беспокойся обо мне, даже если я не вернусь домой этой ночью».
Он вернулся только в июне.
В Сорбонне Оливье занимал вместе с Карло небольшой кабинет над лестницей. На двери он прикрепил лозунг, отпечатанный студентами факультета искусств. На нем большими буквами было написано: «ВЛАСТЬ СТУДЕНТОВ». Ниже он сам написал от руки: «Обсуждение круглосуточно». То и дело парни и девушки поднимались к нему по лестнице, входили в кабинет, выдвигали свои идеи, задавали вопросы, затем спускались ниже, заходили в другие кабинеты, задавали другие вопросы, уверенно утверждали одно, сомневались в чем-то другом.
В тусклом свете, просачивавшемся сквозь застекленный потолок, студенческий амфитеатр казался большим свободным рынком, на котором каждый мог расхваливать свой товар.
Оливье иногда приходил сюда посмотреть сверху на ряды сидений, всегда почти полностью занятых. Под ним пестрела мозаика из белых рубашек и разноцветных свитеров, среди которых преобладал красный цвет. Головы на этом фоне казались шарами. На трибуне перед черным и красным флагами сменяли друг друга ораторы. Слушая их, Оливье начинал нервничать, потому что не всегда понимал, что они хотели сказать. Ему казалось, что их фразы путаные, расплывчатые, туманные, что они просто зря теряют время в словесных поединках, тогда как на самом деле все очень просто: нужно уничтожить старый мир и построить новый, основанный на справедливости и всеобщем братстве, мир без классов, без границ, без ненависти.
«Власть студентов». Да, именно студентам принадлежала привилегия овладеть культурой и привести своих братьев-рабочих к жизни, свободной от капиталистического рабства и гнета социалистической бюрократии. У них начинало сильнее биться сердце, когда они слышали старый лозунг Республики: «Свобода, Равенство, Братство». Этот лозунг содержал в себе все. Но с тех пор как буржуазия начертала эти слова на фасаде мэрий, в которых она регистрировала имена своих рабов, и вышила их на своих знаменах, под которыми увлекала рабов на бойню, три великих слова стали ложью. Теперь они скрывали то, что было их противоположностью, а именно — эксплуатацию, неравенство, презрение. Это нужно было сжечь в кострах революции, пламени радости. Так просто. А все эти типы с микрофоном, расчленявшие идеи и насиловавшие мух, могли только задушить Революцию своими пустыми фразами.
Однажды вечером, покинув галерею, он написал мелом на стене в коридоре: «Эх вы, горе-ораторы!» и подчеркнул их с такой яростью, что кусочек мела раскрошился. Он вышвырнул то, что оставалось у него в руке, пожал плечами и вернулся в свой кабинет. Там он увидел девушку, присевшую на край стола и о чем-то спорившую с Карло. Оливье смутно вспомнил, что она, кажется, как и он, тоже готовила диссертацию по социологии. Время от времени он видел ее на лекциях. Говорили, что ее отец известный банкир. Ее звали Матильда.
Карло, вскочив со своего места, выполнял перед ней свой стандартный номер итальянского обольщения. Он говорил, ходил взад и вперед, улыбался, жестикулировал, направляя руками свои слова к собеседнице. Она не сводила с него ледяного взгляда. Похоже, что Карло излагал ей точку зрения Оливье на роль, которую должны были играть студенты в интересах пролетариата. У него было не слишком много собственных идей, чаще всего он был эхом своего друга.
Наконец, она прервала его сухим тоном:
— Ну и претензии же у вас, однако! И чему вы собираетесь научить рабочих? Вам самим было бы неплохо знать хоть что-нибудь! Вот ты, например, что ты знаешь? Чему тебя научили на факультете?
— Нас научили мыслить! — вмешался в разговор Оливье.
Девушка повернулась к нему:
— Так ты, значит, мыслишь? Тебе крупно повезло!
Она встала.
— Ваша «Власть студентов» — это развлечение для простофиль… Ты знаешь, что сделал Мао со студентами? Да, он пустил их на заводы, но не просто так, а поставил к конвейеру! А профессоров отправил на сельскохозяйственные работы! Убирать навоз!
— Я знаю, — пожал плечами Карло, — но какая польза от этого?
— А ты? Какая польза от тебя? Вы сожгли несколько ржавых машин, а теперь напускаете словесный туман… Вы заняли Сорбонну вместо того, чтобы разрушить ее! Вы не убили ни одного жандарма! Они все в строю, красные и жирные, всего в сотне метров отсюда. Они перебрасываются с вами мячиком, в то время как вы усыпили себя своими речами. А они ждут, пока им не скомандуют вышвырнуть вас вон! «Власть студентов»! Мне смешно! Власть над моими яйцами!
— У тебя их нет, — возразил Карло.
— У тебя тоже! Вы мелкие буржуа, вы законченные кретины!
— Конечно, — возразил Оливье, — уж тебя-то к мелкой буржуазии не отнесешь. Ты ешь с золотой посуды и ковыряешься в икре с того дня, как родилась…
— Считай, что меня тошнит от вас, как от протухшей икры.
Она выскочила из кабинета, резко хлопнув дверью. Карло дернулся, чтобы бежать за ней, но остановился. Он был бы рад показать ей, что обладает тем, чего, по ее словам, они все были лишены. Но с такой девицей будет столько хлопот… Ее придется долго уговаривать, доказывать, что он. Нет, такие дела его не устраивали. Если девушка продолжает спорить с тобой даже во время оргазма, то от этого пропадает всякое удовольствие. Пусть она использует для удовлетворения свою «Красную книгу»…
Это было странное воскресенье, день, когда все взрослое парижское население решило посетить своих детей, окопавшихся в Латинском квартале. Погода была замечательная, и казалось, что сегодня праздник. Парижане в новых куртках и их жены в легких весенних нарядах толпились на тротуарах бульвара Сен-Мишель или на площади Сорбонны вокруг юных ораторов, торжественно излагавших свои мысли. Бродячие торговцы, пользуясь неожиданным наплывом публики, раскладывали прямо на асфальте свои товары: портфели, галстуки, открытки, дешевые украшения, сверкавшие на солнце. Какой-то старикан с желтой бородой продавал бумажных китайских драконов.
Двор Сорбонны, коридоры и лестницы заполнялись медленно ползущей людской массой. Любопытствующие с удивлением читали надписи на стенах и расклеенные повсюду листовки. Расположенная вертикально на стене фраза начиналась выше человеческого роста и заканчивалась на полу лестничной площадки. Она грозно приказывала: «Опустись на колени и смотри!» Смотреть, кроме пыли, было не на что.
Старые надписи мелом на стенах начали осыпаться. «Забудь все, чему тебя научили, начни мечтать!» Кто-то зачеркнул слово «мечтать» и написал сверху «разрушать». Другая рука зачеркнула «разрушать» и надписала «трахать». Напротив дверей кабинета Оливье с надписью «ВЛАСТЬ СТУДЕНТОВ» свежая, написанная с помощью пульверизатора надпись утверждала: «Профсоюзы — это бордели». Любопытные входили в комнату, пялились на четыре стены, на небольшой стол и стулья. Иногда очередной посетитель присаживался, чтобы немного отдохнуть. Потом уходил, унося с собой удивление и неудовлетворенное любопытство.
У Матильды появилось желание снова увидеть Оливье. Она вспомнила его слова: «Нас научили думать» или что-то вроде того. Его нужно было уберечь от этой чудовищной ошибки. В тот раз она слишком быстро ушла. У него был вид парня с головой. Она подумала об Оливье, проснувшись в номере жалкого отеля, где провела ночь с каким-то негром исключительно из-за антирасистских побуждений. Секс с черным оказался не лучше, чем с белым. Потом она хорошо выспалась. Он разбудил ее утром, когда ему захотелось повторить. Когда она оттолкнула его, он замахнулся, но был остановлен взглядом девушки. Матильда подумала о двух парнях в маленьком кабинете над лестницей, и в особенности о юноше с карими глазами и мягкими волосами, обрамлявшими лицо. Да, этот тип верил, но то, во что он верил, было глупостью. Поэтому она и вернулась, чтобы переубедить его.
В кабинете над лестницей она застала только любопытных. Карло в это время находился на площади Сорбонны. Он сидел верхом на спине статуи какого-то мыслителя и забавлялся, рассматривая уличного торговца, решившего в этот день заменить свой обычный набор шариковых ручек политическими брошюрами, поносившими Дассо и Ротшильда.
Оливье прогнало из кабинета отвращение, которое у него вызывали любопытные. Сначала он попытался агитировать вошедших, но те или несли в ответ полнейшую чушь, или просто пялились на него, словно он только что вылез из летающей тарелки. Поэтому Оливье решил пообедать у своей бабушки. Он застал ее в совершенно расстроенных чувствах: господин Сеньер внезапно скончался в ночь с пятницы на субботу. Его сбили с толку последние события, он не мог понять происходящее и перестал сопротивляться болезни. Все это время, когда он отказывался умирать, никто не мог подумать, что он был так близок к смерти. И на этом у несчастного проблемы не закончились: погребальные конторы бастовали, и похоронить его было некому. После того как мадам Сеньер обратилась в комиссариат, прибыли солдаты с гробом, оказавшимся слишком коротким. Нужные размеры из-за забастовки определить было некому, а поэтому солдатам пришлось погрузить беднягу в кузов грузовика, завернув его в одеяло. Мадам Сеньер даже не представляла, куда его увезли, и она закрыла лавку на весь день, хотя была суббота, когда все так хорошо продается; покупатели эти дни разбирали все подряд, консервы, рис, сахар, все съедобное; они были напуганы.
Матильда спустилась вниз и больше решила не подниматься наверх. Любопытные постепенно исчезли из Сорбонны и Латинского квартала. На улицах возобновились беспорядки. Матильда присоединилась к небольшой, но очень деятельной группе, непонятно откуда разжившейся электрическими пилами, чтобы спиливать деревья, ломами, чтобы выворачивать булыжники из мостовой, касками для мотоциклистов, а также черенками лопат и предназначавшимися для боевиков герметичными очками для защиты от слезоточивого газа. Во время дневного затишья члены группы ходили по факультетам, выдвигали на голосование резолюции, создавали комитеты действия. Матильда вскоре забыла двух парней из небольшого кабинета. Карло забыл Матильду. Но Оливье не забыл ее. Его поразило сказанное девушкой. Конечно, его не могла распропагандировать дочка миллиардера, увлекавшаяся маоистскими идеями, но некоторые ее фразы затронули в нем какие-то струны. Да, слишком много слов, да, чересчур выпячиваются претензии интеллектуалов. Да, среди них слишком много мелкобуржуазных придурков, которые примкнули к движению ради ничем не грозивших им небольших революционных каникул. Драться с полицейскими, бить стекла, жечь автомобили, выкрикивать лозунги — все это гораздо увлекательнее, чем обычная вечеринка. Как только появлялась малейшая угроза, они тут же бросались под родительское крылышко. Когда этой публике удавалось добраться до микрофона, они начинали поносить общество потребления, хотя сами с удовольствием потребляли его блага с младенческого возраста.
Да, правда была на стороне рабочих. Потому что они ощущали ее на своей шкуре, всю жизнь испытывая угнетение и несправедливость. Оливье заметил, что даже когда он хотел оформить свои мысли для себя, не высказывая их, он снова и снова мусолил те же пустые образы, те же жалкие клише, что и эти ничтожества, вцепившиеся в микрофон. Нет, пора было перестать говорить, даже если это внутренний монолог, нужно было действовать.
Он увлек Карло в группу, отправившуюся в Бийанкур, чтобы передать бастующим рабочим Рено слова дружбы и поддержки со стороны восставших студентов. Однако прием, оказанный им бастующими, оказался более чем сдержанным. Они никому не позволили пройти на территорию занятого забастовщиками завода. Еще бы, можно подумать, что им не хватало только этих пацанов, чтобы добиться своих целей. Ни один из рабочих, включая самых молодых, не мог поверить в то, что существует революция, за которой не последуют настоящие репрессии. Эти баррикады в Латинском квартале были всего лишь играми избалованных ребятишек. Жандармы, разумеется, надевали мягкие перчатки, прежде чем атаковать детей из буржуазных семей. Избиение дубинками было всего лишь несколько более серьезной разновидностью отеческой порки. Другое дело, когда рабочие принимаются выворачивать булыжники из мостовых. Тогда с ними не церемонятся, в них стреляют. Вместо дубинок в ход идет свинец. Но буржуа не могут позволить, чтобы стреляли в их детей. Они установили свой порядок в 89-м году, ликвидировав с помощью гильотины целый класс. Точно так же они уничтожили бы и рабочий класс, если бы им не были нужны те, кто производит, и те, кто покупает. Но они не могли убивать своих детей, даже если те ломали мебель и поджигали портьеры.
Рабочие и студенты смотрели друг на друга через решетку заводских ворот. Иногда они обменивались ничего не значащими фразами. Полотнище с надписью «Союз студентов и рабочих» вяло свисало к земле между двумя палками. У знамен, красного и черного, вид тоже был весьма усталый. Требовалось немного ветра, немного энтузиазма, чтобы они начали развеваться. Вместо этого имелась лишь решетка запертых ворот, и люди за воротами, казалось, защищали двери, в которые стучалась дружба. У Оливье внезапно возникло ощущение, что он находится в зоопарке перед клеткой, куда помещены животные, у которых украли свободу, хотя они предназначены для жизни на просторе. Посетители пришли в зоопарк, чтобы сказать зверям что-нибудь приятное и побаловать их лакомствами. Они считали себя добрыми и щедрыми. Но они находились с той же стороны решетки, что и охотники и тюремщики. Какой-то студент просунул сквозь ограду что- то из собранного в знак солидарности. Оливье стиснул зубы. Только этого дурацкого арахиса здесь и не хватало! Он плюнул и в ярости бросился прочь. Карло ничего не понимал. Что с тобой? Что за блоха тебя укусила?
Вернувшись в Сорбонну, Оливье сорвал плакат с надписью «Власть студентов» с дверей кабинета. Потом во фразе «Обсуждение круглосуточно» он зачеркнул слово «круглосуточно» и написал над ним крупными буквами «закончено!» с жирным восклицательным знаком.
Он яростно дрался при каждой стычке с полицией. Во время страшной ночи 24 мая он вскарабкался на гребень баррикады и принялся осыпать фараонов ругательствами. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что он просто позирует, участвуя в живой картине и пародируя историческую личность, но картина остается всего лишь картиной; фараоны не будут стрелять, и он, окровавленный, не падет на баррикаде. Более того, в каске и в больших очках он выглядел, как персонаж комиксов для подростков, мечтающих о фантастических приключениях. Он содрал с себя каску и очки и отшвырнул их. Схватив рукоятку от лопаты, он бросился вперед. Перед ним на красной с черным ночной улице горели автомобили, взрывались гранаты и крутились белые вихри слезоточивого газа. За стеной газа Оливье смутно различал движение темной блестящей массы полицейских. Он бросился на них. Навстречу ему вышли трое. Он с яростью двинул первого палкой. Та, столкнувшись с резиновым щитом, отскочила назад. Он тут же получил удары дубинкой по руке и по голове. Они заставили его выронить оружие. Еще один удар по голове бросил его на колени, а последовавший затем пинок ногой в грудь швырнул на асфальт. После этого на его спину и бока обрушились тяжелые сапоги полицейских. Проливая слезы, вызванные стыдом и бешенством, а не только слезоточивым газом, он все же попытался встать. Его нос и ухо были в крови. Ему удалось схватить обеими руками дубинку одного из полицейских, и он попытался вырвать ее. Еще одна дубинка опустилась на то место, где шея соединяется с плечом, и он потерял сознание. Полицейские подобрали его и хотели швырнуть в автобус. В этот момент из белесого тумана, разрываемого вспышками пламени, внезапно появилась группа студентов, возглавляемых Карло, и напала на полицейских. Тем пришлось бросить Оливье, словно мешок, чтобы встретить атакующую свору, которая тут же рассыпалась, увлекая полицейских за собой. Оливье остался лежать без сознания с вывернутой шеей, ногами на тротуаре, и головой на проезжей части. Его красный шарф полоскался в стекавшей с мостовой дождевой воде, лицо было залито кровью. В нескольких шагах от него разорвалась граната, накрыв его тело белой вуалью. Карло и двое студентов подскочили к нему, кашляя и проливая слезы, схватили и утащили в ту сторону, где горели огни.
Два громадных белых слона вырисовывались на фоне неба. Их высекли руки давно умерших умельцев (но ведь смерть есть избавление) прямо в скале, когда-то возвышавшейся на вершине холма и которая была полностью превращена в слонов, а получившийся при этом щебень был унесен далеко отсюда. Это было очень давно, тысячу, может быть, две тысячи лет тому назад… Мужчины, одетые во все белое, женщины в сари всех цветов, за исключением желтого, которые поднимались по тропинке к слонам, к небу, не представляли, что означают слова «тысяча лет» или «две тысячи лет». Для них это было все равно что вчера или завтра, может быть, даже сегодня. Тропинка, спиралью восходившая к вершине, была столетие за столетием протоптана босыми ногами паломников. За прошедшее время она превратилась в узкую канавку, края которой находились на уровне колен. По ней можно было передвигаться только строго друг за другом, и это было очень кстати, потому что таким образом каждый паломник, поднимаясь на вершину, оказывался как бы в одиночестве, лицом к лицу с божеством, смотревшим на него из сердца холма. Свен шагал перед Джейн, а Джейн перед Гарольдом. Свен, не оборачиваясь и слегка задыхаясь, рассказывал Джейн, что индийцы представляли время не в виде текущей реки, а как вращающееся колесо. Прошлое возвращается к настоящему, проходя через будущее. Слоны, которые находятся здесь сегодня, были здесь и вчера. И колесо времени, когда оно, вращаясь, достигнет завтрашнего дня, тоже застанет их здесь. И так было на протяжении тысячи лет. Так где же тут начало?
Джейн плохо разбирала, что ей говорил Свен, так как его слова заглушало бормотанье паломников и звон медных колокольчиков. Она чувствовала себя счастливой, легкой, несущейся, словно корабль, покинувший, наконец, грязный порт и теперь не спеша преодолевающий океан цветов. Он мог причаливать к земле там, где ему захочется, брать на борт того, кого захочет, и вновь отдаваться ветрам свободы.
Вчера, впервые за полгода, прошел дождь, и холм покрылся невысокой молодой зеленью. Каждый стебелек заканчивался бутоном. После восхода солнца миллиарды бутонов разом распустились, открыв золотые чашечки. В одно мгновение холм превратился в золотое пламя, радостное и сияющее посреди голой равнины. Цветы полностью покрывали холм роскошным одеянием, таким же ярким, как солнце. Они были девственны, они были лишены аромата и не должны были дать семян. Они родились только для того, чтобы цвести, протянув к похожему на них солнцу свои крошечные жизни. Этим же вечером они закроются, тоже все разом, и больше никогда не раскроются.
Джейн, Свен и Гарольд накануне почти ничего не ели. Свен отдал Гарольду половину своего бисквита. На это утро у них ничего не осталось, если не считать пяти сигарет. Они поделили их перед тем, как начать восхождение на холм.
Толпа, сгрудившаяся вокруг холма, много дней ожидавшего золотого зова божества, отвечала ему звоном своих колокольчиков, которые они со всех сторон равнины протягивали к источнику света, зреющему, словно янтарный плод, среди серого пространства. Потом паломники начали медленно обходить холм, произнося имя Бога и перечисляя его добродетели.
Астрологи давно предупредили, когда над холмом прольется дождь, и паломники собрались здесь со всех краев к назначенной дате. Большинство из них были крестьянами, пришедшими сюда для того, чтобы попросить Бога не прекращать дождь и пролить его на их поля. Потому что с тех пор, как они закончили осенью сев, дождя не было. Поэтому земля стала походить на пепел, и зерна не дали всходов. Они шли много дней вместе со своими женами, детьми и стариками. Голод для них был настолько привычен, что они уже не замечали, что страдают от него. Тот, у кого больше не было сил, чтобы идти, ложился на землю и дышал, пока на это еще хватало сил. Когда силы иссякали, он переставал дышать.
Толпа вокруг холма, много дней томившаяся в ожидании, каждое утро относила умерших ночью в сторону. С мертвецов снимали одежду, чтобы большие медленные птицы, тоже явившиеся на встречу с божеством, могли обеспечить им достойное погребение.
Наконец прошел дождь, и этим утром оставшиеся в живых испытали счастье — ведь им удалось выжить и увидеть, как золотое божество расцвело над покрытой пеплом равниной.
В тот момент, когда зазвенели колокольчики, большие птицы, потревоженные шумом, оставили мертвецов, тяжело взмыли в небо и принялись описывать медленные круги над людской массой, собравшейся вокруг холма.
Свен смотрел вверх, Джейн смотрела вниз, Гарольд смотрел на Джейн, Джейн любовалась закрывавшим холм золотым покрывалом, которое словно парило над медленным водоворотом толпы, походившей сверху на молочное море, усеянное цветами. Цветами были женщины в разноцветных сари, сари всех цветов, кроме желтого, потому что сегодня желтый цвет был предназначен божеству. Белое море с цветными крапинками кружилось вокруг холма, постепенно втягиваясь на тропинку среди камней и капля за каплей поднималось к двери, распахнувшейся между слонами, под аркой, образованной их хоботами, поднятыми кверху и соединенными, словно руки священнослужителей. Там, где толпа кончалась, высоко над ней оставались только черные птицы.
У подножья холма паломники, увидевшие своего Бога, выходили наружу через двери, обрамленные каменным кружевом. Бог заполнял пустоту в недрах холма, из камня которого он был изваян. Он сидел на уровне окружающей равнины, а его шесть голов, поднимавшиеся почти до вершины холма, были повернуты к шести сторонам горизонта. Вокруг торса божества в гармоничном хороводе извивались сто рук, которые держали множество предметов, указывали на что-то или просто жестикулировали. Пробитые в скале отверстия бросали на божество блики небесного света. Каждый паломник, ступивший на вьющуюся вокруг холма тропу, срывал по пути цветок, всего один, который приносил в дар божеству, спускаясь вниз внутри холма. Когда Джейн вошла в двери между слонами и увидела первый лик божества, улыбавшегося ей с закрытыми глазами, ковер принесенных в жертву цветов уже поднимался до самой нижней из его рук, указывавшей пальцем на землю, начало и конец материального существования. Каждый паломник снаружи и внутри холма то и дело негромко произносил имя божества, время от времени слегка встряхивая колокольчик. Звон колокольчиков распространялся над ропотом толпы и, казалось, обволакивал ее покрывалом того же цвета, что и цветы на холме.
Гарольд не чувствовал под собой ног от усталости. Если они и дальше будут передвигаться со скоростью черепахи, они вряд ли смогут сегодня вернуться в город. А у него до сих пор не было маковой росинки во рту. Он уже жалел, что вместо того, чтобы отправиться в Гоа вместе с Петером, с которым прилетел из Калькутты, присоединился к Джейн и Свену, которых повстречал в аэропорту. У Петера, недавно покинувшего Сан-Франциско, еще были деньги, поэтому билеты пришлось приобретать именно ему. Гарольд, уже больше года находившийся в стране и давно оставшийся без денег, хорошо представлял все трудности странствий. Он сказал Джейн и Свену, ожидавшим Брижит и Карла, что путь, выбранный их друзьями, был полон опасностей. Нередко случалось, что путники рисковали своей жизнью. Потом они заговорили о чем-то другом. Карл и Брижит были для них вчерашним днем. Они привыкли встречаться, помогать друг другу, объединяться в группы, а потом расставаться… Ведь они были свободны…
Гарольд родился в Нью-Йорке, его отец был ирландцем, а мать итальянкой. От отца он унаследовал светлые глаза, а от матери длинные черные ресницы. Его каштановые волосы спадали на плечи длинными волнами. Тонкие усики и короткая бородка обрамляли губы, остававшиеся красными, даже если ему приходилось голодать. Когда Джейн впервые увидела его, он носил брюки из зеленого бархата, красную выцветшую рубашку с крупными черными цветами и соломенную женскую шляпу с широкими полями, украшенную букетиком и вишнями из пластмассы. На груди у него висела на черном шнурке медная коробочка из Марокко, покрытая чеканкой, в которой хранилась страница из Корана. Он показался Джейн смешным, но красивым. Гарольд же нашел Джейн красавицей. Вечером они занялись любовью на берегу океана, в тяжелой влажной жаре, в то время, как изнуренный жарой Петер спал, а Свен, сидевший возле самой воды, пытался вобрать в себя всю гармонию окружавшей его бездонной синей ночи.
Гарольд предложил Джейн отправиться вместе с ним и Петером в Гоа, но она отказалась. Ей не хотелось расставаться со Свеном. Свен был для нее не только спасителем, но и братом. До встречи с ним она была жалкой личинкой, корчащейся в черных водах абсурда и страха, заполнявшего нутро прогнившего мира. Свен обнял ее и потянул за собой к свету. Они собирались добраться до Катманду. Она не хотела бросать его и всегда пошла бы туда, куда он захочет. Решал именно он, потому что он знал.
Она переспала с Гарольдом, потому что это доставило удовольствие им обоим, а также потому, что это не запрещалось и в этом не было ничего постыдного. Законами нового мира, куда ввел ее Свен, были любовь, свобода, возможность дарить. У Свена почти не было физических потребностей, и он даже не подозревал, что такое ревность. Гарольд курил, но немного, но зато ел за двоих, когда представлялась такая возможность. Он не интересовался мистикой и считал, что Свен свихнулся, но Джейн просто великолепна. В конце концов, ему было безразлично, Гоа или Катманду, сначала он двигался на юг вместе с Петером и его деньгами, а теперь присоединился к Джейн и Свену. Они не сразу направлялись в Непал, потому что Свен хотел сначала посетить храмы Гирнара; это не имело значения, ведь только на западе считают, что прямой путь всегда самый короткий.
Джейн, оказавшаяся рядом с двумя парнями, расцвела от счастья. У нее возникло чувство единения со Свеном, благодаря нежности и восхищению, и с Г арольдом из-за наслаждения его телом. Но иногда вечерами она ложилась рядом со Свеном на сухую траву или в пыль и начинала осторожно раздевать его. Ей было необходимо любить его и физически, то есть любить полностью. И, не умея высказать свои мысли, она сознавала, что, призывая его к себе таким образом, она не позволяла ему полностью ступить на путь, на котором он, возможно, рисковал потеряться. Свен улыбался ей и не противился, несмотря на то, что все дальше и дальше отходил от одержимости желанием, от которого хотел когда-нибудь полностью освободиться. Но он не хотел разочаровать Джейн, обидеть ее. Впрочем, с ней акт любви был не слепым подчинением инстинкту, а скорее обменом спокойными ласками. Он мало говорил при этом с Джейн, но его слова казались ей отражением нежности, были насыщены ароматом цветов. Она тоже почти не разговаривала с ним, если не считать почти забытых с детства словечек, произносимых тихим, едва слышным голосом. Свену требовалось много времени, чтобы почувствовать желание, и он быстро доходил до разрядки, словно измученная птица.
Гарольд, медленно спускавшийся с холма, думал, что здешнее божество, несомненно, просто великолепно, но он был слишком голоден, чтобы полностью оценить его красоту. А найти еду среди умирающих от голода крестьян было не так-то легко. У него и у его друзей не было денег и почти кончились сигареты. Нужно было раздобыть хотя бы несколько рупий.
Выйдя из холма через низкую дверь, он сел на краю дороги и стал попрошайничать, протянув вперед руку.
Оливье очнулся, когда его затащили за баррикаду, и тут же снова бросился в схватку. Каждый толчок крови в артериях вонзал острый нож в левое ухо. Голова была заполнена странными шумами. Когда вблизи взрывалась очередная граната, он слышал грохот Хиросимы. Возгласы его друзей превращались в дикий шум, и с четырех сторон горизонта в его мозг врывались оглушительные звуки набата. Бурная ночь была переполнена ревущими вихрями, и весь этот шум вмещался в его голове.
В последующие дни студенты начали постепенно уходить из Сорбонны. С каждым новым днем все более многочисленные их группы покидали грязное запущенное здание. В то же время Сорбонна заполнялась чужаками; среди разного жулья и бродяг наверняка попадались и агенты в штатском. Какой-то чудак перебрался сюда с женой и тремя детьми, захватив с собой одеяла, соски, примус и прочую утварь. Он утверждал, что у него нет ни работы, ни жилья. Студенты попытались собрать для него на улицах немного денег, но горожане перестали откликаться на просьбы о пожертвовании. Они считали, что каникулы у студентов несколько затянулись. Рабочие добились повышения зарплаты, на которое за месяц до этого они даже не надеялись, а владельцы предприятий и коммерсанты начали задумываться о подсчете потерь.
Господин Палейрак встретил своих первых покупателей багровым от злости. Что им теперь нужно, этим кретинам, которые только что хотели все сломать? Они же ничего не понимают! А вот профсоюзы знают все, что надо! Уж они-то не утратили своих ориентиров! Им не нужно было ничего делать, только сидеть сложа руки и выжидать. И они дождались всего, чего хотели, лишь бы возобновилась работа… Весь кавардак был создан этими подонками. А кто теперь будет платить по счетам? Кто угодно, только не они!
На всякий случай господин Палейрак начал понемногу повышать цену филейной вырезки, на самую малость, так, чтобы никто не заметил. Никакого низкосортного отруба, его никогда не разбирают, они больше не хотят отварного мяса с луком, им подавай тушенное в скороварке мясо, хорошие хозяйки исчезли, остались только кокетки, которые думают только о кино или о парикмахерах, не удивительно, что их детям требуется все, чего они захотят, а сами они не будут делать ни черта! Он-то по-прежнему встает в четыре утра, чтобы успеть вовремя на Центральный рынок. А ему далеко не двадцать, да и не сорок… Но работать его приучили пинками в задницу. В двенадцать лет, после того как он получил аттестат… У него никто не спрашивал, не хочет ли он поступить в Сорбонну!
И он с возмущением швырял очередной кусок мяса на чашку автоматических весов. Пока стрелка колебалась, он выбирал самое большое значение и быстро бросал мясо в пакет. Он всегда забывал снять лишний жир или мелкие обрезки. Выигрыш небольшой, несколько граммов с каждой продажи. А к концу года набежит две-три тонны. В кассе его жена постоянно ошибалась, отсчитывая сдачу. Конечно, никогда не в ущерб себе. И хорошо соображала, с кем этот номер проходит. Никогда с настоящими буржуа, которые умеют считать свои су. А вот молодые хозяйки никогда не считают сдачу, они не глядя сгребают мелочь в кошелек. Видать, им стыдно пересчитывать. Но если кто-нибудь замечал ее ошибку, она со смущением извинялась.
Оливье до последнего момента отказывался поверить, что они проиграли. Она заварили такую кашу, что достаточно было еще немного подтолкнуть, нанести еще один удачный удар… Хватило бы и того, чтобы рабочие продолжали забастовку еще пару недель, может быть, всего несколько дней, чтобы это абсурдное общество рухнуло само под грузом своей жадности.
Но заводы, один за другим, возобновляли работу. Снова появился бензин на заправках, начали ходить поезда. Он отправился на завод Рено, чтобы ободрить бастующих рабочих. Именно там он понял, что все кончено. Оставалась только горсточка студентов, бродивших вокруг завода. Их преследовали полицейские, и за ними издалека наблюдали рабочие, иногда с безразличием, иногда враждебно. Однажды, преследуемый полицией и прижатый к берегу Сены, он прыгнул в воду и пересек реку вплавь.
На дорогах оставались заставы, и ему пришлось пробираться полями. Какой-то крестьянин спустил на него собаку. Вместо того чтобы убегать, Оливье присел на корточки и подождал, пока собака подбежит к нему. Это была длинношерстная французская овчарка, грязная и не знавшая ласки. Оливье ласково заговорил с псом и потрепал его по голове. Пес, ошалевший от счастья, вскинул передние лапы ему на плечи и в одно мгновение облизал ему лицо. Потом он принялся скакать, заливаясь громким лаем. Оливье медленно поднялся. Собачья радость кружилась вокруг, не затрагивая его. Он чувствовал себя таким же холодным, как вода Сены, из которой только что вышел.
Вернувшись в Сорбонну, он закрылся в своем кабинете. Потом долго лежал на одеяле, с открытыми глазами, ни с кем не разговаривая и всматриваясь в огромную пустоту внутри него, возникшую после крушения всех надежд. Карло, встревоженный его настроением, приносил ему поесть и пытался успокоить, утверждая, что ничего не потеряно, что они всего лишь начали и скоро продолжат свое дело. Оливье даже не пытался спорить с ним. Он знал, что все кончено. Он понял, что мир рабочих, без которого строительство нового общества невозможно, остается чуждым для них и никогда их не примет. Студенты — это неудачный продукт буржуазного общества, они выросли на слишком дряхлом дереве. И они сами разбудили бурю, сорвавшую их с ветвей. Дерево должно было скоро погибнуть, и им уже никогда не придется созреть. Они были не началом нового этапа эволюции, а завершением предыдущего. Мир завтрашнего дня придется строить не им. Это будет мир рациональный, свободный от вялых сантиментов, мистицизма и идеологии. Они пытались вести войну, витая в облаках, тогда как рабочие, сражавшиеся на твердой земле, добились улучшений в ведомостях на зарплату. Студенты забыли, что в материальном мире нужно оставаться материалистами. Но даже если этот принцип был сутью единственного способа выживания, мог ли он быть смыслом жизни?
Оливье не стал участвовать в последней стычке на улице Сен-Жак. В Сорбонне вокруг него последние счеты сводили студенты, отбросы общества, бандиты и шпики. Когда полицейские вошли в кабинет, чтобы очистить помещение, у него даже не сработал защитный рефлекс. Корабль потерпел крушение, команда покидала его. Это было кораблекрушение бесславное, в грязи. Он вышел с Карло на улицу, заполненную полицейскими в форме и в штатском. Оливье повернулся к приятелю:
— Я больше никогда не приду сюда.
Карло тащился за ним по улицам Вожирар и Сен-Пласид. Рассвело, и мимо них промчалось на большой скорости несколько машин. Перед молочной лавкой остановился грузовичок молочника и тут же двинулся дальше, оставив на тротуаре дневную порцию молока для квартала. Карло бросил в ящик монету в один франк и взял пакет молока. Откусив уголок пакета, он сделал несколько жадных глотков, потом протянул Оливье мятый пакет.
— Будешь пить?
Оливье отрицательно покачал головой. Его затошнило при одной мысли о молоке. Карло пожал плечами и снова поднес пакет ко рту. Потом он бросил его под проезжавший мимо грузовик, из-под колес которого брызнули остатки белой крови.
— И что ты теперь будешь делать? — поинтересовался Карло.
— Не знаю…
Через несколько шагов Оливье спросил в свою очередь:
— А ты?
— У меня уже есть один диплом, так что я брошу учебу…
— Будешь преподавать?
— А что, по-твоему, я еще могу делать?
Оливье не ответил. Он сгорбился и сунул руки в карманы. Его знобило. Только сейчас он заметил, что на нем нет шарфа. В самых яростных схватках он всегда следил, чтобы не потерять его, потому что это могло огорчить бабушку. И вот сейчас он просто забыл его в небольшой комнате над лестницей. Не могло быть речи, чтобы вернуться за ним. Теперь он будет лежать ярким пятном в углу кабинета. Нет… Шарф остался висеть на спинке стула. Он вспомнил, он словно видел его. Он вздрогнул; ему показалось, что он раздет.
— У тебя осталось на чашку кофе?
— Да, — ответил Карло.
Небольшое кафе с табачным киоском на углу улицы Шерш-Миди оказалось открытым. Неоновые светильники под потолком сияли, пол был покрыт свежими опилками. За стойкой сидел господин Палейрак с первым сегодня стаканчиком белого. Он весил не меньше ста килограммов. С возрастом он немного раздался в талии, но основная масса приходилась на кости и мышцы. Судя по девственно чистому халату, он еще не начал работать. Толстый фартук, напоминающий броню, облегал его бедра. Он хорошо знал Оливье, выросшего у него на глазах. Можно было сказать, что он вскормил его. Разумеется, за бифштексы платила его бабка, но ведь продавал их он! Как только Оливье оторвался от соски… Это давало ему право высказать сопляку все, что он думал о нем. Увидев вошедших в кафе студентов, он обратился к ним:
— Ну что, закончилось веселье?
Оливье остановился, посмотрел на мясника, потом отвернулся, ничего не сказав, и облокотился на стойку. Карло подсел к нему.
— Два эспрессо! — кивнул он бармену.
— Смотри-ка, нам даже не отвечают! — бросил в пространство господин Палейрак. — Может быть, меня лишили права разговаривать? А как насчет права дышать? Или я такой старый, что гожусь только на свалку? А твоя бабка, которая уже несколько недель не находит себе места, потому что давно тебя не видела? Так и ей пора на свалку? Это ведь старуха! Тебе на нее наплевать! Ты ведь занят, ты устраиваешь весь этот бардак! А теперь ты являешься, руки в карманах и спокойно пьешь кофе. Господи, что за жизнь!
Похоже, что Оливье ничего не слышит. Он смотрит в чашку, которую официант поставил перед ним, кладет туда два кусочка сахара, берет ложечку, начинает размешивать сахар.
Господин Палейрак берет свой стакан с вином и отпивает глоток. Затем, опустив стакан на стойку, снова поворачивается к Оливье:
— Ну, и что ты имеешь от всего этого, а? Все вокруг получили свой кусок масла, только не вы! Рабочие, чиновники, все они кое-что заработали на вашем балагане, а вы остались в дураках!
Оливье теперь смотрит на Палейрака ледяным взглядом, у него каменное лицо, глаза прищурены. Он превратился в статую, он стал мумией. У господина Палейрака по спине пробегает холодок страха, но он тут же встряхивается и заставляет себя рассердиться, чтобы снять ощущение странности, вернуться в обычный мир обычных людей.
— И кто теперь будет платить по счету, а? И кто будет собирать деньги? Вот уж наверняка не вы, паршивые засранцы!
Палейрак напрасно вспоминает о деньгах. Его лицо становится фиолетовым от ярости. Он поднимает свою огромную руку, лапу мясника, словно хочет размахнуться для пощечины.
— Будь я твоим отцом, я бы…
Может быть, дело было в слове «отец»? Или ответную реакцию Оливье спровоцировал жест Палейрака, показавшийся ему угрожающим? Скорее, виноваты были оба момента. Он молниеносно вышел из оцепенения, схватил со стойки алюминиевую миску с сахаром и одним движением обрушил ее на физиономию Палейрака. Стеклянная крышка разбилась, осколок распорол ему щеку. Палейрак дико закричал, попятился, наткнулся на ящик с пустыми бутылками от «Чинзано», ожидавший, пока его заберет поставщик, и опрокинулся назад среди града кусочков сахара. Всей сотней своих килограммов он врезался в автоматический проигрыватель, который отлетел к витрине. Стекло разлетелось на куски, посыпавшиеся сверкающими кинжальными осколками на лежавшего на опилках Палей- рака. Уцелевший проигрыватель сам собой включился. Оливье схватил столик и швырнул его через стойку в ряды бутылок. Потом он вооружился стулом и начал крушить все подряд. Он вращал его вокруг себя, изображая смерч, сметая все, до чего дотягивался. Его глаза были полны слез, и он видел вокруг себя только расплывчатые тени и неопределенные цветные пятна. Официант, скорчившийся за стойкой в луже напитков и среди осколков стекла, пытался добраться до телефона, но очередной взмах стула отправил телефон в кофейный автомат. В потолок ударил гейзер пара. Карло кричал:
— Остановись, Оливье! Перестань! Господи, да прекрати же!
Из проигрывателя раздался голос Азнавура. Он пел:
Что такое любовь?
Что такое любовь?
Что такое любовь?
Никто не пытался ответить ему.
— Ну почему ты сделал это? Почему?
Она опустилась на стул в кухне, она больше не могла говорить и молча смотрела на Оливье. Он стоял перед ней и тоже молчал.
Она не видела внука со дня смерти этого бедняги, господина Сеньера. И ничего не знала о нем. Она только представляла, что он участвует в этих драках, в этом безумии… Она так волновалась, что не могла есть и сильно похудела. Внешне почти не изменившись, она ощущала себя легкой, словно пустая коробка. Сегодня утром транзистор наконец сообщил, что все закончилось. Оливье должен был вернуться. И вот внук появился, но какой ужас он натворил!
И как раз тогда, когда она думала, что этот кошмар закончился, все начиналось снова! И теперь все было гораздо хуже. Господи, но ведь это несправедливо!.. Это несправедливо, она и так слишком многое перенесла, слишком натерпелась, ведь она состарилась, она устала и надеялась пожить спокойно. Она ведь просила не счастья, а только покоя, ей нужно было совсем немного покоя…
— Господи, ну почему же ты сделал это? Почему?
Оливье покачал головой. Как он мог объяснить ей?
Немного помолчав, она спросила его едва слышным голосом:
— Как ты думаешь, он умер?
Оливье отвернулся к столу, на котором остывала его чашка с кофе.
— Не знаю… Наверное, нет… Они очень живучие, такие типы… Он сильно порезался осколками стекла…
— Но почему ты сделал это? Чем он задел тебя?
— Послушай, мне надо уходить, сейчас подъедет полиция…
— Мой бедный малыш!
Она мгновенно вскочила, без малейшего усилия. Бросившись в свою комнату, распахнула шкаф и достала книгу, обернутую в бумагу с большими цветами. Это был календарь фирмы «Бон марше» за 1953 год. Потом отогнула бумагу. Там, между оберточной бумагой и обложкой, она прятала все, что ей удавалось сэкономить — тонкая пачка банковских билетов. Она схватила их, сложила вдвое и сунула в руку Оливье.
— Беги, мой цыпленок, беги скорее, пока их нет! Но куда ты пойдешь? О Боже, Боже!
Оливье взял из пачки одну бумажку и сунул ее в карман. Остальное он положил на стол.
— Я потом верну тебе деньги. Ты не знаешь, где сейчас Мартин?
— Нет, не знаю. Но ты можешь позвонить в ее агентство.
Они услышали сирену полицейского автомобиля, приглушенно доносившуюся с улицы.
— Это они! Уходи скорее! Пиши мне, я должна знать, где ты и что с тобой!
Она подталкивала его к лестнице, не помня себя от тревоги.
— Только не пиши сюда! Они могут следить… Пиши на адрес мадам Сеньер, это дом 28, улица Гренель… Торопись! О Боже, они уже здесь!
Завывание сирены раздавалось совсем близко. Но машина не остановилась, она промчалась мимо, и звуки сирены быстро затихли и пропали. Когда мадам Мюре поняла, что опасности нет, и обернулась, Оливье уже не было в комнате.
Он высадился на итальянском берегу, на небольшом пляже, откуда добрался до Рима на попутной машине. Продав зажигалку и обменяв французские деньги, зашел на почту, взял справочник на букву «Е» и принялся искать нужный ему адрес. Напрасно.
Рядом с ним какой-то человечек с круглой головой и такими же круглыми другими частями тела тоже перелистывал справочник. Оливье обратился к нему:
— Простите… Вы говорите по-французски?
Тот доброжелательно улыбнулся, изобразив на лице вопрос.
— Так, немного.
— Как будет по-итальянски «команда»?
— Команда… Это будет «squadra». «Squadra Azura» — знаете такую команду?
— Нет…
Сосед рассмеялся.
— Значит, вы не интересуетесь футболом! А что вы ищете?
— «Международная команда солидарности» — я знаю, что у них в Риме должно быть отделение.
Человечек отбросил в сторону справочник, который смотрел Оливье.
— Это не то, что вам нужно, подождите!
Он взял другой толстый том и принялся быстро перелистывать его.
Мандзони сидел за небольшим убогим столиком, заменявшим ему письменный стол. Столик был завален папками и письмами, валявшимися в полном беспорядке. Перед ним стояло два телефона, по одному из которых он как раз разговаривал. Его речь, звучавшая страстно, едва ли не грубо, сопровождалась эмоциональными жестами свободной рукой. Оливье стоял перед столиком, слушая разговор и ничего не понимая в нем. Время от времени он улавливал единственное знакомое ему слово «commandatore».
Мандзони следовало считать бедняком. Точнее, он был человеком, у которого ничего нет, потому что он все отдал конторе, свое достояние и свою жизнь. Пятидесяти лет, с поседевшими короткими волосами, он выглядел толстяком, потому что в Италии бедняки питаются одними спагетти. Он объяснял собеседнику, что ему нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Его бюро открыло в Калькутте столовую, чтобы подкармливать рисом бездомных детей, но денег хватало только на шестьсот порций, тогда как каждое утро перед столовой возникала очередь из нескольких тысяч детей, и каждое утро дети умирали в этой очереди, не дождавшись помощи. Ему нужно было больше денег!
На другом конце провода «коммандаторе» протестовал. Он уже передал этой конторе столько денег и постоянно добавлял еще и еще… Пусть Мандзони обратится к кому-нибудь другому!
— К кому, по-вашему, я еще могу обратиться, кроме тех, кто действительно дает деньги! — рявкнул Мандзони.
В итоге он добился обещания, положил трубку и вытер лоб.
— Извините, у меня был важный разговор, — обратился он на плохом французском к Оливье. — Это ужасно! Я все время должен искать деньги где-нибудь на стороне! Их никогда не хватает! Никогда!.. Итак, вы собираетесь ехать в Индию?
— Да, собираюсь, — ответил Оливье.
— Вы знаете, чем мы там занимаемся?
— В общем, да…
Мандзони вскочил из-за стола и подбежал к Оливье, чтобы лучше видеть его. Он обратился к нему на «ты»:
— Кто тебе рассказал про нас?
— Один парижский приятель. Он уехал в Индию в прошлом году.
— Почему ты не обратился в наше парижское отделение?
— Париж мне отвратителен! Я уехал из Франции, а теперь я хочу уехать из Европы.
Мандзони грохнул кулаком по столу.
— Нам не нужны типы, испытывающие отвращение к чему-либо! Нам нужны энтузиасты! Способные полюбить наше дело! Способные на жертвы! Как у тебя со всем этим?
— Не знаю, — жестко ответил Оливье. — Я такой, какой я есть, и вы или берете меня таким, или не берете.
Мандзони отступил на шаг, подбоченился и уставился на Оливье. Кажется, неплохой парень, но туда ведь нельзя отправить кого попало…
Оливье смотрел на круглое лицо собеседника и на плакат на стене за его спиной. На нем был изображен смуглый ребенок с огромными глазами, умолявший спасти ему жизнь.
— Как зовут твоего приятеля? — внезапно спросил его Мандзони.
— Патрик Вибье.
— Патрик! Что же ты раньше не сказал! Это же замечательный парень! Вот, смотри, он сейчас здесь…
Мандзони подошел к карте Индии, пришпиленной к стене рядом с плакатом. Поднявшись на цыпочки, он с трудом дотянулся до кнопки с красной головкой в верхней части карты.
— Вот здесь, в Палнахе. Он копает колодцы. Он собирался пробыть там два года, но заболел и теперь должен вернуться. Замены для него нет. Нам недостает всего, но особенно не хватает добровольцев! Эти бездельники! Вместо того чтобы слоняться по улицам и трепаться о футболе!.. Они ни на что не годятся! А вы, парижане, похоже, уверены, что ничего лучше баррикад на свете не существует…
Он потел, он кричал, он яростно жестикулировал. Наконец вытер лоб и вернулся за стол.
— Ты сможешь заменить его?
— Конечно, я хотел бы…
— Я отправлю ему телеграмму. Если он гарантирует, что с тобой все будет в порядке, я пошлю тебя в Индию. Ты знаешь наши условия?
— Знаю.
— Тебе придется дать обязательство пробыть там два года!
— Я знаю…
— Ты ничего не будешь там зарабатывать… Ты едешь туда не для того, чтобы зашибить деньжат. Ты будешь работать там ради жизни других людей!
— Знаю…
— Конечно, дорогу туда мы тебе оплатим…
Мандзони забарабанил обоими кулаками по столу и вскочил.
— Но нам нужны деньги! Деньги!
Распахнув двери, он прокричал несколько имен. Парни и девушки, вся его римская команда, добровольцы и стажеры, испуганные его воплями, столпились в кабинете. Мандзони сгреб с полки несколько банок для сбора пожертвований. На них были наклеены уменьшенные копии плаката с голодным ребенком. Он раздал банки, продолжая кричать:
— Нам нужны деньги! Оставьте все дела! Идите попрошайничать! Просить милостыню!
Он обратился к Оливье, сунув ему в руки банку:
— И ты тоже!
Потом он вытолкал всех на улицу, сел за стол, вытер лоб и набрал номер очередного «коммандаторе».
Патрик ждал его в аэропорту. Когда он хлопнул Оливье по плечу, тот подскочил от неожиданности. Он не узнал Патрика. У того еще в Париже была тонкая фигура; теперь же он совсем отощал. Он был подстрижен «под ноль», загорелое лицо напоминало цветом гаванскую сигару. Очки в металлической оправе увеличивали глаза; его взгляд оставался таким же светлым и чистым, словно взгляд ребенка.
Насладившись растерянностью Оливье, Патрик рассмеялся.
— А вот ты совсем не изменился, — сказал он.
— Что с тобой? — спросил Оливье, проведя рукой по короткому бобрику приятеля. — Ты что, решил скопировать Г анди?
— Ты почти угадал… У тебя есть багаж?
Оливье приподнял рюкзак.
— Вот весь мой багаж.
— Отлично, так ты быстрее пройдешь таможню. Я займусь этим. Передай свой паспорт тому типу…
Оливье предъявил паспорт служащему в тюрбане, который, увидев визу на два года, мгновенно настроился враждебно. Он спросил на английском, что Оливье будет делать в Индии. Тот не понял и сказал ему это по-французски. Но чиновник прекрасно все понял и без слов. Перед ним был еще один человек Запада, из числа тех, что приезжают, чтобы спасти Индию своими советами и своими долларами, своей моралью и своей техникой. И, прежде всего, своим чувством превосходства. Но паспорт был в порядке, он ничего не мог поделать. И он поставил печать с такой силой, словно нанес удар кинжалом.
Огромные вентиляторы с лопастями, похожими на пропеллеры самолета, рядами свисавшие с потолка зала аэропорта, лениво перемешивали горячий воздух. Оливье рухнул в кресло. Было слишком жарко, ему хотелось пить, у него было нечисто на совести, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Патрик быстро вернулся с его рюкзаком.
— Ну-ка, вставай, лодырь! Нас ждет джип. Впереди у нас длинная дорога, нужно успеть до ночи!
Оливье поднялся и взялся за рюкзак. Патрик был рад, словно встретил брата.
— Когда я получил телеграмму из Рима, я решил, что это невозможно, что это какая-то шутка!
— Да, почти шутка, — негромко пробормотал Оливье.
— Я так хотел бы остаться здесь с тобой. Быть здесь вдвоем — это совсем другое дело, понимаешь? Это было бы просто здорово! Но я совсем сдал… Эти амебы… Может быть, виновата жара, да и еда здесь без мяса… Не знаю… Я едва таскаю ноги, я ничего не могу делать… Мне нужно отдохнуть два-три месяца… Но мы еще увидимся, я обязательно вернусь!
Он дружески хлопнул Оливье по плечу, но так легко, словно коснулась крылом птица.
Пройдя несколько шагов, Оливье остановился и повернулся к Патрику.
— Ты действительно так устал?
— У меня просто не осталось никаких сил… Ты увидишь, здесь очень трудно, но ты гораздо крепче меня…
Оливье опустил голову. Как сказать ему? Потом выпрямился и по смотрел в глаза другу. Он должен знать правду. И так слишком много лгал с тех пор, как оказался в Италии.
— Послушай, меня мучает одна проблема… Я надеюсь, что они пришлют кого-нибудь другого тебе на замену… Но я не поеду с тобой…
— Что? Куда они тебя отправляют?
Патрик был сильно разочарован, но не возмущался. Он представлял огромность задач, стоявших перед «Командой солидарности», знал ограниченность ее средств. Они подключались везде, где только могли и как только могли.
— Никуда они меня не отправляют, — сказал Оливье. — Я сам решил, куда я поеду. Я поеду в Катманду.
— В Катманду? Что ты там будешь делать?
Патрик ничего не понимал. Оливье говорил ему что-то невероятное.
— Я должен уладить старые счеты, — ответил Оливье. — С одним подлецом. Это необходимо. У меня не было денег, и я использовал вашу «Команду», чтобы добраться до Индии. А теперь я должен двигаться дальше, вот и все.
— Это все?
— Да, все.
— Ты упомянул сейчас о каком-то подлеце… Как ты думаешь, кем можно считать тебя самого?
— Я есть то, что из меня сделали! — с яростью ответил Оливье. — Я верну вам деньги за дорогу! Я всего лишь взял их в долг. Не стоит делать проблему из этой ерунды!
Патрик, совершенно обессиленный, прикрыл на мгновение глаза. Потом он снова взглянул на друга, попытавшись улыбнуться.
— Прости меня. Я прекрасно знаю, что ты не подлец.
Измученный вид Патрика и его способность простить вывели Оливье
из себя.
— Мне плевать, если меня считают подлецом! И если я еще не докатился до этого, то, надеюсь, скоро стану им! Чао!
Он вскинул рюкзак на плечо и отвернулся от Патрика. Когда он подошел к выходу, Патрик окликнул его.
— Оливье!
Он обернулся, не скрывая раздражения. Патрик подошел к нему.
— Мы не должны ругаться, это было бы слишком глупо. Послушай, Палнах лежит как раз в той стороне, куда ты направляешься. Если хочешь, я подброшу тебя на джипе, это позволит тебе быстро преодолеть две трети дороги. Дальше, до границы с Непалом, ты сможешь продвигаться местами пешком, местами на поезде.
Он положил руку Оливье на плечо.
— Я понимаю, что у тебя имеются свои соображения, но мне было бы очень обидно…
Оливье немного расслабился.
— Спасибо за предложение, твой джип будет очень кстати.
Ему даже удалось улыбнуться.
— Было бы жаль не воспользоваться возможностью провести какое- то время с тобой…
Когда джип преодолел последние пригороды и помчался по сельской дороге, бледный как призрак Оливье закрыл глаза и долгое время не открывал их. Под его опущенными веками снова и снова разворачивались картины, с которыми он только что столкнулся и которые по-прежнему казались ему неправдоподобными. Он подозревал, что Патрик специально выбрал такой маршрут, хотя и не исключал, что любой другой вариант маршрута показал бы ему то же самое.
Сначала они проехали величественными проспектами невероятной ширины, обрамленными просторными садами, заполненными кипением зелени и цветов, за плотной завесой которых угадывались большие здания, прячущиеся в тенистой свежести. Это были кварталы богатых особняков, чередовавшихся с шикарными отелями и административными комплексами. Простор и идеальный порядок. Солнце, хотя и наполовину прикрытое облаками, палило нещадно. Рубашки юношей насквозь промокли от пота, и Оливье с завистью думал, как прекрасно чувствуют себя обитатели этих зданий, в которых наверняка есть кондиционеры.
Потом они оказались на довольно узкой улице. Это было преддверие совершенно иного мира. Прежде чем Оливье успел разглядеть окружающую его новую обстановку, джип резко затормозил перед невероятно тощей коровой, неподвижно стоявшей с опущенной головой посреди улицы. Патрик заставил двигатель взреветь, нажав на педаль газа, и просигналил клаксоном. Корова даже не пошевелилась. Казалось, что в ее похожем на скелет теле не осталось жизненной энергии, чтобы позволить ей проделать несколько шагов. Но ее нельзя было объехать ни справа, ни слева.
Под стенами зданий, где господствовала тень, плотной массой сгрудились люди — мужчины, женщины и дети. Одни из них сидели, другие лежали, и те, у кого были открыты глаза, молча смотрели на Патрика и Оливье. Это были совершенно пустые взгляды, без любопытства, без дружелюбия или враждебности, в них не было ничего, кроме бесконечного терпеливого ожидания чего-то неясного, может быть, дружбы, может быть, смерти. И смерть была для них единственной посетительницей, в приходе которой можно было не сомневаться. Тем более, что она появлялась постоянно. Оливье с ужасом понял, что многие, лежавшие с лицами, закрытыми одеждой, были мертвы. Он увидел одного мужчину, лежавшего на солнце, потому что у него не было сил доползти до тени, и спокойно ожидавшего неизбежного. Из одежды на нем была только узенькая тряпка на поясе, и все его кости рельефно выделялись под кожей цвета пыли и табака. В его теле осталось так мало влаги, что даже свирепое солнце не могло выжать из него хотя бы капельку пота. Глаза у него были закрыты, посреди серой бороды зияло черное отверстие рта. Его грудь время от времени слегка поднималась и тут же снова опадала. Когда грудная клетка некоторое время оставалась неподвижной, у Оливье возникало страшное ощущение, что все кончено. Однако грудная клетка с непонятным упорством снова поднималась. Корова по-прежнему не собиралась освобождать им дорогу. Патрик вылез из джипа, покопался под своим сиденьем, извлек оттуда пучок сухой травы и поднес его к коровьей морде. Тяжело вздохнув, та потянулась к сену. Патрик отступил, корова двинулась за ним. Когда она освободила достаточно места, чтобы джип мог проехать, Патрик отдал сено корове.
Они двинулись дальше. Оливье продолжал смотреть на человека, лежавшего на солнцепеке. Обернувшись назад, он следил за ним, пока его не загородила группа детей. Дети молча смотрели на него. Все как один. Он не видел ничего, кроме огромных детских глаз, смотревших на него с пугающей сосредоточенностью и ожидавших от него. Чего? Что он мог дать им? У него ничего не было, да и сам он был ничем. Впрочем, он не хотел ничего никому давать. Он решил отныне стать тем, кто берет. Стиснув зубы, он перестал смотреть на людей в тени. Но джип едва тащился по узкой улице, заполненной тележками, которые или тащили буйволы, или толкали тощие мужчины. Им пришлось еще пару раз останавливаться, чтобы выбраться из пробок.
Обнаженный мальчуган лет пяти или шести подбежал к джипу. Он протянул левую руку, прося милостыню на незнакомом Оливье языке. Правой рукой он прижимал к себе голого младенца, которому было не больше нескольких недель и который явно умирал. Его кожа приобрела зеленовато-желтый цвет, глаза были закрыты, потому что он не хотел смотреть на мир, который ему так и не придется узнать. Он пытался еще дышать, втягивая воздух, словно рыба, давно выброшенная на песок.
Джип окутывало плотное облако пыли. Большие незнакомые Оливье деревья обрамляли дорогу с обеих сторон, и между их стволами он видел продолжавшуюся до горизонта пересохшую равнину, деревни на которой казались кусками грязи, засохшей на коже бродячего пса.
— Дождя не было уже месяцев шесть, — сказал Патрик. — Обычно они начинаются, когда уже закончились посевные работы. Но в этом году их не было. Так что там, где нет колодцев, урожая не будет.
— И что тогда?
— Тогда те, у кого нет запасов зерна, умрут от голода.
Оливье пожал плечами.
— Ты пытался повлиять на меня, когда мы проезжали городскими улицами, и снова пытаешься сейчас. Но со мной этот номер не пройдет. У них ведь есть правительство! Им помогают американцы, ЮНЕСКО, в конце концов!
— Ты, конечно, прав, — негромко произнес Патрик.
— И потом, если здесь сто миллионов умирает от голода, то что могу сделать я? И что сможешь изменить ты со своими тремя каплями воды?
— Даже одна капля воды — это лучше, чем ее полное отсутствие, — ответил Патрик.
Теперь деревья на обочинах исчезли, и дорога превратилась в узкую тропу, пересекавшую глинистую равнину, растрескавшуюся, словно дно водоема, воду из которого солнце выпило много лет назад. Они пересекали это однообразное пространство уже много часов подряд, и Оливье утратил ощущение времени. Ему казалось, что он или попал в кошмарный сон, или благодаря какому-то колдовству очутился на чужой планете, умирающей вместе со своими обитателями.
Они проехали мимо множества стервятников, кишевших вокруг какой- то падали, возможно, дохлой коровы или буйвола. Разглядеть тушу было невозможно. Казалось, что она скрыта под несколькими слоям падальщиков. Те из них, кто оказался сверху, пытались пробиться к добыче, просовывая головы на длинных шеях сквозь массу более удачливых сотоварищей. И к царившей вокруг падали сумятице постоянно добавлялись все новые и новые конкуренты, кружившиеся над добычей, тяжело взмахивая огромными крыльями. Казалось, что они возникают буквально из пустоты.
Они проехали через жалкую деревушку, хижины которой с соломенными крышами прижимались друг к другу, словно пытаясь защититься не только от солнца, но и от жестокого мира. Оливье увидел в деревне только женщин и детей, а также нескольких стариков, доживающих свои последние дни.
— Это деревня париев, — объяснил Патрик, когда они оставили деревушку далеко позади. — Это неприкасаемые, они не принадлежат ни к одной касте. Палнах, деревня, в которой я сейчас работаю, точно такая же. Все мужчины из нее уходят на заработки в соседнюю, более богатую деревню. Ну, относительно богатую. То есть деревню, в которой жители принадлежат к той или иной касте, где мужчины вправе считать себя мужчинами. Парии — это вообще не люди. Их заставляют работать, как лошадей или буйволов, им дают что-нибудь съедобное, чтобы в этот день они могли прокормить себя и свою семью, а потом прогоняют их. Так после работы бросают охапку сена буйволу перед тем, как отправить его в хлев. Да, правительство дало им землю, но им некогда обрабатывать ее, некогда копать колодцы. К тому времени, когда придут дожди, они все загнутся от голода.
— Что за дурачье! — проворчал Оливье. — Чего они ждут, почему не бунтуют? Им достаточно поджечь окружающий их сушняк!
— Они даже не догадываются, что такое возможно, — ответил Патрик. — Они знают только то, что они парии. И это они знают с момента своего рождения, знают тысячи лет, всегда. Ты можешь убедить буйвола, что он есть нечто иное, а не буйвол? И все же он хотя бы изредка может боднуть своего хозяина. Но у париев нет рогов.
Издалека джип выглядел, как облако пыли, перемещавшееся по пустыне. По совершенно сухой, но все же населенной равнине с немногочисленными деревушками, причем, вокруг некоторых даже встречались деревья, хотя и почти засохшие. Казалось невероятным, что в таких условиях может существовать жизнь.
— Их революция осуществляется нашими руками, — продолжал Патрик. — Мы появляемся здесь с деньгами. И эти деньги мы не тратим на милостыню. Нет, мы платим им за работу. Но работают они не на нас, а на себя. Они начинают копать колодцы, обрабатывать принадлежащую им землю, сеять, собирать урожай. Как только они получают достаточно зерна, чтобы продержаться до следующего урожая, они спасены, и мы можем уезжать. Приехав сюда, мы имеем дело с животными; уезжая, оставляем здесь людей.
Оливье промолчал. На него давил свинцовый груз усталости, резкой смены обстановки и абсурдности всего, что он успел здесь увидеть. Пыль и мелкий песок забивали ему горло, скрипели на зубах и обволакивали все тело, словно реголит Луну.
Постепенно дорога поднялась над уровнем окружающей равнины. Теперь джип катился по насыпи, возвышавшейся на метр с лишним над потрескавшейся глинистой почвой.
— Когда нет засухи, — сказал Патрик, — эта местность каждый год оказывается под водой. Более или менее сухой остается только дорога, идущая по насыпи, хотя иногда ее тоже заливает.
Солнце опускалось к горизонту, но жара не спадала. Шлейф пыли позади джипа окрасился в розовый цвет.
— Когда я приехал в Палнах, его жители ходили без одежды. В Индии есть места, где обнаженность свидетельствует о невинности. Здесь же они ходили голые, как животные. Поэтому нам пришлось начать с того, что мы их одели.
Они подъезжали к деревне, хижины которой сгрудились на невысоком бугре, зародыше холма, который все же мог защитить деревню от наводнений.
— А вот и Палнах, — сказал Патрик.
У подножья небольшого холма, на котором сгрудились хижины, в земле была вырыта воронка диаметром в несколько десятков метров, на дно которой спускалась тропа. Это был колодец. Колодец еще не был закончен, он едва достиг кровли водоносного пласта. Нужно было копать гораздо глубже. Этим занимались несколько мужчин на самом дне воронки. Им помогали женщины, выстроившиеся цепочкой до гребня вала, окружавшего воронку. Они передавали друг другу наполненные влажной землей корзины. Когда корзины оказывались на гребне, стоявшие там мужчины высыпали землю на внешнюю сторону вала. Земля желтого цвета была настолько насыщена водой, что тут же растекалась, словно жидкая грязь. И хотя слоем этого липкого мазута были
покрыты лица и тела женщин, они радостно смеялись, потому что грязь была для них благословением, благословением водой, наконец-то появившейся из-под земли. Джип, сопровождаемый толпой детворы, затормозил возле колодца, обнесенного высоким валом.
— Защита во время наводнения, — заметил Патрик, обращаясь к Оливье. — Таким образом спасаем воду от воды. Потому, что паводок несет с собой много мусора и навоза, а то и трупы животных. Конечно, все это может служить удобрением, но если питьевая вода смешается с паводковой, ее нельзя пить.
Землекопы прекратили работу и поднялись наверх. К ним присоединились остальные жители деревни, повыскакивавшие из хижин. Плотная толпа окружила джип и замерла в молчаливом ожидании. Патрик выпрямился и, подняв к груди сложенные ладонями руки, принялся отвешивать во все стороны поклоны. При этом он улыбался, подчеркивая неофициальный, дружеский характер приветствия. Потом спрыгнул на землю.
Вслед за ним из джипа выбрался Оливье. Остановившись, он огляделся под устремленными на него взглядами мужчин, женщин и детей. Это были совсем не те взгляды, как у людей в городе — там покорно ожидали прихода смерти. Тем не менее, и там, и здесь у взглядов всех местных жителей была одна общая особенность: они были открыты. Это слово неожиданно пришло на ум Оливье, и он осознал, что раньше видел только закрытые взгляды. В Европе, в Париже, у бабушки и матери, у всех его друзей, у встречных девушек, даже у товарищей, стоявших рядом с ним на баррикаде, взгляды всегда были закрытыми. Они ничего не хотели получать, они ничего не хотели отдавать. Они были закрыты броней, из которой делают сейфы.
Здесь, на другом краю Земли, глаза были открытой дверью. Они были темными, как будто за этой дверью был мрак пустоты. И они ждали, чтобы через эту открытость вошло что-то, способное светом изгнать темноту. Может быть, это будет дружеский жест. Может быть, это надежда увидеть Бога в конце бесконечной ночи. Жизнь, смерть — похоже, отступали перед желанием уловить малейший след, ничтожный атом надежды, которая должна же была материализоваться в этом огромном мире в облике брата, чужеземца, цветка или Бога. Ведь они ждали тысячу лет, и вот, наконец, появился некто, принесший первый лучик надежды. И в каждом взгляде светились этот лучик и ожидание более яркого света. В обмен они были готовы пожертвовать собой.
Оливье почувствовал головокружение, словно очутился на краю бездонной пропасти. Он понял, что эти глаза ждали именно его.
— Ты хотя бы поприветствуй их, — толкнул его в бок Патрик. — Мне придется сказать им, что тебя посылают в другое место и что я остаюсь. Не могу же я сказать им правду.
Оливье очнулся и принялся отряхивать пыль с одежды.
— Скажи им все, что ты хочешь. А я ухожу. Где моя дорога?
Окружавшие их мужчины и женщины сложили руки перед грудью и принялись кланяться с улыбкой. Дети со смехом повторяли жесты взрослых.
— Поприветствуй их! — шепнул Патрик. — Они же ничего плохого тебе не сделали.
Смущенный Оливье, понимавший, как нелепо он выглядит, принялся неловко отвешивать поклоны во все стороны. Остановившись, он яростно прошипел:
— Может быть, достаточно? Покажи мне дорогу!
— Ты не хочешь переночевать здесь? Ведь ночь на носу. Пойдешь завтра утром.
— Нет, мне нужно идти, — возразил Оливье.
Взяв с сиденья джипа рюкзак, он забросил его за спину.
— Послушай, они приготовили небольшое торжество по случаю твоего приезда. Останься хотя бы на этот вечер.
Окружающие, не понимавшие происходящего, смотрели то на Патрика, то на Оливье. Тот ощущал нараставшую вокруг него энергию невыносимого для него призыва.
— Я всего лишь задолжал вам немного денег, вот и все! Я верну их! Если ты не хочешь, чтобы я пошел куда глаза глядят, покажи мне дорогу.
Но вокруг них с Патриком уже сомкнулся людской круг, и, чтобы уйти, Оливье должен был прорвать его, растолкать людей в стороны обеими руками, как это бывает в густом лесу, когда ты раздвигаешь ветки кустарников, чтобы выйти на тропинку. Патрик молчал. В какую сторону ему идти? На север? Солнце опускалось к горизонту слева от него. Значит, он стоял лицом на север. Ему нужно было идти прямо вперед, никуда не сворачивая.
Он шагнул, и толпа раздалась перед ним, образовав сквозной проход. Оливье увидел, что из деревни к ним бежит девочка, держащая что-то в руках перед собой. Оказавшись в центре круга, она передала то, что несла, старику, стоявшему в первом ряду. Это была небольшая чаша, простая чаша из светло-зеленого пластика, вариант современного Грааля, но наполненного до краев чистой водой, ни капли которой не пролилось, когда девочка бежала.
Старик с поклоном передал чашу Патрику, сказав при этом несколько слов. Патрик передал чашу Оливье.
— Они дают тебе самое ценное, что есть у них, — сказал он.
Оливье колебался несколько мгновений, потом сбросил рюкзак на
землю, принял обеими руками протянутую ему чашу и залпом выпил ее, закрыв глаза от удовольствия.
Когда он снова открыл их, перед ним стояла девочка с поднятой головой, со счастливой улыбкой смотревшая на него. Ее глаза показались ему огромными, как наступавшая ночь, и полными звезд, как эта ночь.
Оливье поднял рюкзак и швырнул его в джип.
— Ладно, я остаюсь у вас на эту ночь, но завтра утром распрощаюсь с вами.
— Ты можешь поступать так, как считаешь правильным, — негромко сказал Патрик.
На деревенской площади разожгли костер, совсем небольшой, потому что в этих краях дерево было таким же редким, как и вода, но для праздника в честь пришедшего в гости друга отдают все, чем ты обладаешь. Они уселись в кружок вокруг огня прямо на землю. Одна из женщин запела. В такт пению мужчина постукивал короткой палочкой по небольшому деревянному цилиндру. В деревне это был единственный музыкальный инструмент.
Патрик и Оливье сидели напротив поющей женщины. У Оливье быстро заболели ноги от непривычной позы. Ему никогда не приходилось сидеть на земле, скрестив ноги. Но он не решался пошевелиться, потому что девочка, принесшая воду и некоторое время сидевшая возле гостя, не сводя с него огромных глаз и все с той же улыбкой на лице, вскоре задремала, положив голову ему на колени.
К женскому голосу, теперь звучавшему приглушенно, присоединился голос человека с совершенно белой бородой. Он смотрел на Оливье, плавно жестикулируя, сводя и снова разъединяя пальцы. Это был староста деревни, которому девочка передала чашу с водой.
— Он благодарит тебя за то, что ты пришел, — негромко перевел его слова Патрик.
Оливье пожал плечами. Спящая девочка вздохнула во сне, слегка пошевельнулась, и ее голова едва не упала с колен Оливье. Ее спокойное счастливое лицо было обращено к ночному небу. Тело ее было совершенно расслаблено, она явно чувствовала себя в полной безопасности.
Посмотрев на Оливье со спящим ребенком на коленях, Патрик улыбнулся.
— Можно считать, что она приняла тебя как своего.
Оливье вздрогнул и внутренне ощетинился. Он почувствовал, что стоит ему еще немного задержаться, и он попадет в ловушку, поставленную оказанным ему доверием. Кроме того, он ощущал неудержимо поднимавшееся в нем желание остаться с этими тихими людьми, с этой девочкой, котенком свернувшейся возле него. Желание забыть все невзгоды, все приключения и закончить здесь свое путешествие.
Как к спасительному кругу, он обратился к воспоминаниям. Он вспомнил борьбу самолюбий, стычки с полицией, постигшее его разочарование. Зажав уши обеими руками и закрыв глаза, он замотал головой, пытаясь преодолеть пронзившую его боль.
Патрик, не сводивший с него глаз, был удивлен и обеспокоен. Он осторожно отодвинулся. Сейчас не нужно было ничего спрашивать, не нужно было вмешиваться. Было ясно, что в душе у его друга кровоточила какая- то рана, которую он невольно задел. С какими бы добрыми намерениями ты ни протягивал руку человеку, лишенному кожи, ты не причинишь ему ничего, кроме боли. Он сможет излечиться только благодаря своим внутренним силам и, конечно, благодаря времени.
Оливье пришел в себя, посмотрел на сидевших вокруг людей, на лицах которых играли отблески костра. Внезапно он почувствовал, что они стали безразличны ему, так же безразличны, как деревья или камни.
Он бережно приподнял головку девочки и опустил ее на землю, проделав это так осторожно, что она даже не проснулась.
— Я должен уйти, — обратился он к Патрику.
Встав на ноги, он вышел из освещенного круга.
Старик внезапно замолчал. Потом замолчала женщина. Все молча смотрели в ту сторону, где темнота поглотила силуэт Оливье.
Патрик тоже встал. Он обратился к сельчанам на их языке. Пришедший вместе с ним друг должен уйти. Его призывают другие края. Но он, Патрик, остается.
Оливье взял свой рюкзак, оставленный в джипе, и направился на север по петлявшей между хижинами тропинке. Пока темно, он будет двигаться в этом направлении. Когда рассветет, он сориентируется.
Наткнувшись на лежавшую на дороге корову, он выругался. Он проклинал коров, Индию, весь мир. Разбуженная его шагами курица, спавшая под крышей, закудахтала и снова утихла.
Оливье спустился вниз по склону холма, пройдя между последними хижинами. В темноте перед ним возник чей-то силуэт. Он остановился. Это был Патрик.
— Мне в эту сторону? Я не ошибся?
— Все правильно. Продолжай идти прямо на север. Через один-два дня, в зависимости от того, с какой скоростью ты будешь идти, ты увидишь город. Это будет Мадира. Там проходит железная дорога. У тебя есть деньги на билет?
— Есть немного.
— Поездом ты доберешься только до границы. Дальше, на территории Непала, тебе снова придется идти пешком.
— Ничего, справлюсь, — ответил Оливье. — Мне очень жаль. Конечно, здесь. Но я не могу. Надеюсь, тебе скоро пришлют кого-нибудь на замену.
— За меня не беспокойся, — ответил Патрик. — Держи, ты забыл самое важное.
И он протянул другу фляжку, наполненную водой.
На третий день пути, уже в Непале, он встретил Джейн.
В поезде ему пришлось столкнуться с такой же толпой, как и на городских улицах. Пожалуй, немного лучше одетой, но еще более плотной. В вагонах продолжалась та же повседневная жизнь; можно было подумать, что улицу взяли целиком и поставили на колеса. Он безрезультатно попытался найти сидячее место. В одном из купе женщина варила рис, пристроив небольшой примус на полу между голыми ногами соседей. В соседнем купе невероятно тощий святой, лежавший на сиденье, то ли умирал, то ли уже был мертв, хотя не исключено, что он просто занимался медитацией. Соседи, не обращая на него внимания, громко молились. Палочки, воткнутые в какой-то лежавший на полу предмет из меди, медленно тлели, распространяя ароматы ладана и сандала.
Каждый раз, когда Оливье показывался в открытом проеме очередного купе, глаза всех пассажиров тут же обращались на него. Никакой реакции не проявили только молившиеся и медитировавший святой. В конце концов, ему пришлось устроиться на полу в коридоре, среди других сидевших или лежавших пассажиров. Он прижал к себе рюкзак и задремал. Проснувшись, он обнаружил, что украли деньги, три долларовые бумажки, лежавшие в кармане рубашки. Утешило только то, что в рюкзаке у него было еще долларов двадцать.
На границе с Непалом пограничники пропустили его без каких-либо проблем. Они оказались на редкость любезными. Разговаривая с ним на жутком английском, который Оливье не понимал, несмотря на все знания, приобретенные в школе, они непрерывно улыбались. В его паспорте быстро появилась печать, он подписал какие-то непонятные бланки, отпечатанные на отвратительной бумаге, но так и не понял, какой срок может провести в стране. Обменяв несколько долларов на местную валюту и подписав еще какую-то бумагу, он положил в карман пачку бумажных рупий и пригоршню медяков. Когда он попытался выяснить, как добраться до Катманду, ему что-то долго объясняли, сопровождая слова энергичной жестикуляцией и дружелюбными улыбками. Из всего услышанного понятным оказалось только слово «Катманду». Тем не менее он вскоре оказался по другую сторону границы. Перед ним стояли два автобуса и была видна одна- единственная дорога. Автобусами служили древние, вероятно, столетнего возраста, грузовики, на которые установили будки, расписанные живописными пейзажами и гирляндами цветов, над которыми вдоль крыши тянулся зубчатый деревянный карниз. Оба автобуса были под завязку набиты пассажирами, так плотно заполнившими проходы, что едва не выдавливали друг друга в окна. Мужчины были одеты в рубашки из белого или серого полотна и штаны из такой же ткани, очень широкие в бедрах и узкие ниже колена. На голове у всех были шапочки, белые или цветные. У самых молодых встречались рубашки европейского покроя и пижамные штаны.
Оливье подошел к одному из автобусов и громко спросил, указывая на него:
— Катманду?
Все, кто его услышал, тут же повернулись к нему и, широко улыбаясь, отрицательно замотали головой. У другого автобуса ему ответили тем же. Но он все равно не решился бы забраться в одну из этих соковыжималок. К тому же, разглядел, что пассажиры были не только весьма жизнерадостными, но и невероятно грязными.
Оливье еще не знал, что покачивание головой, единодушно продемонстрированное ему и означавшее для европейца отрицание, для местного населения означало «да». Тем не менее, ни один из автобусов действительно не отправлялся в Катманду. Но дружелюбие местных обитателей не позволяло им обидеть иностранца отрицательным ответом.
На карте, висевшей на стене в римской конторе, он разглядел, что в Непале имеется только одна автомобильная дорога, идущая от границы с Индией к границе с Китаем. Катманду находился неподалеку от этой трассы. Поэтому он решил, что если нет выбора, то нет смысла и колебаться. И он двинулся в путь. В очередной раз его ожидал совершенно новый мир.
После того, как он пересек бесконечную индийскую равнину, сохранившую на своем теле следы бурных наводнений, ему предстояло начать подъем на первую горную гряду, обозначающую границу между Индией и Непалом. Скоро он очутился среди холмов, покрытых сплошной зеленью. Там, где его взгляд останавливался на безлесных участках местности, каждый пятачок земли был тщательно обработан и покрыт незнакомыми ему культурными растениями. Впрочем, Оливье, потомственный парижанин, даже во Франции не смог бы отличить свеклу он кукурузы.
Дорога то углублялась в ущелья, то огибала долины. Оливье часто сокращал дорогу, спускаясь по крутым склонам на дно долин и поднимаясь на их противоположный борт. Местные жители, встречавшиеся по пути, только улыбались и отрицательно качали головой, какой бы вопрос он им ни задавал. Они не понимали ни одного слова из того, что говорил иностранец, а если ты ничего не понял, то правила хорошего тона требуют отвечать «да». Они отвечали «да», но Оливье понимал «нет». Он заподозрил, что ошибается, когда проголодался и решил найти что-нибудь съестное. Он подошел к ферме, внешне напоминавшей небольшой деревенский дом во Франции. Кирпичные стены были покрыты слоем штукатурки, местами осыпавшейся. На половину высоты стены были красными, а выше, до крыши из соломы, — желтыми. Навстречу ему выскочили трое совершенно голых ребятишек, принявшихся со смехом и криками скакать вокруг него. Грязные с головы до ног, они явно хорошо питались и выглядели счастливыми. За ними к гостю вышла женщина в платье кирпичного цвета с белым поясом, несколько раз обернутым вокруг талии, размеры которой указывали на скорое прибавление в семействе. Она была смуглой, с жизнерадостной улыбкой; ее черные волосы были разделены на две косы с заплетенными в них красными лентами. Смуглянка была такой же грязной, как дети, если не больше. Оливье поздоровался с ней на английском языке, и она, продолжая улыбаться, отрицательно покачала головой. Тогда он знаками показал ей, что голоден, и вытащил из кармана долларовую бумажку, чтобы дать понять, что он заплатит. Женщина весело засмеялась, снова отрицательно качнула головой и вошла в дом.
Оливье вздохнул и уже повернулся, чтобы идти дальше, когда она опять вышла к нему, на этот раз с корзинкой, в которой лежали апельсины и еще какие-то неизвестные Оливье фрукты. После этого она вынесла Оливье блюдо отварного риса с овощами. Он поблагодарил ее, она опять ответила «нет». Когда Оливье присел на корточки, чтобы поесть, она осталась стоять возле него вместе с детьми. Они смотрели, как он ест, громко переговариваясь и смеясь. Оливье был вынужден съесть рис, пользуясь пальцами. Овощи, приготовленные с рисом, были почти сырыми и хрустели на зубах. От этого блюда сильно несло запахом древесного дыма. Фрукты показались ему вкусными, и он с удовольствием съел апельсин, по вкусу напоминавший большой сладкий мандарин. Самый грязный малыш принес ему чашку с водой, в которую он по дороге обмакнул обе пятерни. Оливье вежливо отказался от питья и протянул женщине долларовую бумажку, которую та приняла с удовольствием. Он спросил: «Катманду?» Женщина ответила длинной тирадой и показала рукой на север. Он понял, что ему нужно идти в этом направлении.
Дети некоторое время сопровождали его и повернули домой, только когда он стал спускаться в долину. Немного в стороне заметил полуобнаженного мужчину, который обрабатывал землю мотыгой с очень короткой ручкой. Увидев путника, тот выпрямился и долго провожал его взглядом.
Оливье шел два дня, утоляя жажду и умываясь водой из ручьев, питаясь на фермах и проводя ночь под пологом древесных ветвей. Днем всегда было жарко, но ночью жара спадала. На дорогах ему нередко встречались автобусы, похожие на те, что он видел на границе, а также простые грузовики, набитые пассажирами, но ни разу он не увидел машины, перевозившей какой-нибудь груз. Позже он узнает, что в этой стране грузы перемещаются исключительно людьми. Для этой цели существуют целые семьи шерпов- носильщиков. Каждая такая семья, состоящая из отца, матери и детей, включая самых маленьких, обычно несет корзины, различающиеся размерами в зависимости от возраста носильщика. Корзины держатся на спине с помощью плоской ленты, охватывающей лоб носильщика. Их вес кажется чудовищным. Оливье видел мужчин, женщин и детей, несущих на спине прикрепленный к голове груз, вес которого превышал их собственный. Несмотря на это, они не только шагали, но и передвигались рысцой, быстро исчезая за деревьями, за горой или за горизонтом, направляясь к известной только им цели, достигнув которой, они могли избавиться от своей ноши.
Он тоже шагал с грузом угрызений совести, боли и ненависти. Его цель находилась за второй горной грядой, которой он еще не видел. К концу третьего дня он утратил какое-либо представление о том, сколько прошел и сколько еще оставалось идти. Но знал, что идти нужно без остановки, чтобы наступил, наконец, момент, когда окажется перед отцом. Тогда он опустит на землю свою корзину и покажет ему, что принес в ней с другого конца света.
Этот день был особенно жарким. Со средины дня начала собираться гроза. Она долгое время ворчала над горами, но так и не разразилась безудержным гневом, заставляющим дрожать от страха, и в то же время спасительным. Оливье какое-то время двигался долиной, в которой скопился невыносимо горячий воздух, потом начал подъем на противоположный склон. Утомившись, решил немного отдохнуть и устроился на жесткой сухой траве возле группы странных деревьев, вместо листьев на них были только цветы и колючки.
Большие облака в небе набухали и разрастались, под ними медленно кружились большие черные птицы. Вспомнилось, как кишели стервятники над падалью возле дороги, когда он пересекал высохшую равнину в Индии, потом увидел лицо маленькой девочки в гостеприимно встретившей его деревне, увидел ее широко распахнутые глаза. Он снова почувствовал на своих коленях вес этого миниатюрного создания, такого беспомощного, такого доверчивого и счастливого.
Он пробормотал что-то сквозь зубы, перевернулся на живот и заснул, побежденный усталостью.
Они шли по тропе, извивавшейся вдоль дороги, сохраняя все тот же порядок: Свен, затем Джейн, за которой тащился Гарольд. Он всегда оказывался позади друзей, потому что не мог удержаться и всегда съедал больше, чем они, когда находилось что-нибудь съестное. А Свен и Джейн хотя и были слабее, но уже достигли той особой легкости, легкости диких животных, которым не нужно прилагать усилий, чтобы перемещать свое тело.
Неожиданно они наткнулись на Оливье. Юноша спал на спине со слегка приоткрытым ртом. Утром он умылся и побрился над ручьем, его локоны заметно удлинились, лицо приобрело более темный оттенок, чем у волос, но на нем по-прежнему играли золотые блики. Темные ресницы создавали тонкую зубчатую тень под глазами.
Джейн и Свен остановились перед ним. Джейн улыбнулась спящему и сказала по-английски:
— Это француз.
— С чего ты взяла? — поинтересовался Свен.
— Девушка всегда безошибочно узнает француза, — сказал подошедший к ним Гарольд. — Она определит его даже сквозь стену.
Они говорили громко, не боясь разбудить спящего. Но Оливье не слышал их, продолжая крепко спать, спокойный, невинный и прекрасный, словно дитя.
— Молодец парень! Спит как бревно, — засмеялся Свен.
Гарольд заметил лежавший рядом с Оливье рюкзак и поднял его.
— У него наверняка найдется что пожевать. Французы доки во всем, что касается жратвы. — И он стал развязывать мешок.
— Перестань! — остановил его Свен. — Нужно спросить у него.
Он присел рядом с Оливье и положил ему руку на плечо.
— Подожди! — сказала Джейн. — Мы разбудим его иначе.
Она отошла к кустам и принялась собирать цветы. Потом осыпала цветами грудь Оливье, несколько цветков воткнула себе в волосы и точно так же украсила Свена и Гарольда. Потом села возле Оливье и кивнула Свену. Тот уселся рядом, положив на колени гитару. Тогда Джейн негромко запела ирландскую балладу, а Свен принялся сопровождать ее пение скупыми аккордами. Пение постепенно становилось все громче и громче.
Гарольд, сидевший в двух шагах от них, возле рюкзака Оливье, явно скучал. Он считал, что они только зря теряют время.
Нежный голос Джейн и музыка Свена проникли в сны Оливье и вытеснили их. Он открыл глаза и увидел улыбавшуюся ему девушку. Ее длинные волосы, усеянные цветами, спадали на плечи, словно волны света, с которыми смешивались красноватые золотые тени. Ее голубые глаза были такими темными, что казались почти фиолетовыми. Солнце, пробившееся между облаками, увенчало ее голову сияющей короной. Солнце, небо и цветы казались воплощением радости. И средоточием этой радости была улыбавшаяся Джейн.
Джейн говорила по-французски с очаровательным акцентом. Оливье с интересом слушал ее. Слушал и любовался: улыбка, лучистый взгляд, сияющая корона волос.
Когда солнце зашло, они перекусили и остались сидеть вокруг костра, непринужденно болтая обо всем на свете. Джейн сидела рядом с Г арольдом, время от времени касавшимся ее рукой. Каждый такой его жест отзывался в Оливье легкой болью.
Свен, прислонившийся спиной к дереву, закурил сигарету. Гарольд потянулся и лег на спину, положив голову на колени Джейн. Оливье поспешно прервал воцарившееся молчание.
— Что именно вы собираетесь делать в Катманду?
Он обращался к Гарольду, но ему ответил Свен.
— Катманду — это вотчина Будды. Там он родился, там умер. Там и похоронен. В тех краях обитают и другие боги. Это самое священное место в мире, именно то, где лик Бога ближе всего к Земле.
Он протянул сигарету Джейн. Та взяла ее и затянулась дымом. На ее лице появилось счастливое выражение.
— Еще бы, Будда, — покачал головой Оливье. — И заодно гашиш, продающийся на рынке так же свободно, как редиска или шпинат! Думаю, вы направляетесь туда именно из-за этого.
— Ты ничего не понимаешь! — вмешалась в беседу Джейн. — Это же радость!
Она затянулась еще раз и протянула сигарету Оливье.
— Спасибо, — сказал тот. — Оставь эту гадость для себя.
Гарольд просунул руку под блузку Джейн и стал ласкать ее грудь.
— Ты никогда больше не будешь несчастен! — сказала Джейн.
— Я и так не несчастен! — ответил Оливье.
На небольшом дереве поблизости какая-то птица запела странную песенку, состоявшую из трех одинаковых протяжных нот, непрерывно повторявшихся. Это была печальная и нежная, умиротворяющая песенка.
Джейн уже тяжело дышала от настойчивых ласк Г арольда. Но ей хотелось успокоить Оливье.
— Оставь меня! — повернулась она к Гарольду.
— Не обращай на него внимания, — спокойно сказал Г арольд. — Он может думать все что ему хочется. Это его право.
Джейн перестала сопротивляться. Гарольд заставил ее лечь на землю, распахнул блузку и принялся расстегивать молнию джинсов.
Оливье вскочил, схватил рюкзак, яростно пнул ногой догоравший костер и исчез в ночи.
Они догнали его на следующий день. Хотя Оливье и передвигался быстрее, чем трое приятелей, но он остановился, убедив себя, что ему нужно отдохнуть. И когда увидел на противоположном склоне долины три маленькие фигурки, размером не больше мухи, с сердца свалился тяжелый груз, давивший на него с вечера. Дальше они пошли вместе. Впереди шагал Свен, за ним шли рядом Джейн и Оливье, а позади, немного отстав от остальных, тащился Гарольд.
— Катманду, — сказала Джейн, — это место, где никто не обращает на тебя внимания, где ты свободен и можешь делать все, что тебе заблагорассудится.
— Конечно, настоящий рай!
Джейн улыбнулась.
— А ты знаешь, что такое рай? Вот я хорошо представляю его. Это место, где тебя никто не обязывает делать что-то, никто ничего не запрещает. Ты берешь у других все, что тебе нужно, и те отдают все, а ты в то же время делишься с ними тем, в чем нуждаются они. Все принадлежит всем, всем хорошо, все любят всех. Ты все время живешь в радости.
— И вокруг тебя звучат арфы и трепещут крылья ангелов, — с усмешкой парировал Оливье.
— Ты шутишь, но даже такое становится возможным на Земле, если ты этого хочешь. Стоит только захотеть. А ты? Что ты хочешь найти в Катманду?
Оливье резко помрачнел.
— Мне нужно только то единственное, что имеет значение. Это деньги.
— Ты сошел с ума! Как раз это не имеет никакого значения!
Оливье ответил очень резко, потому что только такой тон помогал ему
убедить самого себя, что он прав:
— И что тогда имеет значение? Как еще ты можешь стать сильнее, чем негодяи вокруг тебя?
Джейн на мгновение остановилась и посмотрела на собеседника изумленными глазами, ставшими от удивления еще больше.
— Если у тебя будет много денег, ты сам станешь негодяем! У меня денег было гораздо больше, чем я в них нуждалась. Мой отец — это настоящий мешок с деньгами. Он брал их у всех, и хотя потом все брали у него, ему трудно расставаться с золотишком.
Они молча шагали рядом. Потом она спросила:
— А у тебя, чем твой отец занимается? Он богатый?
— Он умер. Когда мне было всего шесть месяцев.
— А мать?
— Я только что потерял ее.
Вечером они разожгли костер в небольшой ложбине, где протекал ручей. По дороге купили риса и фруктов на деньги Оливье. Гарольд сварил рис в котелке, и они быстро уничтожили варево без каких-либо приправ. Оливье начал привыкать к простоте привычек своих спутников, считавших, что еда существует для того, чтобы питаться, причем, без каких-либо изысков. После рисовой каши фрукты показались лакомством.
После ужина Гарольд тут же задремал. Свен курил, сидя у костра. Оливье негромким голосом рассказывал лежавшей рядом с ним Джейн
о майских событиях.
Джейн приподнялась и, опустившись на колени, посмотрела в лицо Оливье.
— Драться. Это никогда ничего не дает. Все это знают и все равно дерутся. Мир полон кретинов.
Она взяла у Свена сигарету и затянулась. Указательным пальцем руки, державшей сигарету, она начертила окружность на лбу Оливье.
— Твоя революция должна произойти здесь.
Затем рука Джейн медленно спустилась ниже вдоль лица юноши и поднесла сигарету к его губам.
Он схватил ее руку твердо и нежно, отобрал сигарету и внимательно посмотрел на нее.
— О ваших идеях можно было бы поспорить, если бы не было этого.
И швырнул сигарету в костер.
В этот момент Гарольд вскочил на ноги с криком:
— Тихо! Слушайте!
И он протянул руку в направлении долины, по которой они шли днем.
Все прислушались. Они почти ничего не улавливали, скорее, лишь догадывались о шуме, который Гарольд, чуткий, как хищное животное, уловил раньше них, несмотря на сон. Это был мощное равномерное рычание двигателя большого автомобиля.
— Американская машина! — крикнул Гарольд.
В этот момент пучок света фар осветил склоны долины, метнулся в сторону и выхватил из темноты добрую сотню метров дороги.
— Прячьтесь! Скорее!
Гарольд подтолкнул Свена и Оливье к кустам, подобрал сумку Джейн и сунул ее девушке в руки.
— Давай на дорогу, быстро!
И вытолкнув Джейн на проезжую часть, опрометью кинулся в кусты, где уже сидели Свен и Оливье.
Сверхмощная американская спортивная машина неслась на девушку. Не оставалось сомнения, что водитель уже увидел фигурку в джинсах и легкой блузке, машущую рукой. Звуки клаксона и слепящий в упор свет фар не произвели на нее никакого действия: девушка стояла как вкопанная. Машина замерла в нескольких сантиметрах от нее. Из-под визжащих покрышек во все стороны летел гравий.
Дверцы машины распахнулись, кто-то выскочил и подбежал к Джейн, стоящей как на освещенной сцене. Это была женщина того неопределенного возраста, к которому относятся весьма ухоженные особы после сорока лет. Даже из темноты она производила впечатление отшлифованного свежекрашенного изделия. Дама-водитель накинулась на Джейн, ругаясь на английском языке с американским акцентом, требуя освободить дорогу и убраться отсюда, потому что ее машина не предназначена для перевозки мусора. Джейн не двинулась с места. Женщина замахнулась, чтобы ударить ее. Но не успела: Оливье перехватил ее руку и резко толкнул грубиянку к машине.
— С тобой все в порядке? — с тревогой спросил Оливье. — Эта дрянь чуть не задавила тебя!
— Смотрите-ка! Француз! — воскликнула американка. — А вы не могли оказаться здесь чуть раньше?
— Здесь есть еще англичанин, — сообщил улыбающийся Гарольд, возникнув из темноты. — И один швед!
Он протянул руку в направлении границы между светом и темнотой, откуда, пробив стену ночи, появился Свен со своей гитарой.
Американка явно заинтересовалась Гарольдом. Короткая бородка юноши и его взъерошенные волосы выглядели в световом потоке ярким нимбом. Почему бы не подарить женщине, лишенной признаков возраста, ослепительную улыбку? Одновременно Гарольд подумал о дорогой комфортабельной машине и обо всем остальном, что должно сопровождать ее владелицу.
— Святой Жан! — потрясенно воскликнула женщина. — Святой и грешный!
Не удержавшись от смеха, он представил американке своих товарищей. Лорен, так она назвала себя, пригласила всех в машину. Г арольд сел рядом с ней, остальные расположились на заднем сиденье. Перед внутренним взглядом Оливье опять возникает образ Джейн, такой, какой он увидел ее в ночи — облитую светом фар несущегося на нее автомобиля, спокойную и безразличную к смертельной опасности. И, кажется, даже счастливую!
Черт возьми! Ведь это все сигарета! Какая дрянь!
Он ничего не может изменить. Это не его дело. Она может травить себя сколько угодно, если это ей нравится.
— Вы, разумеется, тоже хотите попасть в Катманду? — спросил он Лорен агрессивным тоном.
— Я не хочу туда попасть. Я там живу вот уже пять недель. А сейчас возвращаюсь из поездки по одному делу.
— И что вам нужно в Катманду? Вы тоже мечтаете увидеть лик божества?
Лорен громко рассмеялась.
— Ну, для меня это слишком уж возвышенно. Я просто стараюсь взять то, что для меня доступно. То, что мне подходит.
Правой рукой она привлекла к себе голову Гарольда и впилась в его губы. Машина вильнула и устремилась к стоящему на обочине домику под раскидистым деревом. Гарольд резко высвободился:
— Hey! Careful now!
Схватив руль, он выправил машину. Лорен засмеялась.
Около часа они ехали молча. Потом Лорен сказала:
— Сегодня мы не доберемся до Катманду. Неподалеку отсюда есть хорошее место, мы сможем провести там ночь.
Машина в это время выскочила на просторное плато и по прямой устремилась вперед.
Лорен затормозила, свернула налево на узкую дорожку, медленно проехала еще сотню метров. В свете фар возникла миниатюрная часовня, под крышей которой едва помещалась большая статуя Будды. Он сидел с закрытыми глазами и улыбался загадочной улыбкой. Казалось, что он изваян из цельной глыбы золота.
Свен сидел в позе лотоса напротив статуи Будды с закрытыми глазами. Будда покоился в той же позе, тяжелый и огрузлый благодаря своему большому животу. Свен был легким, словно тростинка, словно птица; казалось, он лишен веса. Он почти ничего не ел, но уже выкурил две сигареты. Закурив третью, он понял, что сливается с божеством, с этим Буддой, чей золотой лик сверкал напротив него. Его распахнутое спереди золотое одеяние позволяло видеть темную впадину пупка, смотрящего в небо. Этот Будда сидел здесь много веков, дожидаясь Свена. Он терпеливо ожидал столетие за столетием, и вот, наконец, Свен пришел.
Он пришел, сел напротив Будды и стал смотреть на него, и Будда, который видит все, стал смотреть на Свена, не раскрывая глаз, с загадочной улыбкой, полной блаженства. Свен понял все, что говорил Будда; чтобы ответить, он взял гитару и прижал к себе. Между его губ едва тлела сигарета. Он втягивал дым медленными глубокими вдохами и прекрасно представлял, что ему нужно сказать, куда он должен положить правую руку, какую струну щипнуть и насколько громко говорить с Буддой. Одна струна, одна нота, совершенная, словно равновесие Вселенной, нота, заключающая в себе все сущее. Именно это он и должен был сказать Будде: все сущее.
Неизвестно откуда появился бонза в шафранных одеждах. Он зажег у ног Будды три медных светильника и снова исчез в темноте.
На краю большого бассейна, разделявшего две статуи Будды, Лорен зажгла переносную лампу, работавшую на бутане. В ее резком свете она раскрыла, один за другим, три походных чемодана. Посуда, приборы, лед, икра, шампанское, кока-кола, сэндвичи, молоко, салат, скатерть, салфетки.
С другой стороны водоема сидел Будда с открытыми глазами. Он был из бронзы, позеленевшей от возраста. Он взирал серьезно и с любовью на каждого из тех, кто хотел, чтобы на нем остановился его взор.
В темной зеленоватой воде бассейна передвигались какие-то неясные тени. Медленные длинные тела поднимали мелкую рябь на поверхность воды, не нарушая ее. Чья-то пасть проглотила кусочек хлеба, брошенный Лорен. Небольшой водоворот на поверхности темной воды. И все успокоилось.
Лорен наполнила шампанским стаканчик из желтой пластмассы и протянула его Гарольду.
— Выпей, красавчик! Тебе известно, что ты очень красивый?
— Конечно, — пожал плечами Гарольд.
— Ты слишком много пьешь, — предупредила его Джейн. — Тебе будет плохо.
— Не волнуйся, — отмахнулся Гарольд. — Все будет в порядке.
Он опорожнил стаканчик и слился с Лорен в долгом поцелуе. Оторвавшись от него, Лорен перевела дыхание, вскочила и потянула его за руку за собой.
— Пойдем в машину.
Она тянула Гарольда к длинной красной машине, дремлющей у противоположного края бассейна. Слегка захмелевший Гарольд позволял тащить себя, беспечно улыбаясь. Джейн крикнула ему вслед:
— Good night!
— Same to you! — откликнулся Гарольд.
Редкие ноты гитары, круглые, словно жемчужины, время от времени падали из-под длинных тонких пальцев Свена.
Оливье взял бутылку с шампанским и наклонил ее над стаканчиком Джейн.
— Нет, — покачала та головой. — Кока-кола.
Налив ей колы, он плеснул себе шампанского. Потом спросил:
— Тебе это безразлично?
— Что именно?
— Разве ты не знаешь, что сейчас он раздевает ее и укладывает на подушки машины?
Джейн негромко рассмеялась.
— Я подозреваю, что это она проделывает такое с ним.
— И для тебя это не имеет значения?
— Раз он пошел с ней, значит, так ему захотелось.
— Значит, ты не любишь его?
На нем остановился удивленный взгляд фиолетовых глаз, смотревших из-за края пластмассового стаканчика.
— Что ты! Конечно, я люблю его! Если бы я его не любила, я бы не спала с ним! Я люблю его, люблю Свена, люблю солнце, цветы, дождь, люблю тебя, люблю заниматься любовью. Разве ты не любишь это?
Она опустила на землю пустой стаканчик и, опираясь на обе руки, придвинулась к нему. Оливье выплеснул в траву остатки шампанского и пробурчал, отвернувшись от нее:
— Но не с кем попало.
— Разве я для тебя кто попало?
На этот раз он повернулся, посмотрел на нее с неясной тревогой во взгляде и негромко сказал:
— Я не знаю.
— Ты не находишь меня красивой?
Она стояла перед ним на коленях, точно так же, как это было, когда путники наткнулись на спящего Оливье. Так было и через несколько часов, вечером у костра на обочине дороги. Расстегнув несколько пуговиц на блузке, она распахнула ее обеими руками, чтобы преподнести ему в дар всю свежесть своего тела, всю свою невинность. Она проделала это естественно, без малейшего расчета. Ее груди были небольшими, безупречной формы, золотистыми, словно персики, увенчанные скромными, чуть более темными бутонами. Резкий свет фонаря не мог лишить их еще детской нежности. Они походили на плоды, сорванные с райского древа.
Он в бешенстве закричал:
— Ты их всем так показываешь?
Испуганная Джейн вскочила на ноги, запахнув блузку на груди.
Вскочивший одновременно с ней на ноги Оливье с размаха ударил ее по лицу.
Едва она успела вскрикнуть, не столько от боли, сколько от неожиданности, как Оливье схватил ее в объятья, прижал к себе и забормотал в ухо, в шею, непрерывно целуя:
— Прости меня! Я такой идиот, такой грубиян. Прости, прости.
Руки и слова Оливье мгновенно рассеяли испуг Джейн. Она засмеялась и тоже принялась целовать его в глаза, в нос, в ухо. Она смеялась, и он тоже смеялся. Он стянул с нее блузку, снял брюки и трусики и отодвинул на расстояние вытянутой руки, чтобы лучше видеть ее. Он повторял без перерыва: «Ты прекрасна! Ты прекрасна!», и она, слыша эти слова, смеялась от счастья.
Держа ее за руку, он заставил ее медленно поворачиваться перед собой. В мертвенном свете газового фонаря она казалась белой, слегка розоватой статуей. Ее зад был по-девичьи круглым, но небольшим; когда Оливье видел ее перед собой, ему казалось, что небольшой золотистый треугольник над ее длинными бедрами впитывал в себя все тепло, что было в падавшем на него свете.
Он снова привлек ее к себе, поднял на руки и понес прочь.
Засмеявшись, она спросила:
— Куда ты несешь меня?
— Не знаю. Я знаю только, что ты прекрасна, и я должен унести тебя.
Он пронес ее вдоль бассейна, и их охватила ласковая тьма. Джейн
все сильнее прижималась к груди Оливье. Он нес ее уже целую вечность, такую легкую, свежую и горячую. Потом он опустил ее на землю у подножья статуи Будды с открытыми глазами. Здесь тоже горели три медных светильника. Он должен был видеть ее.
Раздевшись, он бережно положил ее на свою одежду, расстеленную на земле. Закрыв глаза, она не мешала ему, неподвижная и счастливая, словно море под солнцем.
Обнаженный, он стоял перед ней, касаясь ногами ее сомкнутых ног. Его желание поднималось к звездам. Он не сводил с нее глаз. Она была тонкой, но не тощей, ее тело состояло из длинных плавных изгибов, окаймленных колеблющимся светом медных светильников. Соски ее небольших грудей казались капельками коричневого золота.
Он опустился рядом, не сводя с нее глаз. Он никогда еще не видел такой красивой девушки. Возможно, конечно, что раньше у него просто не было времени, чтобы присмотреться.
Она почувствовала прижатое к ее бедру продолжение мужского желания. Негромко засмеявшись от счастья, она протянула руку и овладела им. Склонившись над ней, Оливье принялся целовать ее глаза, нос, уголки губ, целовать легко, не торопясь, подобно пчеле, на лету собирающей нектар с цветка мяты. Потом он передвинулся ниже, обхватил губами сначала один сосок, потом другой, поласкал их ресницами закрытых глаз, потерся
о нежные округлости щекой, подтолкнул носом, словно теленок материнское вымя, затем обхватил ладонями. Не отпуская груди, он спустился губами к нежному плоскому животу, к нежным теплым линиям. Бедра Джейн шевельнулись и раскрылись, словно распустившийся цветок. Короткие завитки раскрыли свою тайну. Оливье увидел золотистый свет. Медленно склонившись, он прижался к нему губами.
Джейн, начиная от груди, которую продолжали ласкать его руки, и ниже, где ее тело таяло от его губ, превратилась в волну радости, поток счастья, колебавшегося, подобно приливам и отливам чего-то неизмеримо большего, чем наслаждение, и в этом слились воедино земля и небо. Потом на нее обрушилось нечто ужасное, невозможное, и она вцепилась обеими руками в волосы Оливье, обхватила его голову, словно пытаясь проникнуть в нее. В этот момент что-то взорвалось, она умерла и ее не стало.
Оливье осторожно расстался с золотистым цветком, бережно поцеловал нежные теплые линии, нежный живот, груди, приоткрытые губы, сомкнутые веки. Джейн почувствовала, как он медленно и мощно вошел в нее. Наполовину уснувшая, наполовину лишившаяся жизни, она почувствовала, что в ней возрождается то, что она считала невозможным. И жизнь снова вспыхнула где-то в самой сокровенной глубине ее тела благодаря проникшему в нее божеству, зажегшему в ней солнце и звезды.
Смотрящий Будда взирал на происходящее у его ног. Он помнил, что уже видел всю любовь мира.
Лорен посигналила. Грузовик с кузовом, заполненным непальцами, медленно тащился по самой середине узкой дороги, оставляя позади себя длинный шлейф пыли. Она нажала кнопку, и из багажника поднялась брезентовая крыша и сомкнулась над головами. Стекла поднялись, завершив полную изоляцию кузова.
Пассажиры грузовика орали и смеялись в восторге.
Лорен продолжала сигналить без перерыва. Наконец неуклюжий грузовик подался влево; теперь он почти задевал бортом крутой склон. В Непале левостороннее движение, как в Индии и Англии. Лорен вихрем проскочила мимо грузовика, едва не раздавив группу носильщиков, передвигавшихся рысцой с грузом кирпичей, и вырвалась на простор, продолжая ругаться по-американски. Она не выносила, когда перед ней появлялось препятствие. На сиденье рядом с ней дремал Гарольд. Одним движение руки Лорен убрала крышу и боковые стекла.
На заднем сиденье Оливье был стиснут между Свеном и Джейн. Сидя боком, она не сводила с Оливье глаз. Она никак не могла понять, что произошло с ней этой ночью. Разве было что-то необычное в этом парне? Да, он был красивым, но и Гарольд выглядел не хуже. Конечно, он был искусным в любви, как никто и никогда. Но то, что она испытала, было не просто более сильным наслаждением, чем когда-либо раньше. Это было. Что? Ощущение счастья? Значит, она не была счастлива раньше, с друзьями? Вот если бы он остался с ними, это было бы замечательно. Она вздохнула, улыбнулась и еще сильнее прижалась к нему. Она была измучена любовью.
Оливье взглянул на нее нежно и немного иронично. Он провел с девушкой всю ночь, расставшись с ней перед самым рассветом, и теперь испытывал отрешенность, характерную для юных самцов, организм которых еще не восстановился после длительного сексуального напряжения. Теперь для него более важным было то, как пройдет встреча с отцом в Катманду.
Наклонившись вперед, он спросил Лорен:
— Вы хорошо знаете европейцев в городе?
— Я знаю всех. Я хочу сказать, кроме местных. Всех европейцев, разумеется. Их не так уж много, ведь Катманду — это большая деревня.
— Вы знаете человека по фамилии Жамэн?
— Жака? Его все знают! Это с ним вы хотите встретиться?
Она с любопытством взглянула на него в зеркале заднего вида. Оливье ответил утвердительно и откинулся назад.
— Сейчас его нет в Катманду, — сказала Лорен. — Он занят подготовкой сафари для моего мужа. Жорж хочет добыть несколько голов тигра, чтобы поместить их между картинами Пикассо. Но он стреляет, как слизняк.
После короткого молчания она с отвращением добавила:
— Он все делает, как слизняк. К счастью, Жак знает, что ему нужно стрелять одновременно с охотником. Иначе у него не останется клиентов. Тигры сожрали бы их всех! Сейчас он в своем лагере, в лесу. Это нам по дороге, если хотите, я вас высажу там.
Встревоженная Джейн схватила обеими руками руку Оливье. Он рассеянно взглянул на девушку, потом снова обратился к Лорен и сказал, что это его устраивает.
Дорога теперь все время шла под гору, так как они пересекли первую горную цепь. К полудню машина достигла просторной долины. Здесь царила влажная тропическая жара. По сторонам дороги тянулся редкий лес громадных деревьев, отделенных друг от друга прогалинами, поросшими высокой травой и пышными кустами, усеянными огромными цветами.
Лорен остановилась там, где от основной дороги в лес уходила узкая автомобильная тропа. На небольшом деревянном щите, прибитом к дереву, была изображена голова тигра. Стрелка указывала направление.
— Это здесь, мой мальчик, — сказала Лорен.
Джейн вышла из машины, чтобы выпустить Оливье. Она проводила его до начала тропы в густой тени.
— Куда ты идешь? Что тебе нужно от этого типа?
— Я должен забрать у него свои деньги!
— Ты сошел с ума! Брось эти деньги! Идем с нами!
— Нет, я должен…
Он оглянулся на машину. Гарольд расправлялся с бутербродом. Свен курил. Он вспомнил ночь, невинное тело, распростертое перед ним в свете масляных ламп, испытанное ими наслаждение — или счастье?
— Оставь этих типов! Это же жалкие личинки! Ты должна пойти со мной!
Она посмотрела на него удивленно и печально. И как только он мог просить ее об этом? Она не хотела, нет, она не могла вернуться в оставленный ею мир, унылый мир денег, обязанностей и запретов. Свен открыл перед ней путь к свободе, и теперь ничто не могло заставить ее отказаться от новой жизни, единственно правильной, единственно возможной. Она не могла покинуть Свена, даже ради Оливье. О Гарольде она не думала, Гарольд не имел для нее никакого значения. Но когда она отказалась сопровождать Оливье, тот подумал прежде всего именно о Гарольде, о сцене, которую ему пришлось наблюдать позавчера возле костра.
— Ну, тогда привет! Чао!
Подхватив рюкзак, он взбросил его на плечо. Джейн внезапно осознала, что эта разлука может быть окончательной, и ей стало страшно.
— Значит, мы больше не увидимся?
— Ты хочешь снова увидеться со мной?
— Конечно. А разве ты не хочешь?
Конечно, ему хотелось увидеться с Джейн, но он не мог забыть другого парня, раздевавшего ее. А, все они одинаковы! Все! Все.
— Есть то, что я не способен делить с другими, — сказал он.
— Что именно? Что ты имеешь в виду?
Она действительно не понимала, она хотела, чтобы он объяснил, у нее еще был шанс удержать его.
— Эй, Оливье! — крикнула Лорен. — Поторопись, нам нужно ехать! Тигры уже проголодались!
— Чао! — бросил снова Оливье.
Он отвернулся от нее и двинулся по тропе вглубь леса.
Обернувшись назад, Джейн смотрела на лес, поглотивший Оливье. Тропа уже исчезла за поворотом, сзади появился грузовик и тоже исчез в облаке пыли. Джейн все равно продолжала смотреть назад. Потом Свен положил ей руку на плечо. Она обернулась. Он ласково улыбался ей. Она улыбнулась в ответ, но улыбка у нее получилась не слишком жизнерадостной. Свен протянул ей, достав из кармана, небольшой бумажный пакетик и развернул его. Она увидела белый порошок.
— У меня осталось еще немного. Хочешь половину?
Она перестала улыбаться. Нет, только не это. Ей стало страшно.
— Как хочешь, — улыбнулся Свен.
Но в тот момент, когда он поднес к носу бумажку, чтобы втянуть порошок, она неожиданно решилась и протянула руку.
— Ладно, дай мне тоже.
На веревках, натянутых между деревьями, висело несколько шкур тигров, растянутых на палках. Мужчина, стоявший в джипе, за рулем которого сидел человек в тюрбане, наблюдал за проходящими перед ним слонами, снаряженными для охоты. На спине у каждого из них сидели погонщик и туземный охотник. Длинной шеренгой за слонами стояли загонщики.
Описав плавную дугу, джип пристроился к веренице слонов. Стоявший в нем мужчина вооружился мегафоном и произнес несколько фраз на английском. Оливье понял почти все, потому что английские слова были произнесены с французским акцентом.
Словно главнокомандующий перед сражением, мужчина отдавал распоряжения, относящиеся к охоте, которая должна была начаться завтра. В последней фразе он уточнил время общего сбора. Он был в шортах цвета хаки и военной гимнастерке такого же цвета. На широком кожаном поясе с медными заклепками висела кобура. Под ветровым стеклом джипа было прикреплено большое ружье, предназначенное для охоты на крупного зверя.
Развернувшись, джип направился в сторону Оливье. Заметив его, мужчина, усевшийся рядом с водителем, снова встал и что-то скомандовал. Джип затормозил рядом с юношей. Тот неподвижно стоял, не говоря ни слова. Заинтригованный мужчина некоторое время смотрел на него, потом не выдержал и спросил с раздражением:
— You want something?1
Вместо ответа Оливье спросил:
— Вы месье Жамэн?
— Да, это я.
— Меня зовут Оливье.
— Оливье?
Оливье, Оливье, это имя было ему знакомо. Внезапно его лицо осветилось:
— Оливье? Так это же сын Мартин?
— А также ваш сын, согласно гражданскому состоянию, — ледяным тоном ответил Оливье.
Одним прыжком Жак выскочил из джипа и закричал через голову Оливье:
— Ивонн! Ивонн!
Недовольный голос ответил ему откуда-то сверху:
— В чем дело?
Жак закричал:
— Идите сюда! Это потрясающе! Это же мой сын!
Схватив Оливье за плечи, он развернул его, желая продемонстрировать своего сына всем окружающим.
Между ветвями нескольких гигантских деревьев были сооружены из прутьев и соломы большие хижины, к которым можно было добраться по крутым деревянным лесенкам. Это было жилье для охотников, шикарные «примитивные хижины» для миллиардеров.
В одном из ближайших окон виднелся эффектный бюст женщины, к которой обращался Жак. Брюнетка с прямыми волосами, свисавшими до плеч. На ней была оранжевая мужская рубашка, порядком изношенная. Она молча смотрела на мужчин, стоявших под деревом. Энтузиазм Жака не пробуждал в ней никакого интереса, даже чисто из вежливости. Насколько Оливье мог разглядеть ее снизу, она казалась печальной.
— Это жена Теда, моего компаньона, — объяснил Жак. — Она принимает клиентов, а я обеспечиваю им сильные эмоции.
За время, остававшееся до наступления темноты, Жак показал Оливье весь охотничий лагерь, не переставая говорить и отдавать приказания прислуге, то и дело мелькавшей вокруг них. Он не замечал холодности Оливье, которому, впрочем, не давал сказать ни слова. Его волосы, без единой седой прядки и того же оттенка, что и у сына, были уложены в гладкую английскую прическу с пробором с левой стороны. Глаза у него были светлее, чем у Оливье, и взгляд казался гораздо менее серьезным. Если у Оливье был взгляд взрослого мужчины, то у отца он больше походил на взгляд мальчишки.
— Ты будешь спать здесь; это хижина Рокфеллера. Пока я тебя оставлю ненадолго; отдохни и приведи себя в порядок. Через час будем ужинать.
Столовая находилась в самой просторной хижине. Один из углов зала занимал ствол могучего дерева, и гигантская ветвь, отходившая от него на уровне земли, пересекала по диагонали все помещение от пола до потолка. Пол был застелен тигриными шкурами и коврами, сотканными местными мастерами. Стены и ветвь дерева были увешаны головами тигров, буйволов и носорогов. Между ними размещались светильники, заправленные ароматным маслом. Блестящие от смазки и готовые к применению охотничьи ружья самых разных калибров, способные уложить на месте любое живое существо от зайца до слона, занимали почетное место среди охотничьих трофеев. В центре большого стола из красного дерева медное божество простирало во все стороны многочисленные руки, заканчивавшиеся подсвечниками. Горящие свечи освещали дорогую кружевную скатерть и расставленные на ней хрустальные бокалы и фарфоровую посуду.
Жак никак не мог занять свое место. Стоя возле стола, он с помощью энергичных жестов рассказывал о недавней охоте. На нем был белый смокинг; рядом сидела Ивонн в вечернем вышитом жемчугом платье на бретельках, давно вышедшем из моды, но вполне устраивавшем клиентов- миллионеров. Оливье хотя и остался в потрепанной куртке, но был побрит, умыт и причесан.
— Бац! Бац! Бац! — воскликнул Жак, изобразив ружье, приложенное к плечу. — Две пули я всадил ему в глаз и еще одну в нос! Если бы я промахнулся, он накинулся бы на моего клиента и сделал бы из него кровавый бифштекс! Я пообещал не называть его, он приехал в Непал инкогнито, но промахнись я, и крупнейшее королевство Европы осталось бы без короля!
— Не надо преувеличивать, — холодно заметила Ивонн. — Это был не король.
Жак расхохотался, потом замолчал и сел на свое место.
— Что правда, то правда! Королевой была его жена. У супружеских пар такое случается.
Устроившиеся возле ствола дерева старик и двое мальчишек исполняли на небольших туземных скрипках мелодию, одновременно игривую и меланхоличную. Из-за дерева, где размещалась кухня, то и дело торопливо выбегали одетые во все белое, но босые официанты в небольших непальских шапочках, то приносившие, то уносившие что-нибудь и выполнявшие свою работу с явным удовольствием.
Два официанта собрались унести огромное, стоявшее у ног божества- канделябра, серебряное блюдо с остатками сочащегося кровью мяса, обложенного разными овощами и фруктами. Жак приказал им подождать, потому что его сын еще не закончил расправляться со своей порцией. Потом он распорядился поменять шампанское, которое уже успело согреться. Он выплеснул остатки шампанского из своего бокала в серебряное ведерко, в котором стояла бутыль, затем схватил с блюда большой кусок мяса и положил его в тарелку Оливье.
— Ешь как следует! Когда я был в твоем возрасте, я пожирал мясо, словно голодный волк, а теперь я расправляюсь с мясом не хуже льва! Мужчина должен есть мясо! Иначе он будет печальным и быстро состарится!
Он откупорил принесенную бутылку и потянулся с ней к Оливье. Но бокал того и так был полон до краев, а в тарелке только что положенный кусок мяса оказался над недоеденной предыдущей порцией.
Жак начал смутно догадываться, что в поведении сына было что-то не совсем обычное.
— Что с тобой? Что-то не так? Ты ничего не ешь, ничего не пьешь. Неужели мой отпрыск стал священником? Оливье стиснул зубы. Ивонн, давно заметившая нервное напряжение юноши, увидела, как под загаром, покрывшим лицо Оливье за несколько дней пути, разлилась мертвенная бледность.
Оливье выпрямился в кресле. Жак, с интересом смотревший на него, пожал плечами, наполнил свой бокал, выпил и поставил его на стол.
— Я сожалею, — сказал Оливье, — что разделил с вами трапезу, не сказав перед этим то, что должен был сказать. Меня можно извинить только тем, что я сильно проголодался. Вы можете удержать с меня стоимость ужина после того, как мы уладим наши счеты.
— Ты это о чем? — ошеломленно пробормотал Жак. — О каких счетах ты говоришь?
Ивонн улыбнулась и посмотрела на Оливье с возросшим интересом.
Официант взял из рук Жака бутылку с шампанским и снова наполнил его бокал. Скрипки с небольшими вариациями негромко продолжали одну и ту же мелодию. Старик начал подпевать гнусавым голосом.
— Я пришел попросить вас. — начал Оливье и тут же замолчал. Потом он выкрикнул: — Вы не могли бы заставить их замолчать?
Жак удивленно посмотрел на него, затем что-то сказал старику. Музыка прекратилась.
На несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Официанты застыли на месте, и только золотистое пламя светильников и свечей продолжало слегка колебаться в неподвижном воздухе. Снаружи послышался визг обезьян, потревоженных приглушенным рычаньем тигра.
— Сегодня ночью они совсем близко! — сказала, ни к кому не обращаясь, Ивонн.
— Они могут бродить там, где им хочется, мне наплевать на это, — нервно огрызнулся Жак, не сводивший глаз с Оливье. — Значит, ты хочешь попросить у меня что-то. Что именно?
К Оливье вернулось спокойствие. Он достал из кармана куртки какую- то бумагу и произнес холодным тоном:
— Я пришел к вам за тем, что мне причитается. Деньги на пропитание, которые остались невыплаченными вами после моего рождения. Здесь тридцать миллионов. Вот мои подсчеты, можете проверить их.
Он развернул лист бумаги, положил его на стол перед собой, потом придвинул его к Жаку. Тот посмотрел на него как на что-то нелепое, непонятное и в то же время удивительное, что-то такое, что ни в коем случае не должно было находиться здесь, на этом столе и в это время.
— Я не стал считать, — добавил Оливье, — сколько стоит стирка грязного белья и мытье посуды, чем моя бабушка занималась на протяжении двадцати лет. Что же касается того, чем я обязан матери, то всего вашего состояния не хватит, чтобы рассчитаться с ней за все.
Ивонн, повернувшаяся к Жаку, смотрела на него с тем нетерпеливым ожиданием, с которым фотограф ждет, когда на белой бумаге, опущенной в проявитель, появится изображение.
— Что, Жак, — негромко произнесла она, — вот и наступил для тебя момент истины.
— О какой истине ты говоришь?
Жак помахал в воздухе бумагой, которую только что прочитал, выйдя с помощью этого жеста из оцепенения.
— Истина в том, что мой сын оказался не священником, а бухгалтером! А я-то надеялся, что ты приехал повидать отца. Поохотиться с ним. И подружиться со мной. Ладно, ты получишь свои миллионы! Жаль только, что ты испортил вечер. Прошу извинить меня, но я пойду прилягу.
Он опорожнил бокал и встал.
— Мне жаль, но он ничего вам не даст, — сказала Ивонн, глядя на Оливье. — Просто потому, что у него ничего нет.
Отошедший от стола на несколько шагов Жак остановился и обернулся.
— Это так. Здесь нет ничего, что принадлежало бы ему. Ничего! — негромко продолжала Ивонн.
Она говорила негромко, и по звучанию голоса можно было понять, что жизнь у нее была нелегкой.
— Постройки, весь капитал, слоны, ружья, даже этот смокинг, что на нем, ему не принадлежат. Здесь все принадлежит моему мужу!
— Простите! — воскликнул Жак. — Что касается капитала, согласен, это его деньги. Но половина нашего состояния — это моя работа! Что там половина, гораздо больше! Где бы мы были, если бы не я? И чем бы был Тед? Ничем!
Он вернулся к столу и хотел взять бокал, который уже был наполнен официантом, но Ивонн помешала ему.
— Хватит пить, — устало произнесла она. — Лучше присядь к нам, поговорим.
Она снова повернулась к Оливье.
— Я больше так не могу. Не знаю, можно ли найти выход из этой ситуации. Я люблю его, потому что он совсем как ребенок, и я пытаюсь сделать из него мужчину. Может быть, это неправильно, не знаю.
— Ты считаешь, что Оливье все это интересно? — язвительно поинтересовался Жак.
Стоя возле стола, он принялся копаться в коробке с длинными тонкими сигарами.
— Да! Потому что это его касается! Потому что тебе придется сказать ему всю правду! Может быть, что-то изменится в тебе, когда ты услышишь то, что сам скажешь сыну! Когда скажешь ему, что ты — пустое место и что у тебя ничего нет! Тебе не принадлежит даже эта сигара!
Гнев преодолел ее усталость; продолжая говорить, она встала из-за стола и вырвала у него из пальцев сигару, которую он осторожно поворачивал над пламенем свечи.
— Здесь все принадлежит Теду! Все! Твой труд! Твоя жизнь! Все, что ты делаешь, служит только для того, чтобы замаскировать его подпольную торговлю!
Официанты, быстрые и молчаливые, освобождали стол от посуды, меняли тарелки, поднесли несколько больших подносов, заваленных фруктами, и блюдо с огромной пирамидой из разноцветного мороженого. Они не понимали ни слова по-французски, они не представляли, что происходит, и не пытались понять. Они походили на муравьев, такие же озабоченные, быстрые, эффективные. Старик-музыкант и его ассистенты, которым нечего было делать, спокойно сидели, ожидая приказа возобновить концерт. Они знали, что то, что должно произойти, произойдет, и в этом не будет ничего удивительного. Обезьяны, коровы, люди в этой столовой или в любом другом месте делали или говорили то, что они должны сделать или сказать. И никого больше это не касалось.
Жак неторопливо выбрал другую сигару и закурил. Он спокойно опроверг все, что сказала Ивонн. Она давно говорила ему о подпольном рынке, которым, как она была уверена, заправлял Тед. Он скупал за гроши похищенные из храмов статуэтки, чаще всего эротические, и продавал их за большие деньги туристам. Жак был убежден, что это выдумки, игра воображения романтически настроенной женщины.
— Ты не можешь не знать, что это правда, — фыркнула Ивонн. — Ты просто делаешь вид, что не веришь этому, чтобы продолжать свой цирк.
Оливье молча наблюдал за спором, отодвинувшим на второй план предъявленный отцу счет.
— Наполеон! — воскликнула Ивонн. — Он разыгрывает из себя Наполеона! Непобедимый маршал! Великий вождь краснокожих! Длинный карабин! Просто кино! Он изображает актера каждую минуту дня и каждый день в году! Но ему ничто не принадлежит. Ни декорации, ни костюмы, ни ассистенты, ни даже его роль!
Не садясь за стол, Жак схватил бокал и залпом опорожнил его. Он выглядел совершенно спокойным, хотя было заметно, что у него немного дрожат руки. Потом он повернулся к Оливье, приглашая его в судьи.
— Все это из-за женских нервов! Просто ей никак не удается уговорить меня бросить это замечательное дело и уехать с ней. Вернуться во Францию, чтобы обрабатывать несколько гектаров земли, которые она унаследовала от своих родителей. Ты можешь представить, что я выращиваю свеклу? — Он искренне рассмеялся и добавил: — Эти рассказы о статуэтках… Бред какой-то! Тед честный человек!
— Тед вор! — крикнула Ивонн. — Он крадет твою жизнь! Он обкрадывает всех! Сначала, покупая статуэтку, он обкрадывает того, кто ее украл, потом он обкрадывает простака, который покупает ее, переплачивая в десять раз под предлогом, что добывать статуэтки опасно. Опасно для кого? Кому приходится щекотать тигра, чтобы отвлечь внимание властей? Однажды ты промахнешься, и он сожрет тебя!
— Это я-то промахнусь? Я?
Жак расхохотался, швырнул сигару в ведерко для шампанского, сорвал со стены ружье, вскинул его и нажал на курок восемь раз подряд, постепенно поворачиваясь вокруг своей оси. Стрельба продолжалась пять секунд. Пустые гильзы отлетали на стол, на музыкантов, на Ивонн. Небольшое облачко голубоватого дыма отгородило Оливье от отца. Вокруг них неподвижно застыли официанты; на их лицах не было заметно ни испуга, ни волнения. Висевшие на стенах четыре головы тигров, три буйволов и одна носорога лишились каждая одного глаза.
Жак улыбнулся, довольный собой.
— Видишь? Твой отец еще не скоро позволит сожрать себя.
Ивонн подошла к нему. Она смотрела на Жака с любовью и жалостью. Взяв у него из рук ружье, она передала его подбежавшему слуге.
— А теперь, когда ты закончил свое выступление, посмотри своему сыну в глаза и повтори, что ты дашь ему все, что он потребовал.
Она слегка подтолкнула Жака к столу, но тот возмутился:
— Оставь меня в покое! Не вмешивайся не в свое дело, это должно быть решено между мужчинами.
— Для этого нужно, — грустно улыбнулась Ивонн, — чтобы было двое мужчин. У тебя уже никогда не будет возможности стать одним из них! Скажи ему правду! Ну, давай! Скажи ему все! Может быть, ты найдешь для него хотя бы один миллион из тех тридцати, которые ты ему должен?
Жак растерянно огляделся. Потом он взглянул в глаза Оливье. Тяжело опустившись на стул, он превратился в того, кем был на самом деле, в человека, внезапно оказавшегося под грузом невыносимой правды.
— Мне очень жаль, малыш. Я не могу дать тебе даже миллион. У меня его нет. Нет даже половины, даже четверти миллиона. Она права. У меня нет ничего. Ничего.
Он взял со стола свой бокал, уже наполненный официантом, но сообразил, что играть дальше нет смысла, и поставил его назад. Потом пожал плечами и улыбнулся сыну жалкой улыбкой.
— Ты не таким представлял себе отца, не так ли?
Оливье немного помолчал, потом негромко произнес:
— Да, совсем не таким. — Снова помолчав, он добавил: — Я думал, что это негодяй с набитыми деньгами карманами, который заставляет нас голодать.
Его взгляд медленно смягчился, в его груди словно лопнула невидимая пружина, и все мышцы расслабились. На лице появилась совершенно детская улыбка. Он схватил свой бокал, к которому ни разу не прикоснулся с начала застолья, поднял его приветственным жестом и выпил.
Джип остановился на тропе, в нескольких шагах от дороги. Оливье выбрался из него. Жак, сидевший за рулем, протянул ему рюкзак. Солнце, уже высоко поднявшееся над горизонтом, нещадно припекало.
— Пешком ты будешь добираться очень и очень долго! Почему ты не хочешь подождать, когда мы закончим охоту? Потом мы вместе отправимся в Катманду.
— Нет, я не могу ждать.
— Почему ты так торопишься в город? Что, тебя там кто-то ждет? Наверное, девушка?
— Угадал, — вздохнул Оливье.
Перед ним не оставалось других препятствий. Деньги, из которых он воздвиг вокруг себя непроницаемую стену, превратились в дым, исчезли, растворились. Джейн была там, совсем недалеко, в нескольких шагах. Нужно было преодолеть это расстояние и встретиться с ней. Ему даже не нужно было избавляться от других парней, она сама выбросит их из своей жизни.
— Она красивая? — спросил Жак.
— Конечно!
— Ты влюблен в нее?
— Кажется, да.
Жак вздохнул.
— Поосторожней с девушками! Какое-то время все бывает очень хорошо, но если затянуть, то может выйти совсем иначе. Ладно, давай! Счастливого пути!
Он помахал рукой, развернул джип и исчез за деревьями.
Некоторое время Оливье считал дни, но на пятом или шестом сбился со счета. Впрочем, ему было все равно. Он шел вперед, то поднимаясь в гору, то спускаясь, и каждый раз перед ним возникал новый подъем. Он не уставал, и если бы ему не нужно было найти Джейн, то ему даже понравилась эта бесконечная дорога. Она казалась ему легкой, и не только потому, что торопился к Джейн, но и оттого, что он лишился тяжелого груза ненависти и презрения к своему отцу.
Он пришел сюда с другого конца света с ножом, которым собирался вспороть мошну мерзкому миллиардеру, чтобы извлечь из нее свои миллионы, но вместо угрюмого богача встретил жизнерадостное несмышленое дитя, такое же бедное, как он сам. Несколько банкнот, которые Жак сунул ему в карман и от которых он сначала хотел отказаться, пришлось взять, чтобы не обижать отца. Теперь они лежали на дне его рюкзака, делая его совсем невесомым, потому что эти деньги были символом отцовской любви и мужской дружбы. Получи он миллионы от чужака, который был его отцом, и они давили бы на его плечи свинцовым грузом.
Дорога обогнула узкую долину и устремилась кверху, к свету, становившемуся все ярче, все сильнее. Оливье вышел на гребень и остановился, пораженный.
Под ним простиралась широкая долина, зеленая, словно английский газон, пересеченная во всех направлениях множеством тропинок и дорог, разрисованная трудолюбивыми руками земледельцев, без малейшего клочка дикой растительности, без единого неухоженного пятачка земли. На противоположной стороне долины, далеко на горизонте, к небу мрачными уступами все выше и выше поднимались гигантские горные хребты. Вершины самых дальних пиков тонули в чудовищных облачных массах, тяжело опиравшихся на горные хребты. Это было предупреждение человеку, что его мир не должен преодолеть границы охраняемого ими беспредельного пространства. Над медленным водоворотом облаков еще выше в небо уходила вершина прозрачной фарфоровой белизны, зазубренная, острая, нереальная, легкая, как мечта, и в то же время подавляющая своей мощью. Она занимала половину неба.
— Гималаи, — зачарованно пробормотал Оливье.
Огромное белое зеркало горы нереальных размеров посылало в долину невесомые лучи, концентрат лазури и света, извлеченный из небесных глубин, субстанцию белее белого, прозрачнее пустоты, которая проникала в обычный дневной свет и вспыхивала, не смешиваясь с ним. Эти лучи ложились на все контуры рельефа, на каждый дом, на каждое дерево, на каждого человечка-муравья, копошащегося в земле, даже на уродливый грузовик, рыча поднимавшийся на перевал, создавая вокруг всего ореол неземной красоты. Благодаря этому освещению воздух казался менее плотным, более пригодным для дыхания, а любое напряжение сил становилось радостным. Это был свет божественного праздника, подаренный людям, чтобы укрепить в них уверенность в том, что все, что они ищут — справедливость, любовь, истина, — существует, нужно только всегда идти вперед, искать и добиваться. И если смерть останавливает вас на пути, это не имеет значения — цель продолжает существовать для других.
Когда мимо застывшего на обочине Оливье прогрохотал грузовик, он прокричал заполнившим кузов пассажирам: «Катманду?» — и махнул рукой в сторону долины. Все в кузове принялись отрицательно качать головой, смеясь и выкрикивая непонятные фразы.
Оливье свернул на сокращающую путь тропинку и быстро зашагал вниз по склону, мурлыча какую-то глупую мелодию, песенку счастья.
По всем дорогам в Катманду стекались крестьяне в пестрых, иногда даже довольно чистых, одеждах. Семьями, целыми деревнями, взрослые, старики и дети, идущие с четырех сторон света и со всех промежуточных направлений, спешили к центру мира, которым в этот день стала главная площадь Катманду, на которой храмы самых разных размеров, столь же многочисленные, как деревья в лесу, были заполнены небесными и земными богами. В этот день в этом месте людям и богам полагалось встречаться, беседовать и радоваться тому, что каждое существо в мире находится на своем месте и делает то, что должно быть им сделано. И все радовались жизни и смерти, непрерывно сменяющим друг друга, противоположным и в то же время стремящимся в одном направлении.
Оливье, до сих пор в одиночестве шагавший по своей тропинке, скоро был поглощен все более и более густой толпой радостных грязных людей, пахнущих сеном и навозом. Его сжимали со всех сторон, толкали и тянули вперед, пока он не попал в стены Катманду через западные ворота.
Толпа завлекла его на узкую улочку, ведущую к площади. В воздух поднималось едкое облако пыли из растоптанного тысячами ног высохшего на солнце коровьего навоза, помета собак и обезьян и человеческого кала. Проникнув в ноздри Оливье, отвратительный запах едва не задушил его. Он поспешно прижал к лицу носовой платок, но тончайшая пыль просачивавшаяся сквозь него, продолжала производить такой же эффект, как негашеная известь. Сунув платок в карман, он глубоким вдохом через рот заполнил свои легкие пылью с запахом дерьма и. перестал замечать его. Так бывает в море, когда ты, кинувшись очертя голову в воду, невольно хлебнешь добрую порцию. Сопротивляясь, ты только ухудшаешь свое положение, продолжая поглощать горькую воду, пока не утонешь. Если же подчинишься, то быстро превратишься в рыбу.
Толпа замедлила движение, пропуская корову, выбравшуюся на улицу через распахнутые двери. Не реагируя на людскую массу, она неторопливо пересекла проезжую часть и сунула морду в лавочку на противоположной стороне. Не обнаружив среди медной утвари ничего достойного внимания, она медленно направилась к площади. Это было упитанное животное, преисполненное чувства собственного достоинства. Обгонявшие корову люди старались не задеть ее и ничем не потревожить. Обе стороны улицы были заняты лавочками без витрин, с настежь раскрытыми дверями. Они были заполнены металлической посудой, веревками, инструментами, религиозными картинками, ожерельями из жемчуга и красного коралла, мотками шерсти, непальскими одеяниями и европейской одеждой, шапочками самых разных цветов и прочей хозяйственной мелочью, заполнявшей небольшие коробки. Там можно было увидеть небольшие кучки порошка желтого или красного цвета на зеленых листьях или клочках рисовой бумаги, кусочки непонятной еды, сложенные в виде конусов, лепестки цветов и множество других предметов, происхождение и назначение которых оставалось для Оливье непонятным. Много места занимали ведра, тазы, миски, браслеты, ужасные статуэтки и разные другие пластмассовые изделия индийского производства. Ветхие домишки, казалось, были готовы в любой момент обрушиться на жалкие лавчонки. Великолепные ставни из резного дерева разваливались, деревянные кружева, украшавшие фасады, были изъедены временем, пороги стерты, а балки изогнуты. Но мимо этих дряхлых строений, по улицам превращенного в мумию города стремилась толпа юных, здоровых и жизнерадостных людей, увлекая за собой Оливье.
Он пытался, впрочем, без особой надежды, разглядеть между головами людей силуэт Джейн или кого-нибудь из ее приятелей. Но ему не встретилось ни одно европейское лицо, и в его ушах стоял сплошной гул от слов, произнесенных на неизвестном языке. Он ощущал себя здесь более чужим, чем в любой другой стране. Его словно погрузили в иное пространство, с обитателями которого он мог общаться с тем же успехом, что и с муравьями или курами. Но он был уверен, что имеет дело с доброжелательным племенем, от которого не может исходить никакое зло, хотя, впрочем, и добро. Только улыбки и дружелюбные жесты, сопровождающие непонятный язык, любезность вместе с безразличием. Старые и молодые, мужчины и женщины мелькали, обращая на него внимания не больше, чем на какой-нибудь бесполезный предмет. Они были охвачены радостью повстречаться со своими богами и провести праздник вместе с ними.
Вдали, в конце улицы, Оливье уже видел возвышающийся над домами лес храмов, слышал звуки музыкальных инструментов и нестройный хор поющих голосов. Его вытолкнули на площадь в тот момент, когда на ней появился оркестр, в котором наряду с небольшими скрипками преобладали странные духовые, струнные и ударные инструменты из дерева и металла. Музыканты извлекали из них звуки, способные погрузить в нирвану любителей атональной музыки. Тем не менее музыка были жизнерадостной, а мелодия свободной. За музыкантами медленно передвигался буйвол, украшенный цветами и разноцветными лентами, которого вел за собой мужчина в маске обезьяны. Вслед за буйволом шел воин, игравший чудовищными мускулами, на котором из одежды была только узкая полоска ткани на чреслах. На правом плече сверкало длинное, широкое и тяжелое лезвие кривого меча, заточенного с внутренней стороны изгиба. Он возглавлял группу разодетых в пестрые одежды танцоров, лица которых скрывались под ярко раскрашенными масками богов и демонов. Не останавливаясь, они разыгрывали сцену, изображавшую, по-видимому, один из актов творения.
Справа от Оливье высоко в небо устремлялся громадный храм. Построенный в виде массивной четырехгранной ступенчатой пирамиды из красного кирпича, он заканчивался одиннадцатью квадратными крышами, налегавшими друг на друга, постепенно уменьшаясь, и гармонично продолжавшими таким образом свое пирамидальное основание.
Под самой нижней крышей находилась открытая дверь, за которой виднелись тысячи золотистых огоньков. Сбоку от двери расположилась группа хиппи, около двух десятков девушек с длинными волосами и заросших бородами юношей в экстравагантных одеждах. Возвышаясь над толпой, занявшей ступени на боковой грани пирамиды, они вместе со всеми наблюдали за приближающейся процессией.
Они были слишком далеко и слишком высоко от Оливье, чтобы он мог различить лица, но, несмотря на это, он был уверен, что узнал бы Джейн, находись та среди них. Но, может быть, они знали ее и, по крайней мере, могли сказать, где находится девушка.
Он осторожно, боком, протиснулся сквозь плотную толпу к основанию храма. На его нижних ступенях крестьяне разложили плоды своих трудов: связки шпината с листьями в половину газетного листа, груды редиса размером с бутылку, пучки мелкого лука с длинными зелеными хвостами, самые разные фрукты, кучки которых не помещались на ступеньках и спускались на пыльную землю, что, впрочем, не имело никакого значения для тех, кто с детства привык к этой пыли.
Оливье прошел между двумя стражами храма, сидевшими по сторонам лестницы, поднимавшейся к двери золотистых огней. Это были каменная львица с выкрашенным в красный цвет носом и добродушный лев с половыми органами такого же цвета. Почтительные руки паломников натерли шафраном морды зверей и посыпали головы лепестками роз.
Кортеж музыкантов и танцоров с буйволом в их рядах продолжал обходить площадь, останавливаясь перед каждым алтарем, перед каждой стелой, перед каждой украшенной цветами статуей божества. Музыканты исполняли торжественную мелодию, танцоры совершали ритуальный танец, после чего кортеж трогался дальше. Буйвол тащился вслед за ними с опущенной мордой. Очевидно, он представлял, что его ждет.
Оливье, едва поднявшись на вершину ступенчатой пирамиды, сразу уловил запах марихуаны, еще более сильный и едкий, чем у сигарет Свена. Двое парней и четыре девушки явно использовали широко известный гашиш Катманду, как они его называли.
Сидевшие встретили вновь пришедшего с пассивным дружелюбием. Французов среди них не оказалось. Оливье попытался узнать хоть что- нибудь, повторяя на разные лады:
— Jane? Jane? You know Jane? Sven? Garold? Jane?
Они отрицательно качали головами, что-то говорили на английском, немецком и, вероятно, на голландском. Но было ясно, что они ничего не знают о Джейн и ее спутниках. Немного понимавший по-французски американец сказал, что в Катманду очень много «путешественников», юношей и девушек, которые приходят, уходят, потом снова появляются. И всех их знать невозможно.
— А где можно их увидеть?
Американец неопределенно помахал рукой во все стороны.
Потом Оливье выяснил, что тот видел красную машину. Но не помнил, когда и где. Он посоветовал обратиться за справками в отель «Гималаи». Обычно богатые американцы устраиваются именно там. На вопрос, где находится этот отель, последовал еще один неопределенный жест.
Оливье повернулся, чтобы спуститься вниз. За это время на площади с разных сторон появились еще три процессии, также в сопровождении буйволов. Музыканты каждой процессии играли что-то свое, отличавшееся ритмом, мелодией и звучанием инструментов. Точно так же различаются, в то же время сливаясь в одно целое, четыре стороны света и четыре основных элемента мира.
Вокруг процессий колебалась плотная толпа, то растекаясь, то снова смыкаясь, медленно кружась, устремляясь вслед то одному, то другому кортежу, добавляя пение одиночек и небольших групп к разноцветной мозаике, сотканной из звуков четырех отдельных оркестров. Над людской массой возвышались крыши, на которых суетилось множество обезьян, скачущих, дерущихся, взволнованно щебечущих.
В небе над крышами величественное видение огромной горы старалось прикрыть свои тайны колеблющимся покровом облаков, медленно поднимавшихся все выше и выше. Белые, серые и черные облачные массы неудержимо стремились в зенит, надвигаясь друг на друга, вступая в схватку и порождая все новые и новые тучи.
Оливье больше не видел города. Его скрывал частокол шпилей. Храмов было множество. Казалось, что они продолжаются до бесконечности, покрывая собой весь мир. На мгновение ему почудилось, что так и должно быть, что это правильно. Но он тут же забыл эту мысль. Его глаза все видели, мозг фиксировал четкий отпечаток картины, но разум не был готов к тому, чтобы прочесть это послание и понять его.
Все храмы были созданы по одному и тому же подобию. Но их ориентировка, высота пирамиды, количество ступеней и очертания крыш менялись в зависимости от места, которое они занимали в общем построении площади. Таким образом, площадь отражала облик вселенной, вселенной живой, как видимой, так и скрытой от глаз смертных. Каждый храм играл одновременно роль двигателя и тормоза, выполнял функции позвоночника, мускулов, костей, сердца, души, открытых глаз и руки, протянутой для того, чтобы отдать и в то же время получить.
В центре вселенной, в самой середине площади, находился бассейн, выложенный гранитными плитами.
В середине бассейна возвышался каменный столб, опиравшийся на круглую чашу. Это были лингам и йони, олицетворение мужского и женского начал, единых в своем каменном облике и соединенных на всю бесконечность жизни, создаваемой их единством. Вселенная вокруг, площадь, храмы, толпа, коровы, собаки, облака, скрывшаяся под их покровом гора, звезды, долженствующие появиться ночью, были плодами их любви, вечной и непрерывной.
Под прямым углом к западной стороне бассейна, мордой к заходящему солнцу, лежала каменная корова, выкрашенная в желтый цвет, завороженно наблюдавшая за единением, сочетанием, слиянием пустоты и изобилия, из которых она вышла, когда была живой.
Над головой Оливье раздался собачий лай. Он удивленно поднял голову и увидел ворона в коричневом оперении, сидевшего на краю нижней крыши храма и следившего за ним внимательным желтым глазом. Хитрая птица нацелилась на него своим длинным клювом, продолжая ругать его на собачьем языке. Нахальная обезьяна подскочила к ворону и схватила его за хвост. Ворон нанес свирепый удар своим опасным клювом по неосторожной лапе, и обезьяна умчалась, жалобно повизгивая. Ворон подмигнул Оливье, прокашлялся и принялся мурлыкать на кошачьем языке.
В небесной лазури, прямо над площадью, родилось небольшое белое облачко. Оно тут же принялось расти, напоминая распускающийся бутон розы. В это время первая процессия подошла к бассейну в центре площади. Музыканты, не переставая играть, расположились вокруг бассейна. Тучи над горой поползли к небольшому облаку в зените. По всему горизонту прокатилось ворчание грома. Мужчина в маске красной обезьяны запрыгнул в бассейн и потянул за собой буйвола за веревку, привязанную к его рогам, заставив его уткнуться мордой в сочетающиеся столб и чашу.
Музыка четырех оркестров в сочетании с нестройным хором окружающей толпы, гармонично сливалась с пантомимой облаков, к которым взлетали длинные вертикальные ноты высоких женских голосов. С окружавших площадь крыш к ним присоединялись пронзительные крики обезьян. Сидевшие там же вороны дружно взлетели и принялись описывать в воздухе длинные плавные кривые. Лежавшая в пыли корова встала, вытянула шею и громко замычала. Обнаженный воин вознес над головой свою страшную саблю, держа ее обеими мускулистыми руками, на мгновение замер в таком положении и, внезапно испустив дикий вопль, обрушил саблю на шею буйвола, отрубив ему одним ударом голову.
Струя крови ударила в лингам и потекла по нему в йони. Толпа громко закричала. Обезглавленное животное все еще стояло на четырех ногах; кровь, пульсируя, продолжала вытекать дымящимися струйками из его шеи.
Потом буйвол рухнул в воду. Высоко в небе тучи смешивались в единое клубящееся месиво ярости и радости, освещаемое вспышками молний.
К бассейну приблизилась вторая процессия со вторым буйволом. Над толпой, которая клубилась и разбухала, подобно тучам, звучали гимны, посвященные богам, олицетворяющим образы жизни, смерти и вечности.
На заре ворон в коричневом оперении слетел с привычного насеста на крыше храма, опустился рядом с головой Оливье, уснувшего на верхней ступени, и принялся осторожно перебирать своим стальным клювом его волосы, вероятно, в надежде найти какое-нибудь съедобное насекомое.
Оливье, вздрогнув, поднялся резким движением, и возмущенный ворон отскочил в сторону, рассерженно забормотав. Оливье улыбнулся, почесал голову, зевнул и развязал рюкзак, служивший ему подушкой. Из рюкзака он извлек пакетик из прозрачной пленки, в котором оставалось немного рисовой каши, и принялся поглощать ее небольшими шариками, которые он лепил пальцами. Ворон, сидевший на расстоянии не более метра и рассматривавший его поочередно то правым, то левым глазом, явно недоумевал, почему этот грубиян не торопится поделиться с ним своим завтраком. Оливье бросил ворону один шарик. Тот склонил голову набок, чтобы рассмотреть подношение правым глазом, и осторожно клюнул. Попробовав рис, он тут же выплюнул его, испустив жуткий крик, взлетел и помчался над площадью, продолжая вопить, словно собака, которой грузовик отдавил хвост. И все вороны в городе, как с коричневым, так и с черным оперением, какое положено иметь воронам, а также коричневые и черные вороны, оперение которых от времени стало серым, голубые птицы с красным хохолком, голуби и воробьи, длинные зеленые птички, собаки, коровы, весь обезьяний народ и единственный в Катманду кот с круглыми ушами, который считался котом-леопардом и жил в замке Бориса, все животные и даже некоторые люди, понимающие язык животных, узнали, что один появившийся накануне в городе хулиган, в волосах которого нет ничего съедобного, попытался скормить своему брату-воро- ну отравленный рис.
И никто не знал, что это была не отрава, а всего лишь запах пластика, в который был завернут рис.
Почти не отдохнувший за ночь Оливье, у которого от лежания на твердом болела спина, улегся на свое кирпичное ложе и закрыл глаза, но через мгновение снова открыл их. Встающее солнце окрасило в розовый цвет наклонные балки, поддерживавшие крышу. Каждая из них, раскрашенная и покрытая резными узорами на всем протяжении, изображала бога или богиню, атрибуты которых, выражение лица, поза и количество рук на каждой балке были уникальными. Получалось, что храм держался на плечах множества небожителей. В свою очередь, их поддерживали жители Земли, занимавшиеся своими обычными делами. На каждой балке под ногами бога или богини находились служившие им опорой мужчина и женщина, сочетавшиеся в самых невероятных позах. Оливье разглядел, что при этом женщина всегда занималась выполнением своих повседневных обязанностей — она дробила в ступе зерно, сажала рис, мыла волосы, кормила грудью младенца, подметала пол, что-то варила, доила корову… В то же время мужчина, не мешая ей выполнять работу, которая обязательно должна быть выполнена в свое время и в нужном месте, не прекращал оплодотворять ее своим огромным членом спереди, сзади, сверху, снизу, иногда с помощью соседа, иногда с участием соседки. Несмотря ни на что, женщина, мать, квинтэссенция земли и воды, не перестававшая делать то, что она должна была делать с незапамятных времен и в бесконечном будущем, наводившая всюду порядок, извлекавшая пищу из живого для живого, получавшая от земли фрукты и создававшая из фруктов дитя, превращавшая в муку грубое зерно и выпекавшая из этой муки золотистый хлеб, продолжала, не теряя ни мгновения, вновь и вновь принимать семя, чтобы непрерывно порождать новую жизнь и, таким образом, продолжать род человеческий.
Заинтересовавшись увиденным, Оливье встал и обошел храм по периметру, от одной балки к другой, задрав голову и рассматривая эротические скульптуры. Вскоре поведение мужчины показалось ему достаточно нелепым. Он походил на карикатуру пожарного с брандспойтом в руке, которому никак не удавалось загасить пламя. И этот предмет, который, как он считал, принадлежал ему и который он так старательно использовал, чтобы заткнуть любую повстречавшуюся дыру, казалось, не принадлежал ему, но он сам был его рабом.
Вскоре Оливье добрался до окончания цикла. На последней балке мужчина исчез, и женщина осталась одна. Сидя лицом к зрителю и придерживая руками высоко поднятые ноги, она рожала девочку, находившуюся в такой же позе, как мать, и тоже рожала очередную девочку, а та в свою очередь тоже рожала… Так продолжалось до последней фигурки размером не больше чечевичного зерна, но и из нее изливался поток новой жизни, стремящейся, таким образом, к бесконечности.
Из дверей храма, за которыми все еще горело несколько огоньков, вышел остриженный наголо мальчик лет десяти, с висящей под носом соплей. Его лицо, рубашка и штаны были все того же универсального для всей страны грязно-бурого цвета, но в ясных глазах светилась радость, которую ничто не могло запачкать. В руке он держал небольшую палочку. Увидев, что привлекло внимание Оливье, он остановился, засмеявшись, поднял палочку горизонтально и подвигал ее вверх-вниз, воскликнув «зип! — зип! — зип!». Затем, отвернувшись, он принялся спускаться вниз, прыгая с одной ступеньки на другую сразу обеими ногами и продолжая выкрикивать свое «зип-зип-зип!».
Внизу начали появляться крестьяне с зеленью и овощами. Свой груз они несли не на спине, как это принято среди шерпов, а в больших плоских корзинах, подвешенных к коромыслу.
Площадь, обласканная солнцем, окрасилась в розовые тона. Теперь Оливье увидел под фальшивыми румянами юности, что храмы, как и весь город, были невероятно древними, покосившимися, с выщербленными ступенями и ободранными крышами, готовыми обрушиться под весом обезьяньих стад.
Интенсивность эмоций толпы на несколько часов омолодила их, но как только празднество окончилось, они снова вернулись к прежнему состоянию, словно старики возле печки, молодеющие, когда в ней пылает огонь, и дряхлеющие, когда огонь гаснет и угли покрываются пеплом.
Накануне Оливье весь вечер искал Джейн, пробираясь сквозь заполнившие город толпы. Он встречал хиппи из самых разных стран, но их сознание было затуманено наркотиками. Никто из них не смог вспомнить Джейн, Свена или Гарольда. Он разыскал отель «Гималаи», перед которым клиентов ожидало несколько такси с изображением головы тигра на капоте и кузовом, разрисованным полосами, словно шкура хищника, но американские автомобили ему не попадались. Это было естественно, так как большинство туристов добиралось до Катманду на самолете. Редко кто решался совершить опасное путешествие на машине. Он направился к входу в отель, перед которым стоял великолепный гуркха в тюрбане и безупречном белом одеянии, но остановился. Что он мог спросить у него? Кроме имени, он ничего не знал о Лорин…
Надвигалась ночь. Толпы крестьян покидали Катманду, возвращаясь под предводительством музыкантов в свои деревни. Торговцы опускали деревянные ставни своих лавочек, огни в храмах гасли один за другим.
Неожиданно Оливье почувствовал себя страшно одиноким, как если бы он затерялся среди лунных кратеров. Он присоединился к парочке хиппи из Штатов, заросших грязными волосами и увешанных ожерельями и амулетами. Они привели его в просторное помещение, большую часть которого занимал длинный деревянный стол со скамьями по сторонам, где несколько хиппи пассивно ожидали, когда появится кто-нибудь с деньгами, чтобы купить немного еды. Оливье пришлось раскошелиться. За несколько рупий индус, хозяин комнаты, водрузил посреди стола большое блюдо риса с остатками каких-то овощей, разложил ложки, тарелки и поставил стаканы для воды. Хиппи распределили рис по тарелкам, но почти никто так и не очистил их от еды. После одной-двух ложек у них пропадал всякий аппетит, они не хотели есть, не хотели ничего, они превратились в растения, которым было достаточно солнца, дождя и того, что им могла дать земля. И у них не осталось ни малейшего желания хотя бы пошевелить одним листом.
Напротив Оливье сидела девушка-блондинка, казавшаяся не такой грязной, как остальные. Ее волосы были аккуратно уложены в виде шиньона. Прическа и пухлые розовые щеки делали ее похожей на учительницу из Голландии. Она уставилась в пустоту над левым плечом Оливье, даже не пытаясь делать вид, что хочет есть. В пустой тарелке не было ни зернышка риса, она сидела неподвижно, бессильно опустив на колени вялые руки. Только слегка поднимавшаяся грудь говорила о том, что она еще дышит. Она не отводила взгляда от стены слева от Оливье, и тот прекрасно знал, что там не на что смотреть. Тем не менее, все время, пока он сидел за столом, девушка продолжала смотреть в пустоту, не двигаясь и не произнося ни слова. Оливье старался не смотреть на нее; ее взгляд пугал его.
Юноши и девушки вокруг лениво ковыряли рис в своих тарелках, то сгребая его в небольшие кучки, то снова разравнивая. Изредка они подносили ко рту ложку с несколькими крупинками. Он заметил, что девушки находились в более глубоком трансе по сравнению с юношами. Они уходили дальше, сильнее отстранялись он обычных законов повседневности, от необходимости и обязанности жить. Ужас охватил его, когда он подумал о Джейн. Где она находилась сейчас? Возможно ли, что она тоже оказалась на этом туманном берегу, откуда наш реальный мир предстает чем-то призрачным, все более и более отдаляющимся и постепенно исчезающим?
Никто из сидевших за столом не знал Джейн. Но были другие места для сборищ, другие столы, другие дороги, другие храмы и другие праздники. Непал — страна богов, и каждый день в одной из деревень одному из них посвящался праздник, только потому, что солнце восходит каждый день. Музыканты и правоверные перебирались от одного поселения к другому узкими тропинками от одного холма, увенчанного храмом, к другому. И «путешественники», собравшиеся здесь со всех концов земли, шли за ними теми же путями, думая, что они все понимают, но на самом деле ничего не понимая, несчастные, потерявшие свой мир и не нашедшие ничего взамен, блуждающие в поисках смысла жизни и заглушающие дурманом воспоминания о том, что покинули, и боязнь того, что не найдут ничего, что могло бы заменить все, от чего они отказались.
Где были Джейн, Свен и Гарольд? Может, в Свайянбунате, может, в Патане, может, в Пашупакинате, может, в Покаре, может, еще где-нибудь… Они постоянно перемещаются… Они никогда не сидят на одном месте… Они нигде не находят места для себя, места и покоя. Они всегда идут все дальше и дальше… И они курят… Чистенькая блондинка с хорошо уложенным шиньоном, смотрела через плечо Оливье. Она ничего не видела.
Оливье не представлял, где он сможет провести ночь, но двое американцев позвали его с собой. На пустынных улицах, плохо освещенных редкими и слабыми лампочками, прицепленными к натянутой над перекрестками проволоке, мелькали тени тощих псов. Лавочки были закрыты на массивные висячие замки. Вороны и обезьяны давно уснули.
В гостиницу, куда Оливье привели американцы, можно было попасть только через узкую дверь в щели между двумя лавками. Из ниши над дверью выглядывал многорукий божок. Тусклый свет небольшой лампочки освещал его лицо и жалкие подношения — небольшую кучку риса и горсть лепестков роз. Пройдя по узкому коридору, они попали в квадратный дворик, посреди которого теснилось несколько каменных богов и возвышался стоявший над йони лингам. Лица богов были вымазаны желтой или красной краской, в ладони им были насыпаны зерна риса, а плечи и головы были украшены свежими цветами. Вокруг дворика деревянные столбы поддерживали кружевной деревянный навес с выщербленными краями, покрашенный в красный цвет. Под навесом на дворик выходили двери комнат.
Едва очутившись во внутреннем дворике, Оливье почувствовал сильный запах гашиша. Подавив отвращение, он последовал за хиппи в их комнату, располагавшуюся в глубине двора. Юноша толкнул дверь и первым вошел в комнату, не заботясь о следовавших за ним. Шагнув через порог вслед за девушкой, Оливье остановился. Комната освещалась масляной лампой, стоявшей в стенной нише. Вместо мебели на земляном полу лежало несколько ковриков; ни простыней, ни одеял он не увидел. Лежавшие на полу юноши и девушки спали или курили. Несколько ковриков оставалось свободными. Справа от двери парень и девушка, только что занимавшиеся любовью, уснули. Их совершенно не волновало, что они остались почти обнаженными.
Оливье отшатнулся, задержав дыхание, потом повернулся и выскочил во двор. Опрометью промчавшись по коридору, он снова оказался на улице. Здесь остановился, поднял лицо к небу, на котором сверкали непривычно яркие звезды, и глубоко вздохнул. Заполнивший его легкие воздух, насыщенный запахом навоза, показался ему свежим и даже приятным, словно он вдыхал аромат весенних фиалок.
Ущербная луна освещала крышу храма в конце улицы. Усталость быстро сморила Оливье, и он заснул на его верхней ступеньке. Желтый пес, следовавший за ним по пятам, улегся рядом, положив ему голову на грудь, чтобы им обоим было теплее. Когда на восходе солнца появился ворон, пес уже отправился на поиски завтрака.
Он искал ее весь день. Исходив весь город, улицу за улицей, расспрашивая всех попадавшихся ему навстречу хиппи. Но получал от тех, кто его понимал, только отрицательные или невнятные ответы. Несмотря на терзавшую его тревогу, он постепенно начал понимать этот удивительный город, в котором барахтался, как муха, упавшая в кружку с молоком. Повсюду ему встречались боги — над дверями, в простенках между окнами, даже посреди улицы, в гуще движения, где их устанавливали на массивном основании. Боги поселялись в храмах, находившихся на каждом перекрестке, целыми группами располагались во дворах, выглядывали из окон, поддерживали крыши или сидели на них. Похоже, их было так же много, или даже больше, чем жителей города. И они были такими разными и такими похожими. Это были не просто части декораций, но живые участники городского быта. Мужчины и женщины общались с ними, приветствовали, проходя мимо, делились с ними едой, посыпали лепестками цветов, гладили по лбу, выражая таким образом свою признательность. Дети карабкались на них, птицы и обезьяны забирали у них рис, оставляя взамен помет, коровы чесали бока об острые углы, стриженые овцы дремали у их ног, вороны цвета табака садились им на голову, чтобы обратиться к прохожим с похвальными словами или ругательствами, торговцы овощами вешали связки лука на их протянутые руки. Они жили обычной жизнью, такой же, как и все горожане. Люди, боги и животные были перемешаны, сплетены в нечто единое подобно волосам, цветам и шерстяным ленточкам в женских прическах. Люди всегда относились к ним так же дружелюбно, как к своим соотечественникам. Боги были везде, в тысячах существ из плоти, из камня, из шерсти или из перьев, они были в глазах множества детей, игравших голышом перед дверями своих хижин, где их, казалось, не занимало ничто иное, как только счастье быть живыми.
Бог был везде, но «путешественники», пришедшие сюда из далеких краев, нигде не находили его, потому что забывали, что искать его нужно было прежде всего в себе.
В плане Катманду походил на звезду с восемью лучами. Восемь торговых улиц, расходившихся в разные стороны от площади Храма, протянулись во все концы долины. Между ними размещались кварталы ремесленников, в которых небольшие мастерские, открытые взглядам прохожих, заменяли лавки.
На севере, за пределами звезды, вдоль дороги в аэропорт, были построены отвратительные бетонные здания, в которых размещались посольства, отели для туристов, казармы, а также госпиталь Красного Креста, банк, водонапорная башня, хлебозавод, электростанция и тюрьма.
На юге квартал горшечников обрывался на берегу большого пруда с темной водой. Здесь Оливье закончил поиски вечером второго дня.
В конце улочки, по сторонам которой груды глиняных горшков и кувшинов достигали крыш, он очутился среди мрачного пейзажа. Пруд был большим, и люди на противоположном берегу выглядели небольшими фигурками. Вода в нем была цвета ночи. Множество черных свиней, коротконогих и волосатых, бродили по берегам пруда, разрывая грязь пятачками и пожирая обнаруженных червей и личинок. Буйволы погружались в воду почти целиком, так что над поверхностью торчали только ноздри и рога. На берег они выбирались черными от грязи. К пруду подошла женщина, опорожнившая в воду синее пластмассовое ведро, в котором были собраны семейные экскременты, накопившиеся за день. Потом она протерла рукой ведро внутри и ополоснула его. Немного в стороне три женщины, болтая и смеясь, полоскали белье, выжимали его и снова полоскали. Одна из них распустила волосы и долго мыла их. Потом она полностью разделась и, присев на корточки, принялась обливать себя водой с головы до ног. Она была уверена, что ничем не нарушает приличия, так как ее нагота не была заметна со стороны.
Повернувшись, чтобы уйти, Оливье увидел Джейн. Она лежала на спине на самом краю грязной лужи. Спутанные волосы закрывали лицо, джинсы были выпачканы в грязи. Огромная свинья обнюхивала ее. Толкнув лежавшую рылом, свинья распахнула у нее на груди блузку, обнажив грудь. Оливье кинулся к девушке, громко выкрикивая ее имя. Наткнувшись на не успевшую убраться в сторону свинью, он упал. Пока он поднимался, свинья, бродившая вокруг девушки, принялась мочиться на нее. Подбежав, Оливье пинком отшвырнул в сторону животное, умчавшееся прочь с громким визгом, заставившим прачек обернуться на происходящее. Оливье, потерявший голову от ужаса, приподнял Джейн и отбросил с ее лица волосы. Это была другая девушка.
Она очень походила на Джейн ростом, общим обликом и цветом волос. Но она была заметно старше Джейн, с большим носом и показавшимися ему почти желтыми подслеповатыми глазами, тупо смотревшими на него из наркотического тумана, в котором сочувствие юноши и моча свиньи ничем на отличаются и одинаково не имеют значения.
Оливье попытался поднять ее на ноги, чтобы увести отсюда. Но ноги не держали ее, она выскользнула из рук Оливье и осела на землю, едва не упав. Увидев, наконец, юношу, она протянула к нему руку, невнятно бормоча что-то вроде «упи, упи». Оливье с трудом понял, что она просит денег. Положив ей на ладонь бумажку в несколько рупий, он сжал ей пальцы, чтобы она тут же не потеряла ее.
Прачки громко смеялись, словно присутствовали при забавной сцене или смотрели на смешных животных. Оливье повернулся и ушел с тяжелым сердцем, повторяя про себя имя Джейн.
Пройдя по улице горшечников, он присел на ступеньку небольшого храма, со стен которого на него таращились рогатые чудовища. Они грозили ему оскаленными мордами, царапая воздух когтистыми лапами. Это были стражи храма, которым полагалось отгонять демонов.
Оливье казалось, что один из демонов поселился у него в груди. Неужели это любовь?
Девушка, с которой он едва знаком и которую обнимал только одну ночь, внезапно, после его встречи с отцом, оказалась способной дать ответы на все его вопросы, разрешить все его проблемы. День за днем он шел к ней, вспоминая ее огромные глаза, в которых не было и тени лжи, ее светлую улыбку, ее слова. И в особенности чувство безграничного покоя, который он испытывал, находясь рядом с ней, даже если они не разговаривали, даже если он не смотрел на нее. Когда она сидела на траве, в нескольких шагах от него, все в нем и вокруг него приходило в равновесие, все становилось спокойным, все было хорошо.
Час за часом, по мере того, как продолжались его бесплодные поиски, он все отчетливее понимал, какая пустота образовалась вокруг него с того момента, как он оставил Джейн, оставил так легко, не придавая этому значения. Поспешность, с которой он расстался с отцом, его стремление скорее попасть в Катманду отражали потребность снова ожить, найдя ее, заполнить смыслом жизнь, такую невыносимую, о чем он не имел представления, пока не встал на ведущий к ней путь, каким бы долгим он ни оказался.
Но в конце пути он не нашел никого.
Отныне окружающий мир перестал существовать для него, и внутри не осталось ничего, кроме пустоты. Сидя на каменной ступеньке, обхватив руками голову, находясь на грани полной утраты физических сил и надежды, он был воплощением страдания, не имея возможности удовлетворить потребность, более насущную, чем смертельная жажда или смертельный голод. Отсутствие Джейн было для него страшной травмой. Казалось, что огромная рука с острыми ногтями вырвала его внутренности, оставив только пустую оболочку. Такая же пустота возникла и в окружающем его мире; дома, города, люди и животные, все вокруг превратилось для него в бесцветные и беззвучные тени.
То, что он не смог найти ее, казалось ему жестокостью, в которую невозможно было поверить; она казалась настолько абсурдной, что он зажмурился и протянул перед собой руку, уверенный, что сейчас его пальцы коснутся ее, что она засмеется от счастья и бросится к нему в объятья, и он обнимет ее так крепко, что она вскрикнет от боли и радости.
Открыв глаза, он увидел трех совершенно обнаженных детей, сидевших напротив него на другой стороне улицы среди нагромождений глиняных мисок и горшков. Они смотрели на него серьезно и дружелюбно. Оливье медленно сжал протянутую руку в кулак и опустил ее. Дети засмеялись и замахали руками. Они кричали «bye-bye!» и «hello!». Благодаря американским туристам на них распространилась западная цивилизация.
Оливье вскочил на ноги и набрал полную грудь воздуха. Ему нельзя было отчаиваться. Она должна была находиться в Катманду или где-нибудь в ближайших его окрестностях. Он обязательно найдет ее! Но если не найдет? Никогда? Неужели его жизнь остановится из-за какой-то девчонки? Что в ней такого, чего нет у других девушек? Неужели он начинает сходить с ума? Если она не хочет встретиться с ним, то к чертям ее! Почему она не пошла с ним, когда он попросил ее? Это понятно, ведь она спала с этим типом! А со сколькими она переспала до этого? Нет, в Катманду и в других местах достаточно девушек не хуже, а может быть, и лучше нее.
Он двинулся большими шагами по улице, уверенный в себе, легкий и бодрый. Но прежде чем он дошел до конца улицы, он понял, что другие девушки ничего не значат для него, будь они хоть в тысячу раз прекраснее Джейн, и что Вселенная без нее становится мрачным и бессмысленным местом, ничего для него не значащим. Она могла спать с этим типом и с сотнями других, это имело значения не больше, чем пыль под ногами. Единственное, что имело значение, — это то, что они были созданы друг для друга, что с начала начал мир был задуман только для того, чтобы они оказались вместе среди окружающей их бесконечности. И их разлука была столь же противоестественна и чудовищна, как черное солнце.
Он замедлил шаги, не представляя, куда идти. Со всех сторон его окружала пустота, и о его собственном существовании напоминала только угнездившаяся в нем боль. В конце концов он снова оказался за тем же столом, что и накануне, перед тем же блюдом с рисом. Здесь он повстречал Густава, когда-то работавшего подмастерьем в пекарне, но оставившего квашню, чтобы уйти с компанией хиппи, потому что ему казалось более приятным болтаться без дела, чем выпекать булки с утра до вечера. Это был маленький тощий человечек лет тридцати, с копной длинных черных волос и маленькими живыми глазками, похожими на сливы, с усами и бородкой в стиле д’Артаньяна. Не интересуясь гашишем, он все время играл на небольшой флейте. Густав быстро сообразил, что вызывает смех у крестьян на рынке, исполняя им «Радости любви», хотя не представлял, почему эта меланхоличная мелодия заставляет их хвататься за животы от смеха. Поиграв некоторое время, он останавливался и протягивал руку. Ему доставалось несколько луковиц, пара редисок, пучок салата, апельсин. В гостиницу он всегда приходил с полной сумкой.
Он знал, где обретается Джейн, и рассказал Оливье, где ее можно увидеть.
Старинный дворец, принадлежавший принцу, отправленному в ссылку новой властью, состоял из четырех больших расположенных квадратом блоков, внутри которых располагался просторный сад с множеством храмов и статуй. Король отдал этот дворец беженцам из Тибета, страны, в которую вторглись китайцы. Их семьи и целые кланы заселили помещения первого этажа, а помещения на втором этаже они сдавали «путешественникам», на условиях полного самообслуживания.
Вечерами все живущие в дворце хиппи, а также их гости из Катманду и все странники, оказавшиеся в городе, собирались в саду, где располагались небольшими группами вокруг костров. Они курили, пели, мечтали, засыпали возле огня, занимались любовью или отправляли естественные надобности в тенистых уголках сада, у подножья какой-нибудь статуи или возле гигантского дерева.
Вокруг небольших костров и масляных светильников здесь собралось не меньше тысячи юношей и девушек. Звучали гитары; кое-кто пытался петь. Больше всего здешняя обстановка напоминала сборище цыган, приехавших на праздник в Сент-Мари-де-ла-Мер, но не было присущего этому празднику веселья.
Над толпой молодежи висела пелена усталости и дряхлости, приглушавшая свет, звуки и все проявления жизни. Отвратительный запах гашиша застоялся между стенами дворца, словно запах мочи в общественном туалете.
Кто-то выкрикнул имя:
— Джейн! Джейн!
Это был не окрик, а призыв к возрождению, подобный тому, который обратил к Лазарю Иисус, но и он сам возродился в этот момент.
Девушка, услышав свое имя, выпрямилась, раскрыла огромные фиолетовые глаза, и лицо ее осветилось. Сейчас ее лицо сияло, подобно солнцу.
Оливье подбежал к девушке, вынырнув из темноты, и упал перед ней на колени. Они восторженно смотрели друг на друга. Протянув навстречу друг другу руки, они медленно сплели их и, закрыв глаза, молча прижались щекой к щеке.
— Ты одна? А где твои друзья?
— Какие друзья?
— Ну, Гарольд, Свен.
— Ах, да. Г арольд уехал. С одной американкой.
— С Лорен?
— Разве ты знаешь ее?
— Ты что? Конечно!
Как она могла забыть? Несмотря на радость, с которой она его встретила, он чувствовал беспокойство из-за ее отсутствующего вида. В наступившей темноте он бережно прикасался к ней, ощущая хрупкие кости под изгибами ее тонкого тела.
— Ты так похудела. У тебя нет денег? Наверно, ты ничего не ешь.
— Нет, ем, конечно.
— А где Свен?
— Он скоро вернется, он в госпитале.
— Он заболел?
— Нет. Он пошел сдавать кровь.
— Сейчас? Ночью?
— Там всегда есть дежурные. Они расплачиваются долларами.
Оливье знал, что сдача крови была последним источником денег для хиппи. Когда они продавали все, что имели с собой, им не оставалось ничего другого, как продавать свою кровь. Больницы всех стран, в которых они оказывались, всегда с удовольствием брали у них кровь и хорошо за нее платили. Девушки же обычно занимались проституцией. Сложился определенный тариф — три рупии. Полтора франка. За эти деньги можно было купить немного риса и немного гашиша. В Катманду даже самые некрасивые находили клиентов — обычно непальских или индийских торговцев. У местных крестьян никогда не было денег.
Жак предупредил Оливье:
— Осторожней с этими девицами. Наркотики, сифилис, туберкулез. Они все кончают в Пашупакинате, на погребальном костре.
Он обхватил Джейн и прижал к себе. Он хотел укрыть ее со всех сторон сразу, чтобы она оказалась в безопасности. Он с болью ощущал ее хрупкость, невесомость. Девушка дрожала, и ему показалось, что она нездорова.
— Я сниму номер в гостинице. А завтра позову доктора. Раз здесь есть больница, то должны быть и врачи.
Но Джейн не захотела идти в гостиницу. Она должна дождаться Свена. У них здесь, на втором этаже, есть комната. Он может устроиться вместе с ними.
Она дрожала все сильнее и сильнее. Идти куда-либо в таком состоянии было невозможно.
Из темноты возник похожий на тень Свен. Он ничуть не удивился, увидев Оливье, и приветствовал его дружелюбной улыбкой. Оливье почти не видел его, но слышал спокойный голос, в котором звучали уверенные нотки, звучали тепло и одновременно рассеянно, резко контрастируя с состоянием Джейн. Свен сел рядом с девушкой и передал ей два небольших бумажных пакетика, совсем плоских, почти пустых, показавшихся Оливье в темноте белыми пятнышками. Один пакетик она тут же сунула в карман джинсов, а второй раскрыла и, поднеся к ноздрям, вдохнула часть его содержимого.
Свен непрерывно кашлял. Он положил на колени гитару и принялся наигрывать жизнерадостную мелодию, то и дело прерывавшуюся остановками. Он уже употребил свою дозу и находился в состоянии эйфории, когда во времени и в сознании то и дело возникают разрывы.
Когда Оливье понял, что за порошок был у Джейн, у него все внутри похолодело. Прошло так мало времени, но она уже зашла так далеко. Он должен увезти ее из этой страны, вырвать из этой грязи, и сделать это быстрее, как можно быстрее.
Джейн уже не дрожала. Она перестала ожидать. Она засмеялась, прижалась к Оливье и запела ему по-английски про вновь обретенное счастье, про счастье увидеть его. Потом эту же песенку она повторила ему по- французски. Без него она была так несчастна, ей было так же необходимо встретиться с ним, как дышать и пить, но его не было рядом, она думала, что уже никогда больше не увидит его.
Но он вернулся! Он был рядом! Это было замечательно! Теперь она покажет ему на небе все звезды, поющие для них, ведь Бог — это любовь, Бог был в ней и в нем, они никогда больше не расстанутся, они всегда будут счастливы. Она смеялась, пела, болтала, она терлась о него, словно кошка, она схватила обеими руками его лицо и начала целовать везде, смеясь при этом, что у него такая колючая борода. Она сказала, что ни с кем не спала с того момента, как он расстался с ней, а все то, что было раньше, не имеет никакого значения. У нее была только одна ночь, единственная ночь, ночь, проведенная с ним в золотистом свете Будды, ночь, огромная, как вся ее жизнь, ночь с ним.
Она схватила его руку, повернула ладонью кверху и стала целовать ее, потом спрятала ее себе под блузку и прижала к груди. У Оливье сжалось сердце. В его ладони спряталась маленькая грудь, по-прежнему горячая, но ставшая еще миниатюрней. Нежный сосок напомнил ему раненого голубя, которого он укрыл когда-то у себя на груди, но так и не смог спасти.
— Джейн, моя Джейн, я люблю тебя.
Эту фразу он произнес очень тихо, стремясь окружить ее словами, защитить от внешнего мира. Потом он помог ей встать и повлек через ночь и дым прочь от этого кошмара. Но когда они оказались перед воротами, Джейн отказалась идти дальше и потянула его за собой. Они поднялись по лестнице, заваленной мусором, слабо освещенной жалкой лампочкой, висевшей на проводе. Лестница вывела их на квадратную террасу, ограниченную снаружи деревянной балюстрадой, изображавшей тысячи фигур божеств и всех земных животных. На балюстраде длинной шеренгой сидели грифы-падальщики, одни спали, спрятав голову под крыло, другие бодрствовали, вытянув голые шеи. Несколько птиц, увидев Оливье с Джейн, распахнули тяжелые крылья, но сразу же успокоились. Оливье вздрогнул от отвращения. Джейн, легкая как пушинка, смеясь, тянула его за руку за собой. Они оказались в длинном коридоре, обшитом деревянными панелями, большей частью отставшими от стен. В коридор выходило множество дверей, в простенках между которыми висели портреты принцев в причудливой парадной форме. Алые штаны зуавов, блестящие каски и сабли кирасиров, гроздья медалей, свисавшие едва ли не до колен, позолоченные шнуры, раздувшиеся рукава. Выражение лиц на портретах, казалось, менялось в колеблющемся свете масляных ламп, спрятанных в стенных нишах.
Выходившие в коридор комнаты были самых разных размеров. В просторных салонах для торжественных приемов размещались сотни хиппи, спавших на коврах или прямо на полу. Тяжелый дух пота, грязи, мочи и гашиша выплескивался из распахнутых дверей. Джейн продолжала тянуть Оливье за собой, щебеча, словно жизнерадостная птичка, языка которой он не понимал. Дойдя до поворота коридора под прямым углом, она толкнула одну из дверей и ввела его в комнатушку, вероятно, служившую в свое время чем-то вроде большого стенного шкафа. На полу лежали четыре циновки. На старом чемодане кто-то примостил огарок свечи, положив рядом коробок спичек. Джейн зажгла свечу, растянулась на циновке, поверх которой лежало синее одеяло, притянула к себе Оливье, поцеловала его и принялась раздевать, не прекращая говорить и смеяться. Потом она сама очень быстро разделась, прижалась к нему, растянулась сверху, потом перевернулась, затащила его на себя, укусила его за ухо, за нос, нырнула ему под руку, смеясь, плача, непрерывно говоря, застонала от счастья, прижалась щекой к его члену, лаская его обеими руками, целуя его, снова взобралась на его тело, впитывая тепло мужчины, единственного, столь желанного, столь долгожданного, заставила его перевернуться, чтобы ощутить его спину, его ступни, его бедра, почувствовать его на своих бедрах, на своем животе, в своих объятьях, везде. Так рыба чувствует потребность осязать всем телом воду вокруг себя и в себе.
Постепенно она успокоилась, словно пресытившись своим счастьем, повернулась к Оливье спиной и прижалась к его груди. Он обхватил ее, прижал к себе и стал говорить очень тихо, без конца повторяя одни и те же слова: ты прекрасна, я люблю тебя, я увезу тебя отсюда, мы будем счастливы вместе, все будет хорошо, мы дойдем до конца света, до самого солнца, где будут цветы и птицы, ты прекрасней всех цветов, ты прекрасней, чем небо, я люблю тебя, люблю тебя.
Она заснула в его объятьях, убаюканная его теплом, его любовью, переполненная счастьем и восторгом.
Оливье не мог уснуть. К испытанному им счастью примешивался ужас. Как увезти Джейн из этой страны зыбучих песков, где в дурмане и в смерти увязло столько девушек и юношей со всех уголков света, привлеченных призраком свободы, миражем братства всех живых существ, близостью Бога? Да, действительно, в Катманду каждый мог делать то, что хочет. Это было правдой. Никто не вмешивался в дела другого. Это было правдой. Наши сестры птицы даже не возмущались, если кто-нибудь наступал им на хвост, потому что за последние десять тысяч лет никто не убил ни одной птицы. Это тоже было правдой. Бог присутствовал везде в десяти тысячах обликов. И это было правдой.
Это было правдой для мужчин, женщин и детей, родившихся в этой стране. Но не было правдой для детей Запада с длинными волосами и бородами. Они были детьми рассудка. И рассудок навсегда избавил их от простого понимания очевидного, будь оно неодушевленным или живым, человеческим или божественным; ведь эти противоположности по своей сути совершенно одинаковы, и с ними все ясно и понятно, начиная с травинки под ногами и кончая бесконечностью. Сразу после рождения у ребенка Запада на глазах оказывается повязка рассудка, оказывается еще до того, как они откроются. Они теряют способность видеть очевидное, они не умеют прочитать послание облаков и услышать голос дерева, они общаются на грубом языке людей, находящихся в замкнутом пространстве объяснений и доказательств. У них не остается другого выбора, кроме как между отрицанием того, что не может быть доказано, и слепой абсурдной верой в неопределенные истины.
Великая книга сущего, равновесие Вселенной, чудо их собственного тела, лепестки маргаритки, вкус яблока, золотистая шерстка зверька, вселенные в каждой песчинке существуют для человека Запада всего лишь как явления материального порядка, которые могут быть подвергнуты анализу. Они ведут себя подобно экспертам, оказавшихся перед раскрытой книгой и старающихся проанализировать состав краски и качество бумаги, но не пытающихся прочитать текст и даже отрицающих, что черные значки на страницах имеют какой-то смысл.
При этом существовала разница между юношами и девушками, пришедшими с Запада в Катманду, и их отцами: дети все же отдавали себе отчет в том, что способ мышления и рассудочность их отцов заставляли их жить и умирать вопреки законам разума и логики. Они отрицали эту абсурдность и вытекающие из нее следствия, смутно догадываясь, что может существовать другой способ жить и умирать, соответствующий законам творения. Они отчаянно искали дверь, через которую смогли бы выбраться за пределы окружающих их стен. Но стены существовали в них самих с момента их рождения. Поэтому они с помощью наркотиков создавали для себя иллюзию открытых дверей, в которые входили в наркотическом сне, не замечая, как при этом разрушают свои души и свои тела.
Оливье задумался, где раздобыть денег, чтобы как можно скорее увезти отсюда Джейн. Он сразу подумал про Теда, компаньона отца. Во время их разговора Жак в конце концов признал, что Тед вел подпольную торговлю статуями, украденными из храмов. Он продавал их туристам, обеспечивая доставку своего товара в Европу или в Америку. Как он это проделывал, Жак не знал. Оливье решил найти Теда и предложить ему свои услуги. Может быть, таким образом он сможет быстро заработать достаточно денег. А до этого он будет заботиться о Джейн, больше не позволит ей отравлять себя. Но где они будут жить? Отец предлагал ему ключи от небольшой квартирки, находившейся неподалеку от Храмовой площади. Он жил в ней во время своих кратковременных наездов в Катманду. Оливье тогда отказался, как ребенок, стремящийся сохранить независимость, а теперь жалел об этом, став мужчиной, отвечающим за близкого человека. Но, возможно, ему удастся снять в городе подходящее жилье. Пока же первоочередной задачей была встреча с Тедом. Он знал, где его можно найти. Во время поисков Джейн он не однажды проходил мимо заведения под вывеской «Тед и Жак», расположенной на первом этаже современного трехэтажного здания на границе между европейским кварталом и старой частью города. Завтра же утром он должен будет отправиться на встречу с Тедом.
В коридоре кто-то зашелся в кашле. Джейн проснулась. Спросонок она не сразу поняла, что с ней, но тут же почувствовала себя в объятьях Оливье и вспомнила, что они наконец-то встретились. Одним рывком она повернулась лицом к нему, вцепилась обеими руками во вновь обретенное тело и изо всех сил прижалась к нему.
— Ты со мной! Ты со мной! — захлебываясь, твердила она.
Это было чудо, на которое она уже не надеялась. Он был рядом, он обнимал ее, она покоилась в его объятьях, она ощущала своим телом все его тело, от ступней до щеки, к которой прижималась своей щекой, он был с ней, он, которого она так ждала, ждала целую вечность, был рядом.
— Почему ты позволил мне заснуть? Почему?
Она потянула его на себя и раскрылась ему навстречу. Раскинув руки и открыв рот для поцелуя, она встретила его каждой клеточкой своего тела.
Когда он вытянулся на ней, его тело всей поверхностью приникло к ее телу, его губы прижались к ее губам, их руки соединились, их пальцы сплелись. Он ощущал, что придавил ее, такую хрупкую, но так стремящуюся оказаться под его тяжестью. Он заставил себя избавиться от веса, освободил ее от своей тяжести, не теряя полной близости с ее телом, которое питал своим теплом, своей жизненной силой, и медленно вошел в нее со всей мощью и всей бесконечной нежностью, понемногу, едва заметно, такой нужный, такой желанный, то чуть более близкий, то чуть более далекий, пока, наконец, целиком не оказался в ней.
Когда это случилось, он почувствовал, как вся его нежная и жестокая сила столкнулась с тайной печатью, за которой хранились все ее страхи, все отрицания, все отказы и все иллюзорные удовольствия. И когда печать распалась, все, что отрицалось, воззвало к ней, все, чего она опасалась, покорилось, и воспоминания о том, что она могла принимать за наслаждение, были сметены, чтобы освободить место для великой истины, которая должна была открыться для нее. И в самом центре своего существа она ощутила присутствие Оливье, заполняющее ее до самых дальних пределов тела и сознания.
Он едва ощутимо двигался в ее теле, то раскрывающемся, то вновь затворяющемся, и эти движения начали растворять ее плоть и ее кости, доводя ее до состояния, не имеющего названия, но свойственного первым дням творения, когда еще не было ни форм, ни существ, когда рождался непредставимо ослепительный свет над водами, которые хотя и были всего лишь водой, но уже содержали в себе все, что должно было возникнуть, и обладали знанием этого.
Оливье вошел в ее живую обнаженную плоть, как будто в стене перед ним раскрылась расселина, и теперь, оказавшись в ее средоточии, он оставался там, и вне его разрастались и множились до бесконечности его мысли и его любовь.
Он ощущал ее, искал, угадывал, предупреждал и снова искал еще дальше, более нежно, более твердо, более уверенно, глубже и дальше, еще дальше, искал горячие источники, безграничные океаны радости.
Она ничего не понимала, она утратила свою форму, свое тело, свое присутствие. Она была чистой радостью, непознаваемой, неуязвимой, непрерывной, в которой рождались начала мира и откуда она безгранично распространялась в виде волн, набегавших одна за другой, все возрастая и возрастая до тех пор, пока не возникло нечто столь огромное, что нужно было воззвать к Богу, потому что было превзойдено все, что может ощутить человеческое существо, бессильная память которого еще помнит, чем оно было, потому что ни мозг, ни сердце, ни слова не могут выразить этого.
И потом был прилив покоя в ее вновь почувствовавшем себя теле, переполненном счастьем, жар которого настигал ее на облаке, где она очутилась. Было ли это счастье? Или сон? А может быть, смерть в раю? Она слабо улыбалась с закрытыми глазами. У нее едва хватило сил произнести «Оливье. Это ты.», и она окунулась в сон. Оливье осторожно поцеловал ее закрытые глаза, отодвинулся от нее, лег на спину и натянул на них одеяло.
Ночью вернулся Свен и разбудил их. Он старался двигаться как можно бесшумнее, но едва лег, как начал кашлять. Он попытался зажать рот рукой, чтобы приглушить кашель, но тот продолжал вырываться из легких вместе с мокротой, которую Свен сплевывал в клочок бумаги. Едва утихнув, кашель каждый раз возобновлялся. Разбуженный Оливье почувствовал, что Джейн тоже не спит. Он тихонько прошептал ей на ухо:
— Он давно так кашляет?
Джейн молча кивнула в ответ.
— Ему нужно лечиться. Он должен лечь в больницу.
Она нервно дернула головой, словно Оливье предложил нечто неприемлемое. Тогда он вспомнил о пакетиках из белой бумаги. Присутствие Джейн и испытанное счастье полностью стерли из его сознания их подозрительный вид.
Значит так. Утром он отправится к Теду. Но Джейн должна напрячь волю. Теперь, когда он рядом, она должна освободиться от этой привычки. Он больше не оставит ее, он поможет ей.
Свен, наконец, перестал кашлять и, кажется, заснул. Оливье негромко спросил:
— Этот порошок в пакетиках, что это такое? Это кокаин?
Он почувствовал, что Джейн затаила дыхание. Через несколько мгновений она ответила:
— Так, ерунда. Не надо беспокоиться.
— Ты же понимаешь, что отравляешь себя! Если ты не бросишь, он может убить тебя!
— Ты сошел с ума, ведь я только чуть-чуть, совсем немного. Просто за компанию со Свеном. Это неважно.
— Ты должна оставить это. Ведь теперь я с тобой. Ты больше не будешь, обещаешь?
Она быстро-быстро закивала головой: «да, да, да».
— Поклянись мне! Скажи: «Я клянусь!»
— Что за глупости, это ведь такой пустяк.
— Поклянись!
Некоторое время она лежала неподвижно и молчала. Он со всей нежностью повторил:
— Ну, давай же! Поклянись!
Повернувшись к нему, она поцеловала его и сказала:
— Я клянусь! Ты доволен?
Он ответил:
— Я люблю тебя.
Слабый свет зари едва проникал через круглое оконце, закрытое ставнем с тысячей мелких кружевных отверстий. Оливье встал, не разбудив Джейн, натянул джинсы, бережно укутал ее одеялом и опустился перед ней на колени. Несмотря на сон, вместо наступившего после любви покоя у нее начала проявляться нервная тревожность, выражавшаяся во внезапных подергиваниях уголков губ и правой руки, выглядывавшей из-под одеяла.
Ему придется оставить ее одну, пока он сходит к Теду. Он не хотел рисковать, а поэтому поднял ее джинсы и достал из кармана два белых пакетика — один начатый, другой целый. Потом он вышел босиком в сад.
В ветвях деревьев распевали тысячи птиц. На фоне еще темного неба вершины гигантской горы казались светящимися тучами, отделенными от остального мира.
Оливье набрал полные легкие воздуха. Он чувствовал себя спокойным, уверенным в себе и счастливым. Для него и для Джейн закончилась плохая часть пути, пройденная ими по отдельности, и теперь они вместе двинутся дальше по другой дороге, возможно, более трудной, но светлой, подобно наступавшему дню.
Он отдал утреннему ветру содержимое двух пакетиков, смял их в руке и выбросил в кусты. Потом подошел к фонтану, пение которого услышал еще накануне.
Джейн проснулась, сотрясаемая крупной дрожью. Несколько мгновений ушло у нее на то, чтобы осознать окружающий мир и вспомнить себя. Ее знобило; она села, завернувшись в одеяло, и поискала взглядом Оливье. Его не оказалось рядом, но она увидела его рубашку, его куртку и рюкзак. Она не забеспокоилась, зная, что он должен вернуться. Тем более что в этот момент она была озабочена совсем другим.
Ухватив джинсы за штанину, она подтянула их к себе, сунула руку сначала в один карман, потом в другой. Сердце запрыгало у нее в груди, словно перепуганный заяц. Она вскочила, одеяло соскользнуло с нее. Вывернув карманы джинсов, выбросила на пол все, что там находилось — грязный носовой платок, губную помаду, пустую дешевую пудреницу, треснувшее зеркальце и несколько непальских монет, три медных и две алюминиевых. Когда карманы опустели, она снова проверила их, один за другим, несколько раз подряд. Ничего там не найдя, охваченная паникой, отшвырнула джинсы, упала на четвереньки и принялась проверять все, что выбросила из карманов. Открыла пудреницу, встряхнула платок, который уже осматривала перед тем как бросить на пол, потом потрясла одеяло. Ползая на четвереньках, совершенно голая, она осмотрела каждый сантиметр пола, дрожа от холода и стуча зубами от ужаса.
Такой увидел ее Оливье, когда вернулся в комнату. Больше всего она напоминала истощенное животное, пытающееся отыскать что-нибудь съедобное, без чего оно погибнет в ближайшую же минуту. Она уже не сознавала, что видит перед собой, к чему прикасается. С выступающими ребрами, маленькими чуть отвисшими жалкими грудями, негромко стеная, она ощупывала пол, словно слепая, переворачивала коврики, снова и снова искала там, где только что проверила, крутилась на одном месте. Повернувшись к дверям, она увидела перед собой босые ноги Оливье.
Вскочила, подброшенная неизвестно откуда взявшейся энергией, выпрямившись, словно сильно сжатая пружина. Она догадалась.
— Это ты взял!
Оливье негромко произнес «да».
Она протянула к нему руку, ладонью кверху, со скрюченными, словно сведенными судорогой пальцами.
— Отдай! Отдай! Отдай!
Он спокойно ответил:
— Я выбросил это.
Прозвучавшая фраза была для нее ударом тарана в грудь. Но она не могла поверить в то, что сказанное было правдой.
— Иди скорее, подбери, пока никто не нашел! Скорей, скорей!
— Я вытряхнул содержимое. Никто больше не возьмет это.
Она медленно попятилась и остановилась, ударившись спиной о стену. Казалось, будто какая-то чудовищная сила безжалостно давит на нее, толкает назад. Она прислонилась к стене, оперлась на нее отведенными назад руками. Над ее головой кружевные ставни пропустили в комнату лучи встающего солнца.
— Почему ты сделал это? Почему? Ну, почему?
Увидев ее такой растерянной, Оливье шагнул к ней, вытянув вперед руки, чтобы обнять, укрыть и согреть это жалкое, дрожащее тело.
— Потому что я не хотел, чтобы ты отравляла себя. Ведь ты поклялась.
Подойдя вплотную, он положил руки ей на плечи, почувствовав кожу
такую холодную, словно прикоснулся к мертвой рептилии. Она высвободилась и с криком вцепилась ему в грудь, процарапав всеми пальцами десять кровавых полос.
— Не прикасайся ко мне!.. Убирайся прочь!.. Идиот!.. Ты хотел!.. Ты хотел!.. Что ты придумал?… Ты хотел!.. Я, по-твоему, ничто?… Нет, я свободна! Я делаю то, что хочу! Ты обокрал меня! Обокрал! Ты чудовище! Ты отвратителен! Убирайся отсюда!
Оливье не двигался. Разбуженный криками, Свен встал, кашляя, с циновки. Он негромко сказал Оливье:
— Будет лучше, если ты уйдешь. Прямо сейчас.
Оливье собрал свои вещи. Джейн, по-прежнему прижимавшаяся к стене, следила за ним, не поворачивая головы. Только ее большие фиолетовые глаза с расширившимися зрачками неотступно следовали за ним, словно два отверстия в мир мрака. У нее стучали зубы.
Оливье надел рубашку и куртку, потом обулся, подобрал рюкзак и повернулся к выходу. Он ни разу не взглянул на Джейн. Когда он подошел к дверям, она крикнула:
— Постой!
Он повернулся и вопросительно посмотрел на нее.
— Теперь я должна купить новую дозу. Но у меня нет денег!
Она продолжала низким хриплым голосом, сначала негромко, потом все повышая и повышая голос до крика:
— Ты спал со мной! Здесь это не бесплатно!
И она снова протянула к нему руку ладонью кверху, с растопыренными, похожими на звериные когти, пальцами.
Оливье сунул руку в карман куртки и извлек оттуда все, что там было. Потом он швырнул деньги на циновку, повернулся и вышел.
Джейн с рыданиями рухнула на валявшиеся на полу бумажки, на разбросанные ею мелочи из карманов джинсов, на скомканное одеяло. Ее ноздри заполнил запах их ночи, который тут же перебил тошнотворный запах пота и грязи, оставшийся от всех, кто до них лежал на этой вонючей подстилке, волшебно измененной силой их любви. Она не чувствовала холода; сейчас для нее не существовало ничего, кроме ощущения утраты, отчаяния, катастрофы. Все было потеряно, все погибло, и потребность в наркотике вгрызалась ей во внутренности, словно стая голодных крыс.
— Сын мистера Жака?… Как интересно. Но, по правде говоря, вы мало похожи на него!.. Я рада, что у него такой красивый сын. Hello? Mister Ted? Mister Jack’s son is here. Yes!.. His son!.. Yes, he says. He is asking for you. Well! Well!
Блондинка-секретарша агентства «Ted and Jack» опустила трубку. С пышными формами, улыбающаяся, оптимистичная, стерильно чистая, как англичанка, розовая, как голландка, она сидела за письменным столом, заваленным грудами буклетов для туристов, под висевшей на стене огромной головой тигра. Она встала, чтобы открыть дверь, за которой в конце коридора начиналась лестница.
— Поднимитесь на третий этаж. Мистер Тед ждет вас в своем кабинете.
Вдоль всего коридора стена была увешана охотничьими трофеями.
У начала лестницы висела голова буйвола с огромными рогами, над которой, как бы подчеркивая их связь, висела страшная сабля, которой животному отрубили голову.
— Сожалею, — произнес Тед, — но я не представляю, как я могу помочь вам.
Полный мужчина с розовой кожей и светлыми волосами, похожий на хорошо откормленного поросенка. Он попросил у Оливье паспорт, чтобы убедиться, что он именно тот, за кого выдает себя и, присев на край роскошного письменного стола, который, должно быть, тоже пересек горные хребты на спине шерпов, продолжал небрежно перелистывать документ после его внимательного изучения.
Потом он положил паспорт на стол, взял в руки небольшую бронзовую статуэтку, изображавшую очаровательную богиню, и стал машинально ласкать ее, обхватывая то одной, то другой ладонью.
— Эта девушка, которая вас интересует. К несчастью, здесь постоянно встречаются подобные ситуации. Когда эти девушки и юноши приезжают сюда, они думают, что попали в рай. Но это настоящий тупик. Отсюда им дальше дороги нет. Гималаи. Китай. И что потом? Все не так-то легко!.. Очень немногие возвращаются. Остальные гниют здесь.
— Поэтому я и должен увезти ее отсюда! Как можно скорее! Прежде чем она окончательно погубит себя!
— Увезите, увезите ее, мой малыш!.. Увезите ее!.. Если только она захочет!.. Не сомневаюсь, что наркотик для нее важнее, чем вы. Вы напрасно выбросили порошок. Таким образом их не лечат. Отсутствие наркотика вызывает шок неудовлетворенности, невыносимые страдания. И причиной этих страданий оказались вы. После очередной дозы она все забудет и снова захочет вас видеть, но, чтобы вылечить, нужно настоящее лечение, а это возможно только в серьезной больнице. Здесь такой нет. В Дели, может быть. Еще лучше в Европе. У вас есть деньги, чтобы увезти ее?
— Вы прекрасно знаете, что у меня нет денег! Поэтому я и пришел просить вас.
— Вы бредите, мой малыш, ваша история со статуэтками — это же детективный роман! Наше агентство именно то, что оно есть, обычное агентство туризма и сафари, оно прекрасно существует на деньги простофиль, стремящихся к сильным ощущениям, чтобы потом рассказывать своим друзьям в Техасе, как они поднимались на вершины Гималаев, как нашли шерсть йети и убили четырнадцать тигров. Конечно, шерсть йети — это волосы из хвоста яков, на Гималаи они смотрели снизу из долины, а тигров для них застрелил ваш отец. Кстати, он великолепный стрелок. Во всем остальном это ребенок. Если бы он повзрослел, он мог бы стать таким же богатым, как я. Но ему никогда не суждено выйти за пределы двенадцатилетнего возраста. Поверьте мне, вы должны оставить эту малышку. Она давно стала пропащим существом. Вы ничего не сможете изменить. У вас есть обратный билет?
— Нет.
— Ах, вот как!.. Послушайте, я могу поговорить с послом. Может быть, он сможет отправить вас домой. Иногда они это делают. Он мой друг.
Оливье все время повторял про себя то, что ему сказали Ивонн и Жак:
— Это негодяй. Это негодяй. Это негодяй.
Кровь бурлила в его венах, но внешне он оставался таким же холодным, как вершины Гималаев.
— Я никуда не поеду без нее. Неважно, что будет со мной. Я хочу спасти ее. Я знаю, что вы продаете статуи. Я могу работать на вас и достать вам все, что вы захотите. Я проникну туда, куда никто не осмелится сунуть нос. Но вам придется платить мне как следует. Я не боюсь никого и ничего. Мне нужны деньги, и как можно скорее. Если вы позволите мне заработать их, то сами заработаете в десять раз больше!..
Тед резко поставил статуэтку на стол, взял паспорт и протянул его Оливье.
— Мне надоело слушать ваши выдумки! И я не люблю, когда обо мне рассказывают глупости, из-за которых меня могут выслать из этой страны. Меня ждет крах, если хоть одно полицейское ухо услышит такое! Так что советую вам помалкивать! Если вы не послушаетесь, то я добьюсь, чтобы вас самого немедленно выслали из страны!.. А когда вернется ваш отец, я ему тоже скажу пару теплых слов!
В этих словах отчетливо прозвучала зловещая угроза.
Оливье взял паспорт. Его взгляд оставался прикованным к статуэтке богини на столе. Она была из темной бронзы с зеленоватым оттенком, золотистого цвета на лбу, на носу, на ягодицах и на бедрах, то есть там, где прикосновения Теда за много дней стерли патину.
Тед заметил, куда смотрит Оливье, и рассмеялся.
— Вот, кстати! Обратите внимание, откуда она!
Он взял статую и, перевернув ее, показал Оливье основание. Тот увидел приклеенную снизу несколько пожелтевшую этикетку, на которой были видны напечатанные четким шрифтом слова: SOUTHEBY LONDON.
Оливье вернулся к тибетцам. В комнате Джейн никого не было, но ее рюкзак и мешок Свена лежали на месте. Он немного побродил по почти пустынному саду. Несколько хиппи дремали там, где их свалил с ног наркотик. Одна брюнетка, невероятно грязная, лежавшая под кустом, приподнялась при его приближении и что-то сказала на языке, которого он не знал. Тогда она раздвинула ноги и, положив одну руку на лоно, подняла другую с тремя выпрямленными пальцами.
— Three rupees. Drei roupies. Trois roupies. You Frenchman? Me. Ich been. Gentille. Trois roupies.
Он прошел, не ответив. Его сердце стиснули стальные тиски.
Усевшись под деревом, он раскрыл рюкзак. Подошедшая корова сунула в рюкзак морду, но там не было ничего съедобного. Тогда она выбрала носовой платок и стала жевать его. Потом медленно удалилась, продолжая ритмично двигать нижней челюстью.
Добравшись до самого дна, Оливье извлек свой неприкосновенный запас, конверт, в котором лежала бумажка в десять долларов, пять тысяч старых франков. Сколько это было рупий? Он не представлял. Обратившись в банк, он получил в обмен несколько грязных бумажек и пригоршню мелочи. Ему пришлось также подписать несколько непонятных документов и предъявить паспорт. Таким образом, банк мог считать свою прибыль законной.
Потом он отправился в торговый квартал. Солнце припекало, и покупателей было немного. Мальчишки носились на велосипедах, ловко петляя между коровами, собаками и богами. Катманду познакомился с колесом всего лет пятнадцать назад, и детвора была без ума от этого изобретения. Велосипеды продавали и давали напрокат на каждом углу. Старики не верили, что можно сохранять равновесие, сидя на двухколесном устройстве, но ошалевшие от восторга мальчишки носились на них с бешеной скоростью, внезапно тормозили так, что их заносило, снова принимались крутить педали, опять останавливались, поднимали велосипед на дыбы и выполняли разные акробатические трюки, хохоча от восторга. Счастливые обладатели собственных велосипедов, обычно дети богатых лавочников, раскрашивали свои машины яркими красками, нацепляли на руль десятки фигурок божков, прикрепляли пестрые ленты, развевавшиеся позади, словно длинные хвосты радости.
Оливье заходил в каждую лавку, где его всенепременно награждали улыбками, получил множество предложений купить что-нибудь и в конце концов приобрел за гроши нужные ему предметы. Потом он вернулся на площадь и поднялся на самую верхнюю ступеньку главного храма. Здесь он обосновался на ночлег, поужинав десятком сладких бананов размером в палец.
На следующий день он снова появился в конторе Теда ранним утром. Сначала тот отказался принять его, но Оливье заявил секретарше, что не уйдет, пока босс не примет его. В итоге ему было дозволено подняться в кабинет на третьем этаже.
К нему вышел Тед в халате, злой, невыспавшийся и небритый, готовый спустить с лестницы назойливого мальчишку.
Но слова тут же застряли у него в горле, когда он увидел, что поставил на его письменный стол Оливье. Он задохнулся и застыл с открытым ртом.
Это были две статуэтки, точнее, две группы, искусно вырезанные из дерева. Первая изображала обнаженную, со сброшенными под ноги одеяниями, женщину, стоявшую на согнутых ногах перед двумя мужчинами, каждый из которых держался за одну из ее грудей. Женщина же держала в каждой руке фаллосы мужчин. Один из них был розовощекий, у другого лицо имело желтоватый оттенок, но они походили друг на друга застывшим на их лицах спокойным отстраненным выражением и совершенно одинаковыми усами. Из одежды на мужчинах были только небольшие вышитые шапочки.
Напротив, лицо женщины отражало крайнюю степень растерянности. Ее лоно, открытое навстречу мужчинам, явно томилось в ожидании. Но она продолжала сравнивать мужские достоинства своих воздыхателей, затрудняясь с выбором, поскольку оба кандидата были достойны друг друга.
Вторая группа представляла собой решение для растерянной красавицы. Выпрямившись и отбросив в сторону мешавшую ей одежду, она принимала одновременно обоих претендентов, одного спереди, другого сзади. Чтобы не потерять равновесия, все трое держали друг друга за плечи, и тот, кто находился спереди, стараясь, несомненно, сделать двойную операцию более удобной, держал одну ногу женщины поднятой горизонтально, так что она была вынуждена стоять на другой ноге, напоминая цаплю. К счастью, у нее были еще две опоры, каждая немногим тоньше ее бедра. Лица действующих лиц не отражали ни сладострастия, ни вообще каких- либо эмоций. Стоявший сзади положил одну руку на грудь женщины, но сделал это, скорее всего, только потому, что ему больше не за что было ухватиться. Ни один из мужчин не лишился своей вышитой шапочки.
На головы участников как второй, так и первой группы опиралась огромная босая ступня бога, которого Оливье был вынужден отпилить, как и людей, на которых опирались сами группы.
Лицо Теда стало фиолетовым. Он взорвался:
— Вы свихнулись! Вы сошли с ума! Эти скульптуры всем известны! Полиция сейчас наверняка уже ищет их повсюду! Вы безумец! Забирайте это и убирайтесь! Немедленно! Давайте, давайте! Прочь отсюда! Я не хочу, чтобы это оставалось у меня ни секундой больше!
Оливье не произнес ни слова. Он смотрел на Теда, который, казалось, действительно был перепуган до смерти, и думал, что Жак и Ивонн все же могли и ошибаться.
Что ж, он проиграл. Тем хуже для него. Подойдя к столу, он положил возле статуэток рюкзак и запихнул в него одну группу. Другую завернул в рубашку, взял ее под мышку и направился к двери.
Тед в это время судорожно вытирал лоб большим светло-зеленым платком. В тот момент, когда Оливье взялся за дверную ручку, он крикнул:
— Сколько вы хотите за эту дрянь?
Он снова промокнул лоб и высморкался. Оливье молчал. Он не представлял, сколько могут стоить эти статуэтки.
— Их невозможно продать! — прохрипел Тед. — Я должен буду прятать их много лет! И все равно риск будет огромным! Вы отдаете себе отчет в этом? Это похоже на то, как если бы вы украли Эйфелеву башню!.. Ну, сколько?
Оливье ничего не ответил.
Тед замолчал. Желание обладать статуэтками, страх и перспектива феноменальной выгоды сражались в его сознании. Он потерял способность трезво мыслить.
— Господи, да закройте же дверь! Заприте ее! Поверните ключ! Покажите мне еще раз, что вы там притащили.
Он выхватил из рук Оливье сверток и извлек вторую статуэтку из рюкзака. Поставив обе группы на стол рядом, он хрипло рассмеялся.
— Они забавны! Нужно признать это. Да, очень забавны. Хотите виски?
— Спасибо, нет, — ответил Оливье.
Тед открыл спрятанный в стене холодильник, достал бутылку, стакан и лед, налил себе и выпил.
— Садитесь же! Не торчите столбом!
Оливье опустился на краешек кресла. Тед рухнул на диван, стоявший под потайным холодильником в стене. Придя в себя, снова отхлебнул из стакана, посмотрел на стоявшие на столе статуэтки и окончательно воспрянул духом.
— Надо признать, вас трусом не назовешь! Но вы просто сумасшедший! Просто сумасшедший! Никогда, слышите, никогда не вздумайте повторить этот поступок! Так отчаянно провернуть дело. Я хочу сказать. Если мы будем работать вместе. Почему бы и нет?… Если вы будете поступать разумно. Вы умный человек. Ну, вы понимаете меня. Даже одна из этих групп выглядит любопытно, забавная сценка. Но две группы вместе — это что-то потрясающее!
Он замолчал, сообразив, что сболтнул лишнее. Искоса глянув на Оливье, он скорчил гримасу.
— Но продать это невозможно, невозможно! Даже если я найду клиента, как вывезти эти вещи из страны? Вы можете сказать мне, как вывезти из Франции Венеру Милосскую? Да, я не смогу продать это. Мне придется оставить себе. Для моей личной коллекции. Но какой риск! Вы отдаете себе отчет в этом? Случайный обыск — и я пропал! Двадцать лет тюрьмы! А непальские тюрьмы — это что-то страшное. Там дохнут даже крысы. Но я не хочу, чтобы вы рисковали напрасно. Героизм, даже неосознанный, заслуживает награды. Я вам заплачу. За обе группы. Скажем. Я буду щедрым, потому что эти две группы выглядят забавно, мне нравятся такие вещи. И потом, вы мне симпатичны, вы способны на поступок, на чувство, вы влюблены, все это так волнующе. Двадцать долларов. За обе статуэтки! Согласны?
Оливье закрыл глаза и увидел Джейн, ползающую голой на четвереньках, потерянную, безумную, словно самка, сожравшая своих детенышей. Он открыл холодные глаза и сказал:
— Тысяча долларов!
Когда через полчаса он уходил от Теда, у него в кармане лежали четыреста долларов, а в руках он держал узкопленочную кинокамеру на 16 миллиметров и четкие инструкции.
Тед долго поучал его. Ему нужно обосноваться в гостинице у Бориса, которому он расскажет, что занимается съемками фильма о непальских праздниках. Борис даст ему мотоцикл, с помощью которого можно попасть куда угодно. Он будет посещать храмы и монастыри, расположенные далеко в горах. И никогда не будет пытаться работать в Катманду! Никогда! Забравшись как можно дальше, в самые глухие места, он сможет днем смешаться с праздничными толпами — ведь праздники в Непале бывают везде и всегда. Заметив что-нибудь интересное, он вернется в храм ночью, когда там никого не будет. Естественно, не в ближайшую же ночь, а через несколько дней. Нельзя забывать про камеру, ее нужно постоянно демонстрировать. Его всегда должны видеть с камерой! Кретин-кинооператор с Запада, который приходит в телячий восторг перед сценами повседневной жизни, чудак, вызывающий улыбку у полицейских.
Он никогда не должен появляться в агентстве днем. Никогда! Только ночью! Вот ключ от дверей, выходящих на боковую улочку. Мотоцикл нужно оставлять за несколько улиц, до конторы добираться пешком. Дверь можно отпирать только если никого не будет поблизости. Заперев за собой дверь, он поднимается на третий этаж, в кабинет, где он может прилечь на диван и подремать, пока не придет Тед. Насчет цены они всегда договорятся, все будет зависеть от того, насколько редкий у него товар. Ну, и от спроса, разумеется. Сейчас ситуация не слишком благоприятная, американцы неохотно расстаются с долларами, а среди немцев любители попадаются не слишком часто. Тем не менее он сможет быстро собрать нужную сумму, чтобы увезти малышку и вылечить ее. Бедная девочка. А она красивая? Какая жалость! Самые красивые обычно и делают самые большие глупости.
Оливье отправился в гостиницу Бориса. Там он устроился в просторном номере с ванной, в которой разместилась бы целая парижская квартира.
Борис предложил ему выпить в своих апартаментах, куда можно было попасть по наружной винтовой лестнице из кованого железа. Из окон открывался великолепный вид на спускающиеся вниз уступами крыши. Леопардовый кот, устроившийся на диване, с подозрением следил за Оливье своими близко расположенными глазами с круглыми зрачками. Оливье рассказал Борису легенду о съемках фильма. Борис, кажется, поверил ему, хотя и мог только сделать вид, что поверил. Он пообещал завтра же дать Оливье мотоцикл вместе с информацией о ближайших праздниках в деревнях, куда он без труда сможет добраться на своем транспорте.
Потом Борис извинился, объяснив, что у него срочное дело.
Оливье отправился к тибетцам за Джейн. Он хотел привести ее в гостиницу, чтобы завтра же показать доктору. Он не собирался больше делать глупостей; нельзя было сразу отбирать у нее наркотики. Как только у него окажется достаточно денег, они уедут. Если она захочет, он захватит с собой и Свена.
Но комната Джейн была занята четырьмя американскими хиппи, тремя парнями и девушкой, которая говорила по-французски. Они не были знакомы с Джейн и Свеном. И они не знали, куда те могли уйти. Они вообще ничего не знали.
Оливье отсутствовал гораздо дольше, чем ему хотелось. Даже самые небольшие, самые удаленные, самые заброшенные храмы, к которым приходилось добираться по едва заметным тропам, почти никогда не пустовали не только днем, но и ночью. Непал был не той страной, где Бога запирают на ключ после окончания рабочего дня. В любой момент кто-нибудь обязательно оказывался в храме, чтобы общаться с божеством, молиться ему, выказывать свое обожание. Беседа между богами и людьми не прерывалась ни солнечным днем, ни ночью при свете масляных ламп. Оливье буквально сходил с ума от нетерпения и беспокойства, когда думал о Джейн. Ему никак не удавалось заработать ни гроша, а она тем временем, конечно же, продолжала опускаться на дно, по-прежнему отравляя себя и подходя к опасной степени истощения.
Наконец ему удалось остаться в одиночестве ночью в небольшом храме, в котором он днем приметил бронзовую статуэтку богини с распростертыми во все стороны шестью руками, с чарующей улыбкой и восхитительной грудью. Статуэтка была небольшой, и ее можно было без особых усилий отделить от основания и спрятать в рюкзак.
Храм находился высоко на склоне горы, снизу к нему вела лестница, казавшаяся бесконечной. Оливье спрятал мотоцикл в долине. Луна ярко освещала пустынную лестницу и внутренности храма. Он достал из рюкзака молоток и зубило и принялся за работу. Чтобы избежать лишнего шума, он обмотал молоток тряпками.
Очень быстро он обнаружил, что под слоем хрупкого цемента скрывались толстые бронзовые стержни, укрепленные в отверстиях, просверленных в скалистом основании. Это была основательная работа древнего мастера, добившегося при строительстве храма монолитного единства божества и храма.
Ругаясь сквозь зубы и проклиная всех богов вселенной, Оливье достал из рюкзака ножовку по металлу, хорошенько смазал ее и через узкую щель между каменным основанием и статуэткой принялся пилить первый стержень.
Но едва он сделал несколько движений, как до него донеслись звуки музыки. Какую-то поп-мелодию исполнял нестройный оркестр флейт и гитар. Взглянув вниз, он увидел поднимавшуюся к храму группу хиппи, освещавших себе дорогу самодельными факелами, бумажными и электрическими фонариками.
При виде этих придурков, этих мерзавцев, притащившихся сюда словно только для того, чтобы он не смог спасти Джейн, Оливье охватило холодное бешенство. Он кинулся им навстречу и налетел на поднимавшихся первыми, раздавая направо и налево удары тяжелым рюкзаком. Одних он отшвырнул в сторону, других сбил с ног и повалил на находившихся ниже. Он орал, наносил удары кулаками и ногами, сбрасывая не ожидавших такой встречи хиппи вниз по лестнице вместе с их дурацкими фонариками и гитарами, вбивая им в глотку флейты вместе с зубами. Несмотря на то, что их было не менее трех десятков, хиппи посыпались вниз по лестнице, не помышляя о сопротивлении. При желании Оливье мог перебить их всех, одного за другим, словно стадо баранов. После того, как все незваные гости оказались у подножья лестницы, вытирая разбитые носы, потирая синяки и ссадины и хромая, они, даже не пытаясь понять произошедшее, двинулись дальше, к другому священному месту, другому храму, другому более доброжелательному божеству. Некоторое время Оливье смотрел, как удаляются, постепенно слабея, светлячки уцелевших после схватки фонариков. Потом он возобновил работу.
С последним, четвертым стержнем ему удалось справиться перед самым рассветом. Спрятав обмотанную тряпками богиню в рюкзак, он спустился к мотоциклу. Он долго катил его вниз по склону, по едва различимой тропе, не заводя двигателя и не включая фары, напряженно всматриваясь в темноту и чудом избегая в последнее мгновение опасных провалов и свалившихся сверху каменных глыб. Только добравшись до автомобильной дороги, он завел мотоцикл и помчался в Катманду.
До города он добрался только во второй половине дня. Было слишком поздно — или слишком рано — для встречи с Тедом, и он отправился в гостиницу Бориса. Приняв ванну гигантских размеров, в которой вполне мог выкупаться взрослый слон, он поменял белье, побрился и отправился на поиски Джейн. Не решаясь оставить статуэтку в номере, он захватил с собой рюкзак с драгоценной добычей. Обслуживавший его бой, непалец лет сорока, имя которого он никак не мог запомнить, постоянно улыбающийся и предельно услужливый, постоянно дежуривший на своем посту за дверью номера в ожидании какого-нибудь поручения, был, несомненно, человеком честным, но наверняка не лишенным любопытства.
В отеле тибетцев в комнате Джейн и Свена он никого не застал. Исчезли и валявшиеся на полу рюкзаки. Он заглянул в соседние комнаты, где на полу сидели или спали грязные хиппи, но не смог узнать ничего путного ни от них, ни от тех, кого он повстречал в саду. Тогда он направился в ресторанчик, где видел марсельца. Того на месте не оказалось, но блондинка с высоким шиньоном была на своем посту. Хотя нет, на этот раз она переместилась на скамью прямо напротив входа. Уставившись ничего не выражающим взглядом на двери, она не шевелилась и, похоже, не видела входящих. Сильно отощавшая, она держалась не так прямо, как раньше;
большая прядь волос свисала с шиньона, закрывая часть лица. Ее щеки, еще недавно такие розовые, побледнели, лежавшие на столе руки были грязными, со сломанными черными ногтями.
Два бородача, сидевшие поблизости за шахматной доской, то и дело поглядывали на девушку. На протяжении часа, в течение которого Оливье находился в ресторане, они явно что-то оживленно обсуждали, и никто из двоих так и не передвинул ни одной фигуры. Наконец, хозяин ресторана, запомнивший Оливье по прошлому посещению, подошел к нему и жестом указал на группу хиппи, сидевших в стороне, не проявляя признаков нетерпения, и, похоже, даже не сознававших, что они ждут, когда появится кто- нибудь, способный заплатить за блюдо риса.
Хозяин спросил:
— Rice. Riz. You pay?
— Чтоб они сдохли! — с отвращением бросил Оливье.
Забросив рюкзак за спину, Оливье вышел на улицу. Лямка сильно резала плечо, богиня была весьма увесистой. Ей, наверное, было не меньше тысячи лет, если не больше. Он собирался потребовать за нее хорошую цену.
Опустилась ночь, улицы обезлюдели; изредка попадались куда-то спешившие непальцы и неизвестно куда тащившиеся группами по двое или трое хиппи. Гораздо чаще в темноте мелькали желтые псы, сновавшие по городу в поисках съестного. Повсюду можно было увидеть лежавших где попало коров.
Оливье подошел к конторе «Тед и Жак» с задней стороны. В переулке не было ни души; ни одно из выходивших на мостовую окон не светилось, если не считать окно на втором этаже в конторе Теда.
Оглядевшись еще раз, Оливье достал из кармана ключ. Замок щелкнул и открылся без малейшего сопротивления. В прихожей со стены напротив дверей на посетителя тупо смотрела огромная голова буйвола. Осторожно захлопнув за собой дверь, Оливье поднялся на третий этаж. Ступеньки громко скрипели под его ногами. Тед должен был понять, что он пришел.
Действительно, едва он успел водрузить свою добычу на письменный стол, как появился Тед и сразу же накинулся на него с упреками за появление в столь ранний час. Это крайне неосторожно с его стороны; если он и дальше будет вести себя таким образом, Тед будет вынужден разорвать с ним контракт. Он замолчал на полуслове, как только заметил бронзовую богиню. Подойдя к столу, он взял статуэтку, прикинул ее вес и внимательно осмотрел обрубки торчавших снизу стержней. Затем он потребовал от Оливье подробного рассказа и внимательно выслушал все, что тот мог сообщить ему. Когда Оливье высказал свои соображения о вероятной большой древности статуэтки, Тед скорчил презрительную мину. Он заявил, что храм был наверняка построен всего лет пятьдесят тому назад, что статуэтка была выполнена в широко распространенном стиле и в ней хорошо просматривалось влияние одновременно индийской и китайской культур. В общем, это было весьма обычное изображение сравнительно позднего происхождения, за которое он мог заплатить не более десяти долларов.
Оливье, воспитанный в западных традициях, не мог догадаться, что Тед вел себя в соответствии с правилами торговли на востоке, когда обе стороны обязательно торгуются при любой сделке, начиная с самой низкой цены. Он решил, что и на этот раз Тед ведет себя так же нечестно, как в первом случае. Он воскликнул:
— Да вы просто нечестный человек! Или вы платите мне двести долларов, или я тут же выбрасываю эту вещь в окно!
Выхватив богиню из рук Теда, он направился к единственному в комнате окну, занавешенному тяжелой портьерой с вышитыми изображениями животных.
Тед с невероятной живостью кинулся за ним и остановил, обхватив руками за талию.
— Вы ненормальны, мой друг! Нужно же хоть немного поторговаться, прежде чем выходить из себя! Вы говорите, двести долларов?
— Да, именно так.
— Это сумасшедшая сумма. Но вы сын Жака, а деньги вам нужны, чтобы спасти эту малышку. Ладно, я согласен.
Он подошел к сейфу, так же замаскированному в стене, как холодильник, и открыл его, прикрыв телом так, чтобы Оливье не мог увидеть содержимое. Когда он обернулся, у него в руке оказалась тонкая пачка банкнот и сейф был уже закрыт. Он едва сдерживал ликование. С самого начала он решил торговаться до цены в триста долларов, зная, что выручит за статуэтку не меньше тысячи.
— Как себя чувствует это дитя? Ваша история разбивает мне сердце.
— Я не знаю, где сейчас Джейн и ее спутник, — мрачно ответил Оливье. — Их нет у тибетцев, и никто не может сказать мне что-либо осмысленное. Они все там одурманены! Они не заметят даже Эверест, если он свалится им на голову!
— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — ворковал Тед, деликатно подталкивая Оливье к дверям. — Ваши друзья наверняка решили посетить какое- нибудь интересное место. Они все одинаковы и всегда болтаются вокруг Катманду, стараясь доказать самим себе, что еще способны двигаться к какой-нибудь цели, что еще не докатились до самого дна. В любом случае, если она ушла из города, то это говорит о том, что ей не так уж нужен наркотик. Ведь порошок можно раздобыть только в Катманду. Так что ее отсутствие — это хороший признак!
— Вы так думаете? — дрогнувшим голосом спросил Оливье, у которого слова Теда возродили надежду.
— Конечно! Это же логично!
Оливье уже хотел сунуть деньги в карман, но что-то остановило его, и он принялся пересчитывать их. Потом он с удивлением взглянул на Теда. Его спокойное жульничество потрясло юношу.
— Но. Здесь же только сто пятьдесят долларов! Мы ведь договорились о двухстах!
Тед улыбнулся и похлопал его по плечу.
— Я удержал пятьдесят долларов за камеру. Так что теперь она принадлежит вам. Когда вы решите уехать, я выкуплю ее у вас за те же деньги. Если, конечно, вы не продадите ее в два раза дороже! Такому опытному дельцу, как вы, это не составит труда.
Оливье немного разбирался в камерах. У некоторых из его друзей были неплохие киноаппараты. Поэтому он хорошо понимал, что Тед всучил ему музейную реликвию, наверняка выпущенную задолго до потопа. Разболтанную, разрегулированную, способную засветить пленку через множество щелей. Она не рвала и не засвечивала пленку только потому, что ее совсем не было в камере.
Сначала он хотел поругаться с Тедом из-за пятидесяти долларов, но быстро передумал. Он был вымотан до предела, он хотел спать, и потом, должен был как можно скорее снова отправиться на охоту. Ведь ему потребовалось целых две недели, чтобы заработать всего сто пятьдесят долларов. С расходами на бензин, номер в гостинице и аренду мотоцикла у него ничего не оставалось. Он решил, что впредь будет действовать более рискованно, а торгуясь с Тедом, будет стоять насмерть, чтобы получать как можно больше. Он должен зарабатывать в неделю чистыми не меньше пятисот долларов на протяжении месяца. Потом он распрощается с Катманду и с Тедом. Но прежде всего он должен разыскать Джейн.
В тот момент, когда Оливье подошел к двери, та распахнулась, и в комнату вошла Ивонн. Она с удивлением воскликнула:
— Вот так встреча! Что вы здесь делаете, Оливье?
— Я.
— Он зашел ко мне посоветоваться, — быстро вмешался Тед. — Это очень милый юноша, и у него случилась сентиментальная история с одной девушкой-хиппи. Я пытаюсь помочь им. Идите же, Оливье, постарайтесь поскорее найти ее. Идите. Вы можете воспользоваться черным ходом. Парадный вход уже закрыт. Не забудьте захлопнуть за собой дверь.
Оливье не сдвинулся с места. Он не сводил взгляд с Ивонн, одетой по-походному. Было очевидно, что она только что вернулась из очередной экспедиции.
— Мой отец тоже вернулся? — поинтересовался он.
Внезапно он почувствовал себя ребенком, которому нужна помощь взрослого, сильного мужчины, который все на свете знает и все может. Ведь это его отец, он всегда найдет выход.
— Нет, — пожала плечами Ивонн, — я вернулась одна, самолетом. Жак появится не раньше чем на следующей неделе со всем караваном, после того как рассчитается с туристами. Но вы обязательно должны завтра же заглянуть ко мне! Слышите? Обязательно!
— Он придет, обязательно придет, — вмешался Тед. — А теперь. Нашего героя ждут.
Он подтолкнул Оливье к выходу, лучезарно улыбаясь.
— Так вы зайдете ко мне завтра? Это точно? — с беспокойством переспросила Ивонн.
— Зайду, непременно зайду, — ответил Оливье.
Апартаменты Теда и Ивонн на втором этаже состояли всего из двух комнат: небольшой спальни c кроватью, застеленной великолепным вышитым покрывалом из Кашмира, и выходившей на лестничную площадку просторной гостиной, с креслами, диваном, баром, неизбежными рогатыми трофеями на стенах и шкурой тигра на полу. Придвинутый к стене стол был завален ружьями и прочим снаряжением, привезенным Ивонн из экспедиции. На полу возле стола стояло несколько чемоданов.
Ивонн и следовавший за ней Тед вошли в гостиную.
— Надеюсь, ты не втянул этого мальчика в свои грязные махинации? — холодно поинтересовалась Ивонн.
— Какие махинации? У меня и в мыслях не было ничего такого. Неужели ты можешь представить это невинное дитя замешанным в чем- нибудь подобном? Ведь он даже глупее своего отца!
— Я познакомил его с одним типом из Эн-Би-Си, пару недель назад заглянувшим в Катманду. Он заказал парню съемки религиозных непальских праздников. Это выгодное дельце. Американское телевидение не жалеет денег на такие фильмы, но. Что это ты делаешь?
Ивонн сняла с дивана сатиновое покрывало и принялась расстилать на нем простыни.
— Как видишь, я устраиваю постель для себя.
— Но. Как. Постель для себя?…
— Теперь моя постель — это не твоя постель. Хватит! Я бросаю тебя! Я ухожу от тебя!
Тед побледнел.
— Ты уходишь с Жаком?
— Да, с ним! Мы уезжаем в Европу. Как только он вернется из экспедиции, мы улетаем отсюда.
На столике рядом с Тедом стояла большая ваза со свежими цветами. Он выхватил цветы из вазы, скрутил букет в жгут своими толстыми руками, поросшими белесыми волосками, разорвал его на части и швырнул на пол.
— Идиотка! Я ведь знал, что ты спишь с ним!.. Я решил не мешать вам. Ну и что ты выиграешь, если уедешь отсюда?
Ивонн перестала разглаживать простыню и повернулась к Теду.
— Я хочу жить честно! С честным человеком! Ты способен понять это?
На лице у Теда мелькнуло удивление, тут же сменившееся иронической усмешкой.
— Жить!.. Интересно, на что ты собираешься жить?
— Мне перешли по наследству земли моих родителей. Я буду получать доход. У меня есть деньги в банке. Потом, я могу продать свои драгоценности.
— Какие деньги? Какие драгоценности? Все это принадлежит мне! За твои побрякушки заплатил я, и они лежат в моем сейфе. Твой счет в банке открыт на мое имя! У тебя есть только доверенность, которую я аннулирую завтра же утром, как только откроется банк. У тебя ничего нет! Ни одного цента! Нет даже этого!
Он схватил сумочку Ивонн, лежавшую рядом с ружьями, раскрыл ее и вывалил содержимое на стол. Подобрав несколько выпавших из нее банкнот и два золотых кольца, он сунул все это в карман.
— Вот видишь, у тебя ничего нет!.. И у твоего Жака нет ничего!.. Что касается меня, то если ты похож на свинью, но женишься на красивой девушке, которая тебе нравится, то приходится терпеть и на многое закрывать глаза. Я знаю, что был противен тебе, начиная с того дня, когда я подобрал тебя в Калькутте, где ты выступала вместе со своей труппой. Ты играла отвратительно, но ты была такой красавицей! Ваша жалкая труппа тогда пыталась собрать деньги, чтобы было на что вернуться во Францию. Надо же придумать такое: играть Мольера в Калькутте перед умирающими от голода! Вы не могли заработать даже себе на обед! Я тогда пригласил тебя в ресторан со свечами, с шампанским, подарил ожерелье, машину, платья. Потом попросил твоей руки. Это показалось тебе таким волшебством, что ты согласилась. Но когда мы занялись любовью. Нет, будем точными: о любви не могло быть и речи, по крайней мере, с твоей стороны. Я просто овладел тобой, и ты не сопротивлялась, но не могла скрыть выражение на своем лице, лице прекрасной парижанки. Ты закрыла глаза, чтобы я не смог прочитать в них отвращение. Этот толстяк с огромным брюхом на такой изящной женщине. Ты думала обо мне, как о мерзком борове. Хуже того, швейцарском борове! Должен признать, ты не пыталась жульничать, изображая наслаждение. Ты удержалась от тошноты, и каждый раз, когда я хотел тебя, ты не отказывала мне. Ты не ссылалась на усталость или на головную боль, как это делает большинство опытных супружниц. Ты честно расплачивалась, отдаваясь мне. Все правильно. Когда я взял этого кретина Жака в компаньоны, я прекрасно представлял, что я делаю. Ты должна была иметь компенсацию в его лице. Тебе нужно было получать хоть немного удовольствия. Я считаю, что это нормально. Но я все же рассчитывал, что у тебя есть хотя бы минимум рассудительности. Неужели ты думаешь, что этот тип способен на нечто большее, чем только трахать женщин и палить из ружья?… Как этот замечательный стрелок будет обеспечивать тебе достойную жизнь? Может быть, охотой на соловьев?
Тед вырвал из рук Ивонн простыню, сдернул вторую с дивана.
— Я буду спать в своем кабинете. Твоя спальня пока еще остается твоей спальней. Ты у себя дома. Ты пока еще не уехала отсюда.
Обогнув стоявшее на пути к дверям красное кресло, он обернулся к Ивонн, сидевшей на краешке дивана и смотревшей на него с выражением ужаса и беспомощности. Он облокотился на спинку кресла. Брошенные им белоснежные простыни свесились на красный бархат.
— Кстати, что это неожиданно нашло на нашего великого охотника? Ему здесь было не так уж плохо, его устраивало существующее положение. Определенные способности позволяли ему очаровывать принцев и миллиардеров; к тому же, у него была женщина, ничего ему не стоившая. И вдруг он бросает все это, чтобы заняться навозом на твоей земле?
Ивонн встала, сдержанная, напряженная и презрительная.
— Ты никогда не поймешь этого. Повстречавшись со своим сыном и увидев, каким он предстал в его глазах, он почувствовал стыд. Он собирается начать жизнь с нуля. Он хочет наконец-то стать мужчиной.
Тед расхохотался.
— Боже мой!.. Стать мужчиной!.. Послушай! Я буду играть с вами в честную игру. Я дам вам денег на самолет. На два билета. Туда и обратно! У вас будет время, целый год! Но я гарантирую, что он вернется через три месяца! И ты тоже это знаешь. Здесь он был заметной личностью! Там он станет нулем! Этого он тебе не простит! Он возненавидит тебя! Он бросит тебя и примчится назад! Он будет умолять меня снова взять его!.. И ты прибежишь вслед за ним, как последняя дурочка.
Он сгреб простыни, чтобы уйти, но снова остановился, улыбаясь.
— В конце концов, несмотря на инфантильность, он неплохо выполнял свои обязанности. Он всегда ухитрялся вести жизнь, которая его устраивала. И при этом сам ничего не тратил на свои удовольствия. На это у него всегда хватало чужих денег. Когда ты ему скажешь, что у тебя, вопреки его надеждам, нет ни одной рупии, у него пропадет всякое желание уезжать отсюда. Готов поспорить с тобой на первую брачную ночь. Согласна на такое пари?
Ивонн ничего не ответила. Он вежливо пожелал ей спокойной ночи и вышел.
Медленно подойдя к зеркалу, висевшему над столом, на котором лежало снаряжение, она посмотрела на себя, и в ее взгляде не было жалости. Климат Непала разрушал ее так же, как разрушали кошмар супружеских обязанностей и борьба в ее сердце между любовью к Жаку и жалостью к нему. Зеркало показало, как пожелтела ее кожа, как впали щеки, как прорезались морщинки в углах рта, как поблекли глаза, обвисли груди, стала дряблой плоть. Она ощутила на себе отвратительный груз тела Теда, почувствовала звериный запах, когда он обливался потом, лежа на ней, услышала смех и разглагольствования Жака, увидела, как он расхаживает павлином перед ней, всем довольный, ни о чем не задумывающийся, безразличный, даже не ревнующий. Она знала, что Жак никуда не поедет. Тед был прав. И она будет продолжать гнить здесь, между этим боровом и этим эгоистом, а когда станет негодной для любовных утех Теда, он вышвырнет ее, оставит где-нибудь в Калькутте, и Жак ничего не сделает, приняв случившееся спокойно, хотя и проявит к ней сочувствие.
Она выдвинула ящик стола и достала коробочку с транквилизатором. Рекомендованная доза была две таблетки. Она проглотила шесть.
На следующее утро Оливье очень рано покинул гостиницу Бориса. На выходе консьерж протянул ему письмо, валявшееся у него на стойке, как он сказал, уже несколько дней. Оливье спросил с возмущением, почему его не передали накануне, когда он вернулся. Дежурный небрежно извинился, не скрывая безразличия. Он был индусом.
Оливье распечатал письмо. Несколько слов на листке грязной бумаги:
«Ты дурак. Джейн любит тебя. Поторопись. Свен».
Несколько слов, написанных неуверенной дрожащей рукой дряхлого старика. Строка изгибалась, сползала вниз и обрывалась на краю листа. Набросок цветка под подписью остался незавершенным.
Консьерж, явно недоброжелательный, не смог или не захотел сказать, сколько времени письмо пролежало у него. Сходя с ума от тревоги, Оливье бросился в пристанище тибетцев, но никого там не встретил. Ничего он не смог узнать и от хиппи, попадавшихся ему на улицах. Вскоре он дошел до площади храмов, непрерывно повторяя одни и те же имена:
— Джейн?… Свен?… Джейн?… Свен?…
В ответ он получал все те же отсутствующие взгляды, то же невнятное бормотание, те же неопределенные жесты.
Внезапно он подумал, что ему может что-нибудь посоветовать Ивонн, и торопливо зашагал к конторе Теда. На краю площади его остановили высокие фальшивые звуки флейты, наигрывавшей мелодию «Наслаждения любви». Это был марселец! Он забыл его настоящее имя, но это было не важно. Обогнув бегом очередной храм, он наткнулся на группу смеющихся крестьян. Увидев его, Гюстав прекратил дуть в свой инструмент.
Свен умер. Сегодня его тело сожгут в Пашупакинате. Джейн, скорее всего, будет там. Да, конечно, она будет там.
Это рассказал ему флейтист. Оливье вскочил на мотоцикл и помчался в Пашупакинат, непрерывно твердя про себя: «Джейн должна быть там. Джейн наверняка там.»
Он мчался на бешеной скорости, не видя перед собой дороги. Спасали его только привычные рефлексы опытного мотоциклиста. Нарушая все существующие правила, он обгонял грузовики и автобусы, резко вилял то влево, то вправо, плохо представляя, где левая, где правая сторона, приводил в ужас многочисленные семейства непальцев, едва успевавших выскочить из-под колес, вспугивал грохотом своего мотоцикла стаи птиц, разлетавшихся далеко в стороны от дороги. Он напоминал торнадо, ревущий над рушащимися домами.
Остановив мотоцикл на гребне над долиной погребальных обрядов, он подошел на подгибающихся ногах к началу идущей вниз лестницы.
Лестница, спускавшаяся в долину священной реки, была достаточно широкой, чтобы по ней могли пройти армия или целый народ. Но сейчас все пространство ступеней между двумя рядами стоявших по ее сторонам каменных слонов с поднятыми кверху хоботами было пустынно. Слоны были в несколько раз больше живых, но самые нижние казались сверху не больше кроликов. У большинства слонов вместо хоботов торчали жалкие обрубки, ступени лестницы потрескались, а многие вовсе отсутствовали. Склоны долины были усеяны храмами, алтарями, стелами и статуями; среди них не было полностью разрушенных, но все они были покалечены временем и стояли наклонившись, готовые упасть через несколько дней или, может быть, веков.
Среди каменного народа, застывшего в своем движении, заметном только в масштабах вечности, суетился многочисленный обезьяний народ, непрерывно верещавший и то и дело перескакивавший, подобно блохам, с плеча бога на голову богини или на слоновье ухо.
Внизу можно было видеть сразу несколько процессий, неторопливо несущих закутанных в ткани мертвецов, над которыми развевались разноцветные хоругви и к небу поднимались пронзительные звуки музыки.
Слева от лестницы, в самом низу, лежал огромный золотой Будда, спавший в овальном бассейне, навечно запертый за семью рядами стен, не имевших дверей или ворот. Увидеть его и поклониться ему можно было только с верхних ступеней лестницы. К нему не приближался ни один человек с того момента, как тысячу восемьсот лет тому назад вокруг него была возведена первая стена. Бассейн всегда был заполнен прозрачной чистой водой. Руки Будды, сложенные на груди, оставались под водой, и только два сложенных вместе мизинца находившихся над поверхностью, ослепительно сверкали на солнце.
Оливье начал спускаться по лестнице, прыгая со ступеньки на ступеньку, словно мячик. Обезьяны, сидевшие на спинах каменных слонов, скакали и взволнованно кричали, когда он пробегал мимо них. Он увидел сверху разложенные внизу костры. Некоторые уже были зажжены, другие ожидали своего покойника или поднесенного огня. Груды хвороста были разложены на невысоких платформах из грубо обработанного камня; их ряд протянулся вдоль реки, воды которой должны были принять пепел сожженных тел.
Река в это время года превратилась в узкий ручеек, петлявший между берегами по высохшему и растрескавшемуся слою черного ила. Смеющиеся женщины полоскали белье в жалких лужицах, которые им удавалось найти. Цветные рубашки и юбки с пятнами грязи сушились на веревке, натянутой между шпилем небольшой часовни и поднятой рукой какого-то божества.
Примерно на середине лестницы Оливье оказался охваченным волной запаха, едва не остановившего его. Это был запах горелой плоти, смешавшийся с запахом дыма горящих поленьев, на которые стекало все, что выделялось из тел, выпотрошенных огнем.
Решив, что Джейн находится внизу, возле одного из этих жутких костров, он кинулся дальше.
Тел о Свена было уложено на обычный костер из небольшого количества поленьев, потому что нужно совсем немного дров, чтобы сжечь человека. В случае естественной кончины, за исключением некоторых специфических заболеваний, последние дни, и в особенности последние часы, перед уходом в мир иной освобождают человека почти от всей влаги, содержащейся в теле. То, что остается, горит не хуже свечи. Вода — это универсальное средство существования живого. Тот, кто должен вскоре умереть, уже не нуждается в воде, ей больше нечего делать в его теле, и она покидает его. Человек высыхает, его тело сжимается, в нем остается только самое существенное. Если он при этом все сознает, то он должен понимать, что то, что уходит из него, и то, что остается, но что он сам должен покинуть, не имеет отношения к нему как разумному созданию, а всего лишь отражает существование материальных тел, непрерывно меняющихся во времени и пространстве. Он не представляет, чем он на самом деле является, но спокойно принимает, что в следующий момент может стать чем-то иным, достигнув, наконец, подлинного покоя после бесконечных и бесполезных мучений.
Если же он боится того, что его ждет, и отказывается от этого, то, возможно, ему придется и дальше сражаться и бояться будущего, как это было на протяжении всей его жизни, которая сейчас подошла к концу. Но чаще всего случается так, что несправедливые страдания калечат его душу, делая невозможным его осознанную встречу со смертью. Бывает и так, что укол сочувствующего врача погружает его в бессознательное состояние, и он совершает переход в другой мир, не воспринимая происходящего.
Что случается потом с этими несчастными? Что происходит с остальными уходящими из жизни? Рассказывают ли об этом десять тысяч богов Катманду тем, кто способен это понять? Могут ли дать им ответ цветы вишен, снова и снова расцветающих каждую весну? Может быть, ответ пишут в небе своим полетом птицы? Увы, у нас есть глаза, но мы не способны видеть. Это единственное, в чем мы можем быть уверены.
Глаза Свена, смотревшие на нашу жизнь, закрылись. Его лицо, обрамленное шевелюрой и светлой бородкой, за которой он всегда так старательно ухаживал, казалось расслабленным и спокойным. Вокруг него было множество цветов; они прикрывали не только его тело, но и поленья костра. На животе у него лежала гитара, а в скрещенных на груди руках он держал зеленую ветку.
Когда Оливье приблизился к погребальному костру, высокий худой юноша, на котором, как на вешалке, висел длинный белый балахон, перехваченный в поясе золотистой лентой, зажигал с четырех сторон последнюю постель Свена с помощью небольшого факела. Десятка два хиппи, девушки и парни, сидевшие вокруг погребального костра, негромко затянули песню на английском языке, слов которой Оливье не понимал. Одна из девушек наигрывала на флейте мелодию, одновременно меланхоличную и жизнерадостную, парень отбивал пальцами ритм на подобии тамбурина. Сигареты с гашишем переходили от одного участника церемонии к другому, каждый раз вырывая один голос из хора и добавляя к нему другой. Женщина, которой было лет пятьдесят, сидевшая в головах у Свена, жадно вдыхала дурманящий дым одновременно через рот и через нос, склонившись над небольшой плошкой. Дым от гашиша смешивался с дымом костра. В этот момент волосы Свена вспыхнули, осветив его лицо. Джейн в компании хиппи не было, Оливье убедился в этом с первого взгляда.
Обернувшись, он увидел ее. Она лежала у подножья трехгранной стелы, на каждой из сторон которой было выгравировано лицо божества; лоб богов был вымазан яркой краской.
Джейн лежала в той же позе, что и девушка, которую Оливье принял за нее на краю пруда со свиньями. Испугавшись, что он может снова ошибиться, он упал перед ней на колени. Отведя пряди волос с лица, он узнал ее.
Девушка едва дышала. Глаза ее были закрыты, волосы спутаны, лицо покрыто грязью. Охваченный жалостью, любовью и усталостью, Оливье едва не поддался отчаянию, почувствовав желание зарыдать и упасть на землю рядом с ней.
Закрыв глаза, он усилием воли подавил слезы и негромко позвал ее. Она не ответила и даже не шевельнулась.
— Она тебя не слышит, она напичкана до отказа, — произнес рядом с ним чей-то голос.
Подняв голову, он увидел мужчину с длинными волосами, одетого в хламиду, наполовину европейского, наполовину восточного покроя. Он курил трубку, от дыма которой, как ни странно, исходил запах табака.
— Напичкана? — тупо повторил Оливье, мозг которого отказывался признать очевидное.
Мужчина опустился на колени рядом с ним. От него пахло потом и французским табаком. Сдвинув рукав блузки Джейн, он обнажил руку, усеянную следами уколов и пятнами засохшей крови.
— Героин, — пробурчал он. — В этой мерзкой стране можно найти все что угодно. Нет, прости меня, я не прав. Страна совсем не мерзкая, она замечательная. Я живу здесь уже десять лет и не собираюсь уезжать отсюда. Мерзость здесь то, что привозят сюда мерзавцы. И эта прогнившая до мозга костей бродячая банда идиотов!
Он кивнул в сторону хиппи, продолжавших распевать, раскачиваясь, вокруг костра Свена, тело которого уже горело ярким пламенем.
— Красивая девушка, — продолжал мужчина. — Меня удивляет, что ее еще не отправили отсюда в какой-нибудь бордель Сингапура или Гонконга. Здесь уже начали создаваться группы поставщиков живого товара. Наверное, ей пришлось сопротивляться, бедной крошке! Хотя еще неизвестно, лучший ли вариант она выбрала.
— Ты думаешь, что с ней так плохо?
— Я ведь не врач. Но, вообще-то, здесь не нужно быть врачом. Да ты и сам все видишь. Если бы ее удалось немедленно отправить в больницу. Но пока она здесь. Слушай, у тебя случайно не будет французских сигарет? Жизнь здесь ничего не стоит, но этот проклятый табак приходится доставлять сюда самолетом, и на нем можно разориться!..
Оливье встал. Он смотрел на бесконечную последовательность ступеней, поднимавшихся, казалось, к самому небу.
— Я увезу ее отсюда. У меня есть мотоцикл. Ты не поможешь мне поднять ее наверх?
— Здесь никто никому не помогает, — пожал плечами мужчина. — Ты думаешь, что делаешь добро, помогая кому-нибудь, а на самом деле делаешь зло. Кто может знать, что есть добро, а что есть зло. Ты хочешь увезти ее; возможно, ты прав, но вдруг окажется, что лучше было оставить ее здесь? Ты ничего не знаешь об этом. Да и я, конечно, тоже.
Он сплюнул на землю и ушел.
Смотревший ему вслед Оливье увидел, как тот остановился и подобрал что-то с земли, то ли окурок, то ли корку хлеба, брошенную воронами или обезьянами. Сунув добычу в карман, он направился к мостику через речку, бродяга, философ и эгоист, стоящий одной ногой в западном мире, а другой в восточном. Стоя перед лежавшей без сознания Джейн, Оливье смотрел на дымящиеся тела мертвецов, на раскачивающихся хиппи, на хромых богов и скачущих обезьян, и все, что он видел, постепенно принимало красный цвет, цвет пламени. Все вокруг него было одним огромным костром, всемирным костром боли и глупости, в котором все сгорало без причины и без цели.
Джейн. Она была еще жива, он был с ней, и перед ним стояла одна простая задача: постараться спасти ее.
Наклонившись, он с бесконечной осторожностью поднял ее, не представляя, не окажется ли губительным для ее сердца самое слабое движение. Обхватив ее обеими руками и прижав к груди, он начал подъем по бесконечной лестнице между рядами слонов с отбитыми хоботами. Высоко и далеко впереди было небо. Он должен был дойти до него. Она у него на руках, она ничего не весит, он донесет, он спасет ее. И пусть сгорит весь мир.
Джейн, все еще не пришедшая в себя, лежала в постели. Склонившийся над ней врач измерял у нее давление. Взглянув на тонометр, он не поверил своим глазам. Он снова и снова нажимал на грушу, потом сбрасывал давление и начинал все сначала. Несмотря на то, что он был англичанином, после третьего раза он не смог сдержать недоуменной гримасы и обратился к сидевшей рядом Ивонн:
— Почти ноль. По логике вещей, она должна быть мертвой.
Оливье понял из этой фразы только одно слово «dead»: «мертвая».
Он закричал:
— Это неправда! Она не умерла!
— Тише, тише, — остановила его Ивонн. — Он этого не говорил. Он сказал, что спасет ее.
Врач понимал по-французски, и ему было ясно, что Оливье взволнован. Но спасти эту девушку. Ему придется потрудиться. Не высказывая свои сомнения, он выписал рецепт и дал Ивонн соответствующие инструкции.
На настоящий момент больную нельзя было перевозить. Как только она немного окрепнет и будет в состоянии выдержать переезд, ее нужно будет доставить в больницу Нью-Дели, куда он напишет сопроводительное письмо. Пока же он сделает переливание крови, после чего ее следует покормить, если она будет в состоянии принимать пищу. Бульоны, жидкая каша, как для маленького ребенка. Потом можно будет и многое другое. Что касается героина, то ее нельзя лишать наркотика, это убьет ее.
Врач должен был привезти сыворотку для переливания и лекарство. Это будет началом лечения — раствор героина в ампулах с примесью других веществ. И он принесет также письмо для больницы. Здесь невозможно обеспечить должный уход, а он сам слишком загружен, потому что вынужден все делать сам. Врач быстро собрался и ушел. Это был не такой уж квалифицированный медик, но он знал, что делать в таком случае. Знал он и другое: сейчас нужно было действовать как можно быстрее. И он боялся, не будет ли поздно, когда он вернется с лекарством.
Ивонн пересказала Оливье все, что говорил врач. Она усадила юношу за стол и попыталась накормить его, но тот отказался. Весь в дорожной пыли, он сидел на стуле в ногах у Джейн, не сводя с нее глаз. Ему удалось привезти ее, усадив на заднее сиденье и привязав к своей спине с помощью рубашки.
Ехал он со скоростью улитки, старательно объезжая даже самые небольшие камни и рытвины. Когда Джейн начала соскальзывать с сиденья, он остановился и связал ей руки платком на своей груди. В городе он сразу направился к конторе «Тед и Жак». Ему могла помочь только Ивонн.
Вскоре вернулся врач. Он повесил над постелью большой сосуд, ввел в вену девушки иглу и отрегулировал поступление сыворотки. Джейн пришлось привязать бинтами к кровати, чтобы она, случайно пошевелившись, не вырвала иглу из вены.
В другую руку врач ввел смесь героина с лекарством. Следующую инъекцию должна была делать уже Ивонн. Это была очень тонкая процедура. Нужно было внимательно следить, чтобы в вену не попал даже самый незначительный пузырек воздуха. Он не мог обещать, что сможет приехать для очередного укола, у него не было помощников, а больных трудно было сосчитать.
Он предупредил, что ни в коем случае нельзя поддаваться на просьбы больной, если она потребует еще одного укола. Шприц и ампулы нужно держать в недоступном для нее месте. В ее состоянии трудно сказать, к чему приведет лишняя доза наркотика — она может оказаться смертельной.
— Я очень благодарен вам за то, что вы приняли нас у себя, — сказал Оливье.
Он сидел на диване в конторе Теда со стаканом колы в руке. Тед, улыбающийся, розовый и свежий, как всегда, пил виски.
— Какие пустяки, о чем тут говорить.
— Но ведь вы могли сказать, чтобы я отвез Джейн в больницу. Она там не смогла бы выжить. А сейчас она спасена. Благодаря вам. Я этого никогда не забуду.
Через три дня Джейн стала поправляться. Когда она открыла глаза, она увидела рядом с собой Оливье. В ее венах находилась страшная, но успокаивающая ее смесь героина и лекарства. Ее медленно охватило ощущение счастья. Оливье. Он был рядом. Радость отразилась на ее лице, заставив порозоветь щеки и придав блеск глазам, которые из фиолетовых стали бледно-голубыми. Она улыбнулась одними глазами и прошептала его имя.
Он тоже улыбнулся ей, стиснув зубы и моргая изо всех сил, чтобы не позволить выступить слезам, и погладил ее руку, все еще охваченную ремнями. Наконец-то он мог говорить с ней.
— Все в порядке. Все будет хорошо.
Появившийся с очередным визитом врач был удивлен. Состояние больной оказалось для него радостной неожиданностью. Он сказал, что больная скоро сможет выдержать переезд в Нью-Дели.
У Джейн появился аппетит, и за двое суток к ней вернулись все краски жизни. Она даже немного набрала вес.
По утрам Ивонн делала ей укол. Оливье весь день не отходил он нее. Хуже всего она переносила вечера, когда Оливье уходил, и она особенно остро ощущала отсутствие наркотика. Ивонн из предосторожности уносила к себе шприц и ампулы. Помучившись некоторое время и понимая, что других возможностей у нее не будет, Джейн засыпала. По мере приближения ночи она то и дело просыпалась; ее страдания и страхи то усиливались, то ослабевали, продолжаясь до утра, когда, наконец, появлялась Ивонн.
— Думаю, через два-три дня я смогу отвезти ее в Дели, — сказал Оливье. — Но у меня нет денег ни на дорогу, ни на лечение. Вы не могли бы одолжить мне тысячу долларов? Я обязательно верну их. Я буду работать на вас, совершенно бесплатно.
— Вы славный юноша, — сказал Тед. — И у вас чудесная девушка. Но тысяча долларов. Вы же понимаете, что это очень большая сумма. А если вы не вернетесь?
Оливье вскочил на ноги.
— За кого вы меня принимаете? Если вы боитесь, я подпишу любые обязательства!
— Какой толк будет от бумажек, если вы исчезнете?
Оливье побледнел. Он со стуком поставил стакан на стол. Но Тед не позволил ему открыть рот.
— Ладно, ладно. Не волнуйтесь, мой дорогой. Я действительно не могу одолжить вам такие большие деньги. Вы должны понять меня! Но я могу помочь вам заработать нужную сумму. Скажите, вам уже приходилось бывать в Свайянбунате?
— Да, я был там.
— А вы знаете, что называют Зубом Будды?
Оливье нахмурился, пытаясь вспомнить, о чем идет речь.
— Ну, хорошо, сейчас я покажу вам.
Тед отставил стакан с виски, подошел к книжной полке, снял с нее книгу большого формата, достал из нее пачку цветных фотографий и разложил их на столе. Это были фотографии деревянной статуи Будды, снятой с разных сторон. На лице Будды бросались в глаза тонкие черные усы и странный тюрбан, венчавший его голову. В пупок божества был вставлен громадный кристалл изумруда прямоугольной формы. Будда сидел в небольшой часовне, над входом которой были поднята решетка из металлических прутьев.
— Да, конечно, я видел его, — кивнул Оливье.
— Прекрасно. О статуе говорят, что это подлинный портрет Будды, вырезанный из дерева при его жизни. Из этого следует, что статуе по меньшей мере две с половиной тысячи лет. Но стоит приглядеться к ней повнимательнее, и вы поймете, что она относится к гораздо более поздней эпохе. В ней явно заметны персидские мотивы. Впрочем, именно это определяет для меня уникальность скульптуры и ее ценность. Но верующие, приезжающие к статуе со всего Востока, воспринимают ее, как если бы это был живой Будда, так как считают ее единственным подлинным изображением Сакья-Муни, и доказательством для них служит это.
Розовый палец Теда прикоснулся к изумруду на фотографии.
— Считается, что это зуб самого Гаутамы, помещенный сюда после его смерти. Можно себе представить, какие у него были зубки.
Он собрал фотографии, положил их в книгу и вернул книгу на полку.
— У меня есть клиент. Он мечтает заполучить этого Будду. Разумеется, это американец. Он приезжает в Непал каждый год и всегда спрашивает, не добыл ли я для него этот зуб. Но я не хочу браться за это дело.
Слишком большой риск. А вы, при желании, можете попытать удачу. За всю статую он предлагает пять тысяч долларов.
У Оливье перехватило дыхание, когда Тед назвал сумму.
Тед добавил, что если бы изумруд был настоящим, он один стоил бы вдвое дороже. Но он выяснил, фотографируя статую с разными фильтрами, что это кусок обычного цветного стекла. Конечно, говорить американцу об этом не стоило, хотя того интересовал не драгоценный камень, а сама редкая скульптура. У него есть настоящий музей, в котором можно увидеть забавные вещички. Тед знал, что именно этот американец увез из Ангкора голову Прокаженного Царя, которую пришлось отпилить от слишком громоздкой статуи. По его словам, у него в коллекции находилась также прядь волос из бороды Христа, отрезанная каким-то римским солдатом. Конечно, это весьма спорное приобретение. Кстати, сейчас этого американца можно увидеть в отеле «Гималаи». Если вас интересует.
— Я согласен! — воскликнул Оливье.
— Я в этом не сомневался. Вы единственный, кто может попытаться успешно провернуть это дело. У вас имеются более серьезные мотивы, чем обычная жадность. И у вас достаточно решительности, ловкости, наблюдательности, вы ничего не боитесь. Американца зовут Батлер. Я предупрежу его. Но на этом мое участие в деле закончится. Я не собираюсь вмешиваться в остальное! Заполучив скульптуру, вы отнесете ее в отель, и после того, как он рассчитается с вами, вы принесете мне половину суммы.
— Что вы сказали?
— Вы ведь не думаете, что получите это дельце на блюдечке только потому, что я хочу доставить вам удовольствие? Но я сделаю так, что вы сможете сэкономить приличные деньги. Дело в том, что американец прилетел сюда на своем самолете. Я попрошу его, чтобы он отвез вас вместе с малышкой в Дели. Заполучив желаемое, он будет стремиться улететь отсюда как можно скорее, чтобы оказаться в безопасности. Если вы принесете ему Будду ночью, утром вы вместе с девушкой уже будете в воздухе. Вместе с вами исчезнут и все следы. Это будет шикарное дельце! И его успех зависит только от вас. А если все закончится неудачей.
— Неудача исключена, — сказал Оливье. — Но меня не устраивает то, как вы предлагаете поделить деньги. Я отдам вам только две тысячи. Мне нужно три.
— Вы становитесь деловым человеком, — улыбнулся Тед. — Пусть будет по-вашему.
На полпути к Великой Горе, на вершине большой горы, окруженной несколькими вершинами пониже, расположен храм Свайянбунат. Формой он похож на женскую грудь, и он настолько огромен, что мог бы накрыть своим куполом целый город. Внутри храма, в самом его центре, в небольшой часовне вот уже двадцать пять веков лежат останки принца Сиддхарты Гаутамы, ставшего Буддой Сакья-Муни, который открыл путь для людей, если они хотят навсегда избавиться от страданий.
Таким образом, Свайянбунат, или Грудь-гора, относится к числу трех вершин, которые уравновешивают вращение нашего мира.
Вторая из этих вершин — это Голгофа, на которой пятью столетиями позже Иисус Христос открыл свой путь, приняв на себя страдания человечества.
Третья вершина еще не поднялась над поверхностью вод Мирового океана. И именно поэтому повсюду на Земле еще царит страдание, необъяснимое и несправедливое.
Храм Свайянбунат возрастом две тысячи пятьсот лет выглядит как только что построенный, потому что с момента создания его непрерывно подновляют мастера народа, живущего в горных деревушках вокруг храмовой горы. На протяжении двадцати пяти столетий они не занимаются ничем иным, как только починкой всего, что изнашивается, и заменой всего, что не может быть починено. Но само здание храма после постройки вокруг статуи Будды за все время своего существования ни разу не испытало ни малейшего оседания.
Над куполом Грудь-горы возвышается башня квадратного сечения, покрытая золотом; выше ее продолжают постепенно уменьшающиеся золотые диски числом двадцать один; самый верхний диск увенчан короной, на которой стоит конический шпиль, заканчивающийся золотой сферой. С трех сторон ее защищают три золотых дерева, соединяющиеся своими вершинами, образуя тройной крест.
От оконечности шпиля исходят тысячи нитей, тянущихся к шпилям всех окрестных храмов, всех часовен, к макушкам всех деревьев — короче, ко всем предметам, возвышающимся над своим окружением. К этим нитям подвешены ленты из разноцветных тканей, непрерывно шевелящиеся на ветру. На каждой из них написана молитва. Таким образом, постоянно дующий ветер, шевелящий ленты, днем и ночью повторяет тысячи и тысячи написанных на них разноцветных молитв.
Незапятнанная белизна храма поддерживается мастерами, одетыми в белое. Их лица и руки также покрыты белой краской. Посвятившие свою жизнь единственной цели, они перемещаются по куполу вслед за солнцем час за часом, день за днем, каждый на своей высоте, и отдельные белые полосы сливаются в единую белоснежную массу Грудь-горы.
На каждой из четырех сторон золотой башни нарисованы огромные глаза Будды. Темно-синяя радужная оболочка без зрачка наполовину прикрыта бледно-голубым с золотом верхним веком, над которым совершенной дугой изгибается бровь. Во взгляде нет ни строгости, ни вопроса, ни прощения. Этот взгляд существует не для того, чтобы судить или требовать что-либо. Он просто видит все, что происходит в четырех сторонах света.
Непрерывная цепочка паломников поднимается к Храму по тропинкам и лестницам. Вокруг Храма простирается обширная площадь, усеянная служебными строениями, часовнями, стелами и статуями всех богов индуизма и тантризма, пришедших сюда, чтобы преклонить колени перед мудростью Будды. Среди них медленно перемещаются паломники, собаки, обезьяны, разносчики воды, бонзы, попрошайки, коровы, хиппи, туристы с фотоаппаратами, продавцы лука, бараны, голуби, вороны с оперением табачного цвета, дети со скрипками — пестрая разноцветная толпа, над которой колеблются легкие тени ста тысяч молитв, порожденных ветром.
Оливье к обеду нашел часовню с Зубом Будды и долго не мог отойти от небольшого усатого божка. С ним его не ожидал неприятный сюрприз, доставшийся ему со статуэткой шестирукой богини. Деревянная статуя Будды была просто поставлена на небольшое каменное основание, к которому присоединялась с помощью двух цепей, с одной стороны утопленных в камне. С другой стороны цепи соединялись с помощью колец с основанием статуи. К цепям крепились какие-то странные неуклюжие приспособления, пару раз встреченные Оливье в лавочках Катманду. Они походили одновременно на ствол пушки и на арбалет: это были старинные висячие замки.
Все это железо, грубо выкованное вручную, выглядело непреодолимой преградой для любого похитителя, но Тед одолжил Оливье мощные ножницы, способные перекусить тросы висячего моста Золотые Ворота. Поэтому у него не должно было возникнуть проблем, даже если на ночь перед статуей опускалась железная решетка, прутья которой были толщиной в палец.
Главную сложность представляла толпа паломников.
Оливье быстро выяснил, что даже поздним вечером в храме находились молящиеся. Он спустился в долину, где возле ручья был спрятан мотоцикл, и лег отдохнуть, положив под голову рюкзак. В потемневшем небе над ним одна за другой загорались необычно большие звезды. Он задремал, мечтая о том, какую жизнь он сможет обеспечить Джейн, имея три тысячи долларов. Прежде всего он вылечит ее. Потом отвезет в страну, где не будет здешней грязи. Может быть, в Канаду, где среди снегов и елей живут простые люди, лесорубы и охотники. И постарается, чтобы она была счастлива всю жизнь. Никогда еще этот маленький Будда в забавном тюрбане, на протяжении всех столетий, которые он провел здесь, не видел столь ясной судьбы, не участвовал в столь благом деле. Очевидно, он был вырезан из дерева, раскрашен и прикован цепями в этом храме только для того, чтобы дождаться, проявляя терпение, свойственное деревьям и богам, пока не появится юноша с чистым сердцем, который разорвет сковывающие его цепи и отвезет в мир любви.
Выбравшаяся из-за горы луна разбудила Оливье. По дороге к храму он встретил несколько групп паломников, спускавшихся вниз. Было ясно, что ему придется еще подождать.
Окончательно он убедился в этом, когда оказался на месте. Повсюду между храмами и часовнями ему встречались небольшие группы молящихся или просто прогуливавшихся паломников, а также торговцы, неторопливо заворачивавшие цветные порошки в бумагу. Повсюду мелькали огоньки масляных ламп. Оливье направился к храму Будды и остановился достаточно близко, чтобы не терять из виду обстановку. Опустив рюкзак на землю, он сел и приготовился провести таким образом ночь. Он знал, что в таком поведении не было ничего необычного и на него никто не должен был обратить внимание. Он с радостью заметил, что металлическая решетка перед Буддой осталась поднятой. Очевидно, ее давно перестали опускать, потому что почтение перед Буддой было гораздо более надежной защитой от любых посягательств.
Площадь быстро опустела; оставался только один богомолец, одетый в белое, но с черной шапочкой, который, стоя на коленях со сложенными перед грудью руками перед божеством в такой же позе, продолжал что-то говорить, спрашивать, умолять. Бог оставался невозмутимым; он не уставал слушать. Но молящийся был не каменным; в конце концов он почувствовал усталость, с трудом поднялся с колен и медленно направился к ближайшей лестнице, держась за поясницу и постанывая.
Оливье встал и незаметно огляделся. Луна в последней четверти висела достаточно высоко, чтобы освещать самые укромные уголки. Поблизости от Оливье не было ни души. Возможно, конечно, что какой-нибудь паломник дремал где-нибудь у подножья храма, но ходить по площади и осматриваться было бы слишком подозрительно. Нужно было действовать быстро и бесшумно.
Оливье подошел к храму, опустил рюкзак на землю, достал из него кусачки и протянул руки в темноту ниши, где скрывался Будда.
В этот момент в лицо ему с пронзительным воплем кинулся демон. Оливье шарахнулся назад; сердце едва не вырвалось у него из груди. К счастью, это была всего лишь обезьяна. Она взлетела на голову каменного льва в нескольких метрах от Оливье, продолжая визгливо ругаться. Оливье понял, что животное, питавшееся подношениями паломников, постоянно жило рядом со своим щедрым сотрапезником. Разбуженные дикими воплями, на площади проснулись все ее обитатели. Обезьяны принялись верещать, собаки залаяли, вороны закаркали, куры закудахтали. Оливье быстро спрятал кусачки в рюкзак и отошел в сторону, изображая внезапно разбуженного человека. В соседнем храме распахнулись двери, и на площадь вышла вереница монахов с горящими лампами в руках.
Не обращая на суматоху ни малейшего внимания, они совершали утренний обход храма, вращая тысячи молитвенных мельниц, расположенных по его окружности, и распевая молитвы, позволяющие слиться в одно целое их движению по кругу и вращению по своим орбитам планет, галактик, всей Вселенной, а также атомов и вселенных, заключенных в каждом из атомов. Этим достигалась всеобщая гармония таких бесконечно разных и таких одинаковых элементов мира.
Рассветало. Уже можно было различить желтый цвет одеяний монахов и их поблескивающие лысины. Лампы были погашены; в лучах восходящего солнца вспыхнули краски молитв, колеблемых ветром.
Было слишком поздно продолжать попытку. Оливье подавил чувство острого разочарования, подумав, что не случись у него конфликт с обезьяной, его застали бы в самый разгар операции. Но, по крайней мере, теперь он представлял, до какого момента он может работать. Он слишком торопился, подталкиваемый нетерпением. А ведь Тед советовал ему сначала понаблюдать за обстановкой на протяжении двух-трех ночей, прежде чем приступать к делу. Американец мог подождать.
Но кроме американца была еще Джейн. И она тоже ждала.
Спустившись к ручью, он проверил мотоцикл и убедился, что никто не слил у него из бака бензин. Он напился, привел себя в порядок и даже вздремнул пару часов. Проснувшись, ополоснул лицо холодной водой, сел и задумался, пытаясь найти решение вновь возникшей сложной проблемы: как избавиться от обезьяны?
Очевидно, наиболее правильным было бы предложить обезьяне банан, напичканный наркотиком, чтобы она заснула до утра. Конечно, если она согласится сожрать его. А какой наркотик следовало выбрать? Гашиш мог вызвать у нее отвращение. Но попробовать все равно стоило. Найти гашиш можно в каждой деревне. Любой крестьянин прекрасно понимал, о чем идет речь, когда европеец жестом показывал ему, что он хочет курить. Но если ему не повезет здесь, он может вернуться в Катманду и попросить врача, чтобы тот выписал ему сильнодействующее снотворное. Правда, в этом случае он потеряет целые сутки.
Он отправился пешком в ближайшую деревню. Ему нужно было приобрести заодно и что-нибудь съестное. Он не терял надежды, что или в этой деревне, или в какой-нибудь другой найдет гашиш. И следующей ночью постарается не упустить удачу.
Состояние Джейн продолжало улучшаться. Расставаясь с ней, Оливье попросил ее не беспокоиться, потому что он собирался очень скоро вернуться, после чего они должны были уехать из Катманду. Джейн спросила: «А Свен? Свен поедет с нами?» — «Да, конечно, Свен тоже поедет», — ответил Оливье, которого этот вопрос едва не застал врасплох, но он решил, что расскажет ей все, что она забыла, позже.
Через пару часов после отъезда Оливье Джейн начала волноваться. Она то и дело спрашивала у Ивонн: «Где он? Он вернется? Когда? Почему его до сих пор нет?» Ивонн и сама не знала, куда исчез Оливье, но продолжала успокаивать Джейн.
Когда она спросила у мужа, тот заявил, что ничего не знает. Оливье будто бы сказал, что собирается раздобыть денег, чтобы увезти Джейн отсюда и положить ее в больницу. Тед выразил надежду, что Оливье не совершит какую-нибудь глупость и добавил, что в любом случае умывает руки.
— Но ты же мог одолжить ему нужную сумму! — воскликнула Ивонн.
Тед изобразил наивное удивление.
— Одолжить ему? Но я же ему не отец! Жак скоро будет здесь. Меня удивляет, что Оливье не стал дожидаться его возвращения, чтобы попросить денег. А как, кстати, с проектом вашего совместного путешествия? Ты обдумала то, что я тебе сказал?
Ивонн посмотрела на мужа с ненавистью.
— Ты думаешь, что мы у тебя в руках, но мы все равно уедем вместе!
— Ладно, ладно! Вы всё решите, как только он вернется и ты поговоришь с ним. Не забудь сказать мне, о чем вы договорились. Я закажу вам билеты в Европу, как и обещал.
Этот разговор состоялся у них на площадке третьего этажа, между дверью в кабинет Теда и дверью в комнату, где лежала Джейн. Тед отвернулся и вошел к себе, оставив жену оцепеневшей от ненависти и отчаяния. Она прекрасно знала, что едва Жак узнает, что у нее нет ни гроша, то сразу же найдет тысячу оснований, чтобы остаться в Непале. Разве им плохо жилось здесь? Разве она не была счастлива? Жить в такой замечательной стране. У них потрясающе интересная работа. И муж обеспечивает ее всем, ничего не требуя взамен.
Чтобы избежать возможных сцен ревности, она сказала Жаку, что у нее с Тедом давно нет супружеских отношений. Правда, она не была уверена, что тот поверил; тем не менее, Жак сделал соответствующий вид, так как подобная ситуация его вполне устраивала. Точно так же он изображал себя богачом, предводителем слонов, властелином тигров, хозяином своей судьбы. И делал вид, что счастлив.
Чтобы оторвать Жака от его воображаемого мира, не причинив травмы, она предложила ему другой, также достаточно привлекательный мир: стать владельцем имения, хозяином армии тракторов; охотиться в Солони, приобрести квартиру в Пасси, завести целый Париж знакомых и друзей.
И все это было бы возможно, обладай она хотя бы драгоценными камнями, которые столько лет подряд дарил ей муж. За проведенные в Непале годы у нее скопилось множество драгоценностей, настоящее богатство. Самыми дорогими были украшения с рубинами, за которыми Тед раз в год ездил на рудники, где специально для него оставляли самые уникальные экземпляры. Потом он отправлял их на огранку в Голландию и затем заказывал из них ожерелья, браслеты и кольца местным ювелирам.
Но их брачный контракт, зарегистрированный в Париже и Цюрихе, был заключен на условиях раздельного владения имуществом. И драгоценности принадлежали Теду, поскольку он платил за них. А она их только носила. Впрочем, так редко! Еще бы, в этой дыре. И они принадлежали ей не больше, чем воздух, которым она дышала. У нее ничего не было, если не считать куска равнины, на которой выращивали свеклу, унылой равнины в долине Соммы, за которую, к тому же, еще нужно было вести тяжбу с местными фермерами. Нет, Жак не поедет с ней, она прекрасно знала это.
Но знала она и то, что больше никогда не сможет терпеть тяжесть массивного тела Теда. Даже одна только мысль о том, что он может потребовать от нее, вызвала у нее приступ тошноты, с которым она не смогла справиться. Она кинулась вниз по лестнице и едва успела добежать до ванной комнаты.
Вечером Джейн вела себя настолько беспокойно, что Ивонн позвонила врачу и сказала, что девушка требует второй укол, что она стонет и корчится в постели. Врач категорически запретил подчиняться требованиям больной. Он сказал, что у девушки, как ему кажется, было два наркотика: героин и этот юноша.
— Как его зовут? А, Оливье. Ей его не хватает, и она стремится компенсировать его отсутствие настоящим наркотиком. Но этого разрешить нельзя. Как долго будет отсутствовать этот молодой человек? Его появление оказало бы более сильный лечебный эффект, чем любое лекарство. Почему он уехал? Да, конечно, он должен зарабатывать на жизнь. Короче, так или иначе, но второго укола не должно быть! Ни в коем случае!
— Но что тогда можно сделать? Ведь она так страдает!
— Ничего. Вы ничем не можете помочь ей. Впрочем, будет лучше, если вы оставите ее одну. Тогда ей некому будет жаловаться, и она постепенно успокоится.
— Но вы уверены, что она не натворит глупостей?
— Каких еще глупостей?
— Ну, говорят, что иногда наркоманы, лишенные наркотика, могут покончить с собой.
— В нашем случае такой опасности нет. Она знает, что получит свою дозу завтра утром. Конечно, она будет нервничать, мучиться, злиться, но будет терпеть до утра, потому что уверена, что утром снова попадет в свой отравленный рай. Оставьте ее. В ее страданиях есть доля шантажа. Когда вы уйдете, она останется наедине со своим подлинным страданием. Конечно, в этом тоже нет ничего приятного, но она все же успокоится, станет думать про завтрашнее утро и постепенно заснет.
Когда на следующее утро Джейн получила свою дозу, она преобразилась. Никогда еще она не выглядела такой жизнерадостной. Лекарство, добавленное к раствору героина, смягчало его вредное воздействие. После показавшейся бесконечной ночи страданий, ставших под утро почти невыносимыми, к ней пришел покой, и она вспомнила о любимом, в ней проснулась уверенность в счастье, ожидавшем ее с Оливье. Ее лучившееся лицо, посвежело и казалось ясным, словно у ребенка; глаза, и так большие, казались еще больше. Ивонн, увидев девушку такой прелестной, еще раз сказала, что Оливье скоро вернется. Джейн прижалась к ней и замурлыкала какую-то ирландскую песенку, но тут же остановилась, поцеловала Ивонн и пробормотала:
— Я люблю вас! Вы такая замечательная!
Ивонн затопила волна нежности и ужаса. Джейн, этот чудный ребенок, потерянная душа, могла быть ее дочерью. И тогда она сделала бы все возможное, чтобы защитить девушку, спасти, увезти отсюда; она почувствовала, что ей так нужен был кто-то, за кого нужно было бы сражаться, кто-то, бывший плотью от ее плоти, плодом ее любви. Детей у нее не было, был только любовник, красавец, словно сошедший с экрана, тогда как сама она была уже развалиной, отбросом, рабыней, объектом удовлетворения страсти для свиньи.
Что же касается Джейн, то врач не стал скрывать, что с большим трудом спас ее. По его словам, девушку можно было считать потерянной еще до того, как она выкурила свою первую сигарету с марихуаной. Очевидно, в ее семье произошло что-то такое, что причинило ей смертельную травму. Ее бегство в наркотический дурман было всего лишь затянувшейся агонией, замаскированной цветами и гитарой и питавшейся иллюзиями. По мере того, как одни иллюзии разрушались, она пыталась найти другие, более интенсивные, но столь же обманчивые. Но ей удалось найти свой единственный шанс.
— Как зовут этого парня? Ах, да, Оливье. Только он может спасти ее, остановить на пути, ведущем к гибели. Но где он сейчас, этот дуралей? Что он делает вдали от нее? Без него она может погибнуть. У нее почти не осталось воли к жизни!
Он добавил, что в письме, подготовленном им для больницы в Дели, говорилось, что юноша обязательно должен быть помещен в палату вместе с девушкой.
Джейн лучилась радостью. Она даже согласилась позавтракать куском хлеба с маслом, съела немного фруктов и выпила стакан молока яка. Она то и дело смеялась, повторяя: «Оливье. Я люблю его. Мой Оливье.»
Ивонн вышла, держа в руках поднос для завтрака, и ногой прикрыла за собой дверь.
Джейн никогда еще не ощущала себя такой легкой, такой воздушной. Скоро вернется Оливье. Она должна быть красивой для него. Сначала она села в постели, потом спустила ноги на пол. Немного поколебавшись, встала. Мир вокруг нее слегка покачнулся, но он был таким спокойным, а она казалась себе такой невесомой, словно цветок под солнцем, едва колеблемый намеком на ветерок. Она раскинула руки, словно эквилибрист на канате, сделала шаг, потом еще один. Ощущение было странным. Все вокруг казалось подвижным, но не опасным. Будто она на качелях, а качели — это вся комната вокруг нее. Она сделала еще несколько шагов к ванной комнате и засмеялась: все вокруг было таким странным, таким неустойчивым.
Тед вышел из кабинета и направился к лестнице. До его слуха долетел нежный смех — так могла бы смеяться птичка. Дверь в комнату Джейн была приоткрытой. Он остановился и заглянул в щель. Там стояла Джейн. Сбросив ночную рубашку, она прошла сквозь солнечные лучи, падавшие через окно. В ванной комнате она взяла щетку и принялась расчесывать свои волосы, превратившиеся в золотую волну, падавшую на плечи. Поднятые над головой руки заставляли рельефно выделяться девичьи груди; отраженный зеркалом золотой луч упал на ее бедро.
Лицо Теда побагровело.
Оливье удалось раздобыть не только гашиш, но и опиум. Увидев возле убогой хижины поле цветущих маков, он решил расспросить работавшего на поле крестьянина. Стоило ему указать на маки, как тот сразу же понял, о чем идет речь. Он вынес из хижины комок опиума размером с яблоко. Оливье показал жестом, что ему нужен шарик размером с ноготь. Крестьянин улыбнулся и принес другой комок размером с орех. Еще одна пантомима, и у Оливье оказался небольшой шарик опиума размером с вишневую косточку.
У хозяина соседней хижины он нашел еще более ценный товар: это был гашиш, полученный в прошлом году; его растерли в порошок и смешали с маслом. Таким образом непальцы сохраняли гашиш в межсезонье. Когда его нужно было использовать, смесь нагревалась; масло при этом удалялось, и оставалась чистая травка.
Оливье подумал, что прогорклое масло может заинтересовать обезьяну, хотя и не был уверен, что успокоит ее. Он знал, что миролюбивые хиппи, проповедовавшие ненасилие, употребляли марихуану, тогда как американские гангстеры-убийцы были известны как курильщики гашиша.
Он решил приготовить два банана, один с опиумом, другой с гашишем в масле. И здесь его ожидало неожиданное разочарование: он не смог найти бананы, исчезнувшие с рынка вместе с другими фруктами и прочим съестным. Паломники, направлявшиеся в Свайянбунат и непрерывным потоком проходившие через деревню, раскупили все съедобное, что могли предложить им местные жители.
Пока он стоял в растерянности, в деревне появилась группа хиппи, менее напичканных наркотиками, чем большинство встреченных им раньше. Они уселись в кружок вокруг фонтана на центральной площади и принялись распевать что-то вроде гимнов. Среди них оказался бельгиец, рассказавший Оливье причину царившей вокруг суматохи. Оказалось, что вечером должен состояться Праздник Света. Ночью Луна, находящаяся в последней четверти, взойдет точно над самой высоким пиком Великой Горы. И она будет сиять над Свайянбунатом. А Свайянбунат считается второй половиной белой сферы, образа Вселенной, возрождающейся в своей целостности, когда соединяются небо и земля, материя и дух, реальное и иллюзорное, когда все сущее сливается в единстве, подобно тому, как все цвета спектра, соединяясь, дают белый свет.
Бельгиец рассказывал все это Оливье, не переставая жевать. Он рассматривал этот праздник как грандиозное и крайне важное событие. О смысле праздника ему рассказала девушка из Голландии, невысокая брюнетка, сидевшая рядом с рыжим парнем.
— Она не знает французского, — сообщил бельгиец, — но я могу объясняться на фламандском. Знаешь, она никогда не носит трусов, хотя всегда бывает в юбке. Когда она садится, то высоко поднимает колени и раздвигает их, демонстрируя все свое хозяйство. Вот, смотри, смотри! Наверное, это и есть свобода, как она говорит: надо показывать всем свои интимные места с такой же непринужденностью, как лицо. Похоже, что она немного свихнулась на этом деле, ты не находишь? Никто уже не обращает внимания на то, что она выставляет напоказ. Может быть, потому, что ее нос похож на банан? Как ты думаешь, в сексе нос тоже имеет значение?
Бельгиец рассмеялся. Он не курил травку; в Непал он приехал только потому, что ему негде было провести каникулы. В ближайшее время он собирался вернуться в Европу. То, что рассказала ему голландка, она узнала от одного гуру. В общем, добавил бельгиец, этой ночью зажгутся все светильники, которые могут гореть, чтобы отметить встречу Луны и Священной Горы.
— И они будут гореть всю ночь? — встревоженно поинтересовался Оливье.
Неужели он потеряет еще сутки из-за какого-то нелепого праздника? Господи, здесь всегда праздники, постоянные праздники! Народ, который непрерывно что-нибудь празднует, не имеет права на существование!
Но бельгиец сказал, что в тот момент, когда Луна должна выглянуть из-за вершины Горы, все огни будут погашены; все должны укрыться в хижинах или хотя бы закрыть лицо руками, чтобы не видеть то, что будет происходить на небе, потому что Луна и Гора должны остаться наедине.
Оливье купил у хиппи немного риса и несколько бананов, после чего вернулся к мотоциклу на берегу ручья. Он решил, что в эту ночь ему предоставляется последняя возможность добиться успеха. А если вокруг храма на ночь расположится множество паломников? Но они, скорее всего, постараются найти какое-нибудь укрытие. Заранее все предвидеть невозможно, но он будет готов действовать в любой обстановке. Ему нужно находиться поблизости от храма в тот момент, когда погаснут огни. А перед этим он должен постараться усыпить обезьяну.
Он приготовил для нее два банана и поужинал горстью риса. Луна должна была появиться из-за Горы в середине ночи. Сейчас же, в наступившей полной темноте, тысячи огоньков, усеивавших окрестности, копировали звездное небо. Казалось, что огней на склонах гор было столько же, сколько звезд на небе. Часть из них постепенно перемещалась, собираясь в длинные светящиеся полосы, напоминавшие Млечный Путь; они извивались между холмами, устремляясь к вершине Священной Горы, где в древнем храме дремал Будда.
Оливье решил, что и ему пора подняться на вершину. В последний раз проверив мотоцикл, он подвел его к ближайшей тропинке, по которой можно было передвигаться достаточно быстро. Потом закинул рюкзак за спину и двинулся в путь.
Вечер второго дня отсутствия Оливье был для Джейн еще более трудным. Начиная с обеда, она почувствовала, как тревога постепенно охватывает все ее существо, проникая в голову и создавая там невыносимое ощущение, словно она вот-вот разорвется.
Ивонн не оставляла девушку на протяжении всего дня, стараясь всеми силами развлечь ее. Она рассказывала о красотах тропического леса, об опасностях джунглей, о Жане, о слонах, о гигантских цветах, свисающих с деревьев, о множестве птиц самых фантастических расцветок. Но чем ближе был вечер, тем менее внимательно слушала ее Джейн. Ее лицо заливал пот, а конечности сотрясала сильная дрожь. Вечером она отказалась от ужина и стала умолять Ивонн сделать ей еще один укол.
Ивонн не смогла выносить ее страдания. Она снова позвонила врачу, но того не оказалось на месте. Он сам позвонил через час, напомнив про категорический запрет и посоветовав оставить девушку одну.
— Если вы знаете, где находится этот юноша. Как там его? Да, Оливье. Его нужно немедленно вернуть в город. Сейчас это важнее всего.
Ивонн была уверена, что Тед знает, куда исчез юноша; она не сомневалась, что муж втянул его в какую-то аферу, выгодную для Теда и опасную для Оливье. Все это она высказала мужу, воспользовавшись возможностью еще раз бросить ему в лицо все, что она думала о нем. Но единственным ответом были молчание и уклончивые улыбки.
Она поцеловала Джейн, которая изо всех сил цеплялась за нее, плача и умоляя сделать укол. Ивонн попыталась успокоить девушку, повторяя, что Оливье, уехавший, чтобы заработать на ее лечение, скоро вернется. И тогда она быстро поправится, и они смогут вместе уехать отсюда. В любом случае, свой укол она получит завтра утром. И она пообещала вернуться к Джейн как можно раньше.
Уложив Джейн в постель и набросив на нее легкую простыню, она спустилась к себе на второй этаж, проглотила три таблетки снотворного и поставила будильник на шесть часов утра.
Тед просидел в кабинете еще около часа, дожидаясь, пока Ивонн уснет крепким сном. Потом он открыл сейф и достал из него небольшую шкатулку из яшмы, медицинский шприц, серебряную ложечку, резиновый шнур и миниатюрную масляную лампу, покрытую изящной резьбой. Все это он разместил в карманах халата, наброшенного на голое тело.
Когда Оливье оказался у подножья Грудь-горы, на ней вспыхнули тысячи огней. Оливье услышал рокот электрогенератора, дававшего энергию сотням прожекторов. Буддийские монахи разумно переняли у Запада то, что могло послужить их традициям.
С вершины Грудь-горы, со стен Золотой башни, на ночь взирали глаза Будды. Они видели все, что происходит как здесь, так и в других местах, видели все, что случается в жизни каждого человека. Если у человека, бросившего на Будду ответный взгляд, чистое сердце, лишенное эгоизма и мелких жалких страстей, а глаза у него такие же голубые, как те, что изображены на золотом фоне, то ему в темных зрачках Будды явится все, что тот видит в нем и всем прочем в мире, что имеет отношение к нему.
Оливье поднимался к вершине с высоко поднятой головой, не в силах оторвать взгляд от глаз, не смотревших на него. Ниже этой пары глаз, на том месте, где должен находиться нос, синей краской был изображен символ, похожий на вопросительный знак, который у непальцев соответствует цифре «1», воплощающей единство. Единство всех вещей и явлений, как обычных, так и уникальных, в которых растворяется это единство, чтобы стать всеобщим целым.
Для Оливье этот символ был тревожным знаком вопроса под глазами, видящими нечто недоступное ему. Вместе с ним по крутой тропе поднимались жизнерадостные мужчины и женщины, несущие тускло горевшие фонарики, распространявшие вокруг запах горячего масла. Это была неторопливая процессия счастливых людей, многие из которых захватили с собой детей. Самые маленькие висли на спинах матерей, удерживаемые куском ткани; других несли на руках отцы, несли бережно, с бесконечной нежностью. Мигающая огоньками гусеница, в сопровождении звуков примитивных музыкальных инструментов, стремилась к белоснежному куполу, возвышавшемуся на фоне темного неба. Оливье не видел неба; он видел только синие глаза ночи, а также знак вопроса, спрашивавший, что он, жалкий глупец, делает здесь, вдали от Джейн, которую бросил в очередной раз. Даже если все, что он делал, делалось ради того, чтобы увезти ее отсюда, ради ее спасения, то вряд ли это было важнее, чем быть рядом с ней, чтобы окружить теплом и заботой, в которых она так нуждалась.
Запрокинув голову, он смотрел в безмятежно глядящие глаза, в которых не было ничего от людских эмоций, глаза, которые все видели, все знали.
Внезапно он понял. Понял, что сбился с истинного пути, заблудился на дороге, ведущей к бесполезному и бессмысленному, что был безумцем и преступником. Он резко остановился и обернулся. Затем он устремился вниз, прокладывая дорогу локтями и криками через мирную толпу, спокойно поднимавшуюся к белоснежному куполу, к Луне. Люди безропотно расступались перед несчастным потерянным юношей, пришедшим к ним с другого конца света, где люди живут, ничего не зная о жизни и смерти.
Преодолев в несколько осторожных шагов площадку, Тед остановился перед дверью в комнату Джейн, из-под которой пробивалась полоска света. Он прислушался. Некоторое время до него не доносилось ни одного звука, но потом он услышал нечто вроде хрипа, прервавшегося рыданием. Он знал, что в этот момент внутренности девушки свирепо терзает отсутствие наркотика.
Осторожно повернув ручку, он медленно, но уверенно вошел в комнату. Ему нужно было действовать быстро, пока Джейн не испугалась и в ее воспаленном воображении не появился Тед в облике дракона, паука или бог весть какого жуткого чудовища. Поэтому он сразу же заговорил успокаивающим тоном:
— Добрый вечер, Джейн. Как вы себя чувствуете?
Девушка слабо пожала плечами, показывая, что чувствует себя неважно. Об этом без слов свидетельствовали ее широко раскрытые глаза и напряженные мышцы лица, залитого потом. Почти не прикрывавшая ее скомканная простыня тоже промокла от пота.
— Вам плохо?
Она кивнула. Да, ей было плохо.
— Здешние врачи не слишком блестящие специалисты. Если они оказались в Катманду, то только потому, что не смогли устроиться ни в одном приличном месте.
Подойдя к постели, он принялся раскладывать на ночном столике предметы, извлекаемые из карманов халата.
— Сейчас я помогу вам. Вы проведете спокойную ночь, и мы никому ничего не расскажем.
Увидев шприц, Джейн резко приподнялась. Тед удержал ее спокойными фразами и заставил снова улечься, мягко надавив на плечи. Закатав левый рукав ее ночной рубашки, он обернул ей руку толстым резиновым шнуром, затянув его с помощью карандаша.
Вены у девушки долгое время не набухали. Тед начал немного беспокоиться; девчонка оказалась в более плохом состоянии, чем он предполагал. Если с ней случится какое-нибудь осложнение, могут возникнуть неприятности. Но, в конце концов, врач не считал нужным изображать оптимизм; он же сказал, что по логике вещей, она должна уже быть на том свете. Тем не менее, он решил быть поосторожнее. Дозу нужно было отмерить как можно точнее. Он сам никогда не употреблял наркотики, но ему не однажды приходилось применять их при общении с девушками-хиппи. Когда они находились под действием дурмана, они не замечали, что он похож на свинью. Даже он забывал об этом на несколько мгновений…
Тед зажег масляную лампу и открыл шкатулку. Она была заполнена белым порошком.
— Это настоящее снадобье, — пробормотал он, склонившись над столиком, — а не та третьесортная дрянь, которой вас пичкает этот лека- ришка.
Зачерпнув серебряной ложечкой немного порошка, он задумался на несколько секунд, потом отсыпал часть порошка назад в шкатулку. Затем он принялся водить ложечкой с порошком над пламенем масляной лампы.
Оливье мчался как безумный вдоль бурного ручья, стекавшего по склону горы. Инстинктивно угадывая в темноте препятствия, он перепрыгивал через камни и кусты, чудом не ломая ноги; его несла какая-то сила, он не знал, космическая или божественная, да это и не было важно. Им владело понимание того, что он находится не в том месте, в котором должен был бы находиться, и что перед ним находятся пространство и время, которые он должен преодолеть или уничтожить. Он бежал быстрее потока, бурлившего среди камней с шумом кипящей воды.
— Я слышу, как шумит вода! Я слышу воду! — прошептала Джейн. — Я слышу воду! Она шумит рядом!
Никогда прежде она не была такой счастливой, такой легкой, такой открытой, как сегодня. Она уже забыла про укол. Только что безмерно страдавшая от укусов змей, гнездившихся в ее теле, она превратилась в облако света.
— Оливье где-то возле воды. Он идет ко мне. Вместе с водой. Он идет.
— Конечно, конечно, — успокаивающе пробормотал Тед, — Оливье идет, он приближается, он уже здесь.
Он сбросил халат. Джейн, охваченная экстазом, смотрела в потолок и видела, как вода несет Оливье. Она видела воду, кувшинки на ее поверхности, рыбу в глубине. Это громадный угорь, он поднимается к поверхности. Снова Оливье. Блики солнца на воде, солнце в воде, Оливье, солнце.
— Оливье.
— Он пришел, — прошептал Тед, — он здесь.
Он сдернул с девушки простыню и замер, уставившись на нее. Несмотря на болезненную худобу, Джейн была удивительно красива. Насытив взгляд, Тед растянулся рядом с ней.
— Оливье? Это ты, мой Оливье? Ты вернулся? — прошептала Джейн.
— Это я, я здесь, здесь, — шепотом ответил Тед.
Затем он выключил лампу на ночном столике и принялся ласкать девушку. Джейн полной грудью вдохнула воздух счастья.
— О, Оливье!
Оливье мчался в Катманду на сумасшедшей скорости. Рев двигателя распугивал бредущих по обочине непальцев, мощные фары ослепляли неосторожных, посмотревших в его сторону. На виражах свет фар на мгновение выхватывал из темноты кровавые ухмылки придорожных божеств. Проносясь через деревни, Оливье оставлял далеко позади бешено лающих собак. Наконец впереди показались огни города. Оливье попытался прибавить скорость, до отказа повернув рукоятку газа, чтобы лететь еще быстрее, но это было невозможно. Низко склонившись над рулем, он ворвался, не тормозя, в город. Перед ним возникла медленно бредущая поперек улицы корова, и мотоцикл врезался в нее. Оливье перелетел через сбитое на землю животное, успев при этом подумать, что совершил страшное преступление. Если корова убита, ему дадут лет десять. Если же он только ранил ее, то его вышлют из страны. У него была содрана кожа с правой щеки и с обеих рук, но он нашел в себе силы, чтобы подняться, чтобы идти, чтобы бежать к Джейн, пока не рухнул в темном переулке; дикая головная боль заставила его потерять сознание.
Придя в себя, Оливье не представлял, сколько времени он пролежал в бессознательном состоянии. Было по-прежнему темно. Небо между двумя рядами крыш узкой улочки казалось бездонной пропастью, усеянной мириадами звезд. Он не видел ни малейшего лучика света, не горели даже фонари на перекрестке. Только слева от него в небо над крышами вонзался столб голубого огня.
Оливье с трудом встал. Голова все еще болела, и он не мог сообразить, где находится. Оглядевшись, он увидел над крышами домов купол большого храма, блестевший в лунном свете. Направившись в эту сторону, он постепенно стал узнавать улицы и вскоре оказался перед задней стороной конторы «Тед и Жак».
Во время ходьбы он почувствовал себя немного лучше; головная боль почти прошла. Он осторожно открыл дверь своим ключом, ему не хотелось будить кого-нибудь. Его сумасшедшая гонка казалась сейчас совершенно нелепой. И вообще, зачем он вернулся? Остановившись перед лестницей, он прислушался. Стояла мертвая тишина. Все было как обычно. Он всего- навсего потерял время, разбил мотоцикл, лишился возможности оставаться в Непале. Он вел себя, как безумец. Покалечился, страшно измотал себя. Ему стало стыдно. Он совершил массу глупостей, он всегда только причинял хлопоты тем, кого любил. Ему остро хотелось прикорнуть где-нибудь и забыться. Можно было устроиться на диване в кабинете. Но перед этим он хотел взглянуть на Джейн, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Он любит ее, и она любит его; все, что он делал последнее время, он делал ради нее, просто ему нужно было немного подумать, прежде чем совершать нелепые поступки, словно вспыльчивому мальчишке. Джейн такая спокойная, такая рассудительная, она поможет ему измениться, стать другим, похожим на нее.
Несмотря на все его предосторожности, дряхлые ступеньки все же заскрипели под его ногами. Он решил сначала зайти в кабинет, чтобы взглянуть на себя в зеркало, хотя и не помнил, есть ли оно там. Нужно было хоть немного привести себя в порядок, чтобы ненароком не напугать Джейн, если она вдруг проснется. Он мог протереть лицо рубашкой, смочив ее виски.
Оливье с удивлением увидел освещенный кабинет, разложенный диван и валявшиеся на полу предметы одежды Теда — брюки, рубашку и носки. Он даже забыл, что зашел сюда в поисках зеркала.
Выйдя из кабинета, он пересек площадку и остановился, заколебавшись, перед комнатой Джейн. Потом осторожно, чтобы не разбудить девушку, открыл дверь. В комнате электричество было выключено, но в ванной горел свет, дверь в нее была приоткрыта. Света в комнате было достаточно, чтобы увидеть лежавшую на полу простыню и Джейн, распятую в постели с высоко задранной ночной рубашкой, обнажающей груди и темную ложбинку внизу живота.
Застыв на мгновение, Оливье бросился к постели с криком «Джейн!».
Его крик вывел девушку из оцепенения. Она с ужасом увидела склонившееся над ней нечетко различимое в царившем в комнате полумраке окровавленное лицо с жуткой гримасой, похожее на страшные лица непальских богов, которым полагается отпугивать демонов. Она закричала и стала звать на помощь Оливье. Юноша хотел успокоить ее, обнять, объяснить, что он и есть Оливье, но только сильнее напугал девушку. Она попыталась как можно дальше отодвинуться он него и вжалась в матрас, не сводя с кошмарного видения глаз, полных ужаса.
Внезапно свет в ванной погас. Оливье понял, что мерзавец все еще там. Он прыгнул к входной двери и прижался к стенке рядом с ней. Через окно в комнату лился призрачный свет луны и легкий предутренний ветерок слегка колебал прозрачную штору.
Глаза Оливье быстро приспособились к полутьме, и он увидел темную массу, крадущуюся к двери из комнаты. Тед не мог заметить Оливье, силуэт которого сливался с темным фоном.
У Оливье инстинктивно напряглись мышцы и сжались кулаки. Его затопила ненависть, хищная и смертоносная, подобная той, которую может испытывать тигр при виде жертвы.
Тед был совсем рядом. Оливье перестал дышать. Тед осторожно протянул руку, пытаясь нащупать дверную ручку, и в этот момент Оливье стиснул его запястье железной хваткой.
От неожиданности Тед испуганно ахнул. Оливье схватил противника второй рукой и нанес ему яростный удар коленом в пах. Свисавшие полы халата смягчили удар, но он все же оказался настолько сильным, что Тед со стоном согнулся пополам. Оливье, по-прежнему крепко державший правую руку Теда, слегка повернулся и изо всех сил ударил рукой Теда по своему выставленному вперед колену. Локоть Теда громко хрустнул, и Тед взвыл от страшной боли. Оливье схватил врага за горло и попытался задушить, но толстая шея швейцарца не позволила израненным рукам юноши сжать ее. Тед вырвался и кинулся назад в ванную. Оливье догнал его прежде, чем тот успел захлопнуть за собой дверь, сбил с ног и навалился сверху, нанося жестокие удары головой в лицо.
Перед перепуганной Джейн разыгрывалась сцена адского кошмара. По комнате, слабо подсвеченной луной, с дикими воплями метались неясные тени адских созданий. Демоны то катались по полу, то вдруг оказывались на потолке, они заполняли собой темноту и в любой момент могли наброситься на нее. Джейн удалось подняться с постели и встать на ноги, держась за стенку. Ей нужно было спасаться, бежать отсюда, бежать к свету через освещенное луной окно. Шатаясь, она сделала несколько шагов к окну и остановилась. Она больше не могла двигаться. Один из демонов с рычаньем рухнул к ее ногам. Ужас помог ей собрать последние силы; она рванулась к свету, запуталась в шторах, сорвала их, кинулась в окно, взлетела к небу.
Земля Катманду, которую животные и жители города удобряли и утаптывали на протяжении тысячелетий, ласково приняла девушку и подарила ей покой. Светлая в белоснежном саване, она казалась бабочкой, цветком, рожденным зарей, который медленно розовел в свете утра.
Ивонн, поднятая на ноги шумом и криками, взбежала вверх по лестнице. Она нажала на выключатель в тот момент, когда Джейн улетела через окно Бог весть куда, и если Он действительно справедливый судья, то она наверняка поднялась прямо к нему, чтобы воссоединиться со своим простодушным отцом, любящей матерью, влюбленным Оливье и Свеном с его гитарой. А также со всеми друзьями, всеми птицами и цветами этого мира и со всем тем, чего не способен вместить этот мир.
Мужчины в этот момент боролись на полу перед кроватью. Тед, оказавшийся сверху благодаря своему весу, придавил Оливье к полу и пытался задушить его левой рукой. Но его коротких толстых пальцев не хватало, чтобы сдавить горло. Оливье схватил его искалеченную руку и выкрутил ее. Тед испустил ужасный крик и скатился с Оливье.
Ивонн подбежала к ним и принялась пинать их ногами, выкрикивая имя Джейн. Одного взгляда на ночной столик с разложенными на ней предметами хватило ей, чтобы все понять. Тед, эта отвратительная свинья.
Услышав имя Джейн, Оливье вскочил с пола. Сочившаяся из ободранной щеки кровь стекала ему на шею и плечо. Он увидел пустую постель, сорванные шторы, распахнутое окно. Схватив за спинку стул, он с размаха нанес удар по голове встающему на ноги Теду и бросился к лестнице.
— Мерзкая свинья! — Ивонн плюнула Теду в лицо. — Дерьмо! Надеюсь, он убьет тебя!
Тед, у которого был сломан нос и рассечен лоб, никак не мог понять, что произошло. Но когда он увидел пустую постель и раскрытое окно, он задрожал.
— Она. Она свихнулась. — пробормотал он. — Она была напичкана наркотиками. Это не первый случай, когда девица в таком состоянии выпрыгивает в окно. О, Боже! Этот негодяй сломал мне руку. Вызови врача! Скорее! Позвони врачу!
Страшная боль в искалеченной руке не позволяла ему собраться с мыслями, и его речь то и дело прерывалась стонами. Подойдя к ночному столику, он все же сообразил, что ему нужно делать, и схватил шприц, чтобы спрятать его в карман. Но Ивонн тут же ударила его по бессильно повисшей руке. От острой боли он дико вскрикнул и едва не потерял сознание. Ивонн выхватила у него шприц, бросила его на столик и вытолкала ничего не соображающего Теда из комнаты, которую закрыла на ключ.
— Иди вниз, — приказала она. — А я сейчас позвоню, только не врачу, а в полицию.
Оливье склонился над Джейн. Девушка лежала с широко открытыми глазами и приоткрытым ртом. Темные струйки крови вытекли из ее правого уха и из уголка рта. Пятно крови возле ее головы постепенно увеличивалось, окрашивая в красный цвет белую штору.
Оливье не мог поверить в случившееся. Он негромко позвал: «Джейн, Джейн!» Но перед ним уже не было Джейн. Джейн превратилась в нечто изломанное, что скоро, очень скоро должно было превратиться в нечто совсем иное.
Он обнял ее за плечи и осторожно приподнял на руки. Голова девушки откинулась назад, рот открылся, превратившись в черную дыру. Закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, он прижался своей ободранной щекой к ее щеке, еще теплой щеке девушки, которую он любил, но которую теперь больше не мог любить, потому что она стала ничем, мертвым телом, на кровь которого уже слетались проснувшиеся на заре мухи.
В глубине улицы заря окрасила в розовый цвет крышу большого храма, а над ним, гораздо выше, в глубине неба сияла незыблемая вершина Горы, на которой рождался день и которая посылала на лицо Джейн белые и голубые лучи, легкие и нежные, живущие совсем недолго, пока ноги горожан не подняли в воздух облака пыли.
По обеим сторонам улицы начали открываться окна и двери; торговцы, уже направлявшиеся на рынок с грузом овощей на плечах, останавливались и с сочувствием смотрели на мертвую девушку.
Оливье опустил Джейн на землю так же осторожно, как мать опускает в колыбель уснувшего ребенка. Он не стал закрывать ей глаза. Теперь все это не имело никакого значения.
Оливье поднял глаза и увидел, что из окна второго этажа на него смотрит Тед. Возле соседнего окна стояла Ивонн. Заметив взгляд юноши, Тед отшатнулся.
Оливье неторопливо направился к дому, вошел в коридор и захлопнул за собой дверь. Перед лестницей он остановился и снял со стены кривую саблю, висевшую под головой буйвола.
Сабля оказалась неожиданно тяжелой, словно кузнечный молот, которым можно выковать ствол пушки. Поднимаясь по лестнице, он был вынужден держать ее не только за рукоятку, но и второй рукой за конец лезвия.
Тед, прислонившийся плечом к двери гостиной, поспешно повернул здоровой рукой ключ в замке. Услышав неумолимо приближающиеся по лестнице шаги, он воззвал к Оливье дрожащим голосом:
— Послушай, Оливье, ведь врач сказал, что она все равно не будет жить! Может быть, он не говорил этого тебе, но мне-то он сказал! Не будет жить! Ты слышишь? Она должна была умереть! Даже лучше, что она умерла сразу, без мучений! Ивонн позвонила врачу, он сейчас приедет. Может быть, ее еще можно спасти! Не делай из случившегося трагедии! Любую девчонку, попавшую сюда, сразу можно считать пропащей!
Звуки шагов стихли. Оливье уже был на площадке.
— Я. Да, я переспал с ней. Ну и что? Ты думаешь, я был у нее первым? Они все одинаковы! Как ты считаешь, за счет чего она жила здесь? Им же нужно чем-нибудь расплачиваться за дурь! На каждой из них побывали десятки! И не только европейцы, но даже непальцы! По крайней мере, я чище, чем они!
На площадке послышался резкий выдох «ха!»; одновременно раздался удар и половина лезвия сабли прошла сквозь дверь.
Тед громко вскрикнул и отскочил в сторону, забыв про покалеченную руку. Он огляделся. Ужас и боль стерли с его лица розовый оттенок. Оно стало зеленоватым с красными пятнами. Кровь продолжала течь из носа и глубокой раны на лбу.
Ивонн выскочила в гостиную из спальни, где стоял телефон. Она увидела, как лезвие сабли исчезло, после чего последовал новый удар и большой кусок доски отлетел к середине комнаты.
— Сейчас он тебя убьет, — злорадно прошипела она. — Он зарежет тебя, как взбесившееся животное!
Тед, придерживавший левой рукой бессильно висевшую правую и кривившийся от боли, попятился от двери. При этом он натолкнулся на стол, на котором Ивонн оставила снаряжение для сафари. Он схватил здоровой рукой обойму с восемью патронами для охоты на тигров и попытался вставить ее в магазин ружья большого калибра.
Ивонн бросилась на него, но он оттолкнул ее. Потом схватил ружье за ствол и с размаха нанес ей удар прикладом, пришедшийся в лицо. Ивонн отлетела на диван и больше не шевелилась.
Тед наконец ухитрился вставить обойму в ружье. Опустившись на стул, он положил ружье на угол стола и направил его на дверь.
Лезвие сабли в очередной раз пронзило дверь, оторвав от нее очередной кусок толстой доски из тикового дерева.
Тед выстрелил два раза подряд. Лезвие сабли, в этот момент отходившее назад, остановилось.
— Оливье, — позвал Тед, — ты слышишь меня? Ты пытался взломать дверь в мою квартиру, и у меня было право застрелить тебя. И я.
Продолжая говорить, он принялся передвигать к двери сначала один стул, затем второй.
— Не будь идиотом! Послушай, я дам тебе эти три тысячи долларов. С такими деньгами ты сможешь начать жизнь где захочешь.
Сев на один стул, он положил ствол ружья на спинку второго, стоявшего вплотную к двери. Теперь дуло ружья находилось в нескольких сантиметрах от двери, и он мог стрелять в упор.
Лезвие сабли шевельнулось и начало медленно отступать. Голос Теда задрожал, и он торопливо забормотал:
— Не дури, Оливье! У тебя много знакомых парней твоего возраста, у которых есть три тысячи? Ты начнешь потрясающую жизнь! Отбоя не будет от девчонок! И это будут не проститутки, не наркоманки! Перестань, Оливье! Если ты не остановишься, я пристрелю тебя!
Лезвие сабли исчезло за дверью. Наступила тишина, продолжавшаяся секунду. Или вечность.
— Господи, да скажи ты хоть что-нибудь! — взмолился Тед.
Сабля, нанесшая удар по горизонтали, вышибла дверную створку, рухнувшую со страшным грохотом.
Выстрел прогремел через мгновение после того, как сабля снесла дверь.
Ружье упало на пол. У Теда еще нашлись силы, чтобы встать. Из страшной раны на животе струилась кровь. Он обернулся и увидел перед собой Ивонн, неловко державшую обеими руками громадный револьвер, пуля из которого попала Теду в поясницу. Она снова нажала на спусковой крючок и продолжала нажимать, пока не опустел магазин. Пули, вырывавшие куски плоти из спины Теда, отбросили его к стене, где он некоторое время стоял, словно пригвожденный. Через несколько секунд он рухнул лицом вперед.
Оливье прошел сквозь дверной проем. Его лицо было залито кровью. Кровь текла тонкой струйкой и из груди, пробитой пулей из ружья Теда. Передвигаясь с огромным усилием, он медленно приблизился к телу, распростертому на полу. Собрав последние силы, он поднял обеими руками саблю, держа ее вертикально, и замер на мгновение в позе священнослужителя, совершающего жертвоприношение. В этот момент силы полностью оставили его. Он упал на колени; его руки не удержали тяжелую саблю, и она вонзилась в пол в нескольких сантиметрах от шеи Теда.
Чувствуя, что сознание вот-вот покинет его, Оливье ухватился обеими руками за рукоять сабли и опустил на руки голову. В этой позе он походил на статую молящегося рыцаря.
Ослепительная вспышка света ворвалась в комнату через окна, запульсировала и погасла, оставив после себя день, поблекший до уровня ночи. Оглушительный грохот сотряс здание. Горы подхватили грохот и принялись перебрасывать его от ближнего до дальнего конца долины, по которой он прокатывался туда и обратно, словно армада взбесившихся танков.
Последовала вторая вспышка, за ней другие со все нарастающей частотой, и раскаты грома слились в непрерывный грохот с оглушительными пароксизмами и почти тихим рокотом в промежутках.
Каждый раз, когда небо раскалывалось на куски, тело Оливье сотрясала дрожь, рождавшаяся глубоко внутри него. Тело, готовое прийти в себя, боролось с сознанием, старавшимся как можно дальше отложить момент пробуждения и возвращение воспоминаний.
Лицо и грудь юноши были скрыты под бинтами. Остальные части тела, за исключением ног, прикрытых легкой простыней, оставались обнаженными. Их усеивали крупные капли пота.
Стоявший у изголовья Жак с тревогой смотрел на сына. Он появился вовремя, чтобы дать свою кровь для переливания. Врач-непалец сказал, что Оливье должен скоро очнуться, потому что ему ввели совсем немного анестезирующего состава. Жак потел почти так же сильно, как и Оливье. Его слегка подташнивало и немного кружилась голова то ли от большой потери крови, то ли от отвратительного запаха эфира, заполнявшего все помещения больницы.
Оливье был единственным европейцем в больнице, и поэтому для него была выделена отдельная палата. В других палатах лежали местные жители, которые не стали ожидать в своих хижинах избавления от болезни любым образом, то ли при излечении, то ли от смерти. Они предпочли отдать судьбу в чужие руки. Среди них преобладала молодежь, более восприимчивая к переменам и научившаяся, благодаря влиянию Запада, испытывать страдания и бояться смерти.
Одновременно со вспышкой раздался оглушительный удар грома. Казалось, что столкнувшиеся земля и небо раскалываются и рушатся. Сразу же после этого огромный равномерный шум опустился на город, приглушив непрекращающиеся удары грома и заполнив собой всю долину. Это был дождь. Капли дождя достигали размеров вишни или даже сливы, и все боги, собравшиеся вместе, не смогли бы сосчитать их. Упав на землю, капли взрывались, словно маленькие снаряды, разбрасывая грязь и размывая почву; мгновенно рождавшиеся бурные потоки сносили в ручьи и реки все, что накопилось за год: пыль, отбросы и экскременты. Эти потоки, захватывавшие по пути неосторожных людей и животных, создавали ил, на котором созревали самые замечательные фрукты и овощи.
Великое спокойствие, заполнившее палату, заставило расслабиться напряженные мышцы, успокоило нервы, проводники боли. Оливье перестал дрожать и открыл глаза. Он слышал шум дождя и доносившийся откуда-то издалека приглушенный гнев туч. Он увидел, хотя и очень нечетко, склонившееся над ним лицо, и память вернулась к нему раньше, чем он понял, что это лицо отца.
Жак негромко спросил его о самочувствии. Оливье не ответил. Мир перед его глазами оставался туманным, но в его голове сразу же, как только он пришел в себя, появились четкие картины. Он всматривался в них, он узнавал их, и его охватил ужас.
Он закрыл глаза, но образы, находившиеся в его голове, не пропали, и он знал, что это не остатки кошмара. Все это было в действительности, было. Джейн, распятая в своей постели, Джейн, распластавшаяся на земле с приоткрытым ртом и струйкой крови на губах. Это было реальностью, это действительно произошло, и ничто не могло сделать так, чтобы это не стало навсегда случившимся.
Он опять открыл глаза, увидел потолок над собой и лицо отца. Он попытался говорить; получилось у него не сразу, но все же он смог спросить:
— Это правда?
Жак понял, что он имел в виду, и кивнул несколько раз подряд, охваченный бесконечной жалостью. Да, это было правдой.
Оливье попытался найти спасение в бессознательности и горячке, но даже в этом состоянии он постоянно сталкивался с невыносимой правдой в преувеличенном, уродливом виде. Несколько дней и ночей он боролся с этой правдой.
На Катманду непрерывно лил дождь, затоплявший и промывавший город. Его обитатели открыли для себя зонтик одновременно с колесом. На улицах города над реками желтой грязи возникли реки черных зонтиков. Дети голышом носились под дождем с криками и смехом; они поднимали лица к небу и жадно пили благотворную влагу. Коровы, собаки, все животные купались в потоках, вылизывали себя, терлись боками о статуи богов. Множество воронов с оперением табачного цвета собралось на крыше большого храма, и дождевая вода стекала по их перьям, не смачивая их. Они хором каркали, выражая таким образом радость и удовольствие. Дождь омывал лики бесчисленных божеств, удаляя с них краску. Скоро они будут выглядеть как новые и будут готовы к новым приношениям. В плодородной земле долины набухали зерна и проклевывались молодые побеги.
Когда Оливье исчерпал все силы, он стал спать спокойно. Он перестал бороться с очевидным и принял истину как данное. Температура у него спала, раны затянулись. Выступавшие под кожей кости скрылись под наросшими мышцами. Он даже смог время от времени беседовать с отцом, навещавшим его утром и вечером, но никогда не возвращался к событиям той трагической ночи. В его глазах что-то бесповоротно угасло. Сейчас они походили на драгоценный жемчуг, который долгое время никто не носил. Про такой жемчуг говорят, что он умер.
Как только состояние Оливье позволило, Жак перевез его в свою квартиру на втором этаже старинного дома. Перед этим он нанял рабочих, которые вставили стекла, постелили в комнатах ковры, развесили на стенах охотничьи трофеи и замечательные картины старых местных мастеров, изображавших похождения непальских богов. Кровати были изготовлены по местному обычаю, то есть матрацы лежали прямо на полу, на тигровых шкурах, простыни были из индийского шелка, а покрывала из тибетской шерсти. Непалец с постоянной улыбкой на лице занимался кухней на плите, топившейся дровами.
На третий день после переезда Оливье смог встать, но не только не вышел на улицу, но даже не стал подходить к окну. Весь день он просидел в кресле, слушая неумолкающий шум дождя и непрерывные раскаты грома в отдалении, с трудом пробивавшиеся к земле через стену дождевых струй.
Вернувшемуся вечером отцу Оливье сказал, что хочет как можно скорее уехать. Жак попытался удержать его, потому что Оливье был еще слишком слаб, но тот стоял на своем.
Они сидели перед камином, в котором горели поленья из какого-то дерева с ароматной древесиной. За их спинами молчаливый босоногий слуга-непалец расставлял на столе глиняные горшочки с мясом, долго томившимся на медленном огне.
Жак рассказал Оливье все, что произошло после того, как он упал на колени перед лежавшим на полу Тедом со свернутой набок головой и разорванной пулями спиной. Ивонн удалось без труда доказать, благодаря шкатулке с наркотиком и шприцу, а также исследованию тела Джейн, что Тед обманом одурманил ее, прежде чем надругался над ней.
— Прости меня, я не должен был говорить тебе об этом, но ты и так представляешь себе случившееся. Полицейские поняли, что ты действовал, восстанавливая справедливость и что Ивонн выстрелила в Теда в тот момент, когда он хотел убить тебя. Виноватых здесь не было. Точнее, виновником стал убитый. Но криминальные истории с европейцами давно стали раздражать местные власти; они не хотят, чтобы мы улаживали таким образом свои дела. Поэтому они сразу же выслали Ивонн из Непала. У бедняги даже не зажил лоб, рассеченный прикладом. А тебя они тоже хотели выслать, как только ты будешь в состоянии вынести путешествие. К счастью, мне удалось убедить хороших знакомых из полиции изменить это решение. Это удалось мне не сразу, и не столько из-за Теда, сколько из-за коровы. Тебе сильно повезло, что она осталась в живых после столкновения с мотоциклом. В конце концов мне сказали, что ты можешь остаться. Кстати, я теперь являюсь единственным владельцем фирмы. Когда я открыл сейф, он оказался набит долларами. Похоже, мерзавец торговал не только статуями. Он наверняка имел дело с героином. Ты останешься со мной, и мы вместе развернем потрясающее дело. Тед был никуда не годным менеджером, у него не хватало размаха. Конечно, Ивонн ждет меня во Франции, на своем свекольном поле. Но у нас с ней не было ничего серьезного. Признаюсь, я люблю ее, но уезжать отсюда. Ты понимаешь меня? Чтобы я стал заниматься свеклой! У нее все сложилась очень удачно, она увезла с собой все драгоценности, их набралось полный чемодан. Угадай, где я нашел шифр для сейфа? В записной книжке Теда! На букву «с», на слово «сейф». Он оказался не таким уж хитрецом. А Ивонн быстро утешится, она еще неплохо сохранилась. Но между нами не было ничего серьезного. Просто мне нужен был товарищ, близкое существо. Ну как, ты согласен? Будешь работать со мной?
Жак говорил без остановки. Сначала Оливье смотрел на отца, потом отвернулся и уставился на огонь в камине. Слова сливались для него с шумом дождя и раскатами грома, и все эти звуки не имели никакого значения, они были бессмысленными и бесполезными.
Когда Жак остановился, чтобы перевести дух, Оливье негромко спросил:
— Джейн. Что они с ней сделали?
Жак, собиравшийся продолжить изложение своих планов, замолчал. Он понял, что все сказанное им было сказано напрасно. Через несколько мгновений он пробормотал:
— Ее сожгли.
В камине затрещало полено, выбросив фонтан искр. Оливье вспомнил Свена, лежащего не костре, Джейн, свернувшуюся калачиком в нескольких шагах от огня, и бродягу, прошедшего через два мира.
Никто никогда никому не помогает.
Никто.
Он повернулся к отцу, бросив на него взгляд, как будто вернувшийся к нему с детских лет.
— Что это может значить? Все это? Почему? Зачем мы живем?
Ведь отец должен знать ответ на любой вопрос. Но на эти вопросы Жак не смог ответить. Он только пожал плечами и тяжело вздохнул.
Вся долина Ганга была под водой. После шестимесячной засухи свирепый муссон раскрыл над страной небесные шлюзы. Вода заливала деревни, одну за другой; прежде всего тонули домашние животные, потом вода размывала глинобитные стены хижин, и те рушились, и тогда тонули крестьяне, обезьяны и куры, пытавшиеся найти убежище на крышах. Вода уносила в желтых водоворотах трупы людей и животных вместе с вырванными с корнем деревьями и разным мусором. Грифы-падальщики, усеявшие, подобно черным плодам, редкие выступавшие над водой деревья, время от времени садились на проплывавшую мимо тушу и терзали ее, поспешно взлетая, если она переворачивалась.
Оливье шагал под дождем по залитой водой тропе. Он вылетал из Катманду с билетом до Парижа. При прощании отец напомнил ему, что в университете скоро начнутся занятия и он должен продолжить учебу. Было бы ошибкой оставить университет; он может считать, что всего лишь провел довольно бурные летние каникулы. Но эта шутка смутила самого Жака. После непродолжительного молчания он спросил с тревогой:
— Мы еще увидимся?
Оливье едва заметно усмехнулся.
— Конечно.
Но ни тот, ни другой не были уверены, что так оно и будет.
Оливье отказался от денег, которые хотел дать ему отец. Жак сказал:
— Ты приехал сюда, чтобы потребовать у меня тридцать миллионов, а сейчас отказываешься, потому что я могу предложить тебе только три?
Оливье промолчал. Жак сунул деньги в карман, пообещав отправить их Мартин, матери, Ивонн, кому угодно. Не вызывало сомнения, что очень скоро он снова окажется без гроша в кармане. И тогда он отправится искать новые ничего не дающие ему приключения. Или, может быть, займется свеклой. Несмотря на хорошо сохранившуюся внешность, он был уже не молод, и знал это.
Оливье взял у отца деньги на билет до Парижа, а также небольшую сумму на дорогу. Он не хотел отказываться и спорить. Да и что он мог сказать отцу? Только то, что тот и сам знал. Ему казалось, что слова превратились в пустые фальшивые звуки. Ни одно из них не сохранило свой первоначальный подлинный смысл.
Но когда отец в последний раз обнял его в аэропорту, он уже знал, что не доберется до Парижа.
Когда самолет совершил посадку в Дели, он вышел под дождь из здания аэропорта. Наняв джип, он сумел объяснить водителю, что ему нужно в Талнах. Тот не представлял, где находится эта деревня. Тем не менее он отправился в путь. Ему пришлось то и дело останавливаться, чтобы расспросить о дороге полицейского, бродячего торговца или портье из отеля. Никто даже не слышал названия деревни. Наконец он кое-что разузнал на автовокзале. Полученные сведения напугали его; он попытался объяснить Оливье, что деревня расположена на равнине, затопленной паводком, и проехать туда невозможно. Оливье не понял, что говорит ему шофер, и решил, что тот требует еще денег. И он отдал ему все, что у него было с собой. Шофер поблагодарил Оливье, сложив на груди руки лодочкой, сел за руль и двинулся в путь. Дождь обрушивался на кузов с барабанным грохотом; вода проникала внутрь через самые незаметные щели. Таким образом, дождь господствовал как снаружи, так и внутри джипа. После многих часов пути они остановились на краю бескрайнего водного пространства. Только насыпь, по которой проходила дорога, еще едва выступала над водой. Слева, справа, спереди и сверху, до самых туч, простирался мир воды. Шофер продолжал продвигаться вперед до тех пор, пока дорога не исчезла под водой. Он отказался ехать дальше. Оливье вылез из джипа и двинулся дальше пешком. Водитель некоторое время смотрел ему вслед, пока он не скрылся за завесой дождя. Потом тронулся в обратный путь, двигаясь задним ходом, потому что на узкой полоске дороги не мог развернуться.
Дождь падал с неба, чтобы затопить то, что должно было быть затоплено, чтобы отмыть то, что могло принять облик нового и заставить распуститься то, что должно было родиться. Оливье шагал сквозь падавшую сверху воду и внутренним взором видел взгляд ребенка, ожидавшего от него то, что он когда-то не смог ему дать.
Дождь проникал в него через волосы, заливал лицо, образуя завесу перед глазами, стучал по плечам, пронизывая насквозь одежду, сплошным потоком струился по телу, сливаясь, наконец, с неторопливыми желтыми водами, кружившимися в медленных водоворотах и продолжавшими подниматься.
Оливье шел прямо, никуда не сворачивая. Он знал, что именно так дорога идет по равнине, и если он собьется с нее, то неизбежно утонет. Он шел к образу доверчивого ребенка, устроившегося у него на коленях и уснувшего. А он отодвинул ребенка от себя, чтобы уйти.
Он шел все медленнее и медленнее, потому что вода поднималась все выше и выше. Но ему это было безразлично. Он знал, что придет, когда закончится путь. Он бросил рюкзак, мешавший ему, потому что больше ни в чем не нуждался. В чудовищной массе облаков над ним непрерывно грохотал гром, словно голос богов, беседовавших друг с другом в бесконечном пространстве.
Скоро Оливье осознал, что оказался обнаженным. Вода, стекавшая по телу, и вода, по которой он продвигался вперед, освободили его не только от одежды, но и от прошлого, от страданий. Обнаженный ребенок шел перед ним, улыбаясь и то и дело протягивая к нему сложенные вместе ладони, словно чашу наполненную водой. Он должен был догнать его и принять это подношение, этот драгоценный дар. Он был не один. С ним рядом шла Джейн, тоже обнаженная, как и он, шли мать, отец, Карло, Матильда, даже полицейские. Все они шли вместе с ним сквозь падавшую с неба воду, обнаженные и избавленные от малейшей лжи.
Когда начало темнеть, он разглядел на горизонте небольшой холм, возвышавшийся над водой, даже не холм, а зародыш холма, надежду на возвышенность, на которой крестьяне соорудили свои жалкие хижины. Он понял, что это и был Палнах, и что его жители, мужчины, женщины и дети, продолжали бороться, чтобы спасти свои колодцы, свой скот, свои хижины и свои жизни с помощью Патрика или какого-нибудь другого европейца. Или вообще без посторонней помощи.
Продвигаясь вперед все медленнее, со все большим трудом, собрав в кулак всю волю, все оставшиеся силы, пробиваясь сквозь толщу дождя, заполнявшего все пространство между небом и землей, он задавался вопросом: найдет ли он в конце залитой водой дороги на еще выступающем из воды холме, где небольшая кучка людей продолжала бороться за свою жизнь, ответ на вопрос, который он задал отцу:
— Зачем мы живем?
Перевод с французского Игоря Найденкова.