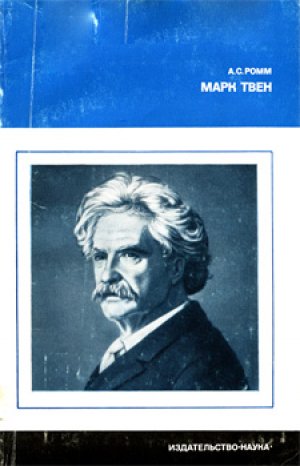
Введение
Творчество великого сатирика Марка Твена представляет собою одну из вершин в развитии американской и мировой литературы XIX столетия.
Кровно связанный с американским народом, он стал выразителем его чаяний и стремлений, найдя в них естественное продолжение демократических традиций своей страны. Верность этим традициям, воспринятым сквозь живую реальность народной жизни, дала писателю-демократу критерий для выявления истинной сущности господствующих социальных установлений, помогла произвести решающий переворот в американской литературе, в результате которого она обрела черты подлинной национальной самобытности.
Новаторство Твена, однако, не означало его разрыва с лучшими традициями литературного прошлого. При всей своей идейной и художественной новизне, его открытия исподволь подготавливались всем предшествующим развитием демократической мысли США. Поэтому его путь, пролегавший как бы в стороне от столбовой дороги американского искусства первой половины XIX в., неизбежно должен был скреститься с путями его предшественников. Точкой их пересечения стала единая большая тема, в русле которой двигалось передовое искусство Америки. Тему эту, издавна составлявшую центр притяжения прогрессивной мысли США, в самой общей форме можно было бы определить как тему противоречий буржуазной цивилизации, пришедшей в неразрешимый конфликт со своей жизненной народной основой. Разумеется, внутреннее содержание этой проблемы далеко выходит за рамки истории одной страны. Но американские мыслители и художники внесли свой вклад в ее разработку — этим в известной мере и определилось место литературы США в мировом литературном процессе.
В движении этой темы отразилась трагедия американской демократии во всех ее многочисленных драматических перипетиях. Трагедия эта возникла вместе с образованием США, и ее зачатки таились уже в войне за независимость.
Война за независимость конца XVIII в. заложила первоосновы революционной традиции, сохранившей свою жизненную силу на всем протяжении истории США. «В американском народе, — писал Ленин, — есть революционная традиция… Эта традиция — война за освобождение против англичан в XVIII веке, затем гражданская война в XIX веке»[1].
Но при всей значительности своей освободительной роли американская революция не осуществила да и не могла осуществить возлагавшихся на нее надежд. Как всякая буржуазная революция, она обещала более того, что способна была выполнить, и это противоречие между идеалами и действительностью во многом определило пути развития американской мысли.
Идеалы революции нашли отражение в трудах «отцов» американской демократии — Франклина, Джефферсона, Пейна и в тех документах, которые явились их политическим экстрактом — Декларации независимости и Конституции США. «Гуманные идеалы Декларации, — пишет Паррингтон, — всегда пробуждали живой отклик в сердцах тех, кто мечтал об Америке, отстаивающей дело демократии. Их нельзя было на долгое время забывать, нельзя было начисто их отвергнуть, ибо рано или поздно влияние этих идеалов с новой силой начинало сказываться на повседневной политической жизни страны»[2].
Но их влияние не ограничивалось сферой политики. Политическая доктрина революции имела и особую нравственно-философскую сторону, непосредственно восходившую к своим просветительским первоистокам. С этим связана особая жизнеустойчивость некоторых идей американского Просвещения, прочно вошедших в обиход демократической мысли США и получивших в нем долгую жизнь, пределы которой не ограничены рамками XIX столетия. Одной из них была идея «естественного человека» и его самой природой санкционированных прав, призванных служить основой общественных установлений.
Этот общий гуманистический идеал Просвещения, казалось, обрел в Америке реальную почву для своего жизненного воплощения. Общей задачей американского народа, согласно Декларации, являлось «разрушение политических цепей… и установление… порядка, предопределенного законами природы и создавшего ее бога». Отцам американской демократии создаваемое ими государство представлялось как общественным, так и природным установлением. Вырабатывая его законы, они свято верили в их соответствие человеческой природе. Веру эту несомненно разделяли и широкие народные массы. Можно предполагать, что она находила опору и в некоторых особенностях, их мироощущения, сложившихся под воздействием особых исторических условий. Разрушив «политические цепи», а вместе с ними, как казалось, и власть европейских традиций, они были преисполнены готовности начать историю сначала. Америка, молодая, еще не полностью обжитая страна, представлялась им целиной, на которой могли взойти новые «посевы» истории. Ведь здесь, по-видимому, были все условия для осуществления этой задачи: щедрая, нетронутая природа, огромные пространства еще не заселенных земель и столь же многообещающие, нерастраченные человеческие ресурсы. Иллюзия исторической неповторимости и новизны рождающегося молодого государства распространялась и на его граждан. Она укрепляла в них сознание их исключительности и неповторимости.
Человек, начинающий строить жизнь в изоляции от всего предшествующего опыта истории, мог ощущать себя неким, только что сотворенным Адамом[3], в первозданной «невинности» которого таились возможности еще невиданных творческих свершений.
Так, рядом с общественным идеалом и в тесном взаимодействии с ним формировалась и идеализированная концепция национального характера. Общество, возникающее на основе законов природы, получало опору в лице природного, «естественного человека», усовершенствованным и улучшенным образцом которого должен был стать каждый «истинный американец». Этот формирующийся комплекс американизма с его наивной и философски примитивной идеей «невинности» как национально-характерного, специфически «местного» состояния человеческой личности «органично увязывался со всем каноном буржуазно-демократических иллюзий»[4]. Укрепляя их, он в то же время потенциально подводил базу и под индивидуалистические устремления рождающегося общества свободной конкуренции. С этим связана и двойственность его исторической роли. Став элементом «американской мечты», американизированная просветительская утопия разделила ее (в целом, трагическую) судьбу. В ходе истории она постепенно перерождалась в философию буржуазного индивидуализма[5] и прагматизма, продолжая одновременно свою жизнь и в формах, близких к первоначальным. Ее связь с идеалами американской демократии, оплотом которой служила революционная традиция США, не прерывалась до конца. Рожденная под знаком освободительного движения конца XVIII в., концепция личности и государства, не теряя своей просветительской окраски, становилась точкой отсчета для измерения дистанции между мечтой Америки и ее реальной действительностью. А дистанция эта неуклонно увеличивалась. Гармонический союз бога, человека и природы распался уже при первом соприкосновении с жизненной реальностью. «Бог» оказался системой деспотических пуританских запретов, «человек» — буржуазным собственником, а «природа» — объектом его хищнической деятельности.
Попытки насаждения «совершенной» цивилизации в США сразу же привели ее к необычайно острому конфликту с природой. Жизненная конкретность и наглядность этой глубоко трагической коллизии поистине не имела параллелей в европейской истории XIX в. (а соответственно и в мировой литературе).
Американский Адам не ограничился истреблением тысячелетних лесов своего первооткрытого Эдема. Он вступил в яростную борьбу с теми народами, которые в просветительской и политической литературе Европы обычно фигурировали в качестве классической нормы естественности. Индейцы и негры, еще не изжившие своих патриархальных традиций, в Америке являлись не поэтически отвлеченными абстракциями, а вполне реальными жертвами ее цивилизации. Они изгонялись из своих законных убежищ, западных прерий и джунглей Африки, их истребляли в резервациях, ими торговали на невольничьих рынках, их истязали на плантациях Юга.
Весь ход развития американской цивилизации приводил передовую мысль Америки к осознанию руссоистского конфликта «природа и цивилизация». Немудрено, что эта проблема заняла важное место в национальном искусстве и ее влияние отнюдь не ограничивалось пределами одной романтической эпохи[6]. Конфликт «природа и цивилизация» стал постоянной темой литературы США и, претерпев множество трансформаций, превратился в один из ее внутренних стержневых мотивов[7]. Истоки его можно обнаружить уже у Фенимора Купера. Образы его романтических индейцев, безжалостно истребляемых их «бледнолицыми» завоевателями, — красноречивое свидетельство тех невозместимых нравственных потерь, которые являются неизбежными спутниками победного шествия буржуазной цивилизации. В ходе дальнейшего развития американской литературы куперовская традиция, став одним из характерных ответвлений национальной, обогатилась множеством новых оттенков. Преемниками куперовских «детей природы» оказались и таитяне Германа Мелвилла, и индейцы Джека Лондона. Параллельно с куперовскои трактовкой темы существовали и другие пути ее решения. Отнюдь не теряя своей жизненной остроты, проблема издержек прогресса постепенно освобождалась от географической и этнографической экзотики. Антиприродная сущность буржуазной цивилизации, ее разрушительное воздействие на внутренний мир человека, ее несовместимость с естественными движениями человеческой души прослеживались на примере судьбы рядового американца.
В творчестве таких писателей, как Натаниель Готорн и Эдгар По, проблема «цивилизация и природа» по существу перерастает в еще более широкую проблему — «цивилизация и жизнь». Цивилизация становится у них орудием удушения живой жизни, тормозом в ее развитии, и их произведения фиксируют разные стороны этого процесса. Если в романах и рассказах Готорна средством умерщвления жизненных импульсов является бездушная пуританская мораль, то у Эдгара По в такой роли выступает вся система отношений цивилизованного общества. Рационалистически упорядоченный, технифицированный и математизированный буржуазный мир в его произведениях оборачивается царством безумия и смерти, в котором негде приютиться жизни даже в самых скромных и непритязательных ее проявлениях.
Обобщающее выражение всех этих разнородных мотивов, представляющих различные грани единой темы, дают труды трансценденталистов, где руссоистская антитеза выступает в виде целостной нравственной философии. Подобный взрыв руссоизма происходит в творчестве Р. У. Эмерсона и особенно Г. Торо. В его очерке «Уолден, или Жизнь в лесу» антитеза «природа и цивилизация» как бы возродилась в своей первозданной руссоистской наготе. Вслед за великим просветителем Торо зовет современных людей к возвращению к природе, видя в ней единственный источник нравственного здоровья, приобщение к которому может исцелить раны, нанесенные цивилизацией.
Но при всей видимой близости к руссоистскому первоисточнику Эмерсон и Торо во многом пошли значительно дальше предшественника, внеся в свое учение акценты, продиктованные развитием мировой и национальной истории. Глубоко раскрыв собственническую основу буржуазной цивилизации, они показали, что импульс стяжательства враждебен не только нравственности, но и самой жизни человеческого духа. Его растлевающее воздействие уничтожает и давит все проявления внутренней самостоятельности личности, превращая человека в безликое существо, неотличимое от миллионов ему подобных. В произведениях Торо, а в значительной степени и Эмерсона американская цивилизация уже начинает приобретать облик зловещего разрушительного механизма, соприкосновение с которым гибельно для всего живого. Ракурс национальной темы, найденный ими, получил реалистическое раскрытие у Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, и каждый из этих великих мастеров американского искусства внес свою лепту в его разработку. В их творчестве буржуазная цивилизация предстала в виде бездушной машины социального угнетения.
Но для того чтобы писатели XX в. осознали эту истину и попытались истолковать ее в социально-исторических категориях, в американскую литературу должен был прийти Марк Твен — художник, преобразовавший национальную традицию на новой, реалистической и последовательно демократической основе. Трагедия буржуазной цивилизации в его истолковании стала не только национальной, но и социальной трагедией. С решительностью подлинного новатора он повернул эту тему в глубь Америки. Трещина, расколовшая «жизнь» и «цивилизацию», прошла сквозь самое сердце страны, разделив ее пополам. По одну сторону этой черты оказалось общество «цивилизованных» и «добропорядочных» собственников, по другую — весь американский народ. Реальными жертвами американской цивилизации в изображении Твена стали американские труженики, и именно с их позиций он произвел смотр ее достижениям.
Переключить национальную тему в эту новую плоскость ему помогли события американской истории. Его творчество, возникшее на стыке двух эпох, отразило процесс развития революционной традиции, ее перерастания в новые социально-политические формы. Продолжением и завершением первой американской революции стала гражданская война 60-х годов. По своим задачам и целям гражданская война была освободительным движением, проходившим под благородным лозунгом отмены рабства и положившим конец рабовладению — самому гнусному установлению южных штатов. В «Письме к американским рабочим» В. И. Ленин отметил ее «величайшее всемирно-историческое значение». «…Свержение рабства негров, — писал он, — свержение власти рабовладельцев стоило того, чтобы вся страна прошла через долгие годы гражданской войны, бездны разорения, разрушений, террора…»[8]. Движение против рабства приняло широкий, массовый характер. Все передовые люди страны стали под знамена Севера. Поднимая оружие против южан, северные промышленники руководствовались прежде всего соображениями собственной выгоды. Они боролись за единый путь хозяйственного и экономического развития США. Но в этой борьбе их союзниками стали широкие народные массы Америки, ополчившиеся на рабство во имя высоких идеалов демократии и гуманности, и именно им принадлежала решающая роль в революционных событиях 60-х годов XIX в. Всем этим и определялись сдвиги, происшедшие в духовной жизни Америки. Весь ход национальной истории возвращал передовую мысль страны к ее демократическим первоистокам. Гражданская война возродила веру в реальность «американской мечты» — в возможность установления общественного порядка, способного обеспечить личности свободу для выявления своих творческих потенций и сделать эту личность одновременно целью и средством создания высокоразвитой гармонической цивилизации. Возникновение этой цивилизации, казалось, было не только задачей истории, но и ее свершившимся фактом. Доказательством этому служили демократические завоевания 60-х годов. Отмена рабства, ликвидация конфликта между Югом и Севером, невиданные еще достижения науки и техники — все это являлось почвой, питавшей национальные иллюзии. Но расцвет их был недолгим. Возросшие в атмосфере послевоенного времени, они были развеяны дальнейшим ходом истории. Высокий уровень индустриального развития США с особой наглядностью выявил одну из важнейших закономерностей мирового исторического процесса, четко сформулированную Лениным: «Гигантский прогресс техники… колоссальный рост капитала и банков сделали то, что капитализм дозрел и перезрел. Он стал реакционнейшей задержкой человеческого развития»[9].
Никто из художников Америки XIX в. не раскрыл с такой реалистической глубиной несовместимость буржуазной цивилизации с интересами народа и с потребностями его жизненного развития, как Твен — этот подлинно народный писатель. В его произведениях, отразивших эволюцию общественной мысли Америки в период, последовавший за гражданской войной 1861–1865 гг., «американская мечта» проделала свой трагический путь «от восхода к закату». Проследить этот путь на его важнейших этапах является задачей настоящей книги. Она не носит биографического характера. Ее цель заключается в том, чтобы показать, как углубившийся разлад между идеалами писателя-демократа (в их социально-критическом и нравственно-философском просветительски-руссоистском аспекте) и складывавшейся в США реальной действительностью постепенно привел Твена-юмориста к пессимизму и горькой сатире. Автор книги надеется, что избранный им угол зрения поможет ему внести некоторые дополнительные штрихи в характеристику художественного мира Твена, разработанную советскими исследователями его творчества М. О. Мендельсоном, М. Н. Бобровой, А. И. Старцевым, А. К. Савуренок и др. В соответствии с этим в центре внимания данной работы оказываются не все, а лишь наиболее значительные произведения писателя, прочтение которых диктуется самим характером авторского замысла.
Начало пути. Литературная позиция Марка Твена
Творческая жизнь Твена началась в переломный момент истории США, когда страна, едва оправившаяся от революционных потрясений 1861–1865 гг., только начинала осмыслять их подлинное значение. Писатель Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, пришедший в литературу под именем Марка Твена, как и большинство его соотечественников, разделял их надежды на светлое будущее Америки и, подобно им, верил в исключительность ее исторической судьбы. К восприятию этих оптимистических верований, входивших в комплекс «американизма», Твен был подготовлен всем своим жизненным опытом. Выходец из народной среды, он являл собою тип писателя, в дальнейшем укоренившийся в американской литературе, но на данной стадии американской литературной жизни воспринимавшийся как отступление от общего правила. Не многие из художников Америки XIX в. могли похвастаться столь богатым и разнообразным трудовым опытом, как буйный юморист Запада, к моменту своего вступления в литературу уже успевший исколесить широкие пространства Запада и испробовать свои силы в самых различных видах деятельности.
Детство и юность писателя падают на 40-е годы XIX в. — период, который буржуазные историки любят называть «классической эпохой» американской демократии. В то время Америка казалась «страной неограниченных возможностей».
В представлении европейцев Америка в 40-х годах еще продолжала оставаться «демократическим раем», страной «равных для всех возможностей» — молодым, энергичным, свободным миром, на юношеском теле которого не было язв и увечий Старого Света.
В 40-х годах конфликт между Севером и Югом еще не принял те непримиримо острые формы, какие он приобрел в дальнейшем ходе исторического развития. Противники тогда еще только начинали набирать силы для пред стоящей схватки. Правда, смутные призраки грядущих бурь уже омрачали «безмятежное» небо «страны свободы». В разных ее концах раздавались негодующие голоса аболиционистов — противников рабства. Гариссон — вождь аболиционистов — уже опубликовал свои статьи, а скромная учительница Бичер-Стоу вынашивала замысел своей будущей книги «Хижина дяди Тома».
Но в глухих, захолустных углах провинциальной Америки биение лихорадочного пульса американской жизни ощущалось не столь отчетливо, как в промышленных и государственных центрах США. Маленькие города, расположенные поблизости от фронтира (граница, отделяющая неосвоенные земли от обжитых), были одинаково далеки и от плантаций Юга, и от фабрик Севера — политические бури обходили их стороной.
Одним из таких патриархальных уголков Америки и являлся город Ганнибал, в котором прошли детские годы Марка Твена. Он был расположен на самом фронтире. К западу от него тянулись огромные пространства незаселенных земель. За вечно передвигающимся фронтиром непрерывно сновали пестрые толпы переселенцев. Усталые, обожженные солнцем, запыленные, они съезжались со всех концов Нового Света и двигались в глубь страны, прокладывая себе дорогу среди лесов и прерий Запада. Ганнибал в 40-х годах еще только начинал заселяться.
Будущему писателю было около четырех лет, когда его отец Джон Маршал Клеменс избрал Ганнибал постоянным местом жительства для себя и своего многочисленного семейства. До того как поселиться здесь, семья Клеменсов, подобно множеству других переселенцев, скиталась по стране в поисках счастья. Несколько лет Клеменсы провели в небольшой деревушке Флориде штата Миссури, Здесь в 1835 г. и родился Сэмюэль Клеменс.
«В деревушке было сто человек жителей, и я увеличил население ровно на один процент. Не каждый исторический деятель может похвастаться, что сделал больше для своего родного города», — пишет Твен в «Автобиографии»[10].
Тихая, застойная жизнь Флориды была не по душе энергичному, предприимчивому Джону Маршалу. Ганнибал, расположенный на берегу Миссисипи — огромной судоходной реки, сулил, как казалось ему, более заманчивые перспективы. Этот маленький городок не оправдал надежд мистера Клеменса. Но для его сына Сэмюэля Ганнибал стал источником тех жизненных впечатлений, которые впоследствии сыграли такую огромную роль в его творческой жизни. Здесь вместе со своими сверстниками он проводил время в играх и проказах, купался в Миссисипи, обманывал учителей воскресной школы, бродил в пещерах, расположенных неподалеку от города. Здесь, в толпе босоногих мальчишек, наводнявших узкие улички Ганнибала, он впервые встретил прототипов своих будущих героев — Тома Сойера, Гекльберри Финна, Джо Гарпера. Был в Ганнибале и Индеец Джо, и однажды он чуть не погиб от голода, заблудившись в одной из пещер. «В книге, которая называется «Том Сойер», — пишет Марк Твен в «Автобиографии», — я заморил его до смерти в пещере, но единственно в интересах искусства — на самом деле этого не было» (12, 38). Дружба Сэмюэля Клеменса с маленьким бродягой Томом Бленкеншипом, впоследствии увековеченным им под именем Гекльберри Финна, стала одним из самых ярких воспоминаний его жизни. Воспоминания Твена о детстве окружены поэтическим ореолом, и он неоднократно обращается к ним в своих произведениях. Но светлые, жизнерадостные впечатления ганнибальской жизни были неотделимы от страшных и трагических. Отзвуки буйной, шумной жизни Запада нередко вторгались в мирное существование Ганнибала. Однажды Сэмюэль Клеменс стал свидетелем убийства, которое среди бела дня произошло на одной из главных улиц города.
Эту картину Твен впоследствии запечатлел на страницах своего романа «Приключения Гекльберри Финна».
Многие тяжелые впечатления детства Твена связаны с существовавшим в Ганнибале рабством. Он вырос в окружении негритянских невольников, в тесном общении с ними и ко многим из них питал дружескую привязанность. «Все негры были нам друзья, а с ровесниками мы играли как настоящие товарищи, — вспоминал Твен в «Автобиографии»… — Чувства симпатии и уважения к ним сохранились у меня на протяжении шестидесяти лет и ничуть не пострадали за это время. Мне и теперь так же приятно видеть черное лицо, как и тогда» (12, 35).
Правда, жестокость рабовладельческих нравов не ощущалась в Ганнибале с такой остротой, как в штатах глубокого Юга. И родителям Твена и его старшему брату Ориону не чужды были аболиционистские устремления. В «Автобиографии» Твен рассказывает о мальчике-рабе, очень шумном и непоседливом, который находился в услужении в семье Клеменсов. Однажды Сэнди во всё горло затянул какую-то песню. Его пение раздражало Сэмюэля Клеменса, и он попросил мать унять певца. Миссис Клеменс ответила сыну: «… Он никогда больше не увидит свою мать; если он еще в состоянии петь, я не должна останавливать его, а радоваться. Если бы ты был постарше, ты бы меня понял и порадовался бы, что этот одинокий ребенок может шуметь» (12, 36).
И все же будущему писателю неоднократно случалось быть свидетелем жестокой расправы над неграми-рабами. Он видел, как шестеро мужчин избивали изнуренного, обессиленного беглеца, как рабовладелец за ничтожный проступок убил принадлежавшего ему негра.
Старший брат его приятеля Тома Бленкеншипа — Бен в течение двух недель прятал беглого негра в камышах, потихоньку доставляя ему пищу. Когда негра выследили, он помог ему бежать. Спасаясь от своих преследователей, негр утонул. На всю жизнь Твен запомнил и казнь аболициониста Гарди, которого осудили на смерть за укрывательство беглого раба.
Ненависть, которую Марк Твен на протяжении всей своей жизни питал ко всяким проявлениям расовой дискриминации, несомненно, впервые зародилась в его душе в связи с ранними впечатлениями детства.
Но детство Сэмюэля Клеменса кончилось очень рано. Ему было только двенадцать лет, когда умер его отец, и ему вместе с Орионом пришлось заботиться о содержании семьи. Будущий писатель изучил профессию наборщика, а когда Орион начал издавать собственную газету, сделался его помощником. Типографским делом он занимался в течение нескольких лет и в Ганнибале и в других городах. Странствующий наборщик, он разъезжал по многочисленным городам американского Запада и, сам не ведая о том, накапливал материал для своей будущей работы.
Юноше суждено было познать не только тяготы труда, но и его поэзию. Сэмюалю было двадцать лет, когда он стал лоцманом на Миссисипи. Могучая река издавна влекла его к себе. Еще ребенком он мечтал о профессии лоцмана, и теперь, когда мечта осуществилась, он с огромным интересом и подлинным вдохновением вникал в тайны этого трудного ремесла. Твен изучил все изгибы Миссисипи, научился водить пароход и в вечернем сумраке, и в ночной тьме, и под непроницаемой пеленой речного тумана.
Жизнь на Миссисипи принесла ему не только радость, но и тяжелые переживания, невосполнимую утрату: его младший брат Генри погиб во время взрыва парового котла. Твен тяжело переживал смерть брата особенно потому, что считал себя ее виновником: ведь именно он уговорил Генри стать лоцманом. И все-таки, хотя лоцманский период его жизни и был омрачен этой трагедией, Твен навсегда сохранил любовь к великой реке, навсегда она осталась для него символом свободы, вольности и независимости… Он водил пароходы по Миссисипи, когда разразилась война 1861 г. Молодой лоцман в это время еще плохо разбирался в политике. Не понимая сущности разногласий между Севером и Югом, он примкнул к южной армии, но в ее рядах оставался всего две недели… «Я был солдатом в течение двух недель в начале войны и был преследуем, как крыса, все это время…», — вспоминал он впоследствии.
Быть может, на Сэмюэля Клеменса отчасти повлияло и то обстоятельство, что близкие ему люди — лоцман Бигсби, обучивший его лоцманскому делу, а также Орион Клеменс — были убежденными сторонниками северян.
Оказавшись на положении дезертира, Твен вместе с Орионом, который получил место секретаря в Неваде, уехал в этот край серебра и золота.
Там, на дальнем Западе, неистовствовала «золотая лихорадка». Плененные мечтой о быстром обогащении, тысячи переселенцев с упорством и настойчивостью долбили киркой и лопатой каменистую землю.
«Золотой мираж» отуманил и Твена. «Если война оставит нас в покое, — писал он сестре, — я и Орион сделаем вас богатыми…» Его надежды не осуществились. Предпринятые им поиски серебряной руды не увенчались успехом. Но хотя карьера золотоискателя и не удалась Твену, его неослабевавшая трудовая активность, толкавшая его на путь самой разнообразной деятельности, реализовалась в других формах. Еще в пору своего сотрудничества с Орионом он печатал в газете небольшие статейки. Работа в провинциальных газетах и журналах («Территориел энтерпрайз», «Кресент», «Калифорнией») помогла Твену найти себя как писателя. Его талант, родившийся в гуще народной жизни, питался ее впечатлениями. Общение с трудовой Америкой определило характер его юмора, сюжеты, характеры и образы его ранних рассказов и фельетонов. Среди людей труда, окружавших его в годы юности, он нашел и первых почитателей своего дарования. Его юморески, воплощавшие народную жизнь в формах, ей внутренне соответствовавших, нравились фермерам, рудокопам и лесорубам Запада.
К концу войны Твен переезжает в Сан-Франциско, а по возвращении с Сандвичевых островов, куда он предпринимает поездку, вновь выступает с чтениями юморесок. В дальнейшем идейные воззрения Твена во многом менялись, сатирические тенденции творчества усиливались, демократические идеи приобретали все более осознанное выражение.
Но народная основа произведений великого писателя оставалась неизменной, и именно она определила их внутреннюю логику и художественное своеобразие. Она же определила и характер его литературной позиции, в общих своих чертах сложившейся уже в начале его творческого пути.
Писательская деятельность Марка Твена началась после гражданской войны, определившей как общественную, так и литературную жизнь Америки. Годы, связанные с гражданской войной, были эпохой решающего перелома. События 60-х годов стимулировали рождение новых, реалистических форм искусства, потребность в которых назрела уже ранее. Хотя затянувшееся господство романтизма по существу кончилось лишь в послевоенное время, первые ростки реализма уже возникали ранее, в творчестве писателей середины века.
Широкая волна демократического движения вынесла на своем гребне песни Уолта Уитмена (1819–1892), романы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896), стихотворения Джона Гринлифа Уитьера (1807–1892).
Творчество прогрессивных писателей 50-х годов было тесно связано с революционной традицией американской истории. При всем различии их писательского облика, при разном масштабе их творческого дарования, они были сходны друг с другом в своей страстной ненависти к рабству и насилию. Демократы и гуманисты, эти писатели являлись прямыми наследниками американских просветителей. Все они рассматривали свободу как «естественное состояние» человека и в своем протесте против рабства опирались на неопубликованный пункт джефферсоновской Декларации: «Рабовладение — это война против самой человеческой природы, война, нарушающая ее самые священные права». Их позиции были во многом ограниченными, на произведениях лежит известный налет утопизма, они не всегда понимали до конца подлинный исторический смысл происходящих событий. Но непреходящее значение их творчества заключается в том, что в нем нашли воплощение сокровенные чаяния народных масс, охваченных бунтарскими, революционными настроениями.
Мощный поток освободительных идей вовлек в свое русло даже писателей, в целом далеких от настроений политического радикализма. В бурной атмосфере предвоенных лет родились «Песни о рабстве» Генри Лонгфелло (1807–1882), книги Ралфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), очерки Генри Торо (1817–1862).
Аболиционистское движение, несомненно, помогло рождению американского реализма. Оно толкнуло художников на путь изображения жизни во всей глубине ее реальных противоречий, во всей непримиримости ее социальных конфликтов, Оно приковало внимание к будничной повседневности, поставив перед американской литературой задачу ее художественного освоения. Задача эта была связана с немалыми трудностями как практического, так и теоретического порядка. Новая сфера художественного познания, действительная жизнь во всей конкретности своего исторически определенного, реального бытия требовала не только новых методов освоения, но и твердой эстетической санкции, признания за ней права на то, чтобы стать материалом искусства. Прозу следовало поднять на уровень поэзии, открыть ее внутренние поэтические возможности, разглядеть ее потаенную красоту, скрытую под маской будничного и повседневного.
Истины эти не сразу укоренились в сознании художников США, чьи эстетические взгляды во многом определялись длительностью господства романтизма. Но процесс их постепенного усвоения (связанный со все большей демократизацией литературы) начался еще в предвоенное время. Уже Эверт Дайкинк — представитель прогрессивного литературного объединения, известного под именем «Молодой Америки»[11], утверждал в одной из своих статей, что «поэзия может снисходить до философии простой, обыкновенной жизни, может выражать самые обыкновенные эмоции, не теряя при этом ни в малейшей степени своей высокой энергии»[12].
Мысль эта, высказанная Дайкинком еще в гипотетической форме, для писателей США второй половины XIX в. приобрела значение программного принципа. Задача художественного освоения будничной прозы была неотделима от другой более широкой и общей — создания национальной литературы, имеющей свое индивидуально-неповторимое лицо.
Актуальность этого «эпохального» задания, уже давно стоявшего перед литературой США, бесконечно возросла в условиях послевоенного времени. Став страной с единым экономическим укладом, с однородной системой общественных установлений и (что также немаловажно) с откристаллизовавшейся литературной традицией, Америка более чем когда бы то ни было нуждалась в самобытной, национально своеобразной литературе. В этом смысле между американскими писателями второй половины XIX в. не существовало разногласий. Но пути их движения к этой общей цели были различными. В ряде случаев проблема национальной самобытности трактовалась односторонне: она сводилась к воссозданию «местного колорита» (в узком значении этого понятия).
Между тем содержание этой проблемы неизмеримо шире и богаче. Как известно, зрелый художественный реализм предполагает внутреннюю соотнесенность локального со всеобщим, изображение современности не только в ее местной окраске, но и в ее связях с общим процессом исторического и жизненного развития, в многообразии ее живых, исторически значимых противоречий. Только такой ракурс рассмотрения действительности может уберечь литературу от ограниченности, фальши, искусственности, от сведения реализма к плоскому бытописательству и помочь искусству поднять «житейскую прозу» на уровень высочайшей поэзии и романтики. Некоторые писатели США второй половины XIX в. уже приходили к полному осознанию этой истины.
Большую проницательность в определении задач национального искусства обнаружил известный драматург 70-х годов XIX в. Дж. Херн. «Искусство, — писал он, — должно прежде всего выражать некую великую правду… его высочайшая цель продлить жизнь своей эпохи. Я стою за искусство правды, ибо оно увековечивает повседневную жизнь современности, раскрывает потенциальную красоту так называемых тривиальностей, облагораживает труд и раскрывает божественную суть рядового человека». Херн дает очень точную характеристику не только эстетической, но и социальной природы реализма. Подлинный реализм, находящий красоту жизни в ее будничном, повседневном, скромном обличье, выявляющий творческую сущность труда и труженика, есть искусство реалистическое и демократическое одновременно. Литературная история США второй половины XIX в. дает наглядное подтверждение высказанной мысли.
Развитие реализма в Америке середины и конца XIX в. — пошло разными путями.
На протяжении всей второй половины XIX в. в ней складывалось особое, буржуазно-либеральное направление (так называемая традиция благопристойности). Его представителями были писатели бостонской школы, группировавшиеся вокруг журнала «Атлантик мансли». Состав этого литературного объединения был довольно пестр. В него входили и маститые корифеи американской литературы, в прошлом игравшие видную роль в аболиционистском движении (Г. Лонгфелло, Р. У. Эмерсон, О. Холмс, Дж. Г. Уитьер, Дж. Лоуэлл), и начинающие литераторы вроде Т. Олдрича, чьи произведения, пронизанные «благонамеренным» и патриотическим духом, отвечали вкусам и стремлениям американского обывателя, и даже У. Д. Хоуэллс, во многом далекий от установок бостонской школы, но еще не нашедший и не понявший себя.
Хотя авторитет Эмерсона и Лонгфелло, признанных классиков американской литературы, немало содействовал укреплению позиций бостонской школы, определяли ее позицию не столько они, сколько писатели, именовавшие себя их учениками и преемниками. Возложенная ими на себя миссия обобщения литературного опыта США и выработки концепции национального искусства носила характер острой жизненной актуальности. Но эту вполне современную задачу они пытались решать, повернувшись лицом к прошлому и используя его в качестве «заслона» от насущных требований сегодняшнего дня. «Какое чудесное чувство безопасности, — писал один из теоретиков бостонской школы Джеймс Лоуэлл, — испытываешь, когда ощущаешь двойную стену веков между собою и тем раздражением и шумным протестом, которые наполняют современную литературу»[13].
Эта неприязнь к современности, за которой стояло стремление преградить путь дальнейшим демократическим преобразованиям, и определило характер деятельности бостонцев как деятельности «охранительной», par excellence. Созданный ими культ традиции как в национальном, так и в европейском варианте должен был служить опорой в их борьбе против всяческих нововведений. Верность этому культу в его эстетических, этических и морально-религиозных формах составляла тот критерий, которым они измеряли степень «истинного» американизма.
Возникшая на почве Новой Англии — цитадели американского пуританизма — бостонская школа хранила верность ханжеским традициям своего штата.
Педантически формальное соблюдение узаконенных канонов пуританской морали утверждалось бостонцами в качестве высшего национального долга, обязательного для каждого, кто считал себя «сыном Америки». Но, требуя пуританской стерильности нравов, бостонцы в сущности охотно довольствовались ее внешними признаками. Носителем «национального духа» для них был безупречно воспитанный джентльмен, поведение которого полностью соответствовало требованиям «благопристойности». Этим определялись и их литературные вкусы, в том числе и неприязнь к реализму, который в их сознании закономерно ассоциировался с процессом демократизации литературы. (Так, Томас Олдрич в своем программном стихотворении «Реализм», опубликованном в начале 80-х годов, назвал ненавистное ему литературное направление «зловонным дыханием трущоб».)
Тем не менее, вопреки всем усилиям «браминов», реализм в Америке завоевывал одну позицию за другой, и доказательство этому можно найти не только за пределами бостонского объединения, но и внутри его. На почве «традиции благопристойности» также всходили робкие ростки обезвреженного и приглаженного реализма. Их главным «рассадником» стало творчество Уильяма Дина Хоуэллса (1837–1920), роль которого в литературе его эпохи во многих отношениях была при всей ее противоречивости в целом положительной. Активный деятель бостонской группы, в течение длительного времени возглавлявший журнал «Атлантик мансли», он далеко не во всем был солидарен со своими литературными соратниками. Не в пример им он стремился к изображению будничной повседневности и тягу к ее воссозданию обнаружил уже на ранней стадии своей творческой деятельности. Правда, эту тенденцию, имевшую для него значение устойчивого творческого принципа, он в течение некоторого времени пытался осуществлять в рамках «традиции благопристойности», что неминуемо привело к ограничению его писательского кругозора. Мир его ранних романов узок и тесен. Жизненный материал, лежавший в их основе, подвергался тщательному отбору, и реальная действительность представала в чрезвычайно одностороннем и поверхностном изображении. Обходя общественно значимые конфликты, Хоуэллс концентрировал свое внимание на семейных «бурях в стакане воды», как правило приводя эти маленькие драмы к вполне благополучному финалу. И все-таки даже в его романах начала 70-х годов («Свадебное путешествие», 1872; «Случайное знакомство», 1873) уже есть некоторая, правда еще очень умеренная, полемическая острота, пока еще не выходящая за пределы чисто литературных разногласий. Стремление к жизненной правде он явно и вполне сознательно противопоставляет романтическому эпигонству своих бостонских коллег. В дальнейшем разногласия Хоуэллса с литературными консерваторами постепенно приобрели значительно более широкую направленность и в конце концов привели его к полному разрыву с бостонскими «браминами». Уже в 80-90-х годах он сумел подняться до уровня не только литературной, но и социально-политической оппозиции буржуазной Америке. Его поздние романы («Энн Килберн», 1888; «Превратности погони за богатством», 1890; «В мире случайности», 893; «Путешественник из Альтрурии», 1894) несомненно представляют шаг в развитии американского критического реализма и наряду с произведениями М. Твена, Ф. Норриса, С. Крейна, Дж. Лондона целиком принадлежат прогрессивному искусству США.
Иной характер носила деятельность другого крупного мастера реалистической прозы — Генри Джеймса (1843–1916). Сохраняя позицию нарочитой изоляции от литературных диспутов современности, он тем не менее участвовал в них если не в прямой, то в косвенной форме (по крайней мере на начальном этапе своего творческого развития). Его, как и многих художников США того времени, волновала проблема национального характера, и в сущности она и стала внутренней осью его первых (а в известной степени и позднейших) рассказов и романов «Родрик Хадсон», 1876; «Американец», 1877; «Европейцы», 1878; «Дейзи Миллер», 1879; «Бостонцы», 1886 и р.). Но эта актуальная проблема получила у него иное истолкование, чем у бостонцев, с которыми он в течение некоторого времени поддерживал деловые контакты (его статьи 60-х годов печатались на страницах «Атлантик мансли»). Правда, и на его произведениях (как и на произведениях бостонских литераторов) лежит печать известной кастовой ограниченности. Выбор героев, неизменно принадлежавших к «образованным» кругам, равно как и тенденция к некоторой психологической изысканности и рафинированности стиля, превращали его романы и рассказы в литературу для «немногих». Но при всем этом для его понятие «национальный характер» прежде всего означало не столько приятие узаконенных норм «благопристойного» поведения, сколько стремление к их внутреннему преодолению. Герои его лучших романов («Вашингтон-сквер», 1881; «Женский портрет», 1881) превыше сего ценят духовную самостоятельность и возможность быть (или стать) самим собою предпочитают традиционному представлению о счастье. Сознавая, по-видимому, то его «американскому идеалу» тесно и в условиях самой Америки, Джеймс предпочитал уводить своих персонажей за ее пределы и выявлять характерные особенности их внутреннего склада через соприкосновение с европейскими нравами и обычаями. Характерно, что и сам он в дальнейшем последовал примеру своих героев: в 1875 г. Джеймс навсегда покинул родину и с тех пор созерцал ее из «прекрасного далека», все больше проникаясь неприязнью к ее образу жизни. Отнюдь не умаляя той роли, которую Джеймс и Хоуэллс сыграли в литературной жизни своей страны, следует все же сказать, что они не стали основоположниками подлинного социально-критического, художественно полнокровного американского реализма. Его рождение происходило на другом полюсе американской жизни, и его создателями сделались художники, внутренне связанные с народом Америки и смотревшие на жизнь его глазами. «В конце 60-х годов, — пишет советский исследователь, — в Америке выступает блестящая плеяда писателей, поднявших реалистическое искусство своей страны до уровня европейского критического реализма»[14]. К ней относятся многочисленные писатели Юга и Севера: Албион Уинегар Турже, Джордж Вашингтон Кейбл, Джоэл Чандлер Харрис, Ребекка Хардинг Дзвис, Джон де Форест, Эдвард Эгглстон, Эдгар Хоу, Лукреция Гейл.
Несмотря на то что некоторые из созданных ими произведений носили печать известной художественной незрелости, их творчество, расширившее тематический кругозор американской литературы, стало значительным шагом в направлении ее демократизации. Сделав объектом своего внимания простых людей Америки, они подняли голос в защиту их человеческих и гражданских прав. Впервые они заговорили об их подневольном труде и нищенском существовании, доселе не вызывавшем интереса у американских писателей. Тем не менее усилия буржуазной критики отодвинули этих представителей рождавшегося критического реализма на обочину литературного процесса, и в его центре оказались лишь художники, масштаб дарования которых делал их в какой-то мере неуязвимыми для их литературных недругов. К Брет Гарту пришло признание, к Уолту Уитмену и Марку Твену — всемирная известность. Значение их литературных открытий было столь велико, что в отношении к ним трудно было соблюдать «фигуру умолчания». Среди американских реалистов близок Твену Уолт Уитмен, чей творческий путь в своих главных этапах совпадает с путем Марка Твена. «Поэт мировой демократии»[15], он, как и Твен, считал события 60-х годов не «завершением» американской истории, а ее многообещающим началом. Они представлялись ему шагом в направлении создания новой великой цивилизации, к которой неминуемо приведет сама логика развития демократии. Прообраз этой цивилизации он нашел в специфически национальных формах народной жизни. «Уитмену ни разу не пришлось усомниться в величии простого народа, народа-труженика, народа-творца, никогда не покидала его оптимистическая уверенность, что в конце концов этот народ создаст светлую демократию будущего, которая рано или поздно возникнет во всех странах земного шара и обеспечит человечеству счастье»[16]. Залогом этого грядущего для него стали и научные завоевания его страны, и расцвет ее техники, и самые простые проявления жизни природы. Как художника, Уитмена сближала с Твеном не только вера в народ, но и острое ощущение его безграничных творческих возможностей. Оно и помогло ему открыть поэзию в повседневном и поднять ее на уровень достижений мирового искусства, в котором он занял место рядом с Эмилем Верхарном и Владимиром Маяковским. Так же как они, он сумел обнаружить красоту и романтику в трудовых буднях больших индустриальных городов, и этим определились все особенности поэтического строя его произведений. В образах фабрик и заводов, в их дыме и грохоте, в массивных очертаниях их многоэтажных зданий, в самой структуре стихов Уитмена, освобожденных от стесняющей власти рифмы, воплотилась мощная раскованная душа трудовой Америки. Влюбленность в нее помогла Уитмену установить новую иерархию вещей. Этот поэт-урбанист сумел найти красоту и в «корове, понуро жующей жвачку», и в листочке травы, и в стручке гороха, и даже в… клопе и навозе. «И клопу и навозу, — демонстративно заявлял он, — еще не молились как должно. Они так же достойны молитв, как самая высокая святыня»[17]. Под этой парадоксальной эпатирующей декларацией, по всей вероятности, мог бы подписаться и Марк Твен.
Младший современник Уолта Уитмена, он, как и этот великий народный поэт, был представителем демократического направления литературы США. Именно демократическое мироощущение Твена и помогло ему ассимилировать достижения предшествующего искусства Америки. Его творчество, отчасти подготовленное и романтиками и реалистами 50-х годов, являло собою точку скрещения разнородных художественных тенденций. В произведениях Твена осуществился естественный синтез романтизма и реализма, составляющий одно из условий возникновения большого реалистического искусства. В великом реалисте жил романтик. «В начале своего пути Твен был романтиком и сохранил склонность к романтизму на протяжении всей своей дальнейшей жизни»[18], — пишет исследователь его творчества. Но романтизм был не «довеском» к реализму Твена, а органическим качеством его мировосприятия, определившим весь внутренний строй его произведений. Даже при поверхностном соприкосновении с ними мы ощущаем, как и во всех явлениях высокого реализма, «веяние романтической мечты и полет романтической фантазии»[19].
Его умение объединить «романтически прекрасное» с «реалистически повседневным»[20] произвело решающий сдвиг в художественном развитии Америки. В произведениях Твена американский реализм обрел характерный для него художественный облик со всеми его определяющими чертами: «гротескностью… символикой, метафоричностью, внутренним лиризмом и… близостью к природе»[21]. Но романтическая традиция вошла в его творчество в полемически переосмысленном виде. Наследник великих американских романтиков XIX в., он был и их убежденным и непримиримым противником. Свою неприязнь к ним он декларировал в форме, не оставляющей места для сомнений. В этом смысле Твен превосходил всех других американских реалистов XIX–XX вв., для которых, как и для него, творчество писателей первой половины XIX в. служило «примером того, как не надо писать»[22]. Его борьба с романтизмом носила на редкость целеустремленный и постоянный характер и продолжалась на протяжении всего его творческого пути. Уже в самом его начале Твен писал ядовитые стихотворные пародии на Кольриджа и Лонгфелло, на романтические мелодрамы, на «великих» и «малых» представителей враждебного ему литературного направления. Между тем, сколь ни парадоксально, он полемизировал с романтиками на почве, подготовленной имиже. Вслед за ними он воспевал красоту «естественных», не изуродованных цивилизацией явлений жизни. Он разделял их ненависть ко всему фальшивому, искусственному. Однако все эти черты он находил и в произведениях самих романтиков. Его столкновение с ними произошло на основе разного понимания главной задачи искусства — задачи воспроизведения жизненной правды. Не приходится доказывать, что проблема художественного познания жизненных процессов в совокупности их природных и социально-исторических закономерностей имела для романтиков не меньшую остроту, чем для их позднейших преемников — реалистов. Но большая жизненная правда входила в их творчество не в своем конкретном буднично достоверном, а в обобщенно-символическом облике, очищенном от всего случайного, житейски мелочного, заслонявшего, как полагали они, ее главный скрытый смысл. Именно эта тенденция, которая нередко осуществлялась в формах известной романтической эстетизации объекта изображения, и вызывала протест Твена. Романтическая символика была несовместима с позицией этого воинствующего реалиста.
Он не мог стать на точку зрения Фенимора Купера, считавшего, что «поэту и живописцу разрешается показывать не «натуру» в ее реальном будничном виде, а ее «прекрасный идеал», некий потенциально возможный «субстрат» ее лучших свойств»[23]. Твену — великому почитателю «достоверности», влюбленному в «точное слово, в ясность изложения» (12, 78), не требовалось обставлять реальность пышными и яркими декорациями, ибо он находил красоту не за пределами житейской прозы, а в ней самой. Его романтика реалистична не только по формам своего художественного воплощения, но и по самой своей сущности. Для этого «поэта действительной жизни» источником поэтического вдохновения служили обыкновенные, простые чувства обыкновенных, простых людей, их здоровые импульсы, природа в ее подлинном, живом облике, во всей широте и мощи ее реального «раскованного» бытия. Немудрено поэтому, что самый бледный отпечаток романтического «котурна» или только призрак его приводит Твена в состояние воинственного раздражения. Полемический задор писателя заводил его, как правило, очень далеко, до полной утраты чувства справедливости. Подтверждение этому можно найти в его высказываниях о двух писателях-романтиках, в отношении которых он проявлял особую непримиримость: Фениморе Купере и Вальтере Скотте. Его памфлет «Литературные грехи Фенимора Купера» (1895) поистине может считаться «венцом антиромантической кампании в американской критике»[24]. Автор «Кожаного чулка» всегда служил Твену чем-то вроде «мальчика для битья», и он рассматривал творчество Купера как обобщающее выражение всех идейных и художественных пороков представляемого им литературного направления. В этом смысле Твен был не одинок. Подобный взгляд на Купера характерен для американских писателей реалистической ориентации. «Купер был для них наглядным символом отжившего романтизма, поскольку он фальсифицировал жизнь… в то время как они стремились к правдивому ее изображению… он ставил под угрозу достижения американского реализма»[25]. Автор приведенной цитаты американский исследователь Краузе прав и в другом своем суждении. Он обоснованно утверждает, что Твен отчасти «придумал» своего Купера и воевал с этим созданием своей фантазии, не видя (а быть может, и не желая видеть) его отличий от реального носителя этого прославленного имени. Его полемика с ним с точки зрения своей критической методологии отчасти напоминает полемику Толстого с Шекспиром (с поправкой на национальное своеобразие). Игнорируя романтическую символику романов Купера, Твен подходит к ним с неумолимым требованием жизненного правдоподобия. Видя в творчестве Купера нагромождение нелепых выдумок («насилие над законами жизни и природы»), он противопоставляет этому «романтическому вздору» прагматический культ фактов. Он уличает своего оппонента в неспособности их видеть и замечать (когда Купер удосуживается заметить факты, «читать его еще менее интересно, чем тогда, когда он попросту их не замечает»).
Однако «факт» для Твена понятие далеко не однозначное и в нем есть разные оттенки, хотя в большинстве случаев все они означают знание жизни, основанное не на фантазиях, а на личном опыте. Нельзя писать о том, чего испытал сам и о чем знаешь только понаслышке. «Не ходите за пределы собственного опыта, — поучает он в одном из своих писем начинающую писательницу. — После того как Вы сами попытаетесь… спуститься по водосточной трубе, Вы уже… не позволите своему герою спускаться о ней, держа в объятиях женщину» (1, 586–587). В целом, однако, твеновский культ «факта» несводим к узкому эмпиризму и прагматизму. «Преступление», в котором он уличает Купера, реально означает не только незнание жизни, но и неуважение к ней, к ее элементарным законам, естественной логике, к обыкновенному человеку и его нормальным жизненным реакциям. Его романы, по мнению Твена, есть насилие над законами жизни и литературы. Приблизительно те же обвинения Твен предъявлял учителю Купера — Вальтеру Скотту. И этот певец европейского средневековья пренебрегал фактами жизни и, преподнося вместо них суррогаты, окружал их поэтическим ореолом. «Настоящий рассадник романтической заразы» — его творчество — породило целую эпидемию («вальтер-скоттовская болезнь»), от которой и по сей день страдает человечество, и не только в Европе, но и в Америке. Между тем его романы есть не что иное, как коллекция «призраков, скелетов и неумело сделанных восковых фигур». Нет, невозможно «испытывать интерес к этим бесплотным привидениям!» Конечно, все эти грозные инвективы, адресованные не столько великим романтикам в их реальном («для себя») бытии, сколько романтизму в целом, прежде всего характеризуют не их, а творческие убеждения самого Твена. Глубоко ощущая прелесть здоровой, неизуродованной живой «природы», Твен ненавидел «всяческую мертвечину», и ненависть к ней стала для него не только художественным, но и теоретическим принципом, дав ему постоянный критерий для оценки явлений искусства. «Героями произведения должны быть живые люди, — писал он в той же статье о Купере («Литературные грехи Фенимора Купера»), — (если только речь идет не о покойниках), и нельзя лишать читателя возможности уловить разницу между теми и другими» (11, 431).
Нет сомнения, что за этим интересом к реальной жизни во всех ее многообразных проявлениях стояло и стремление к изменению социального адресата американского искусства, Романтическая тяга к необыкновенному и исключительному, пренебрежение к будничному, заурядному явно представлялись Твену своего рода «кастовым» признаком, той особой «изощренной искусственностью»[26], в которой он, как явствует из некоторых его высказываний, видел неотъемлемую черту литературы для избранных. Сам он последовательно ориентировался на массового, демократического читателя, и многое в его эстетике (равно как и в художественной практике) объясняется такой ориентацией. Его заявление о том, что он «никогда не стремился учить развитые классы и не годился для этой цели ни по дарованию, ни по воспитанию», что он всегда гонялся за «дичью покрупнее»[27], иными словами, за широкой читательской массой, обобщает самую сущность его творческой позиции как в ее теоретическом, так и в «практическом» аспекте.
Связь Твена с трудовой Америкой, скрепленная жизненным опытом, уже с самого начала его писательской деятельности определила живую силу его творческого воображения. Подлинный сын своего народа, он обладал той ясностью взгляда, той конкретностью поэтического мышления, которая составляла характерную черту народного мироощущения. Поистине «у него был ясный взгляд на жизнь и он лучше знал ее и меньше был введен в заблуждение ее показными сторонами, чем любой американец»[28]. Эти особенности мировосприятия Твена и позволили ему взглянуть на свою страну глазами непредубежденного человека, созерцающего ее как бы извне.
Писатель, пришедший в литературу из гущи народной жизни, он навсегда сохранил позицию «пришельца», не утратившего способность к отстраненному восприятию чужого для него мира собственников и созданных им противоестественных отношений. Именно этот угол зрения, увековеченный им в форме целостной художественной системы, помог ему обнаружить грань, отделяющую «американскую мечту» от реальной действительности. В ходе о творческой эволюции эта грань, первоначально обозначенная еще нечеткой линией, стала представляться ему все более и более непреодолимой. Пройдя сквозь сферу его литературных отношений, она легла водоразделом между ним и бостонской школой. Этот «простой, непосредственный гений, пришедший с речного парома, из рудничного лагеря, из западноамериканской газеты того времени»[29], в начале своей деятельности попытался установить контакт с господствующими литературными авторитетами. Но уже тогда он делал это ценою известного насилия над собой. Он питал отвращение к любым подделкам под жизнь, и плоский, прилизанный реализм Олдрича был толь же неприемлем для него, как и риторически приподнятый романтизм Фенимора Купера. Не только бостонские «ортодоксы», но и пользовавшийся (временно) их расположением Брет Гарт, «опекавший» Марка Твена и шлифовавший его стиль, вызывал у него сложные (и в целом не очень добрые)[30] чувства. Для этого имелись известные основания. Конечно, заслуги Брет Гарта перед отечественной литературой несомненны, он по праву занимает видное место среди художников, пролагавших путь американскому реализму.
По-своему он был и реалистом и демократом. Расширив диапазон искусства США, он одним из первых ввел в его обиход новых героев — фронтирсменов Запада. Но, преисполнившись симпатии к этим неотесанным «земляным людям», он тем не менее подвергал известной обработке свой грубый материал. Из его рук он вышел приглаженным и отлакированным, сдобренным немалой дозой сентиментального «диккенсовского» умиления. Именно этого и не прощал ему Марк Твен — писатель отнюдь не сентиментальный. Великолепно знакомый с бытом и нравами Запада, он именовал бретгартовских фронтирсменов «самоотверженными сукиными детьми» и отказывался видеть в них реальных золотоискателей и землекопов. Правда, эти оценки принадлежат уже зрелому Твену. Потребовался некоторый срок, чтобы Твен окончательно осознал несовместимость своих творческих устремлений с принципами бостонских «браминов» и всех тех, кто был хоть сколько-нибудь похож на них[31].
В отличие от Уолта Уитмена, уже в 1871 г. увидевшего в бостонцах «жалких пигмеев… компанию франтов, которые затопляют нас своими салонными чувствами, своими зонтиками, романсами и щелканьем рифм»[32], Марк Твен «на первых порах был заворожен надменным миром, к которому необдуманно примкнул»[33].
Вероятно, его доверие к этому миру в немалой степени поддерживалось дружескими отношениями с Хоуэллсом, единственным представителем «традиции благопристойности», уже в 1869 г. оказавшим ему радушный прием и признавшим за ним право на принадлежность к литературным кругам. Стремление Твена жить в ладу с писателями «хорошего тона», несомненно, стимулировалось и его семейными обстоятельствами.
Женившись в 1870 г. на мисс Оливии Ленгдон — дочери богатого промышленника, Твен поселился в Хартфорде — одном из тех городов Новой Англии, где традиции пуританства были особенно устойчивыми. Внешне его жизнь сложилась более чем благополучно. Он был богат, знаменит, любим женой и детьми и в свою очередь любил их. Его дом являлся центром притяжения культурных, одаренных, широко известных людей, живших по соседству (в их числе находилась и Бичер-Стоу — автор знаменитого романа «Хижина дяди Тома»). Многие из тех, кто его окружал (священник Дж. Твитчел, У. Д. Хоуэллс), пользовались искренним уважением писателя, и он охотно выслушивал их мнения по поводу своей литературной деятельности. Готовность Твена к уступкам заходила так далеко, что он позволял не только Хоуэллсу, но и своей жене редактировать создаваемые им произведения и изгонять из них все то, что было несовместимо с правилами «благопристойного» поведения. И тем не менее уже на этом этапе начиналась та «пытка»[34] Марка Твена, которую он терпел на протяжении всей своей творческой жизни. Под маской благополучия зарождалась трагедия внутреннего разлада, постепенно принимавшая все более острые и мучительные формы. Этот внутренний конфликт, не имевший ничего общего ни с фрейдистскими комплексами[35], ни с коммерческим расчетом, бесспорно, возникал на почве социальной и психологической несовместимости «двух Америк», столкнувшихся в лице «плебея» Марка Твена и чинных блюстителей буржуазного миропорядка.
Следует отдать должное бостонцам: в своих отношениях с Твеном они проявили значительно больше последовательности, чем он. Уже с первых шагов Твена на поприще литературы они восприняли его как некое чужеродное тело. «Чем более утонченным считал себя человек, — вспоминал впоследствии Хоуэллс, — тем больше сомневался он в тех достоинствах Марка Твена, которые сейчас признаны всеми, а тогда получали признание только у простого народа»[36]. Но признать этого простонародного писателя бостонцам мешала не только утонченность вкуса. В самобытности его художественного почерка они явно разглядели некий скрытый заряд, способный взорвать священные устои «американизма». А между тем ведь и Марк Твен по-своему утверждал «американизм». Но его «американизм» был явлением иной социальной природы. Слово это для раннего Твена было равнозначно демократии. Подобное его осмысление (также чреватое некоторыми «опасностями») легло в основу первой книги Твена «Простаки за границей».
Твен-юморист
Ранние произведения Твена поражают своим жизнерадостным весельем, насмешливым, озорным тоном. Наивная вера в реальность американской свободы окрашивает эти произведения в оптимистические тона. На этом этапе Твен еще не сомневается в преимуществах демократического строя Америки. «Американизм» молодого писателя с особенной ясностью проявился в его «Простаках за границей» (1869) — серии очерков, описывающих путевые впечатления Твена во время путешествия по Европе, которое он совершил как корреспондент газеты «Альта Калифорния». Появление этой книги, в основу которой легли репортерские письма Твена (53 письма), направляемые им с борта парохода «Квакер-Сити» в редакцию газеты, было первым подлинным триумфом писателя. Когда книга вышла отдельным изданием, она имела большой успех и привлекла всеобщее внимание своей необычностью. Сам жанр путевых заметок отнюдь не являлся новостью для читателей Америки. Книги подобного рода пользовались в США популярностью, и их авторами были и прославленные деятели литературы (Лонгфелло), и начинающие писатели, чьи имена еще не приобрели известность. Но при всех различиях между этими авторами, произведения их написаны в одной и той же тональности почтительного восхищения.
Америка — молодая страна, у которой не было ни архаических памятников, ни старинных летописей, ни освященных веками традиций, с почтительной завистью взирала на древнюю, окутанную романтическими легендами и преданиями Европу. Но молодой, задорный юморист Запада взглянул на Старый Свет иными глазами. Насмешливая, парадоксальная, острополемическая книга начинающего писателя стала декларацией его республиканских и демократических воззрений. Монархическая Европа с ее феодальным прошлым и сложной системой сословно-иерархических отношений не вызвала у него никаких благоговейных чувств. Со скептической усмешкой он производит смотр ее культурным и историческим ценностям.
Этот скептический угол зрения, призванный обобщить не только субъективную позицию автора книги, но и позицию целой страны в ее отношении к Старому Свету, определяет всю внутреннюю структуру произведения Твена. Он реализуется в особенностях повествовательного стиля с его вызывающе задорной интонацией, в принципах отбора материала, в его количественных соотношениях, в характере его демонстрации. Твен-рассказчик держится с непринужденностью, самонадеянностью и даже с нарочитой развязностью, пишет о чем хочет и как хочет. Он не впадает в экстаз перед картинами мастеров, не проливает слез умиления над могилами Элоизы и Абеляра, не «раскисает» от лирических восторгов при мысли о Лауре и Петрарке. Самоуверенный американский турист Марк Твен не боится сказать, то ему до смерти приелся Микеланджело («этот надоедала»), которым без устали пичкают путешественников итальянские гиды. С видимым наслаждением он цитирует «богохульственные» остроты своих скептических попутчиков, которые с нарочитой наивностью осведомляются по поводу каждого демонстрируемого экспоната: «Работа Микеланджело?» Не связанный никакими каноническими предписаниями, обязательными для хорошего вкуса, он позволяет себе интересоваться тем, что для его интересно, и не обращать внимания на всемирно знаменитые образцы «прекрасного». В двух словах говорит он о Нотр-Дам, в Лувре равнодушно проходит мимо Джоконды, но зато включает в свое повествование развернутое обозрение «собачьей жизни» бездомных константинопольских псов.
Позиция Твена во многом представляется ограничений и односторонней, его суждения кажутся смехотворными в своей наивности, его оценки нередко вызывают чувство внутреннего протеста.
И все же трудно противиться обаянию насмешливой, задорной книги Твена. Ее покоряющая сила — в пронизывающем духе свободолюбия, в страстной ненависти автора ко всем видам произвола и деспотизма. Твен протестует не только против реакционных государственно-политических принципов европейского общества, но и против всякого насилия над человеческой личностью. Любые посягательства на ее внутреннюю свободу вызывают яростное сопротивление молодого писателя. Он противится всяким попыткам поработить мысль человека, загнать ее в узкие рамки узаконенных канонических представлений. Реально его «американизм» означает не столько «образ жизни», сколько «образ мысли» — характер подхода к явлениям действительности. При всем видимом непочтении писателя к европейским культурным ценностям в целом в его неприязни к ним есть немалая доля эпатажа. В конце концов он вполне способен оценить величавую красоту античного Лаокоона или поэтическую одухотворенность рафаэлевского «Преображения». Но давая восторженную оценку этим чудесам искусства, писатель настаивает на своем праве судить о них на основе собственного разумения. Преимущества своей позиции он видит в том, что «не поет с чужого голоса» и поэтому его суждения более честны и правдивы, чем вымученные восторги людей, привыкших смотреть на мир «чужими глазами».
Именно эта полная свобода от всех и всяческих предубеждений, составляющая, по мнению Твена, главную особенность «американизма» как национального склада мышления, и позволяет ему увидеть то, что он считает самым существом жизни Европы, а именно царящие в ней отношения сословной иерархии. Они, как полагает Твен и лежат в основе ее столетиями создававшейся культуры. За древним великолепием европейских городов писателю чудятся века рабства и угнетения. Отпечаток сервилизма и раболепия лежит на сокровищах европейского искусства.
Но при всем обилии этих обвинений по адресу европейского прошлого Твена интересует не вчерашний, а сегодняшний день жизни Европы.
Писатель убежден, что одряхлевший, неподвижный Старый Свет все еще живет По законам феодального прошлого. В восприятии молодого самоуверенного американца Европа — это вчерашний день человечества, своего рода гигантский склеп, наполненный отжившими тенями былого. В будущем Твен сформулирует эту мысль в прямой и откровенной форме. «Поездка за границу, — напишет он в одной из своих записных книжек, — вызывает такое же ощущение, как соприкосновение со смертью». Эту мысль можно найти и в «Простаках за границей». Путешествие на «Квакер-Сити» напоминает Твену «похоронную процессию с тою, однако, разницей, что здесь нет покойника». Но если покойники отсутствуют на американском пароходе, то Европа с лихвой возмещает недостаток этого необходимого атрибута погребальных церемоний. В Старом Свете «мертвецов» любят и чтут, они пользуются здесь усиленным и несколько чрезмерным вниманием. Разве не поучительно, что в Париже самым посещаемым местом является морг? Но нездоровое любопытство к смерти[37] свойственно не только парижанам. Оно составляет часть узаконенного «культа», исповедуемого и в других странах Старого Света. В итальянском монастыре капуцинов туристы видят целые «вавилоны» затейливо уложенных человеческих костей, образующих изящный, продуманный узор. Мудрено ли, что в конце концов пассажиры «Квакер-Сити» начинают возражать против «веселого общества мертвецов», и, когда их вниманию предлагается египетская мумия, они отказываются глядеть на этого трехтысячелетнего покойника. Если уж так необходимо рассматривать трупы, то пусть они по крайней мере будут свежими («Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и молния! Если у вас есть хороший свежий труп, тащите его сюда! Не то, черт побери, мы разобьем вам башку!») (1,295).
Но Европа является «усыпальницей» и в переносном значении этого слова. Культ отжившего исповедуется здесь в самых различных формах.
Для этого «американского Адама» пока что существует лишь одно измерение исторического времени — современность, и полное воплощение ее духа он находит не в умирающей Европе, а в молодой практической республике — США. Созерцание «заката Европы» лишь укрепляет в нем ощущение жизнеспособности его родины. Поэтому он с таким насмешливым задором «переводит» полулегендарные события прошлого на язык американской газеты и рекламы. Отрывок афиши, якобы подобранный им среди развалин Колизея, повествующий в тоне дешевой газетной сенсационности о «всеобщей резне» и кровавых поединках гладиаторов, позволяет будущему автору «Янки из Коннектикута» осуществить деромантизацию поэтического прошлого Европы. Нет, он не очарован варварской романтикой древности и охотно променяет ее на прозаическую жизнь Америки XX в.
«Застывшей и неподвижной» культуре Старого Света писатель противопоставляет деятельную и энергичную американскую цивилизацию, архаическим памятникам европейской старины — достижения американской техники (пусть в США нет картин старых мастеров, но зато там есть мыло). При этом он отнюдь не идеализирует и своих спутников-американцев. Он видит их невежество, ограниченность, хвастливую самонадеянность и подчас довольно едко высмеивает этих самодовольных янки. Но хотя порядки, царящие в его собственной стране, нравятся ему далеко не во всем, в целом Твен убежден в преимуществах Нового Света. Автор «Простаков» пока что не понимает, что упреки, предъявляемые им Европе, могут быть переадресованы и его собственной стране. Он говорит здесь от имени всей Америки, не желая замечать, что и она не едина. Но как только взор Твена обращается «вовнутрь», к явлениям национальной жизни — становится ясно, что его голос — это голос не «всей», а народной Америки. Его связь с нею прежде всего проявляется в литературном «генезисе» его ранних произведений, ведущих свое происхождение от традиций западного фольклора. Язык фольклора был для Твена родным языком, естественной для него формой выражения чувств и мыслей. Стихия народного творчества окружала его с детства. Она жила и в фантастических рассказах негров-рабов, и в их протяжных, грустных песнях, и в анекдотах фронтирсменов Запада. Твен слышал их Ни и на палубах пароходов, плывущих по Миссисипи, и в землянках рудокопов, и в харчевнях и кабаках Невады.
Фольклор Запада имел свои особые формы, особые приемы, особых героев. Суровая, полная опасностей и тревог жизнь фронтирсменов определила его характер. Трупы, проломленные головы, изувеченные, окровавленные тела, убийства и выстрелы — постоянные мотивы западных рассказов. Комическое и трагическое переплетается в них самым причудливым образом. Истина и вымысел сливаются воедино. В основе этих рассказов нередко лежат действительные происшествия. Но, войдя в устную народную традицию, они принимают гротескные очертания, обрастают множеством фантастических подробностей… В причудливом мире, созданном народным воображением, все приобретает гигантские размеры. Подчеркнутая гиперболизация образов — одна из самых характерных особенностей западного фольклора. В произведениях фольклора даже москиты обладают такой силой, что легко поднимают корову. «Я, Дэвид Крокет, прямо из лесов, я наполовину лошадь, наполовину аллигатор, я могу перейти вброд Миссисипи, прокатиться верхом на молнии, скатиться вниз с горы, поросшей чертополохом, и не получить при этом ни единой царапины» — так аттестует себя один из любимых героев Запада. Другой легендарный богатырь, Поль Бэниан, еще двухлетним младенцем вызвал из недр земли Ниагарский водопад с единственной целью принять душ. Он же, став взрослым, причесывал бороду вместо гребенки сосной, которую выдергивал из земли вместе с корнями. Первобытной, грубой силой веет от этих образов. Все фольклорное творчество Запада, начиная с этих фанстастических преданий и кончая бытовым анекдотом, пронизано острым чувством жизни и своеобразным бунтарским неуважением к традициям и авторитетам.
Авторы этих произведений скептически смотрят на достижения цивилизации, не питают почтения к религии, не боятся и не уважают сильных мира сего.
Вот два фронтирсмена, дед и внук, приходят в большой промышленный город… «Не правда ли, красивый город?» — спрашивает внук деда. — «Да, — отвечает старик, — а особенно он был бы хорош, если бы можно было его весь разрушить и построить заново».
Дэвид Крокет во время выборов в конгресс приезжает на место выборов верхом на аллигаторе и, натравив крокодила на претендента на пост конгрессмена, заставляет незадачливого политического деятеля с позором удалиться.
«Буйство» западных фронтирсменов — особый комплекс настроений, в котором стихийный демократизм сливается воедино со столь же стихийным чувством национальной гордости. За ним стоит сознание своей «первозданной» мощи, и богатейших нерастраченных возможностей. Именно в таком мироощущении Твен увидел «квинтэссенцию американизма».
Мир фронтира представлялся Марку Твену «душой» Америки — молодой, энергичной, по-юношески здоровой страны, и это восприятие целиком определило внутренний художественный строй одной из его первых книг «Налегке» (1872). Построенная в виде серии очерков, посвященных жизни Запада, эта книга наряду с «Простаками» может считаться ключевым произведением раннего Твена. Ей присущ особый внутренний пафос — пафос «сотворения мира». Новый Свет в изображении Твена поистине нов. Он родился совсем недавно, и краски на нем еще не просохли. Их первозданная свежесть так и бьет в глаза. Он переполнен новехонькими, «с иголочки» вещами, каждая из которых как бы увидена автором (а вместе с ним и всем человечеством) в первый раз. Созерцая их, Марк Твен обновляет стершиеся, привычные представления. У каждой, оказывается, есть свое особое, индивидуальное, неповторимо своеобразное «лицо», своя жизнь, насыщенная и полная, и писатель воспроизводит ее во всем богатстве многообразных, бесконечно живых деталей, Тщательность, обстоятельность твеновского рисунка возвращает реальное бытие и верблюду (сожравшему пальто автора и находившемуся во власти разнообразных эмоций, связанных с этим увлекательным занятием), и койоту (которому «ничего не стоит отправиться завтракать за сотню миль, а обедать за полтораста», ибо он не хочет «бездельничать и увеличивать бремя забот своих родителей»), и полынному кусту, достигающему пяти-шести футов высоты и обрастающему при этом особенно крупными листьями и «дополнительными» ветвями. Наивная любознательность рассказчика Твена под стать наивности молодого, «только что сотворенного» мира, в котором, как в Библии, все начинается сначала. Аналогия со Священным писанием настойчиво подсказывается самим Твеном. Его очерки пестрят библейскими реминисценциями. Верблюд жует пальто Твена у истоков Иордана, многоженство мормонов сродни полигамии библейских патриархов, их «король» Биргем Юнг, подобно Иегове, располагает отрядом «ангелов-мстителей», карающих тех, кто преступает установленные им законы. На Западе история как бы возвращается к своим первоистокам. Но это отнюдь не значит, что ей предстоит двигаться по накатанному пути. Всякий плагиат ей противопоказан, и мормоны потому и не вызывают симпатий Твена, что они есть не что иное, как жалкие плагиаторы Библии, ее бездарные и бескрылые эпигоны, «скатывающие» моральный кодекс Нового завета, даже без ссылки на источник. Нет, на свободных пространствах американского Запада история не повторяется, а начинается заново. Здесь возникает своя, не библейская мифология, создателями которой являются сильные, грубые люди, столь же неотесанные и «шершавые», как окружающий их первобытный лес. При всей молодости полудикого мира у него уже есть элементы мифологической традиции с ее постоянными героями — полубандитами-полубогами. Она складывается буквально на глазах. «Живая романтика» в лице знаменитого головореза Слейда, чье магическое имя уже успело обрасти множеством полуфантастических легенд, садится с Твеном за один стол и мирно беседует с ним. На девственной почве Запада мифы плодятся с невиданной быстротой, и в россказнях досужего враля уже потенциально заложены зачатки «мифа». Нелепая «притча» о бизоне, который якобы влез на дерево и на его вершине вступил в поединок со спутником Твена, неким Бевисом, явно сделана по образцам западного фольклора. Твен вложил ее в уста Бевиса, но она могла быть рассказана и придумана самим автором книги.
Твен-очеркист неотделим от Твена-юмориста, и подтверждение этому можно найти в его ранних юмористических рассказах. Они написаны тем же «почерком» — размашистым, еще как бы не до конца отстоявшимся со множеством наивных росчерков и завитушек.
В своих юмористических произведениях Твен сумел воспроизвести не только стиль западного фольклора, но и его атмосферу жизнерадостного, задорного «буйства»[38]. Тем самым закладывались предпосылки важнейшей литературной реформы. Вместе с фольклором Запада в литературу Америки вторгалась живая, неприкрашенная, неотлакированная жизнь и, громогласно утверждая свои права, вступала в борьбу со всем, что становилось ей «на горло».
Влияние западного фольклора стало важнейшим формирующим фактором творчества Твена. Хотя большинство его юмористических рассказов было создано в 60-70-х годах, юмор с обычными для него фольклорными приемами пронизывает все его творчество (правда, в убывающей прогрессии). Даже в 80-90-х годах, когда писатель находился во власти растущих пессимистических настроений, он иногда возвращался к своей прежней манере, и под его пером возникали такие юмористические шедевры, как «Похищение белого слона» (1882). Эти внезапные всплески великолепного, сочного юмора, неожиданно вырывавшиеся откуда-то из творческих глубин сознания Твена, свидетельствовали о неистребимости его гуманистических первооснов. Ранние рассказы Твена были написаны «в защиту жизни» и этим определяются принципы их художественного построения.
Опорой при осуществлении этой программы Твену служила не только фольклорная традиция, но и те литературные явления, которые, подобно его собственному творчеству, взошли на почве западного фольклора. Его повествовательная манера многими своими сторонами соприкасалась с традициями так называемого газетного юго-западного юмора.
Как показали работы советских исследователей[39], традиции эти составляют один из первоисточников американского реализма. Рассказы талантливых юмористов Себы Смита, Лонгстрита, Халбертона Гарриса, Хупера, равно как и Артемуса Уорда и Петролеума Нэсби, являлись попытками критического осмысления действительности. Эти писатели обладали остротой взгляда, свободой суждений и смелостью мысли и еще в эпоху господства романтизма стремились приковать внимание читателей к уродствам американской общественной жизни в их реальном, «будничном» воплощении. Впервые в истории литературы США они ввели в обиход национального искусства образы циничных политиканов, беззастенчивых дельцов, наглых шарлатанов всех мастей.
В их произведениях Твен нашел богатейший материал для своего творчества, и они же подсказали великому сатирику многие приемы. Некоторые особенности метода Твена — «минимум описаний и отвлеченных рассуждений, максимум действия, динамизм повествования, меткость языка, использование диалекта»[40] и интонации устного рассказа, несомненно, берут свое начало в юмористике 30-70-х годов (а она в свою очередь — из фольклора). Из этого богатого реалистического фонда черпал он и многие свои сюжеты. Обновляя новеллистическую традицию Америки, он вводил в ее обиход особую форму «штриховой» бытовой зарисовки, впоследствии получившую дальнейшую жизнь у Ринга Ларднера. Для предшествующей Твену американской литературы характерен иной тип рассказа и новеллы. Их ядром обычно служило некое необычное, а иногда и фантастическое происшествие, обраставшее в ходе повествования столь же необычными драматическими перипетиями, не выпадавшими, впрочем, из строго очерченных границ последовательно развивающегося, крепко спаянного, четко обрисованного сюжета. Образцом такого остросюжетного построения могут служить новеллы Эдгара По. Фантастически бредовый характер изображаемых в них событий особенно оттеняется логической ясностью и математической организацией их сюжетного развития. Эта каноническая для американской литературы XIX в. схема новеллистического повествования у Твена подвергается пародийному переосмыслению. Он был первым писателем Америки, окончательно порвавшим и с условностью сюжета, и с традиционными сюжетными схемами[41]. «Я терпеть не могу… Готорна и всю эту компанию», — писал он Хоуэллсу, поясняя, что сюжетная интрига у этих писателей «слишком литературна, слишком топорна, слишком красивенька»[42]. Сам Твен обладал несравненным умением лепить сюжеты (или их подобие) из «ничего»: из будничных явлений повседневной жизни, из банальнейших действий обыкновенных, рядовых, ничем не замечательных людей, из мельчайших Деталей их повседневного быта. Извлекая из всего этого прозаического материала множество «сюжетных выкрутасов», Твен создавал в своих рассказах ощущение динамически развивающегося действия. Ощущение это отнюдь не обманчиво. У рассказов Твена есть свой особый «драматический» конфликт, и именно он служит источником их скрытого динамизма. Внутренней коллизией его юмористического цикла является столкновение живой, свободной, энергически деятельной жизни с системой омертвевших искусственных установлений, теснящих ее со всех сторон. Предпринимая защиту простого, здорового «естества» вещей от всего, что стремится его извратить и изуродовать, Твен делает орудием его обороны приемы западного фольклора. Используя их, писатель прибегает к гротеску, гиперболе, к «кровавым» эффектам. Он с удовольствием раздает «смертоносные» удары с воинственным пылом орудует ружьем, пистолетом, томагавком, палкой, столами, стульями и, сокрушив своих незадачливых противников, хоронит их на свой счет. В его интерпретации все эти «страшные» действия выглядят веселыми и смешными и столь же комически условными, как в фарсе или клоунаде. Так писать о смерти и убийстве может лишь тот, кто влюблен в жизнь и для кого она является абсолютом. Ее неукротимость, неугомонное буйство и озорство, готовность оказать стихийное сопротивление всему, что пытается обуздать ее и загнать в прокрустово ложе всевозможных запретов, утверждается всей образной системой рассказов Твена.
Юмористические рассказы Твена переносят читателя в особый мир, где все бурлит и клокочет, все буйствует. Даже сиамские близнецы превращаются здесь в чрезвычайно беспокойных и скандальных субъектов, которые в нетрезвом виде швыряют камнями в процессию «добрых храмовников», а покойник, вместо того чтобы мирно покоиться в гробу, садится рядом с кучером на козлы собственного катафалка, заявляя, что ему хочется в последний раз взглянуть на своих друзей. Здесь капитан Стромфильд, попав на небеса, немедленно устраивает состязание с первой попавшейся кометой; здесь обыкновенный велосипед едет куда хочет и как хочет, невзирая на усилия седока, тщетно пытающегося преодолеть сопротивление своенравной машины, а безобидные карманные часы умудряются с дьявольской изобретательностью придать своим стрелкам все мыслимые и немыслимые положения.
Писатель как бы высвобождает скрытую энергию жизни, обнаруживая ее не только в одушевленных, но и в неодушевленных предметах. Сила ее внутреннего напора ощущается даже в атрибутах повседневного быта, в комфорте и покое домашнего очага. В рассказах Твена чашка утреннего кофе нередко соседствует с томагавком или содранным скальпом. «Что бы вы сделали, если бы размозжили ударом томагавка череп вашей матушке за то, что она пересластила ваш утренний кофе? Вы сказали бы, что прежде, чем вас осуждать, нужно выслушать ваше объяснение…»
Мирная обывательская чета Мак-Вильямсов (рассказы «Мак-Вильямсы и круп», 1875 и «Миссис Мак-Вильямс и молния», 1880) живет в молчаливом и враждебном окружении ковриков, умывальников, стаканов, столиков ожесточенная борьба с которыми и составляет основное содержание их жизни. Миссис Мак-Вильямс даже не подозревает, до какой степени она права, когда во всех этих безобидных и полезных вещах видит тайных пособников бушующей за окнами грозы (хотя гроза всего лишь плод ее испуганного воображения). Грозовой заряд неуемной жизненной энергии таится во всех и во всем, даже в ней самой — суматошной, деятельной, утомительно суетливой богине обывательского домашнего очага. Гроза, буйная, шумная, бесцеремонная, бушует в людях и вещах, превращая мир в веселый ералаш.
Твену бесспорно нравится это непрерывное кипение жизни, этот веселый задор, этот раскатистый смех. Такого звонкого хохота, такого шумного веселья, такой живой, сочной «простонародной» речи еще не знала американская литература. В лице «дикого» юмориста Запада народная Америка — живая, здоровая, непосредственная — шумно и бесцеремонно утверждала себя в литературе.
На ранней стадии своего творчества Твен еще не до конца осознал глубину пропасти, отделявшей эту Америку простых людей от другой Америки — стяжателей, филистеров и лицемеров. Но ростки бунтарских настроений уже пробиваются в его веселых «пустячках». В самой манере Твена видеть вещи и говорить о них заключался вызов ханжеской, лицемерной, фарисейской морали американского обывателя.
Все искусственное и надуманное, всякая предвзятость суждений вызывают у писателя протест. Ему ненавистны догматы, каноны, штампы, любые попытки пригладить жизнь, придать ей мещански благовоспитанный облик.
Уже на начальном этапе своей деятельности Твен выступает как последовательный и непримиримый враг фальшиво-лицемерного, ханжеского «благочестия» буржуазной Америки.
Даже в это время юмор не являлся для Твена самоцелью и должен был играть в его творчестве отчасти служебную роль. У этого, казалось бы, столь беззаботного писателя было очень четкое представление о характере своей творческой миссии как юмориста. Он твердо верил, что «чистые юмористы не выживают» и если юморист хочет, «чтобы его произведения жили вечно, он должен учить и проповедовать». «Я всегда проповедовал, — утверждает он в «Автобиографии». — …Когда юмор неприглашенный, по собственному почину, входил в мою проповедь, я не прогонял его, но я никогда не писал свою проповедь для того, чтобы смешить» (12, 302). Заявление Твена соответствует истине. Даже самые его безобидные юморески выполняют особое социально-критическое задание: они служат орудием разрушения догматов, условностей и всех видов лжи и фальши как в жизни, так и в литературе.
Применительно к этой последней программа Твена поистине содержала неисчерпаемые творческие возможности. В его произведениях уже с самого начала совершалось «первооткрытие» реального мира, и в них жила радость его обретения. В процессе освобождения от моральных, религиозных и литературных «стандартов» жизненная реальность как бы впервые находила свой истинный облик. С любознательностью Колумба Твен открывал новую Америку, в каждой самой скромной подробности ее будничного быта обнаруживая неожиданное и занимательное содержание.
В этом, как и во многом другом, он был последователем «газетных» юмористов. Двигаясь вдоль колеи, проложенной ими, он, подобно им, умел придать самым общеизвестным истинам и сверхбанальным ситуациям оттенок неожиданности и сенсационности. (Характеризуя одного из своих учителей Петролеума Нэсби, Твен в «Автобиографии» рассказывает о том, что все свои лекторские выступления Нэсби начинал с заявления: «Все мы произошли от наших предков» — и эта неоднократно повторяемая фраза всегда вызывала шумное одобрение аудитории.)
При всем том реалистическое новаторство Твена не только несводимо к приемам «газетного» юмора, но в смысле своего художественного уровня несоизмеримо с ним. При всей полноте сюжетных совпадений рассказов Твена с другими произведениями американской юмористики они непохожи ни на один из своих прообразов. Даже в самых незначительных из его ранних рассказов проявляется несравненное умение Твена проникать в душу явлений, изображать их в индивидуальной неповторимости, во всем богатстве их реального бытия. В гротескных, фантастических рассказах писателя закладывались основы поэтики реализма в формах, поражающих своей свежестью и новизной. Его образы обладают огромной выпуклостью и рельефностью, метафоры сочны и красочны до предела, его сравнения отличаются неожиданностью и меткостью. В метафорической структуре его речи есть нечто от «синкретического» мышления. Он обладает несравненным умением сочетать несочетаемое, воспринимать явления жизни в комплексе, делая это с непринужденностью и простотой, свойственной целостному, наивному, мифотворческому сознанию.
В рассказах Твена лягушка «дергает плечом наподобие француза», переворачивается, как оладья на сковородке, карманные часы отдают, как дедовское ружье, и вынуждают своего обладателя «положить на грудь слой ваты». Поразительная наблюдательность Твена, предельная острота его поэтического видения проявляются во внимании к деталям, в стремлении к подробному и точному их воспроизведению. Его крошечные рассказы на диво вместительны. Штриховые зарисовки сделаны здесь со скрупулезной точностью, с обстоятельностью, казалось бы почти невозможной. Писатель успевает заметить, что сердитый старик, ворвавшийся в редакцию сельскохозяйственной газеты, прежде чем пустить в дело палку, ставит шляпу на пол и вынимает из кармана красный шелковый платок. «Свистопляска», происходящая в другой редакции — теннесийской газеты «Утренняя заря и Боевой клич округа Джонсон», не мешает ему разглядеть и трехногий стул, на котором сидел ответственный редактор, «раскачиваясь… и задрав ноги на сосновый стол», и «еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей» (10, 107). Он видит и деревянный ящик с песком, и чугунную печку с дверцей, державшейся на одной верхней петле, и костюм редактора, датируемый «приблизительно 1848 годом», и его «косматую шевелюру», «порядком взлохмаченную» вследствие того, что энергичный деятель прессы «в поисках нужного слова часто запускал руки в волосы» (10, 107–108).
Реалистическая убедительность всех этих невинных наблюдений (особенно оттеняющая фантастичность и гротескность изображаемых событий), пластическая выпуклость беглых твеновских зарисовок поистине не имели параллелей в современной ему американской юмористике.
В этом легко убедиться, сравнив юмореску Твена «Мои часы» (1870) с близким к ней по содержанию рассказом юмориста 40-х годов Филдса. Героем рассказа является некий бедняк, на последние деньги купивший часы, обладавшие, согласно уверению продавца, «превосходным ходом». Но сделав эту покупку, он убеждается в том, что его надули самым безжалостным образом. Отныне его жизнь превращается в бесконечную цепь визитов к мошенникам-часовщикам, которые на все жалобы своего незадачливого клиента отвечают одной и той же фразой: «Часы нуждаются в чистке». Услышав это заверение чуть ли не в сотый раз, бедняк приходит в отчаяние и отказывается от дальнейшей борьбы с судьбой, подсунувшей ему под видом часов некое орудие пытки. Сопоставляя рассказ Твена с типичным произведением рядового американского юмориста, можно осознать величину дистанции, разделявшей рассказы великого писателя и характерные образцы традиционного «газетного» юмора. Внутри одной и той же сюжетной схемы происходит полное перераспределение акцентов. В рассказе Филдса все часовщики однолики, все говорят одно и то же; в рассказе Твена и сами они, и их реакции — разнообразны и индивидуальны. Один из них берет часы с выражением «свирепой радости» и стремительно «набрасывается» на них (10, 182), другой совершает свое «черное дело» «невозмутимо и безжалостно» (10, 181), третий сообщает, что механизм «вспучило» (10,182), четвертый утверждает, что нужно поставить заплаты да недурно бы «подкинуть подошвы» (10, 183) и т. д. Кроме этих многочисленных героев здесь есть и еще один «герой» — сами часы. У них есть своя «физиономия», своя ярко выраженная индивидуальность, и писателя чрезвычайно интересуют все ее проявления. Его явно занимают инициатива часов, их внутренняя раскованность, размах их деятельности, в результате которой они как бы получают власть над той силой, которой они призваны служить, над самим временем. Уходя вперед, они опережают современную эру на тысячелетия, отставая — они плетутся в далеком прошлом. «Октябрьский листопад крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом денег на квартиру, с уплатой по разным счетам. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один-одинехонек болтаюсь посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое-то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать с ним на злободневные темы» (10, 182). В отношении Твена к часам есть нечто и от любознательности первооткрывателя, и от наивного любопытства ребенка, который ломает и портит вещь, чтобы узнать, как она устроена. Это впервые увиденное им устройство он демонстрирует во всех его деталях.
Реалии живой действительности интересуют его как некое новооткрытое чудо, и он вглядывается в них с пристальным вниманием, с тем оттенком наивного удивления, которое свойственно человеку, неожиданно обнаружившему, что мир, его окружающий, совсем не таков, каким он его представлял.
Открывая мир заново, писатель подвергает рассмотрению каждое из явлений его жизни, стараясь при этом не упустить ни одной микроскопической подробности, касающейся объекта его внимания. Объекты эти на редкость разнообразны, и к каждому из них писатель подбирает особый ключ. Приближая предмет к читателю, он всегда стремится повернуть его какой-то особой, новой, неожиданной стороной. Иногда эта цель достигается посредством смещения пропорций. Дабы освежить характер читательского восприятия, Твен демонстрирует явление в увеличенном виде. Лягушка разрастается у него до размеров слона («Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», 1865), а слон приобретает подлинно космические масштабы («Похищение белого слона», 1882).
Одной из важнейших сторон его изобразительной манеры является особый эпически неторопливый ритм повествования. Изложение событий в его рассказах иногда напоминает замедленную киносъемку. «Кадры» проплывают перед глазами зрителя в нарочито заторможенном темпе, как бы давая ему возможность хорошенько вглядеться в них, увидеть еще невиданное, ранее им не замеченное. Подобные наблюдения иногда почти заменяют Твену сюжет. Так, в «Укрощении велосипеда» одно ультранезначительное событие в жизни героя, о котором, казалось бы, и говорить-то не стоит, разрастается до масштабов своеобразной «Илиады», излагается с учетом всех его перипетий, периодов и этапов, как бы воспринятых через увеличительное стекло. «Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я перелетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что машина порхает в воздухе, застилая от меня солнце…» (10, 372). Подобный отстраненный ракурс восприятия, позволяющий как бы обновить представления о привычных, примелькавшихся, по-будничному незначительных событиях жизни, распространяется на явления не только материального, но и духовного мира читателя. Несравненный мастер комического диалога Марк Твен любит уточнять смысл отвлеченных понятий, подвергая их буквальной расшифровке. Так, «война», происходящая в мире теннессийской журналистики, из метафоры превращается в живую реальность и входит в маленький мирок газетной редакции во всеоружии своих кровавых атрибутов: резни, выстрелов, насилия, увечий и т. д. Предельная конкретность этой «хроникальной» зарисовки помогает Твену с большой точностью и полнотой воссоздать гангстерские нравы американской прессы. Переключение объекта в новый план, составляющее один из главных художественных приемов Твена в его рассказах, происходит и благодаря особым повествовательным принципам. В них чаще всего присутствует рассказчик, и именно это обстоятельство содействует созданию их юмористически остраненного рисунка. Писатель особенно любит показывать действительность через восприятие простодушного, непосредственного человека, «простака», который видит все вещи в их истинном виде и в бесхитростной, наивной манере повествует о своих жизненных впечатлениях. Этот прием имеет для Твена огромное, почти универсальное значение. «Простак» является центральным героем подавляющего большинства его рассказов и повестей. Присутствие этого персонажа определяет повествовательную манеру Твена с ее особой устной интонацией. Даже в тех произведениях, где нет героя-рассказчика как самостоятельно действующего персонажа, сохраняется тот же нарочито наивный тон, та же эпическая объективность летописца, с которой автор описывает самые нелепые и смешные происшествия.
Из столкновения наивной логики «простака» с логикой существующих жизненных отношений и рождается комический эффект рассказов Твена. В сознании «простака» все явления преломляются самым неожиданным образом. Он видит мир по-своему, совершенно иначе, чем другие люди. Именно поэтому Твен так любит манеру повествования от первого лица. Она позволяет ему раскрыть внутренний мир героев и показать комическое несоответствие их жизненных представлений с законами жизни окружающего мира. Излюбленный образ творчества Твена — «простак» — ведет свое происхождение от разных источников. Важнейшими из них являются традиция западного фольклора. «Простак» — один из постоянных персонажей американских юморесок. Его простота и наивность служат не только поводом для создания разнообразных комических ситуаций, но и маской, за которой скрывается ироническая ухмылка по адресу официального кодекса приличий. Дискредитация джентльменских правил поведения осуществлялась в формах своеобразной клоунады, создававших предпосылки и для сценического использования этого приема. Не случайно поэтому маска «простака» особенно широкое применение получила у рассказчиков-юмористов, в числе которых длительное время находился и Твен. Опыт, приобретенный писателем а этом поприще, несомненно, помог ему найти своего комического героя и, обогатив традиционный образ множеством новых красок, поднять его до уровня большого реалистического искусства Америки.
Генезис твеновского «простака», его прямая связь с традициями фольклора и юго-западного юмора устанавливается уже в одном из первых его рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». Подтекстом этой ультракомической новеллы, представляющей собою обработку одного из анекдотических западных сюжетов, являлась антитеза «неотшлифованного» Запада и «прилизанного» Востока. За простодушным рассказом неуклюжего фронтирсмена Саймона Уилера, развлекающего своего слушателя-джентльмена бесхитростным повествованием о «подвигах» собак и лягушек, скрывалась мысль о существовании особого мира со своей неузаконенной шкалой ценностей, в принципе столь же законной, сколь и господствующая. Намеком на это служили и имена героев. Дэниель Уэбстер — лягушка и Эндрью Джексон — собака являлись тезками известных государственных деятелей. Рассказ Уилера доказывает, что ему нет дела до этих знаменитостей, что он не знает о них, а если бы знал, то мог бы сказать о них словами шекспировского Меркуцио: «Чума на оба ваши дома!» В сущности он и говорит нечто в этом роде если не в прямой форме, то самой, своей манерой изложения.
Излагая свою лягушачью эпопею, он «ни разу не улыбнулся, ни разу не нахмурился, ни разу не переменил того мягко журчащего тона, на который настроился с самой первой фразы, ни разу не проявил ни малейшего волнения; весь его рассказ был проникнут поразительной серьезностью и искренностью; и это ясно показало мне, что он не видит в этой истории ничего смешного или забавного, относится к ней вовсе не шутя и считает своих героев ловкачами самого высокого полета» (10,31). Подобный способ изложения наталкивает читателя и на некоторые дополнительные выводы относительно характера как повествователя, так и слушателя. В самом деле, так ли уж прост Саймон Уилер? Ведь в сущности в этом рассказе не один, а два повествователя — клоун и джентльмен, и неизвестно, кто из них подлинный «простак» и кто кого дурачит. Ясно лишь одно, что из двух рассказчиков фронтирсмен более искусный. Он рассказывает лучше, ярче, сочнее и, так же как и автор, умеет видеть вещи и ощущать их внутреннюю жизнь. Иными словами, он говорит языком Марка Твена, в то время как речь его собеседника бесцветна, скучна и столь же невыразительна, как канцелярский отчет.
Так, уже здесь маска становится живым лицом, характером, и при этом наделенным довольно сложными функциями. В дальнейшем творчестве Твена их усложнение происходит в возрастающей прогрессии. Из носителя примитивных эмоций, каким «простак» был в своем фольклорном первобытии, он преображается в человека, чье здоровое, неразвращенное сознание служит своего рода критерием оценки разнообразных жизненных явлений. Преображение это происходит на основе восприятия и другой национальной демократической традиции, а именно просветительской. В ходе эволюции твеновского «простака» в его образе иногда мелькают черты, напоминающие отдаленного предка многих американских «простаков» — франклиновского «бедного Ричарда» («Альманах бедного Ричарда»). Рупор идей Франклина — простой, здравомыслящий, практичный американец — был особым вариантом естественного человека XVIII в. Его советы, обращенные к читателю, касались главным образом житейских вопросов и являли собою практические выводы из философии американского Просвещения. Кое-какие его черты (деятельный, утилитарный склад мышления) характерны и для героев Твена. Образы его «простаков» возникли в точке скрещения просветительской и фольклорной традиций, и в художественном отношении этот синтез оказался чрезвычайно плодотворным. Он стал почвой, на которой произросло великое множество характеров, являющих собою бесчисленные разновидности комедийного характера «простака». Твена есть «простаки» легкомысленные, «простаки» серьезные, «простаки» верующие («вдохновенные идиоты»), «простаки» — скептики, «простаки» лукавые, под простотой которых скрывается немалая доля хитрости и плутовства. Но при всем бесконечном разнообразии этих психологических нюансов большинству из них присуще очень важное качество — способность к естественным реакциям непредвзятым суждениям. Бесхитростное дитя природы, «простак» Твена обладает природным здравым смыслом в сколь бы нелепых формах ни реализовалось это ценнейшее свойство). Правда, его наивность и бесхитростность нередко внушают ему излишнее доверие к окружающему миру.
Психология твеновских «простаков» иногда сходна с психологией вольтеровского Кандида, который, как известно, был склонен думать, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Он готов верить в правдивость прессы, в гениальность Фенимора Купера, в добросовестность часовщиков, в глубокую мудрость инструкции, обучающей езде на велосипеде. Преисполненный самых оптимистических надежд, он блуждает по бюрократическим лабиринтам американских правительственных учреждений, уповая на то, что суровые представители власти великодушно оплатят некий доставшийся ему по наследству счет («Подлинная история великого говяжьего контракта», 1870). Благоговея перед мудростью полицейских и детективов, он отдает в их распоряжение все свое состояние и остается гол как сокол («Похищение белого слона»).
Но при всей нелепости жизненных представлений «простаков» их устами нередко глаголет истина. В их наивности подчас скрыта немалая доля здравого смысла, лукавства и иронии. Вот беспредельно наивный молодой человек, который служит секретарем у министра («Когда я служил секретарем», 1868). Он ведет официальную переписку с избирателями своего принципала. В тоне дружеской грубоватой фамильярности, с развязностью и непринужденностью, совершенно неуместной для деловой корреспонденции, он пишет им: «Джентльмены! Какого черта вам понадобилась почтовая контора… Что вам действительно необходимо — так это удобная тюрьма» (10, 89). И пожалуй, в этом поразительном по своей неожиданности заявлении есть изрядная доля правды. Быть может, не лишены основания и соображения другого героя Твена — секретаря «сенатской комиссии по конхологии», который считает, что «увеселительная поездка адмирала Фарагута вокруг Европы стоит стране слишком дорого» и что «если уж нужны поездки такого рода для офицеров морского флота, то дешевле и лучше было бы организовать для них прогулку на плотах по Миссисипи» («Почему я подал в отставку»). Во всех этих бесхитростных, невинных рассказах уже слышатся саркастические нотки. Характерная схема рассказа о «простаках» в редакции Твена приобретала неисчерпаемые сатирические возможности. В ходе творческой эволюции писателя они проявлялись с растущей отчетливостью. Этот процесс начался очень рано, фактически в конце 60-х — начале 70-х годов.
Уже в ранних рассказах Твена «простак» был фигурой отчасти опасной для «американского образа жизни». Его не застланный предубеждениями взор проникал в скрытые глубины общественной жизни США. Попеременно становясь то незадачливым претендентом на пост губернатора («Как меня выбирали в губернаторы», 1870), то бедным трудящимся китайцем, жестоко притесняемым в «стране свободы» («Приятель Голдсмита снова в чужой стране», 1870), то робким, доверчивым сотрудником буйной американской прессы («Журналистика в Теннесси», (1869), «простак» в соответствии с привилегией дураков, шутов и клоунов выбалтывал горькие истины относительно отечественных порядков. Сам того, по-видимому, не замечая, он говорил о продажности прессы, о комедии выборов, о фиктивности парламентаризма, о засилье шарлатанства и невежества («Как я редактировал сельскохозяйственную газету», 1870). С простецкой бесцеремонностью он вторгался в «неприкасаемую» область религии, показывая, что истинным содержанием этого слова в США являются лицемерие, ханжество и стяжательское своекорыстие. «Кто есть бог, истинный и единый? — вопрошает: писатель. — Деньги — вот бог. Золото, банкноты, акции» («Исправленный катехизис», 1871). Картина, которая создавалась из многообразия наивных впечатлений «простаков», была несовместима не только с «традицией благопристойности», но и с официальной концепцией относительно совершенств американской цивилизации. Уже в самом начале своей деятельности Твен распознал ее деспотическую сущность и способность к разрушению нравственных первооснов человеческой личности. В его рассказах корруптирующему воздействию американского образа жизни подвергаются не только дети (мальчик из рассказа «Возмутительное преследование мальчика», 1870), с благословления и одобрения взрослых швыряющий камень во всеми гонимого китайца, но и взрослые, в том числе даже закаленный в боях редактор, чья бурная энергия (это прекрасное национальное качество) оборачивается кровожадным стремлением к физическому истреблению конкурентов.
Пропущенные сквозь наивное естественное сознание «простака», впечатления американской жизни создавали представление о противоестественности господствующего порядка вещей, о стране, в которой все поставлено на голову. Все с большей определенностью Твен утверждает, что насилие над здравым смыслом, над естественной природой вещей является законом духовной, интеллектуальной жизни Америки.
Так, Венера Капитолийская из произведения заурядного американского скульптора превращается в античную статую, созданную неизвестным, но гениальным художником, и в процессе этого преображения теряет нос, ухо и несколько пальцев на руке («Венера Капитолийская», 1869).
Здесь великий Бенджамин Франклин, который сделал столько «достопримечательного для своей страны и прославил ее юное имя во многих землях», славится прежде всего как автор «пошлых трюизмов, надоевших всем еще до Вавилонского столпотворения…» («Покойный Бенджамин Франклин», 1870). Здесь сапожники танцуют в балете, артисты балета шьют сапоги («Как я редактировал сельскохозяйственную газету»), полицейский подвергает аресту не преступника, а его жертву («Чем занимается полиция», 1866). В ходе эволюции «простака» заметным образом варьируется и сама тональность его бесхитростных рассуждений: в них все отчетливее слышится нота вполне осознанной едкой иронии.
«Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Проходимцы, у которых никогда не было ни гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тела своих сородичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету?., чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения» («Как я редактировал сельскохозяйственную газету»).
Совершенно ясно, что эту желчную тираду произносит умный и проницательный человек, и дебош, учиненный им в редакции сельскохозяйственной газеты, есть форма его сознательного протеста против «парадоксов» американской жизни. Он, писавший статьи об «арбузных деревьях», хорошо знает, на какой почве произрастают эти диковинные экземпляры отечественной флоры. Так уже на этом этапе в «самом веселом писателе Америки» временами просыпается гневный и беспощадный сатирик. Ее случайно в 1869 г. в одном из своих писем он дает сочувственную оценку Свифту. «Бедный Свифт, — пишет он, — под спокойной поверхностью его просто написанной книги струится поток яда — кипящее море его несравненной ненависти».
В сущности эта характеристика в какой-то мере применима и к самому Твену, даже на начальной стадии его творчества. В подполье его юмористических рассказов уже бродила раскаленная свифтовская стихия. Постепенно достигнув высшей точки своего накала, она наконец выплеснулась на страницы его романа «Позолоченный век» (1873). В этом произведении, давшем имя целой эпохе, Твен и его соавтор Чарлз Дадли Уорнер (1829–1900) впервые показали реальное состояние американского общества, в котором вместо ожидаемого «золотого» воцарился «позолоченный век». К середине 70-х годов стало ясно, что «героический» период американской истории — период оптимистических надежд и освободительных порывов пришел к концу. На почве, расчищенной гражданской войной, началась оргия буржуазного стяжательства. Быстрый рост промышленности, железнодорожного строительства и торговли на Северо-Американском континенте сопровождался невиданным разгулом мошенничества и шарлатанства. Начало 70-х годов ознаменовалось предпринимательской лихорадкой, принимавшей самые разнообразные виды и формы. Дух обмана и спекуляции проник во все области деловой жизни США. Акционерные общества, банковские объединения, торговые компании возникали на каждом шагу, оспаривая друг у друга право на грабеж и расхищение национальных богатств. Делец — проныра, циничный хищник, прожженный авантюрист стали ведущими фигурами американской общественной Жизни. «Это была эпоха, — пишет Брукс, — когда президенты, генералы… проповедники стали дельцами и… вся энергия американцев… сосредоточилась лишь в одной сфере, признанной достойной, — сфере бизнеса»[43]. Именно в это время в Америке окончательно сложился культ успеха, и его реальный результат — богатство получило значение всеобъемлющего нравственного критерия. Для тех, Кто исповедовал это циничное кредо, оно было прямым выражением национального духа. Они видели в нем органическое продолжение славных традиций пионерства. Погоня за наживой открыто рекомендовалась в качестве той формы деятельности, которая наиболее соответствовала бодрому, практическому складу «американского Адама». Обо всех этих головокружительных сдвигах, происшедших в жизни страны и в ее сознании, и возвестил роман Твена. Став поворотной точкой в литературном развитии Америки, он явился одним из первых произведений эпохи, «проникших в самые источники гнили, замутившей американскую жизнь»[44]. «Из всех романов, вышедших в 60-70-х годах, — пишет известный прогрессивный американский критик Ф. Фонер, — «Позолоченный век» единственный, в котором авторы отважились обратиться к насущным проблемам столетия, разоблачить широко охватившую страну коррупцию и породившие ее силы и призвать народ к бдительности, показав ему распространенный в обществе упадок нравов»[45]. Действительно, хотя произведения аналогичной направленности уже появлялись в литературе США начала 70-х годов, например «Вдохновенный скупщик голосов» Де Фореста (1872). «Большинство в пять сотен» Хьюма (1872), «Тайна Метрополисвилля» Эдварда Эгглстона (1873), ни одно из них не было сатирой такого масштаба[46], как роман Твена и Ч. Д. Уорнера. Созданное ими произведение поражает широтой своего внутреннего размаха. С большим сатирическим мастерством здесь воспроизводится то состояние всеобщей одержимости, в котором оказалась страна, устремившаяся на путь стяжательства и увидевшая в нем цель и смысл всех человеческих свершений. Жажда денег обуревает всех и каждого, начиная с захолустного фермера и кончая конгрессменом. «Я заработаю еще денег, вернусь сюда, — бредит наяву молодой Филипп Стерлинг один из героев романа, — и тогда посмотрим, чья возьмет! Да, но на это могут уйти годы, долгие годы» (3, 541). Этот «вызов року» бросает не только Филипп Стерлинг (один из немногих персонажей романа, которому в конце концов повезло). Для других героев «Позолоченного века» поединок с судьбой заканчивается не столь благополучно. Завладев сознанием рядовых американцев, «золотой мираж» толкает их на разорение, нищету, моральную и физическую гибель. Образы этих многочисленных жертв «позолоченного века», с калейдоскопической быстротой проходящие перед читателем, помогают воссозданию нездоровой, лихорадочной атмосферы эпохи. Трудная для дыхания, она полна гнилостных испарений. Стремление к наживе, проникшее во все поры американского общества, подточило его государственные, юридические, моральные устои. С глубокой иронией Твен говорит здесь о «гении американской свободы об руку с воскресной школой, с одной стороны, и Обществом трезвости — с другой, восходящем по славным ступеням национального Капитолия». С ядовитым сарказмом писатель демонстрирует коррупцию правительственных кругов, продажность сенаторов, вопиющее лицемерие официальной ханжеской морали, под покровом которой темные авантюристы всех мастей творят свои грязные дела.
Один из таких матерых хищников — сенатор Дилуорти — показан в романе крупным планом. Наглый аферист, мошенник государственного масштаба, пробравшийся к власти при помощи подкупа, шантажа и обмана, он является подлинным «героем своего времени», той общественной силой, которая определяет весь стиль американкой жизни эпохи «позолоченного века». Он вездесущ и многолик. Сфера его деятельности отнюдь не ограничивается рамками чисто деловых махинаций. Он властвует в политике, религии, идеологии, педагогике. Его голос раздается с трибуны конгресса, с кафедры воскресной школы, со страниц «благонамеренной» и «свободной» американской печати. Широта его делового размаха реально означает всеобщность и универсальность той циничной морали буржуазного чистогана, которая воцарилась в итоге «демократических завоеваний». Если сенатор Дилуорти — это деловая практика «позолоченного века», то полковник Селлерс, другой герой романа, воплощает в себе его «поэзию» и «романтику». Этот неутомимый прожектер, в голове которого то и дело рождаются фантастические планы внезапного обогащения, есть нечто большее, чем обычный твеновский «простак». В его лице происходит преображение самой «американской мечты». Национальный миф становится мифом об успехе, горячечным бредом неудачника, мимо которого прошел золотой дождь, не окропив его своей живительной влагой.
Печать горького разочарования лежит на остросатирическом произведении Твена, и разочарование это менее всего сводимо к причинам личного характера. Его сарказм и ирония имели другой источник. Хотя его доверие к теоретическим принципам американской демократии на этом этапе еще в целом остается незыблемым и все происходящее в «Позолоченном веке» представляется ему лишь следствием «невежества и пассивности» его сограждан, добровольно отдающих «политическую власть в руки… карьеристов и мошенников»[47], он уже испытывает настроения смутной тревоги и потребность в известной переоценке ценностей.
Не случайно именно в это время в его творчестве начинает звучать характерная ностальгическая нота. Он все чаще оглядывается назад, стремясь найти свой жизненный идеал уже не в будущем, а в прошедшем. В его произведениях поселяется смутная грусть о чем-то навсегда утраченном (а быть может, никогда и не существовавшем), о молодости своей и целой страны, о ее наивных юношеских иллюзиях, беспощадно развеянных жизнью. Из этого ностальгического томления о мелькнувшем радостном «утре» его собственной жизни, совпавшем с «утром» Америки, рождается одна из ключевых тем творчества писателя — тема детства.
Обратившись к этой теме, возникшей из глубины его потаенных переживаний, Твен в то же время дал выражение настроениям своей эпохи. Тоска по детству была характерна для послевоенной Америки, только что перешагнувшей из «золотого» в «позолоченный» век. Склонность к идеализации «патриархальной» Америки довоенного времени рождалась из сравнений настоящего с прошлым, представавшим перед взором американцев 70-х годов в дымке еще не изжитых иллюзий. Причину этого умонастроения раскрыл Фридрих Энгельс в письме к Ф. Келли-Вишневецкой, написанном им в середине 80-х годов: «Америка была в конце концов идеалом всех буржуа: богатая, обширная, развивающаяся страна с чисто буржуазными учреждениями, свободными от феодальных пережитков или монархических традиций и не имеющая постоянного, наследственного пролетариата. Здесь каждый мог стать если не капиталистом, то, во всяком случае, независимым человеком, который занимается производством или торговлей на свои собственные средства, за собственный страх и риск. И так как здесь пока еще не было классов с противоположными интересами, то наши — и ваши — буржуа думали, что Америка стоит выше классового антагонизма и классовой борьбы. Эта иллюзия теперь рассеялась, последний буржуазный рай на земле быстро превращается в чистилище, и от превращения, подобно Европе, в ад его сможет удержать лишь бурный темп развития едва оперившегося американского пролетариата»[48]. Связь этих процессов с темой детства устанавливает американский литературовед Кеннет Линн. «Развитие цивилизации, которая быстро шла по пути индустриального прогресса, — пишет он, — создавало представление о том, что волшебство и прекрасные тайны природы вытесняются из жизни… Чтобы ощутить очарование жизни в современной Америке, нужно было снова стать ребенком»[49]. По свидетельству того же Линна, в Америке 70-80-х годов «детство возносилось на еще небывалую высоту. Оно было прибежищем от корруптирующих влияний новой эры… и послевоенные американцы стремились обрести в нем… чудесную новизну и свежесть первых жизненных впечатлений»[50].
Но для Твена это возвращение к детству было чем-то неизмеримо более значимым, нежели уступка духу времени. Его книги о детях давали органическое выражение глубинным тенденциям его творчества, проявившимся уже на самом раннем его этапе. Тема «наивного сознания» — художественный концентрат идейных настроений писателя — в его романах о детях вступила в новую стадию своего развития. Маленькие герои его новых книг были прямыми преемниками «простаков», естественными людьми нового, психологически более сложного и реалистически совершенствованного образца. «Простак» Твена — фигура условная и смехотворная. На нем нередко лежит отпечаток «идиотизма» современной жизни с ее извращенным порядком вещей. Объект иронии автора — «простак» — далеко не всегда выступает в роли его положительного героя. Иначе обстоит дело с персонажами детских книг. В них воплотились заветные чаяния и стремления самого Твена. Их сознание в целом — та гармоническая норма, которой измеряется ценность всех явлений жизни. Их образы возникли из стремления писателя взглянуть на мир глазами чистого, неиспорченного человека и показать глубокое несоответствие между жизненными условиями современного общества и здоровой, неизвращенной природой вещей.
С помощью своих маленьких героев он стремился «расколдовать» действительность; вернуть вещам их живое бытие, снять с них безжизненный покров окостенелых, мертвых представлений. Показывая американскую действительность сквозь наивное, свежее детское восприятие, Твен раскрывал искусственность, условность, противоестественность тех отношений, какие господствовали в «демократической» Америке.
В детских книгах Твена, созданных в эпоху наивысшего творческого расцвета писателя, проявились наиболее сильные стороны его дарования. Ироническое обличение темных сторон американской демократии сочетается в них с широтой и смелостью реалистических обобщений, со свежестью, полнокровностью и пластической рельефностью художественных образов. Впервые во всей полноте здесь раскрылась тема красоты обыкновенной, простой, здоровой жизни, красоты простого, здорового человеческого сознания. Это было важным событием в истории американской литературы, крупным завоеванием нового, рождающегося литературного направления — американского реализма.
«Приключения Тома Сойера»
Работая над «Томом Сойером», Твен сам хорошо не знал, пишет ли его для взрослых или для детей. Вложив в эту задорную, насмешливую, жизнерадостную книгу свои заветные мысли и стремления, писатель был склонен думать, что «Приключения Тома Сойера» «будут читаться только взрослыми». Однако восторженные письма юных читателей, а также отклики признанных корифеев детской литературы убедили Твена в том, что он, неожиданно для себя, стал автором детской книги. Эта точка зрения нашла поддержку у многих представителей современной Твену американской литературы и критики. Так, У. Д. Хоуэллс писал Твену: «Неделю тому назад я кончил читать «Тома Сойера». Я не вставал, пока не дошел до конца рукописи, — просто нельзя было оторваться. Это лучшая повесть для мальчиков, которую я когда-либо читал. Книга будет иметь беспредельный успех. Но вы должны совершенно определенно относиться к ней, как к книге для мальчиков. Если это будет так, то и взрослые будут наслаждаться ею в равной степени, а если вы перейдете к изучению характера мальчика с точки зрения взрослого — это будет неправильно»[51].
В ответ Хоуэллсу Твен писал: «М-с Клеменс считает, так же как и вы, что произведение должно выйти как книга для детей, чистая и простая, и я тоже так думаю. Конечно, это правильная мысль»[52].
Закрепив за романом Твена репутацию детской книги, современная Твену критика, как правило, не способна была увидеть в романе те качества, которые придавали ему ценность в глазах взрослого читателя: его полемическую направленность, демократический дух, непочтительно-дерзкое, насмешливо-ироническое отношение Твена к религии, этике и морали буржуазного мира. Впрочем, для этой слепоты помимо субъективных были и некоторые объективные основания. Идейно-философская проблематика произведения, в котором в полемике с официальной моралью утверждалась особая концепция жизни и человека, выступала здесь в несколько приглушенном звучании, пробиваясь сквозь ту радостную музыку юности, которая определяет тональность этого произведения.
«Приключения Тома Сойера», — обоснованно утверждает советский литературовед А. Старцев, — одна из самых лучезарных книг в мировой литературе»[53]. Но «лучезарность» этой безудержно веселой книги не исключает ее известной философской глубины и критической остроты и, более того, находится с нею в отношениях нерасторжимой внутренней связи. Эти тенденции, воплощенные в непосредственном содержании романа, реализуются и в мотивах литературно-полемического характера, играющих довольно существенную — роль в его построении. По особенностям своей внутренней структуры книга Твена отчасти сходна с «Дон Кихотом» Сервантеса: в ней, как и в произведении великого испанского писателя, присутствуют элементы литературной пародии. И хотя это пародийное начало не исчерпывает авторского замысла, оно содействует уяснению его некоторых сторон.
Как особая форма романа-пародии, «Том Сойер» полностью вписывается в общую картину творчества Твена — юмориста и сатирика. Его жанровый диапазон органически включал в себя и жанр литературной пародии. Необходимость обращения к этой форме определялась всем характером жизненной и литературной позиции писателя. Ненавидя всякую фальшь, ложь и лицемерие как в жизни, так и в искусстве, Твен полемизировал и с признанными литературными авторитетами прошлого, и с целыми направлениями современной ему литературы. Поэтика пародийных рассказов Твена не отклоняется от канонических принципов его юмористики. Обычная схема его юморесок, изображающих процесс высвобождения жизни от наседающих на нее штампов и ярлыков, от всего, что хочет извратить и изуродовать ее, воспроизводится в пародиях с прямой ориентацией на литературу. Как и обычно, столкновение этих антагонистов завершается чем-то вроде взрыва. Жизненная реальность торжествует над всеми попытками ее извращения и в своем буйном протесте ломает узкие рамки литературных канонов. Характерным образцом такой пародийной схемы может служить рассказ «Ниагара» (1869) — одно из многочисленных антикуперовских выступлений Твена. «Одержимость» Купером, во власти которой находится герой рассказа, приводит его к острейшему конфликту с жизненной правдой. Когда, явившись в царство куперовской романтики — к Ниагарскому водопаду, этот очередной «простак» пытается установить контакт с туземцами, их реакция на его обращение к ним оказывается совершенно непредвиденной. Его высокопарные речи, выдержанные в строгом соответствии с «первоисточником», воспринимаются слушателями, незнакомыми с произведениями Купера, как тяжкое оскорбление. Ответив на них бранью, разгневанные индейцы (которые на поверку оказываются ирландцами) швыряют оратора в Ниагарский водопад, дабы отрезвляющее действие этой бурной природной стихии излечило его от нездоровых литературных увлечений. Этот бунт «естества», почти обязательный для — всех пародийных рассказов Твена, как правило, направлен и по более широкому адресу. Литературные условности и гнетущие «природу» моральные предписания в пародиях Твена идут рука об руку и его ирония нацелена на эту общую мишень. Ее внутреннее единство особенно нерасторжимо в тех пародиях, где в качестве объекта выступает елейная и ханжеская литература, предназначенная для детского чтения.
Детская литература явилась своего рода кривым зеркалом, в котором в преувеличенном виде отразились все недостатки и пороки господствующего литературного направления, а одновременно и господствующей морали.
Образ ребенка издавна являлся камнем преткновения как для большой литературы США, так и для ее разнообразных ответвлений. Диккенсовская традиция, оказавшая сильное воздействие на таких писателей, как Готорн и Бичер-Стоу, у них предстала уже в своем крайнем, гипертрофированном выражении[54]. В их изображении ребенок становился ангелоподобным существом, свободным от слабостей и пороков старшего поколения. В детской литературе эти тенденции были доведены почти до карикатуры. Утратив свое поэтическое обаяние, образы детей приобрели ханжескую окраску, в отдельных случаях почти непереносимую[55].
К моменту появления «Приключений Тома Сойера» (1876) одним из характернейших жанров детской литературы были так называемые книги для воскресной школы, представлявшие собою концентрат ханжеской морали американского обывателя. Поставщиками произведений подобного рода были литературные посредственности, наводнявшие книжный рынок Америки сентиментально-благочестивыми рассказами о хороших детях, которым уготован путь в рай, и плохих детях, как правило кончавших жизнь на виселице.
Традиционным героем книг для воскресной школы обычно бывает добродетельный и благочестивый, но хилый и немощный «хороший мальчик». Медленно угасая на одре болезни, он перед смертью успевает обратить на путь истинный «плохого мальчика» — маленького негодяя, не желающего посещать воскресную школу. Совершив этот подвиг благочестия, добродетельный отрок умирает, горько оплакиваемый всеми окружающими.
В 50-х годах возникает известная оппозиция дидактически-благочестивому направлению детской литературы. Книжки, изображающие «хороших» и «дурных» мальчиков, нередко становятся объектом пародий. Уже в это время многие писатели не шутя начинали считать, что герои детских книг «столь же похожи на живых настоящих детей, как цыпленок, зажаренный на вертеле, похож на живых цыплят, свободно разгуливающих по лугам и полям». Эта точка зрения, высказанная Генри Бичером, нашла поддержку у ряда писателей второй половины XIX в.
Однако задача создания реалистической занимательной детской книги не была разрешена буржуазными писателями Америки и после гражданской войны. Тяга к реализму, характерная для американской литературы второй половины XIX в., в детской литературе проявилась лишь в чрезвычайно поверхностной форме.
«Маленькие мужчины» (1871) и «Маленькие женщины» (1868) Луизы Олькотт, появление которых американская буржуазная критика обычно рассматривает как начало новой эры в американской детской литературе, отнюдь не разрушили сентиментально-назидательную традицию. Основная заслуга Луизы Олькотт заключалась в том, что ей удалось несколько оживить ходульные персонажи. Но и над страницами ее романов незримо витает тень учителя воскресной школы: те же благочестивые сентенции, разбросанные по всему тексту романа, те же цитаты из Нового завета. Недаром «Атлантик мансли» воздавал хвалу Луизе Олькотт: она твердо придерживалась позиций, на которых стояли литературные авторитеты, группировавшиеся вокруг этого журнала. Благоговейно и старательно она создавала идиллическую атмосферу вокруг домашнего очага американского обывателя.
Эти «охранительные» тенденции еще более ясно проявляются у тех писателей, которые пошли по стезе, проложенной Олькотт. Сентиментальные книги о добродетельных детях продолжали оставаться господствующим жанром американской детской литературы вплоть до последних десятилетий XIX в. Однако оппозиционные настроения, возникавшие еще в предвоенные годы, на этом этапе приобретают более определенное выражение. Наряду с книгами о «хороших мальчиках» появляются книги о «плохих мальчиках». Основоположником этого своеобразного жанра был Т. Б. Олдрич (1836–1907).
Создавая свою автобиографическую повесть, демонстративно озаглавленную «Рассказ о плохом мальчике» (1870), Томас Олдрич не скрывал ее полемического замысла. Но, полемизируя с господствующим направлением детской литературы, он спорил против частностей, а не против ее принципиальных установок.
Роман Олдрича послужил отправной точкой для создания своеобразной тематической разновидности детской литературы США, в конце XIX в. снискавшей известную популярность как у детей, так и у взрослых.
«Приключения Тома Сойера» рассматривались американской критикой как произведение, возникшее в русле этой традиции. Любопытно, что после появления книги Твена многие литературные «плохие мальчики» приобрели некоторое сходство с Томом Сойером. Но современные Твену буржуазные писатели, увидевшие в «Приключениях Тома Сойера» лишь обаятельную и веселую книгу о проказнике-мальчугане, восприняли только ее отдельные и второстепенные мотивы. Идейная концепция «Тома Сойера» осталась им глубоко чуждой. Уже в самом начале своего творческого пути Твен создал злую пародию на книжки для воскресной школы в двух юморесках: «Рассказе о дурном мальчике» (1865) и написанном пять лет спустя «Рассказе о хорошем мальчике» (1870). В остропародийной форме они демонстрируют несовместимость реальных законов жизни с теми, которые навязывает ей воскресная школа. Презирающий мораль и благопристойность «плохой мальчик» неизменно преуспевает во всех своих беззаконных действиях и великолепно устраивает свои житейские дела. Так, например, когда «плохой мальчик» Джим забрался на чужую яблоню, чтобы красть яблоки, «сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился, ничего подобного! Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история! Никогда так не бывает в нравоучительных книжках… Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь» (10, 38).
Не менее поучительна история «хорошего мальчика», маленького лицемера, пытавшегося жить по рецептам книг для воскресной школы. Мечтая о награде за свою добродетель, «хороший мальчик», совершающий подвиги благочестия, то и дело попадает в неприятные ситуации, не предусмотренные произведениями указанного жанра.
Как и в других своих рассказах, художник-реалист Твен показывает, что жизнь не умещается в рамках той убогой схемы, которую ей навязывают профессиональные и непрофессиональные проповедники-моралисты. Она взламывает эту схему с оглушительным треском. Недаром история «хорошего мальчика», пытавшегося приспособить действительность к своим сентиментально-ханжеским идеалам, заканчивается картиной грандиозного взрыва, который сметает с лица земли добродетельного героя Твена, никак не рассчитывавшего на такую награду за свою добродетель.
Исполненные иронии рассказы о плохом и хорошем мальчиках являются своего рода прологом к «Приключениям Тома Сойера».
В этой книге Твен подвел итог целого периода своей деятельности. Писатель здесь дал законченное выражение многим мотивам своего раннего творчества, которые в его предшествующих произведениях были лишь намечены. Бунт Твена против условностей, традиций, предрассудков буржуазного общества, начатый им еще в его юмористических рассказах, приобретает в «Томе Сойере» последовательный и четкий характер. Тема задорной, буйной жизни, стремящейся вырваться из стесняющих ее мертвых, искусственных форм, — одна из центральных тем раннего творчества писателя — легла в основу его первой детской книги.
Конфликт между естественными началами жизни и убогой мещанской моралью в «Приключениях Тома Сойера» приобретает конкретное психологическое содержание. Он оборачивается конфликтом между живым, здоровым мальчиком-сорванцом и противостоящим ему миром взрослых, скучных людей, с их религией, воскресной школой, с нудно дидактической системой школьного образования, с их ложью, фальшью и лицемерием. Став внутренним композиционным стержнем романа, эта коллизия поколений определила всю его художественную структуру. Повествование строится на всепроникающей антитезе «взрослого» и «детского», представляющей психологическую модификацию характерной антитезы «естественного» и «искусственного». Пронизывая все области жизни Санкт-Петербурга, эта разделительная линия проходит и сквозь сферу отношений автора и героя. В «Томе Сойере» нет рассказчика в непосредственном значении этого слова. Но он, взрослый человек, писатель Марк Твен, незримо присутствует в романе, и этот «эффект присутствия» является источником и особой еле слышимой ностальгической ноты повествования, и его лирического (а иногда и язвительного) юмора. События, происходящие в книге, освещены улыбкой автора, из глубины времени созерцающего «утраченный рай» своего детства. Именно этот взгляд издалека, из другой эпохи как мировой, так и своей собственной жизни и позволяет Твену увидеть многое, ранее не увиденное, и найти причину конфликта поколений не только в особенностях их возраста, но и в условиях жизни Америки прошлого и настоящего. Соотнесенность этих двух временных измерений устанавливается здесь самим замыслом романа, в основу которого положены факты авторской биографии.
В романе «Приключения Тома Сойера» Твен изобразил Америку 40-х годов — Америку своей юности, «идиллическую», «мирную», «патриархальную». В ней еще только начинают бродить те темные силы, которые выйдут на поверхность в недалеком будущем. Его отношение к этой Америке полно противоречий. Он еще многого не видит в ее жизни, не замечает ее разящих социальных контрастов, ее узаконенных преступлений.
Но все же, бросая ретроспективный взгляд на прошлое своей страны, он открывает в нем многие черты, связывающие его с настоящим. Пусть мирные обыватели американского захолустья в представлении Твена еще во многом далеки от хищных стяжателей «Позолоченного века», пусть автор «Тома Сойера» относится к ним со снисходительной иронией, наполовину прощая им их смешные заблуждения… Тем не менее он уже догадывается, что и этим безобидным мещанам свойственна неприязнь к живой жизни, к свободным проявлениям человеческой индивидуальности. Процесс насаждения «искусственности» уже начинается в этом идиллическом мирке.
Юго-западный городок Санкт-Петербург увиден автором так, как видит взрослый человек давно покинутый мир своего детства. Приведенный волей судьбы на знакомые улицы, он с удивлением замечает, что город как бы уменьшился, съежился, сжался, что на всех проявлениях его жизни лежит отпечаток мизерности и узости. Эта мизерность масштабов характеризует и область духовных интересов городка. Санкт-Петербург — этот Ганнибал, открывшийся взору выросшего и постаревшего Сэмюэля Клеменса, — мал, узок, тесен не только в буквальном, но и в переносном значении этих слов. В сонной атмосфере его жизни есть привкус болотного застоя. Им пропитаны и господствующий моральный кодекс, состоящий из запретов, принуждений и ограничений, и одуряющая скука воскресных проповедей, и сам ритм монотонного обывательского существования, изредка прерываемый какими-нибудь сенсационными происшествиями вроде убийства или обнаружения водочного склада в трактире Общества трезвости.
Изгнание живой жизни за пределы Санкт-Петербурга осуществляется и при содействии тех толстых журналов, из которых тетушка Полли извлекает свои сведения о патентованных медицинских средствах. Пуская эти рецепты в ход, она «сжигает внутренности» своего племянника, и, как известно, Тому удается избавиться от болеутолителя, только показав его действие на коте Питере. Ввергнув кота в состояние вакхического веселья, герой Твена доказал противоестественность подобных методов лечения, против которых восстает сама природа. Но природа восстает и против других попыток ее изуродования, каковыми в сущности являются едва ли не все просветительские, воспитательные, культурные и религиозные мероприятия взрослых. Их общая сущность полнее всего раскрывается в принципах господствующей педагогики. Если основой обывательского существования является насилие над жизнью и природой, то ведущим принципом санкт-петербургской педагогики является насилие над ребенком.
Самым радикальным средством убеждения и воспитания с точки зрения местных педагогов является палка. Оплеухи, затрещины, колотушки сыплются на Тома Сойера на протяжении всего романа. Дома его щелкает наперстком тетушка Полли, а в школе по его спине гуляет учительская розга. Ежедневная порка составляет обязательный элемент его существования, и он так привык к этой педагогической процедуре, что почти перестал ее замечать. Однако розги и экзекуции составляют лишь внешнюю, «техническую» сторону воспитательной деятельности наставников юношества. Система насилия над ребенком осуществляется и в других формах. Наряду с физическими методами принуждения существуют и духовные: воскресная школа с бессмысленной зубрежкой библейских текстов, утомительным повторением прописных истин, да и вся система школьного образования, рассчитанная на то, чтобы живых, здоровых детей превратить в законченных тупиц или хитрых маленьких лицемеров. Недаром в анналах санкт-петербургской воскресной школы хранится предание об ученике, который стал идиотом, заучив на память две тысячи библейских стихов!
В остроиронических сценах, изображающих различные столкновения взрослых и детей, Твен показывает, что насилие над личностью ребенка является ведущим принципом официальной педагогики. Именно против этого насилия, осуществляемого в самых разнообразных формах, и бунтует детвора, находящаяся в состоянии скрытой оппозиции по отношению к деспотически нетерпимому миру взрослых.
«Задерганные и замученные мальчики из приличных семей» втайне завидуют бесприютному бродяге Геку Финну, который один во всем Санкт-Петербурге волен делать все, что он хочет, не считаясь ни с какими запретами и ограничениями. Образ Гека Финна в этом романе еще не раскрыт до конца… И все же живописная фигура маленького бродяги, с его лохмотьями, трубкой и независимым образом жизни, встает со страниц романа как живое олицетворение той большой, гуманистической темы свободы, которую Твен кладет в основу своего произведения.
Эта тема воплощена и в общем замысле романа, и в его отдельных эпизодах, и в самой атмосфере произведения Твена.
Озорник и бунтарь, Том Сойер пользуется расположением Твена именно потому, что, инстинктивно отметая от себя все, способное заглушить свойственное ему живое чувство жизни, остается внутренне свободным.
Проповеди священника, назидания учителей воскресной школы, розги педагогов и наперсток тетушки Полли не затрагивают его внутреннего мира, и он сохраняет всю живую естественность своих чувств. В их изображении Твен проявляет мастерство истинного психолога.
Мир детства освещен и извне и изнутри во всем его неповторимом своеобразии. Несравненное умение художника-реалиста «войти» в объект (мотивированное здесь и психологически: ведь для взрослого человека «детство» — это не только пройденная стадия жизненного пути, но и живая, нетленная часть его внутреннего опыта) в новом произведении Твена дает особенно плодотворные результаты. Сливаясь со своим героем, писатель смотрит на мир его глазами, и этот угол зрения, во многом определяющий художественную систему романа, открывает путь для проникновения в душу ребенка. От характера этого особого художественного задания зависит и повествовательная манера автора. Чередование событий в романе дается как последовательная смена жизненных впечатлений Тома. Нередко они предстают перед глазами читателя не в своем непосредственном, а в отраженном виде — такими, какими их видит герой. Как правило, Твен избегает параллельного описания одновременно происходящих событий. Так, например, читателю становится известно, что родные мальчиков, сбежавших на остров, пребывают в состоянии глубокой тревоги. Но об этом читатель узнает только тогда, когда Том, украдкой вернувшись домой, становится незримым свидетелем слез тетушки Полли и миссис Гарпер… Картина горя этих двух женщин дается сквозь восприятие Тома. Прием этот типичен для романа. В построении своего произведения Твен как бы воспроизводит логику «раскованного» детского сознания, в котором одно впечатление вытесняет другое и ассоциация идей лишена той последовательности, к которой привык взрослый человек.
Три сюжетные линии, намечающиеся в романе, — «любовь» Тома Сойера к Бекки Тэчер, история кладбищенского убийства, история поисков клада — все время прерываются и развиваются совершенно самостоятельно, почти не обнаруживая никакой видимой сюжетной связи. Они не связываются и в сознании самого Тома: как истинный ребенок, он не может думать одновременно о разных вещах. Обычно он до такой степени захвачен впечатлениями данного момента, что они заполняют его целиком, не оставляя места для всего остального.
В сюжетной структуре романа есть сходство со структурой детских диалогов. Они как бы строятся по некой общей модели, и моделью этой является сознание ребенка. Одна и та же «алогичная» логика детства управляет различными элементами художественного целого. Непринужденность, с которой разговор героев перебрасывается с одного предмета на другой («Любишь ты крыс?.. Нет, крыс я вообще не очень люблю. А вот что я люблю — так это жевать резинку…» «Была ты когда-нибудь в цирке?..» «Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?» и т. д.), характерна и для сюжетной организации романа. Сам стиль повествования, равно как и принципы его сюжетного построения, создает представление о внутренней свободе персонажей, чье «молодое сердце упруго и не может… оставаться сжатым и стесненным». Именно это состояние полной душевной раскованности, которое воспроизводится с почти визуальной четкостью в общем рисунке романа, и служит ключом ко всему его идейному содержанию.
Безыскусственность и естественность детского мировосприятия (неизменно соотносимая с искусственностью и противоестественностью жизненного поведения взрослых людей) в книге Твена утверждается в качестве главного условия нормального развития человека и формирования его индивидуально неповторимой личности. Маленький Том Сойер при всей своей двенадцатилетней незрелости (более того, именно благодаря ей) в большей степени является личностью, чем его школьный учитель, чей облик складывается из лысины, парика и вечной палки, которая так больно хлещет по детским спинам и рукам. А между тем образ Тома как будто бы менее всего претендует на индивидуальную неповторимость. Смонтированный, согласно признанию автора, из характеров трех знакомых ему мальчиков, этот собирательный образ знаменует одно из крупных достижений американской литературы в области создания реалистического портрета.
Отчаянный озорник, изобретательный, неугомонный, постоянный предводитель мальчишеских игр, Том Сойер отнюдь не вундеркинд, не гений, поражающий своей исключительной талантливостью и одаренностью. Даже имя своему герою Твен стремился дать такое, которое звучало бы, как всякое иное мальчишеское имя. («Имя «Том Сойер» — одно из самых обыкновенных, именно такое, какое шло этому мальчику даже по тому, как оно звучало, поэтому я и выбрал его…» — писал Твен.) Но именно обобщающая полнота, с которой здесь сведены воедино все типические особенности нормального, здорового детства, и придает герою романа черты ярко выраженного индивидуального своеобразия. Он не только «тип», но и «характер», живой человеческий характер, весь сотканный из противоречий и все-таки внутренне целостный.
Его внутренняя жизнь представляет собою причудливую смесь самых различных и противоположных устремлений, чувств, мыслей, настроений. Склонность к необузданному фантазерству уживается в нем с рационалистической трезвостью и своеобразным наивным практицизмом. Романтик и мечтатель, подражающий действиям героев приключенческой литературы, он в нужные минуты проявляет деловую сообразительность и практическую сметку. Так, в знаменитой сцене окраски забора, искусно играя на слабостях своих товарищей, Том сваливает на их плечи выполнение скучного и тягостного дела, порученного ему тетушкой Полли.
Но при всей кажущейся непоследовательности действий, мыслей и поступков Тома в них есть четкая внутренняя логика. Они возникают на некой общей основе. Этой основой, определяющей все поведение героя романа, является его кипучая наивная жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, неугомонная бурная энергия. Он испытывает острое любопытство ко всему, что происходит вокруг него и в нем самом. Мир для него полон чудес, — а жизнь кажется ему захватывающе увлекательной. Потому-то он так зачитывается приключенческой литературой. Книги о разбойниках и пиратах рисуют жизнь именно такой, какой представляет ее себе Том: яркой, занимательной, героической, необычайной, изобилующей неожиданностями и приключениями. Том — романтик, но его позиция — не бегство от жизни, а особая форма творческого участия в ней. Разыгрывая сцены из своих любимых романов, он не подгоняет жизнь под романтические стандарты, а, напротив, как бы высвобождает ее скрытое содержание, давая ему возможность облечься в осязаемые формы. Его игра сродни художественному творчеству, она несомненно включает в себя элемент не только подражания, но и познания.
Своеобразие мировосприятия Тома, определяемое как его возрастом, так и индивидуальными особенностями его характера, заключается в том, что для него не существует резкого разрыва между обыденным и фантастическим планами жизни. Воскресные школы, церковные проповеди, нудные школьные уроки — все эти скучные выдумки взрослых кажутся ему бессмысленными и ненужными, но он убежден, что рядом с этой неинтересной, тусклой жизнью, более того, внутри ее самой существует замечательный и яркий мир, попасть в который легко и просто. Его вера в волшебную природу жизни лишь частично опирается на приключенческую литературу. Требуя от жизни чудес, он обнаруживает их на каждом шагу. Ему открывается волшебная природа самых обыкновенных явлений — и его игры становятся орудиями этих открытий. Ведь он играет даже тогда, когда просто живет.
Воспроизводя «диалектику» детской души, Твен показывает, что каждый предмет поворачивается к ребенку своей игровой, занимательной стороной. Слово «интересно» лучше всего определяет сущность тех впечатлений, которые Том Сойер получает от окружающего его мира.
Именно благодаря такому подходу весь окружающий Тома мир расцветает и преображается, наполняется ощущением радости бытия. Это ощущение Том Сойер умудряется извлечь из всех приятных и неприятных ситуаций своего повседневного существования, находя его там, где, казалось бы, на него меньше всего можно рассчитывать. Ни одному взрослому человеку не придет в голову, что с удалением зуба могут быть связаны какие-либо переживания, кроме самых неприятных. Между тем в вырванном зубе Тома Сойера таятся неисчерпаемые возможности интереснейшего времяпрепровождения.
«Когда Том после завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замечательным способом» (4, 49).
Когда Сид потихоньку крадет сахар из сахарницы, а тетушка Полли, заподозрив в этом преступлении Тома, подвергает его незаслуженному наказанию, Том умудряется извлечь своеобразное наслаждение из мысли о страшной несправедливости, жертвой которой он стал. С увлечением он рисует себе картину собственных похорон, рыдания терзаемой муками совести тетушки Полли, раскаяние Сида и слезы Мэри, и, предаваясь этим печальным размышлениям, он «так наслаждался своими горестями, что… оберегал свою скорбь как святыню», и, испытывая «мрачное блаженство», постепенно впал в «приятное расслабленное состояние».
Том Сойер способен иногда испытывать скуку. Однако даже состояние скуки, в которое он впадает, таит в себе нечто заманчивое и соблазнительное, способное внушить читателю парадоксальную мысль о том, что и поскучать иной раз бывает интересно и занятно.
Даже столь малопоэтичный предмет, как дохлая кошка, в руках Тома и Гека становится источником захватывающе острых ощущений, орудием, при помощи которого можно приподнять завесу, скрывающую бесконечно увлекательные тайны жизни. В самой дохлой кошке, конечно, нет ничего таинственного и загадочного, но зато она может служить средством лечения бородавок.
Впечатление внезапного и радостного первооткрытия производит и любовь Тома и Бекки. Традиционное представление о любви как о поэтическом чувстве в книге Твена дополняется еще одним, несколько неожиданным нюансом. Любовь Тома Сойера не только поэтична, но и в высшей степени интересна. Его роман с Бекки Тэчер — это чудесная, увлекательная игра в любовь, за перипетиями которой сами участники следят с захватывающим интересом. Играть в любовь весело, и не случайно именно это слово приходит в голову Тому, когда он знакомит Бекки с правилами новой для нее увлекательной игры:
— Ах, как хорошо! Никогда не слыхала об этом.
— Ох, это так весело! Вот мы с Эмми Лауренс… (4,62).
У этих диалогов есть особый, иронический подтекст, и средством проникновения в него служит их юмористическая окраска. Функции юмора в романе разнообразны, и одна из них состоит в реализации его общего критического задания.
Возникая на линии стержневой антитезы романа, юмор в форме осторожной и ненавязчивой выполняет важную роль в развенчании обывательских ценностей. Вспышки комизма в «Томе Сойере» рождаются, словно электрические искры в результате соприкосновения двух бегущих рядом проводов. Скрытая, а иногда и явная соотнесенность взрослого и детского то и дело ведет к возникновению глубоко комических ситуаций, внутренний смысл которых раскрывается благодаря их юмористической интерпретации. Наивное сознание Тома Сойера становится фильтром, сквозь который просеивается жизненный опыт старшего поколения, и итог этой фильтрации чаще всего оказывается неблагоприятным для этого последнего. Сам того не понимая, Том проникает в тщательно скрываемые тайны взрослых, в существовании которых они не признаются себе самим. Так, простодушное ребяческое сопоставление церкви и цирка (цирк оказывается гораздо интереснее церкви) несомненно таит в себе некий взрывчатый потенциал. Хотя мальчики и не подозревают о сатирической остроте этой аналогии, в ее основе лежит ироническое указание на то, что и взрослые тоже «играют». Иронически обыгрывая эту полуосознанную мысль своих героев, столь естественную для детей, воспринимающих действия старших в категориях своего сознания, Твен демонстрирует убожество и мертвенность этой «игры», основой которой является притворство и лицемерие. Прихожане храма божьего только прикидываются, что им интересно слушать пастора, между тем как его проповедь погружает их в состояние летаргического оцепенения. «Игра» в религию враждебна жизни и природе. Недаром «природа», в лице своих представителей — пуделя и жука — вторгается в сонную одурь богослужения, к тайной радости всех его участников. Только при содействии этих скромных пришельцев из иного мира Том может выполнить свой религиозный долг и прийти к выводу, что и «проповедь может быть интересной, если внести в нее некоторое разнообразие». Так, сам того не желая и не сознавая, маленький герой романа выносит убийственный приговор церкви и религии. Но тщетно живой и веселый мальчик, обладающий чудесным даром оживлять все вокруг себя и из всего извлекать ощущение радости и веселья, пытается оживить мертвую рутину обывательского существования. Из уроков учителя, из проповеди священника, из учебников воскресной школы ничего нельзя извлечь, кроме невыносимой скуки, ибо эти «игрушки» взрослых людей, претендующие на абсолютную моральную и интеллектуальную ценность, безнадежно мертвы, гораздо более мертвы, чем дохлая крыса, из которой все-таки можно сделать предмет развлечения, особенно если привязать к ее хвосту веревочку и вертеть над головой. Вдохнуть жизнь в омертвелые «забавы» старшего поколения детям удается лишь тогда, когда они переводят их на свой язык и, подключая к своему игровому обиходу, преображают. Обычный для Твена прием отстранения привычного, как всегда, играет коварную роль в отношении к устоявшимся формам буржуазного modus vivendi.
Все обычные ситуации взрослой жизни, перенесенные в мир детей, подвергаются ироническому пересмотру. Вспомним, например, замечательную сцену покупки клеща, в которой покупатель Том и продавец Гек ведут себя, как заправские дельцы, по всем правилам совершающие акт купли и продажи. Гек, стремясь сбыть клеща по возможно более высокой цене, расхваливает достоинства своего товара, а Том, напротив, находит у него множество пороков и изъянов:
— Что возьмешь за него?
— Не знаю. Неохота его продавать.
— Ну и не надо. Да и клещ какой-то крохотный.
— Ну еще бы! Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош.
— Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их тысячу, если бы захотел.
— За чем же дело стало? Что же не идешь набирать?.. Ага! Сам знаешь, что не найдешь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной.
— Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб… и т. д. (4,54).
Эта юмористическая сцена несомненно имеет второй, скрытый план: она представляет в неожиданно комическом свете обычные деловые отношения жизни взрослых.
С этой же целью Твен предлагает читателям реестр вещей, составляющих богатство Тома: двенадцать шариков, пустая катушка, ключ, который ничего не отпирал, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, четыре куска апельсинной корки и старая оконная рама.
В подтексте этой обстоятельной инвентарной описи скрывается мысль о том, что и богатства взрослых имеют столь же относительную ценность, как сокровища Тома, представляющие объект зависти всего младшего поколения санкт-петербургских жителей.
Некоторые сцены романа носят откровенно пародийный характер. Так, эпизод, в котором Бекки, впервые представ перед Томом, бросает к его ногам цветок, представляет пародию на одну из самых шаблонных ситуаций заурядного любовного романа. В книге Твена эта сцена кажется живой и очаровательной благодаря множеству юмористических деталей, которые автор вводит в повествование, например сообщая читателю о том, что Том берет драгоценный дар любви не рукой, а пальцами ноги и вследствие плохого знания анатомии хранит его не около сердца, а около желудка. Эти юмористические подробности не только необычайно оживляют изображаемую Твеном штампованную картину, но сообщают ей особый, иронический смысл, переводя стандартные литературные ситуации в какую-то новую и неожиданную плоскость.
Одним из художественных средств, при помощи которых писатель достигает такого результата, является речь действующих лиц романа. Язык героев романа с его диалектизмами, неуклюжими оборотами, с его наивной непосредственностью служит Твену мощным орудием для достижения комического эффекта…
— …Ты разве никогда не видел брильянтов, Гек?
— Насколько я помню, нет.
— Но у королей целые горы брильянтов.
— Так ведь я не знаком с королями.
— Где ж тебе! Вот если бы ты очутился в Европе, ты увидел бы целую кучу королей. Там они так и кишат, так и прыгают…
— Прыгают?
— Ах ты чудак! Ну зачем же им прыгать?
— Но ведь ты сам сказал: они прыгают.
— Глупости! Я только хотел сказать, что в Европе их сколько угодно. И конечно, они не прыгают, зачем бы им прыгать? Поглядел бы ты на них, там их тьма-тьмущая (4, 160).
Юмористическая окраска этого диалога создается именно благодаря необычным словосочетаниям, которые совершенно невозможны и немыслимы для взрослого человека. «Короли прыгают…» Наивное выражение Тома, столь типичное для словаря ребенка, вызывает в сознании читателя картину, явно несовместимую с традиционными представлениями о величии, могуществе и власти. К такому результату и стремится Твен. Уже здесь он пытается заодно с американскими обывательскими фетишами дискредитировать и европейские. Переоценка ценностей, предпринятая им в «Томе Сойере», стихийно толкала писателя на путь широких обобщений, подготавливающих появление его другой книги для детей — «Принц и нищий» (1882). Но место «Приключений Тома Сойера» в американской литературе определяется не только критической тенденцией этого романа.
Его негативный пафос неотделим от позитивного, и эта вторая сторона художественных свершений писателя, еще не очень заметная в его юмористических рассказах, в новой книге Твена приобрела значение ведущего конструктивного фактора.
Роль книги Твена как нового этапа в развитии художественного сознания Америки во многом заключалась в том, что она открыла новый источник поэтического в той самой жизненной прозе, поэтические возможности которой вызывали столь сильное сомнение у предшествующих и современных Твену американских писателей. Простая жизнь с ее будничными переживаниями, заурядными событиями, обыкновенным языком в интерпретации Твена стала неисчерпаемым источником поэзии.
Лирически чистая атмосфера романа создается при помощи прозаических средств. Подобно Аладину — герою известной восточной сказки, замечательный американский писатель вызывает могущественных духов при содействии дрянной старой лампы и ни на что не годного медного кольца.
Строительным материалом Твену служит и неправильная, с жаргонными словечками детская речь, и полосы грязи на неумытом лице Тома, и его смазанные салом башмаки, и ведро известки. Все эти прозаические явления в изображении Твена неожиданно приобретают подлинное очарование.
Утверждая поэзию и красоту чистого, свежего, неразвращенного сознания, Твен в своем романе показывает мир таким, каким его видит ребенок, — чистым, бесхитростным, наивным, с ослепительными красками и прозрачностью колорита. Необычайная ясность и четкость очертаний свойственна всем предметам этого мира: и «маленькому зеленому червяку, который ползает по мокрому от росы листу, время от времени поднимая на воздух две трети туловища, точно принюхиваясь», и ветхой деревянной церковной ограде, которая местами наклонилась внутрь, а местами наружу и нигде не стояла прямо; и мухе, которая «то потирала сложенные вместе лапки, то охватывала ими голову и с такой силой чесала ее, что голова чуть не отрывалась от туловища, а тоненькая, как ниточка, шея была вся на виду, то поглаживала крылья задними лапками и одергивала их, как будто это были фалды фрака».
Все эти незатейливые картины встают перед глазами читателя с такой отчетливостью, как будто он видит их в первый раз. Глядя на мир глазами Тома, читатель вместе с героем романа открывает его заново, обнаруживая в нем какое-то живое и неожиданно яркое содержание.
Открытие, сделанное Марком Твеном, имело большое значение не только для детской, но и для всей американской литературы в целом. Сквозь бесхитростные, лирически чистые образы книги Твена просвечивала большая, творчески плодотворная мысль: мысль о поэзии и красоте внутреннего мира здорового, неиспорченного человека. Поэтому «Приключения Тома Сойера» стали одной из тех книг, которые открывали перспективы художественного развития перед прогрессивной американской литературой, стоявшей в преддверии критического реализма.
Всей логикой своего романа, всей системой его художественных образов Твен подводит читателя к мысли, что жизнь может быть чудесной, увлекательной, что чудеса скрыты в обыкновенных чувствах и отношениях людей.
Юмористически обыгрывая наивность детского восприятия жизни, равно как и относительность и условность жизненных представлений взрослых людей, Твен в то же время утверждает красоту и поэзию жизни как нечто несомненное и объективно существующее.
Эта тема, являющаяся подспудным мотивом всего романа, в особенно ясной и наглядной форме утверждается в описаниях природы, щедро рассыпанных по страницам романа. Совершенно свободные от характерной для романа юмористической интерпретации, они являют собою вершину «руссоизма» Марка Твена.
Чудесной атмосферой свежести и поэзии овеян эпизод, рассказывающий о пребывании мальчиков на острове Джексон, где они, освобожденные от всех утомительных и докучных обязанностей цивилизованных людей, живут единой жизнью с природой.
Твен имел основание называть свое произведение «гимном в прозе». Его роман — это гимн человеку, гимн чудесной природе, гимн простой, здоровой жизни, богатой, яркой, глубоко поэтической. Маленькие герои Твена по самим особенностям своего возраста являются «поэтами действительной жизни» (как и сам автор книги).
Именно поэтому Тому и Геку Твен вручает клад, обладателями которого недостойны стать своекорыстные, жадные взрослые люди. Вся история с обретением клада дает прямое подтверждение правоты Тома и Гека, обосновывает правомерность их жизненной позиции. Они нашли клад, потому что хотели его найти и верили в его существование. Разве вся эта история не доказывает со всей непреложностью, что в жизни возможны чудеса и что увидит их только тот, кто в них верит?
Утверждая это, Твен показывает, какие неисчерпаемые сокровища скрыты в самых простых и обыкновенных людях. Доброта, великодушие, честность, чувства дружбы и товарищества для Твена являются естественными импульсами, свойственными свежему, неиспорченному, неразвращенному человеку. Эту мысль Твен раскрывает в одном из центральных сюжетных мотивов своего романа, в истории убийства доктора Робинзона, где Геку и Тому привелось сыграть такую значительную роль. Случайно оказавшись свидетелем мрачной кладбищенской драмы, Том после колебаний, вызванных страхом перед истинным убийцей доктора — Индейцем Джо, в конце концов решился открыть истину судебным властям и спас Меффа Поттера от угрожавшей ему виселицы. Эту победу над самим собой Том одерживает без всякого содействия взрослых людей. Моральные правила, внушаемые ему воскресной школой, не приходят на ум герою Твена, он подчиняется не этим мертвым догмам, а нравственному чувству, побуждающему его добиваться справедливости вопреки собственным эгоистическим интересам.
С особенной ясностью мысль о естественной доброте человека воплощается в эпизодах, связанных с Геком Финном. Беспризорному маленькому бродяге никто и никогда не объяснял, что такое нравственность и добродетель. Его воспитанием никто не занимался, и тем не менее он способен на великодушные и самоотверженные поступки. С риском для собственной жизни Гек спасает вдову Дуглас от страшной участи, уготованной ей обуреваемым жаждой мести Индейцем Джо.
Так, элементы традиционной романтики, связанные главным образом с линией Индейца Джо, приобретают совершенно особый смысл, становясь средством раскрытия основной гуманистической темы романа.
В детской книге совершенно нового типа Твен использовал и старые обычные приемы создания увлекательной фабулы со всеми необходимыми аксессуарами: таинственным убийством, мрачными злодеяниями, бегством, переодеваниями. Однако по существу и эта романтически условная линия романа имеет глубоко полемический смысл.
Направленная против «литературы воскресной школы», книга Твена в то же время полемизирует и с романтическими приключенческими романами. Как известно, произведения этого рода, изображающие в поэтическом свете приключения разбойников, пиратов, являются любимым чтением Тома Сойера. На всем протяжении книги Том Сойер и его друзья разыгрывают сцены из прочитанных ими произведений авантюрно-приключенческого жанра. Слова «убийство» и «грабеж» для Тома и Гека исполнены романтического очарования. Захлебываясь от возбуждения, они обсуждают планы предполагаемых набегов на караваны путников, нагруженные золотом и серебром. И тем не менее, исповедуя культ преступления в своих играх и фантазиях, Том Сойер испытывает ужас и отвращение, когда жизнь ставит его лицом к лицу с настоящим убийством — страшным и безобразным. Действуя согласно требованиям совести и чести, Том и Гек живут интересной, увлекательной и яркой жизнью и переживают приключения гораздо более занимательные, чем те, какие описываются в приключенческих романах.
Унылой добродетели воскресных школ и высокопарной романтике приключенческих книг писатель-демократ противопоставил высокое живое понятие человечности, показав, что источником гуманных чувств являются не проповеди священника и не палка школьного учителя, а естественные побуждения неиспорченного и неразвращенного человеческого сердца. В этом заключается огромное гуманистическое значение книги Твена, и этим во многом определилась сущность того переворота, который великий американский писатель произвел в американской литературе XIX в.
Разумеется, позиция Твена в «Приключениях Тома Сойера» была еще во многом противоречивой. Говоря о неисчерпаемых богатствах жизни, писатель не знает, как приобщить к ним взрослых людей. «Его тоска об исчезнувшем прошлом… неотделима от сознания его полной невозвратимости»[56]. Идиллия в романе ограничена тесными возрастными рамками. Красоту и поэзию жизни он показывает сквозь восприятие ребенка, подчеркивая, что лишь возраст его маленьких героев является предпосылкой их мироощущения. Именно поэтому Твен не знал, как сложится жизнь его героев, когда они станут взрослыми людьми. Он полагал, что историю Тома Сойера можно продолжить в двух вариантах: в одном из них Том достигает высоких почестей, а в другом — попадает на виселицу. Каково должно быть естественное сознание взрослого человека и как этот человек будет жить в реальных условиях буржуазной Америки? На эти вопросы книга Твена не дает ответа.
Эта внутренняя противоречивость позиции писателя определялась тем, что в эпоху создания «Тома Сойера» Твен еще не до конца разбирался в социальных причинах конфликта «отцы и дети». Гуманистическая философия Твена, основанная на вере в добрую природу человека, распространяется не только на младших, но и на старших обитателей Санкт-Петербурга. Раскрывая ханжескую, лицемерную природу буржуазного общества, восставая против его фарисейской морали, Твен в то же время еще очень снисходительно относится к носителям этой морали, видя в них хотя и ограниченных, но добродушных и благожелательных людей. Портреты санкт-петербургских обывателей написаны не в сатирической, а в снисходительно иронической манере.
«Злое» начало жизни в романе Твена воплощено не в образах тетушки Полли, вдовы Дуглас и судьи Тэчера и даже не в образе раздражительного и пьяного школьного учителя, а в условном и надуманном образе Индейца Джо. Тема собственнических отношений буржуазного мира с его моралью чистогана и своекорыстия, которая станет в центре внимания Твена в позднейший период его творчества, в «Приключениях Тома Сойера» едва намечена. Правда, в финальной сцене романа, изображающей «бунт» усыновленного вдовой Дуглас Гека Финна, уже звучит мотив обличения власти денег как силы, враждебной человеческому счастью.
«…Нет, Том, — говорит Гек, — не хочу быть богатым, не желаю жить в гнусных и душных домах! Я люблю этот лес, эту реку… терпеть не могу дармовщины» (4, 224). В монологе Гека уже намечена та тема, которая полное раскрытие получит в романе, посвященном этому герою, — тема развенчания буржуазной цивилизации, основанной на закрепощении человека.
Однако этот эпизод при всем его значении не определяет ни общей атмосферы романа, ни логики развития его главных образов. Он лишь предвосхищает тему будущих произведений Твена и ясно показывает направление эволюции писателя, жизнерадостно-оптимистические настроения которого уступали место настроениям скорби и разочарования. Но они еще не овладели Твеном, и его «Том Сойер», несмотря на свойственную ему бунтарскую, вызывающую интонацию, несмотря на язвительные выпады против буржуазной морали, религии и педагогики, еще далек от гневных сатирических произведений позднего Твена.
В дальнейшем Твен продолжит «Тома Сойера» именно в сатирической тональности, и в этом же направлении его книга будет «досказана» и продолжателями Твена — писателями XX в.: Сэлинджером, Эрскином Колдуэллом, Харпер Ли, Майклом Голдом. Воспользовавшись критерием «Тома Сойера», они сделали своих героев-детей подлинными судьями буржуазной Америки своего времени. Вслед за Марком Твеном они превратили их наивное, неразвращенное сознание в оселок для проверки извращенности и порочности господствующих жизненных установлений. Книги о детях в Америке XX в. возникли в точке скрещения «Тома Сойера» и того романа, который стал продолжением этой книги, — «Приключения Гекльберри Финна». Но сам Твен далеко не сразу пришел к созданию своего величайшего сатирического произведения.
Путь писателя к сатире был сложен и извилист. Одним из его решающих этапов явилось обращение к теме истории. Она властно врывалась в его творчество под влиянием самого хода жизни. Крутые повороты истории, совершавшиеся на глазах Твена, определяли направление его поисков. По мере того как его демократические иллюзии вступали в конфликт с логикой исторического развития США, он все больше задумывался над проблемами истории. След этих размышлений запечатлелся в произведениях конца 70-х — начала 80-х годов.
Государство и народ. «Принц и нищий»
80-е годы стали одним из поворотных моментов в историческом развитии послевоенной Америки. Они ознаменовали окончательное завершение «героического» периода, связанного с событиями гражданской войны. Сговор между бывшими плантаторами Юга и промышленниками Севера открыл дорогу разнузданному произволу новых хозяев США, в чьей власти оказались все национальные богатства, в том числе и огромные пространства западных земель. Судьба этих оазисов американской «свободы», вырванных из рук разоряемого мелкого фермерства и преображенных в «филиал» капиталистического ада, явилась одним из самых явных подтверждений наступления «позолоченного века».
Покрытая заводами и фабриками, опутанная сетью бесчисленных железных дорог, управляемая промышленными и железнодорожными магнатами — этими «некоронованными монархами» Америки, чей деспотизм по своим масштабам едва ли не превосходил европейские «стандарты», — такова была страна «свободы», возникшая в результате освободительных усилий ее народа. Истинная сущность этой купленной кровью свободы раскрывалась на каждом шагу. Завоевания недавней революции подвергались систематическому и планомерному уничтожению. Особенно наглядно этот процесс проходил на Юге, где негры, получившие юридическую свободу, но не располагавшие земельными наделами, влачили жалкое существование издольщиков, мало отличавшееся от их прежнего положения рабов. Законы, ограждавшие их гражданские права, были ликвидированы уже в начале 70-х годов, и вместо них вырабатывались другие, направленные на установление жестких барьеров между белым и цветным населением Юга. (Одним из них был закон Джона Кроу, воспрещавший неграм езду в одних вагонах с белыми.) Заботу об охране нового статуса наряду с официальными властями брали на себя и неофициальные организации, в первую очередь ку-клукс-клан, чьи карательные мероприятия в 80-х годах осуществлялись во все более возраставших размерах. Но рабство в Америке 80-х годов облекалось и в иные формы. Процесс наступления на жизненные права демократической Америки распространялся и на американских рабочих, отвечавших на все попытки их закабаления массовыми выступлениями. Одним из них явилась забастовка железнодорожников в Питтсбурге (1877 г.). Энгельс, отметивший быстрый темп развития американского рабочего движения, писал, что всего только 12 лет прошло после отмены рабства, и движение уже достигло такой остроты.
Америка, только что стряхнувшая с себя узы рабства, стойко оборонялась от попыток закабаления народа, совершавшихся на всех направлениях общественно-политической жизни США. Отрезвляющая атмосфера 80-х годов поколебала иллюзии деятелей американской культуры, заставив их обратиться к жестокой реальности «позолоченного века». Сложная и противоречивая действительность повернулась к ним разными гранями, и в каждой из них они пытались найти узловой конфликт «американской трагедии». Если Генри Джордж, автор широко известной книги «Прогресс и бедность» (1881), увидел первопричину всех бедствий современного человечества в отношениях имущественного неравенства, то Генри Адамс нашел их источник в несоответствии между принципами демократии и формами их практического осуществления.
Таким же путем тревожных исканий, сомнений и разочарований двигалась и литература 80-х годов.
Проникнув в область литературы, настроения тревоги и разочарования углубили разногласия между ее отдельными представителями. Даже монолитное бостонское объединение находилось под угрозой раскола. Если Ралф Уолдо Эмерсон в эти годы вернулся к лучшим традициям своего славного прошлого и поднял голос в защиту негритянского населения США, то Томас Олдрич в 1880 г. публикует роман «Трагедия в Силуотере», целью которого является дискредитация рабочего движения.
Заметный поворот совершился и в настроениях Хоуэллса. Несмотря на то что в начале 80-х годов он еще цепляется за свою концепцию «оптимизма» как естественного состояния американского духа и именно на этом этапе пытается придать ей законченное теоретическое выражение, его творческая практика далеко не во всем совпадает с этой теоретической установкой. Все больше отходя от «традиций благопристойности» и находя опору в русской литературе, Хоуэллс явно стремится преодолеть камерную узость своих предшествующих произведений и выйти к более широким и социально значимым обобщениям. Тенденция эта наиболее полно проявилась в его романах «Современная история» (1882) и «Возвышение Сайласа Лафема» (1885), где, по верному определению А. А. Елистратовой, «уже встает вопрос об издержках индивидуального буржуазного «успеха». Так, в первом из названных романов личная трагедия героев, пришедших к разрушению семейных отношений, рассматривается уже не как частный случай, а как явление до некоторой степени социально типичное, в основе которого лежит несовместимость «деловой» и «человеческой» морали. Этот же конфликт в ином варианте возникает и в романе «Возвышение Сайласа Лафема», получая в нем разрешение, обратное тому, какое Хоуэллс дал ему в своем предшествующем произведении. Поставленный перед необходимостью выбора между деловым преуспеянием и своими нравственными принципами, Сайлас Лафем отдает предпочтение последним и обрекает себя на разорение и банкротство.
Так, в фундаменте «американской идиллии» Уильяма Дина Хоуэллса возникает трещина, глубина которой в дальнейшем возрастает до масштабов, угрожающих существованию этого «здания». Процесс «утраты иллюзий», переживаемый американскими писателями, задел в какой-то мере и Генри Джеймса, давно уже переселившегося по ту сторону Атлантического океана. И для этого наблюдателя американской жизни, созерцавшего ее с огромной пространственной дистанции, но не терявшего интереса к ней, роковые и «неожиданные» события 80-х годов обернулись утратой веры в реальность «американской мечты» (в особом утонченно-психологическом варианте).
Именно в начале 80-х годов вышел в свет роман Джеймса «Женский портрет» — одно из самых трагически горьких его произведений.
Образ героини романа Изабель Арчер несет на себе печать жестоких разочарований автора, до конца осознавшего эфемерность своих идеалов. Жизненная трагедия умной, доброй и сильной женщины, более всего ценившей состояние полной внутренней независимости и попавшей в положение подневольной рабы, обобщает раздумья писателя над судьбами своей родины.
Проблемы, вставшие перед современниками, имели и для Марка Твена огромную жизненную остроту. Ужасающая коррупция правительственных кругов, деятельность президента Хейса, предоставившего политическую арену торжествующей, самодовольной буржуазии, которая «по искусству обманывать, развращать и подкупать рабочих не имеет себе равной на свете»[57], всеобщее торжество несправедливости, облекавшейся в формы законности, — все это определяло ту горячую заинтересованность, которую Твен 80-х годов проявлял ко всем вопросам государственно-политической жизни как в ее конкретно-практическом, так и в теоретическом аспекте.
Не случайно именно эти годы стали периодом наивысшей политической активности Твена. Он участвовал в выборах, выступал перед избирателями, убеждал их голосовать за того или иного кандидата, лихорадочно разрабатывал проекты всевозможных реформ (так, одно время он подумывал о том, чтобы наряду с двумя существующими партиями — республиканской и демократической, находившимися в состоянии полного перерождения, создать третью, которая будет действовать на основе подлинного патриотизма).
В этом же 1880 г. он направил в адрес генерала Гранта, которого высоко чтил как ветерана гражданской войны, мольбу о спасении Америки, об избавлении ее от «стыда, позора и индустриального бедствия»[58].
И все же бурная реформаторская деятельность не давала ему чувства удовлетворения и лишь углубляла то состояние внутренней растерянности, в котором он находился уже с середины 70-х годов. Предлагаемые им рецепты общественного спасения не внушали доверия ему самому и нередко принимали форму иронических парадоксов. Так, его памфлет «Удивительная республика Гондур» (1875) вполне мог восприниматься как отречение от «заветных святынь» американской демократии. Вступая в видимое противоречие с самим собой, Твен проповедовал создание своеобразной «интеллектуальной элиты», дабы передать в ее руки государственную власть. Средством достижения этой цели должна была стать реформа существующей выборной системы. С наивной, истинно просветительской верой в могущество разума и образования (и со столь же классически просветительской тенденцией к отождествлению этих отнюдь не тождественных понятий) Твен предлагает новый принцип распределения голосов в прямом соответствии с образовательным цензом избирателей. Разумеется, этот «удивительный» проект привлекает не столько своей позитивной, сколько негативной, обличительной стороной[59]. Тот же негативный, сатирический пафос определяет ценность и другой сатирической утопии Твена «Великая революция в Питкерне» (1879), где писатель, перебирая все известные ему формы государственного управления, приходит к выводу, что для народа было бы самым лучшим отделаться от них всех, вместе взятых. Однако трудность осуществления этого заманчивого мероприятия, как и других столь же полезных государственных преобразований, для Твена была несомненна, тем более что все они должны были проходить мирно. На этом этапе Твен, по собственному признанию, сделанному много лет спустя, еще не сочувствовал «якобинским» методам переустройства общества и по своим убеждениям был ближе к «жирондистам», чем к Максимилиану Робеспьеру. Зачитываясь книгой известного историка Карлейля о французской революции, он разделял его ненависть ко всем видам тиранического произвола, но, подобно автору этого труда, не питал полного доверия к революционному насилию.
Так путь исканий и сомнений закономерно приводил писателя к встрече с историей, и она, вполне естественно, поворачивалась к нему своей государственно-правовой и одновременно нравственно-этической стороной.
Под таким углом зрения и возрождался в его творчестве один из самых характерных и устойчивых тематических мотивов — тема европейского средневековья.
Интерес к этой эпохе, которая ему — наследнику традиций Просвещения — представлялась «концентратом» всех трагических заблуждений и ошибок человечества, «моральной и духовной полуночью»[60] истории, кроме указанных причин стимулировался и другими, не менее жизненно важными.
В 1914–1915 гг. В. И. Ленин отмечал, что экономические пережитки рабства «ничем не отличаются от таковых же пережитков феодализма, а в бывшем рабовладельческом юге Соединенных Штатов эти пережитки… очень сильны до сих пор»[61].
Не случайно в сознании Твена представление о средневековье всегда связывалось с представлением о рабстве. (Один из персонажей его романа «Принц и нищий» называет себя «английским рабом».)
Именно на этой линии он и устанавливал «родство» между Европой и Америкой. Автор «Простаков», столь резко противопоставлявший Новый Свет Старому, на данном этапе своей творческой эволюции уже находил точки их внутреннего соприкосновения. Так, в своем памфлете «Плимутский камень и отцы-пилигримы» (1881), предпринимая экскурс в область генеалогии своих соотечественников, Твен ведет их родословную от европейских авантюристов, насильников, работорговцев всех мастей. Благочестивые подвиги «отцов-пилигримов» — этих первообитателей «американского Эдема» — в интерпретации писателя оказываются многочисленными актами разбоя: истребления индейцев, притеснения негров, сожжения «салемских ведьм» и т. д. Пресловутая «американская робинзонада» оказывалась мифом, реальным содержанием которого являлось наступление на жизненные права народов. Это обличительное задание ни в малой мере не означало стремления к реабилитации Европы. Ненависть Твена к ее «средневековым» установлениям не убывала, а скорее возрастала по мере того, как он обнаруживал черты сходства между американским и европейским образом жизни.
Уже в своем первом произведении — «Простаки за границей» — великий американский писатель в непочтительно-дерзком тоне говорил об исторических «святынях» Европы. Этот разговор в той же тональности он продолжил и в своей новой книге «путешествий» — «Пешком по Европе» (1880), по форме построения, равно как и по характеру содержания, во многом сходной с «Простаками». Известная новизна этого созданного позднее произведения по сравнению с первой книгой заключалась, пожалуй, лишь в усилении некоторых акцентов. На сей раз Твена более всего интересует нравственно-бытовая сторона жизни Европы, этого мира, находящегося во власти суеверий, условностей и традиций, засилье которых писатель рассматривает как естественное следствие господства отношений сословной иерархии. Не случайно символической «заставкой» к его путевым впечатлениям служит известная легенда о бергенском палаче («Шельм фон Берген»), возведенном королем в дворянский ранг в результате досадного недоразумения (на дворцовом маскараде палач, будучи неузнанным, протанцевал с королевой). Это уступка условности, по-видимому, должна была служить намеком на глубокую условность всей системы сословных различий и доселе господствующей в Старом Свете. Твен рассматривает эту систему как маску, за которой скрывается жестокое лицо палача. Весь исторический процесс в глазах писателя является своего рода маскарадом, и эта метафора (в которой уже содержится ключ к «Принцу и нищему») во многом проясняет отношение Твена к Вальтеру Скотту и его американским подражателям. Он не прощает им участия в зловещем «маскараде истории», их попыток его эстетизации. Полемика с ними кроме общей задачи дискредитации романтизма преследовала цель развенчания целой философии истории не только в ее литературном, но и в прямом жизненном выражении. Полушутя, — полусерьезно Твен утверждал, что автор «Айвенго» несет ответственность за «средневековые» формы жизни рабовладельческого Юга. Разве не он повинен в том, что «перед войной каждый джентльмен на Юге был майором или полковником, или генералом, или судьей», и разве не «он заставил этих джентльменов ценить эти поддельные украшения, так как он создал не только ранги и сословия, но и гордость ими»? «Преступление» Вальтера Скотта перед историей и человечеством, по мнению Твена, состояло в том, что он «влюбил весь мир в сны и видения, в разрушительные и низкие формы религии, в устарелые и унизительные системы управления, в глупость и пустоту, мнимое величие, мнимую полезность и мнимое рыцарство безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего века. Он причинил тем самым неизмеримое зло, более реальное и длительное, чем любой другой человек, когда-либо писавший». Реально, однако, все эти обвинения предъявлялись не столько Скотту, сколько его многочисленным эпигонам как американского, так и европейского происхождения. Культ средневековья был не уступкой литературной традиции, а одной из характерных особенностей литературного движения, известного под именем неоромантизма, и его исповедовали не только писатели Юга, но и неизмеримо превосходившие их по значению и влиянию английские эстеты. Под их воздействием создавались и некоторые детские книги. Признанным мастером детской исторической книги в эту эпоху становится Шарлотта Юнг. Ее произведения («Маленький герцог», «Рассказы тети Шарлотты об английской истории», «Принц и паж») пользовались популярностью как в самой Англии, так и за ее пределами и имели в Америке широкий круг читателей, в состав которого входили не только дети, но и взрослые. Одна из книг Юнг «Принц и паж» — трогательная история юного пажа, ценою собственной жизни спасающего своего господина от гибели, подсказала Твену замысел его замечательного романа «Принц и нищий». В романе Юнг есть отдельные фабульные ситуации, имеющие отдаленное сходство с книгой Твена. Одним из центральных сюжетных мотивов «Принца и пажа» является история герцога, вынужденного выдавать себя за нищего.
Последняя глава романа Юнг носит название «Принц и нищий» («The Prince and the Beggar»).
Однако хотя произведению Юнг свойствен некоторый оттенок романтического бунтарства, проявляющегося в стремлении противопоставить «свободу» нищенского существования «раззолоченной неволе» королей, в целом ее концепция средневековья глубоко чужда Марку Твену.
Как и многие ее литературные современники, эта писательница заражена культом средневековья. Ей не чуждо эстетское любование мнимой красотой этого исчезнувшего мира. Для нее, как и для многочисленных представителей «взрослой» литературы, мир средневековья был полон романтического очарования. В восприятии Юнг он неотделим от его традиционных атрибутов: от благородных подвигов и высоких чувств, бархатных плащей, развевающихся перьев, эффектных жестов и мелодраматических ситуаций.
В 70-80-х годах XIX в. книги Юнг вызвали немалое количество подражаний.
Историческая сказка Твена «Принц и нищий» (1882) явилась гневным откликом на эту литературную «моду».
Та «философия истории», которую Твен противопоставил романтически идеализированной концепции средневековья, была последовательным выражением его демократических убеждений и прямо восходила к своим просветительским первоистокам. Направляющей силой истории, ее естественным руководителем для него, как и для «отцов» американской демократии, был разум. Подтверждение этой идеи он находил и у некоторых современных авторов: в «Истории европейской морали от Августа до Карла Великого» (1869) Уильяма Леки, а также в трудах известного викторианского историка Маколея.
«Между Твеном и Просвещением, — указывает американский литературовед Роджер Саломон, — стояли историки-виги, для которых понятие «история» означало прежде всего рост знаний и политических свобод»[62]. Хотя историки эти менее всего могли претендовать на звание бунтарей и оппозиционеров, они до известной степени годились в союзники Твену. Разработанная ими теория прогресса как движения по восходящей линии совпадала с его собственной и в принципе создавала возможности для установления особой шкалы исторических ценностей, критерием измерения которых служило народное благо.
Но симпатии Твена к упомянутым мыслителям (особенно к Маколею, которого он высоко ценил) имели и другие причины. Сам принцип их подхода к истории в восприятии писателя идентифицировался с его собственным. Маколей, в частности, вполне способен был представиться Твену антиподом Скотта даже в литературном отношении. В отличие от Скотта, он изображал историю в ее повседневном облике, как простое человеческое дело. Его интересовали не столько государственные перевороты и широкие общественные движения, сколько будничная хроника жизни общества. Декларируемое им программное задание, согласно которому «обязанность историка заключалась в переводе на язык правды абстрактных понятий, узурпированных художественной литературой»[63], несомненно созвучно убеждениям самого Марка Твена. Писатель по-своему выражал сходную мысль, когда утверждал, что лучший способ воспроизведения исторического прошлого состоит в том, чтобы изображать «мелочные явления истории в деяниях людей всех сословий и рангов». Этот угол зрения, точно соответствовавший и демократическим принципам Твена и особенностям его художественного метода, помог ему осуществить демократизацию и деромантизацию истории и из поэтического повествования о королях и героях превратить ее в трагическую летопись народных страданий.
Как явствует из «Записных книжек» Твена, замысел «Принца и нищего» сложился у него уже в 1877 г. Общие контуры сюжета были ему ясны с самого начала. «Эдуард VI и нищий мальчик случайно меняются местами накануне кончины Генриха VIII. Принц, в лохмотьях, бедствует, а нищий, ставший принцем, терпит муки дворцовой жизни вплоть до самого дня коронации в Вестминстерском аббатстве, когда все разъясняется» (12, 481). Лапидарность этой краткой сюжетной формулы помогает осознать значительность той роли, которую в ней играет элемент сказочной условности. Роль эта подчеркнута и авторским предисловием. «Возможно, что это исторический роман, — пишет Твен, — но возможно — предание, легенда, пожалуй, все это было, а пожалуй, и не было, но все же могло бы быть» (5, 439). Авторский комментарий подтверждается как содержанием романа, так и принципами его художественной организации.
В романе история идет рука об руку со сказкой и их союз диктуется самим характером авторской концепции прогресса как движения, еще очень далекого от своей главной цели. В произведении Твена отразились и рождающееся сознание недостижимости идеалов автора, и его еще не до конца утраченная вера в возможность их осуществления. В книге о прошлом жила мечта о будущем, и она заявляла о себе еле слышным голосом сказки.
Сказка входит в роман Твена легко и просто, с естественностью и непринужденностью, не разрушая его реалистической структуры. Необычайная история двух мальчиков, поразительно похожих друг на друга и случайно поменявшихся ролями, во многом носит фантастический, условный характер. Но эта фантастика нужна Твену лишь для того, чтобы построить реалистическое произведение, обладающее жизненной убедительностью. Развиваясь на совершенно реальном жизненном фоне, погружаясь в жизнь, сказка теряет свой таинственный, фантастический колорит. Органически врастая в реалистическую ткань повествования, сказочная мотивировка как бы становится одной из бесконечных житейских случайностей, тем волшебством жизни, в котором нет ничего мистического и сверхъестественного. Но сказочное начало не исчезает из романа и не растворяется в нем до конца. Оно прочно входит в подтекст произведения. Вещий шепот сказки то и дело пробивается сквозь оболочку исторического романа. Сказка придает событиям, происходящим в романе, при всей их исторической конкретности, приуроченности к определенной эпохе, времени, месту особый «вневременной» характер. Сказочная основа романа подчеркивает его общеисторический философский смысл. Подчиняя историю сказке, Твен не особенно заботился об исторической достоверности изображаемых событий. Его мало волновало то обстоятельство, что его принц Эдуард VI не был похож на реального исторического носителя этого имени[64].
В книге английского историка Юма, которая послужила Твену одним из основных источников при создании его романа, он нашел чрезвычайно сочувственную характеристику этого юного короля, умершего в возрасте 16 лет, и сделал ее отправной точкой при создании образа своего героя. Как любой волшебный принц из сказки, он может носить любое имя. Та идея, которая воплощена в его образе, связана не с одной эпохой, а со всей человеческой историей. На всем ее протяжении существовали «принцы» и «нищие», богатые и бедные, рабовладельцы и рабы, угнетатели и угнетенные. Твен создает некую обобщенную картину средневековья. Ее можно уподобить карандашному рисунку, который сходен с оригиналом не столько отдельными, тщательно выписанными деталями, сколько своими контурами, общим обликом.
Грязные, узкие улочки, лондонский мост, по обеим сторонам которого красуются нанизанные на острия головы недавних жертв королевского гнева, дома с окнами из разноцветных стекол, отшельник, воображающий себя архангелом, пестрые толпы нищих на соборных папертях и площадях — все эти зарисовки жизни тюдоровской Англии в какой-то степени доносят до читателя атмосферу средневековья.
Но во всех бегло очерченных атрибутах средневековья мы не ощущаем нажима авторского карандаша. Твена отнюдь не увлекает проблема создания «местного колорита». Его задача заключается в другом. Глядя на средневековый мир глазами ребенка, Твен очеловечивает и оживляет его, одновременно демонстрируя бесчеловечность и мертвенность его государственных принципов. Средневековая Англия для него не страна, населенная редкостными и диковинными ископаемыми, а мир людей с обычными для них чувствами и переживаниями. Они не совершают фантастических подвигов, не предаются возвышенной декламации, а живут обычной жизнью, очень сходной с жизнью людей XIX столетия. В глазах Твена психология человека XVI столетия в самых существенных и общих проявлениях мало отличается от психологии современных людей. Далекий от эстетизации средневековья, он не любуется средневековыми костюмами, архитектурой, обстановкой, не загромождает своей книги тяжеловесным историческим реквизитом. Аксессуары английского средневекового быта не вызывают у писателя никакого благоговения и восторга, не имеют для него самодовлеющей эстетической ценности. В его глазах они не музейные экспонаты, а вещи реального, жизненного назначения.
И он говорит о них в будничной и даже несколько фамильярной манере, совершенно уничтожающей всякое представление об их необычной, экзотической природе.
Так, Майлс Гендон появляется перед глазами читателя в традиционном средневековом костюме со всеми классическими его атрибутами — шпагой, шляпой о пером, плащом. Однако все эти «поэтические» принадлежности рыцарского туалета носят на себе следы тех житейских превратностей, каким подвергался их владелец: «Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток, а золотые галуны плачевно потускнели, брыжи на воротнике были измяты и продраны, широкие поля шляпы опущены книзу; перо на шляпе было сломано, забрызгано грязью и вообще имело изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения» (5, 494).
Эта выразительная картина (выполненная с обычным для Твена вниманием к деталям) как бы толкает читателя навстречу «неожиданному» выводу, что и та одежда, которую он привык видеть за витринами музеев и на иллюстрациях учебников истории, так же изнашивалась и рвалась, как прозаические костюмы современных людей. Люди всегда оставались людьми, в каких бы жилищах они ни жили и в какие бы одежды они ни облекались…
Так обстоит дело со средневековым бытом в интерпретации Твена.
Что касается средневековых нравов, то и в них нет ничего экзотического, непонятного, загадочного. Даже самый «экзотический» персонаж романа — безумный отшельник, вообразивший себя архангелом, в изображении Твена совершенно лишен романтического ореола и всякого оттенка загадочности, таинственности. Его помешательство отнюдь не носит мистического характера. Он сошел с ума в результате произведенной Генрихом VIII секуляризации церковных земель. Столь прозаическая трактовка образа архангела сразу делает его по-человечески понятным и сокращает дистанцию между XVI и XIX вв.
Да и полицейский-вымогатель, который, пользуясь обстоятельствами, за бесценок приобретает у бедной женщины принадлежавшего ей поросенка, несомненно, является родным братом полисмена XIX столетия. Его поведение со всей непреложностью доказывает, что нравы блюстителей порядка оставались неизменными на протяжении столетий.
Своеобразие средневековой жизни Твен видит не столько в особенностях материальной культуры прошлого, специфике его быта и нравов, сколько в характере ее государственно-правовых отношений.
Внимание к этой стороне средневекового общества диктовалось самим характером творческого задания. Согласно признанию писателя, его главная цель заключалась в том, чтобы «передать ощущение крайней суровости тогдашних законов, применив некоторые кары к самому королю и дав ему случай увидеть, как закон карает других» (12, 578). С этим общим заданием романа связано и распределение его внутренних акцентов.
Равнодушно опуская «живописные» детали частного быта, Твен в то же время старается быть точным в изображении официально-государственной стороны средневековой жизни. Поэтому он с такой подчеркнутой добросовестностью и объективностью, с таким вниманием к подробностям воссоздает тонкости придворного этикета и сложного ритуала придворных церемоний.
«Очистили место и затем вошли граф и барон, одетые, по турецкому обычаю, в длинные халаты из расшитой шелками парчи, усеянной золотыми блестками; на головах у них были чалмы из малинового бархата, перевитые толстыми золотыми шнурами; у каждого за поясом висело на широкой золотой перевязи по две сабли, именуемые ятаганами. За ними следовали другой граф и другой барон в длинных кафтанах желтого атласа с поперечными белыми полосками, в каждой белой полоске была алая, тоже атласная…» (5, 492–493) и т. д.
Эти картины, передаваемые очевидцем-историком, как бы нарочито вмонтированные в произведение, по своему тону, звучанию, ритму, по своему стилистическому оформлению резко отличаются от основного текста романа. В них есть торжественная приподнятость и монументальная неподвижность, в целом не свойственная живому, бесхитростному повествованию Твена. Они напоминают одновременно и богослужение и маскарад. Для Твена эти слова являются до некоторой степени синонимами. В основе того и другого лежит подмена истины ложью, реальности фикцией. Выдаваемая за некий абсолют разукрашенная «декорация» демонстрируется в качестве некоего фетиша, требующего кровавых жертвоприношений. Этот закон иерархического общества в средневековом мире проявляется в классически четкой форме. Понятие «маскарад» здесь приобретает чрезвычайно широкий смысл. Вся идеологически-моральная, юридически-правовая, этически-религиозная сторона средневековья в интерпретации Твена становится маской, под которой скрывается жестокое, бесчеловечное лицо эпохи (лицо палача). Этот закон всеобщей замаскированности раскрывается во многих частных проявлениях, становясь конструктивным принципом, определяющим как структуру романа в целом, так и построение его отдельных характеров. Своеобразие метода Твена особенно отчетливо проявляется при воссоздании портрета Генриха VIII. Образ этого одутловатого подагрика, озлобленного, капризного, болезненного, недоверчивого, развращенного сознанием беспредельности своей власти, в изображении Твена становится если не привлекательным, то по-человечески понятным. Жестокий, грозный самодур предстает в романе Твена в неожиданной для него роли любящего отца. Он умеет быть нежным, ласковым, отечески снисходительным. Сам безжалостный и беспощадный, он любуется кротостью и добротой своего наследника. Озабоченный мнимой болезнью сына, король испытывает вполне понятную тревогу за его будущее. И однако диалектика этого образа заключается в том, что все естественные, человеческие побуждения приводят Генриха VIII к бесчеловечным поступкам. «Человек» в нем придавлен «королем», живые чувства — титулом, и свою любовь к сыну он утверждает в той форме, которая является для него единственно возможной и привычной, в форме насилия и издевательства над другими людьми. Отцовские чувства делают Генриха VIII еще более жестоким и беспощадным по отношению к его подданным. Чувствуя приближение своего смертного часа, он хочет закрепить за принцем Уэльским династические права и поэтому с пеной у рта требует немедленной казни герцога Норфолькского, ибо этот злополучный вельможа, как кажется королю, стоит между Эдуардом и английской короной.
Слова нежности, обращенные к сыну, и свирепые угрозы по адресу герцога Норфолькского одновременно слетают с уст умирающего властителя Англии. Выходя из королевской опочивальни, Том с ужасом видит, как «впереди его летит отрубленная голова герцога Норфолькского».
Художественная сила этой замечательной сцены заключается в том, что в ней разоблачаются не только личные пороки Генриха VIII, но и сама противоестественная природа королевской власти.
Отцовские чувства и стремления Генриха VIII еще больше подчеркивают противоестественность его общественного положения, извращенность того узаконенного государством и церковью порядка вещей, при котором жизни и судьбы миллионов людей зависят от прихоти одного человека. Средневековый мир извращен в самой своей основе, и самым гнусным и противоестественным его качеством является разделение на рабов и господ, на королей и подданных, на «принцев» и «нищих». В этом гневном протесте против любых форм социального неравенства заключалась великая сила книги Твена, ее огромная жизненная актуальность в условиях Америки и Европы конца XIX в. По своему внутреннему смыслу сказка Твена имела столь же близкое отношение к прошлому, как и к настоящему, как к Европе, так и к Америке. На данном этапе своего творчества Твен, быть может, еще полностью не отдавал себе в этом отчета. Но хотел этого писатель или нет, объективно его роман отразил не только противоречия средневекового мира, но и противоречия любого классового общества, основой которого являются отношения господства и подчинения.
В бесхитростной и наивной «транскрипции» детской сказки Твен утверждает один из величайших принципов своего демократического кредо — принцип социального равенства людей. В просветительски четкой форме великий американский писатель говорит о том, что люди не родятся королями и нищими, а становятся ими.
Вся поэтика его романа нацелена на то, чтобы высвободить эту простую истину из-под скрывающих ее аксессуаров социальной бутафории. Такой задачей определяется и выбор героев романа. Стремясь осуществить «демаскировку» истории, писатель воспользовался своим излюбленным приемом: он показал мир средневековья сквозь непосредственное, чистое восприятие человека, увидевшего его как бы впервые. Наивное, неизуродованное детское сознание становится здесь средством познания жестокости и противоестественности феодальных законов (т. е. в сущности любых законодательных установлений, в основе которых лежат отношения социального неравенства). Роман Твена — это история глазами ребенка, и именно с этим связаны его тональность бесхитростного повествования и особая чистота и ясность поэтического рисунка, создающего впечатление полной неразделимости видения героев и автора.
Ключом к истории принца и нищего, а одновременно и к главной социально-философской идее романа служит его центральная сцена переодевания двух одинаковых детей. Сходство, существующее между Томом Кенти и Эдуардом Тюдором, не только внешнее. Эти дети во многом одинаковы и по своей психологии. «Если бы мы вышли нагишом, — говорит своему собеседнику принц Уэльский, — никто не мог бы сказать, кто из нас ты и кто принц Уэльский» (5, 452). Так устанавливается необязательность и иллюзорность сословных различий. Титулы и ранги — это всего лишь одежда, которую можно снять и надеть, нечто внешнее, условное. Маленький король, лишенный внешних атрибутов своего королевского величия, становится тем, что он есть на деле, слабым ребенком, над которым могут безнаказанно издеваться окружающие.
«Король царства снов и теней» — так называет Майлс Гендон того, кого он считает полупомешанным маленьким самозванцем. Но для Твена каждый король, независимо от своих династических прав, в определенном смысле является самозванцем, и корона, венчающая его чело, в понимании писателя столь же призрачное украшение, как и убогий венец из соломы, которым пьяницы и бродяги «венчают на царство» затравленного Эдуарда Тюдора. Королевская власть призрачна по своей природе, канонизированные нормы этики и морали есть не что иное, как коллекция веками сохраняемых «призраков», возникновение которых происходит не на основе естественных законов жизненного развития, а в порядке насилия над ними. Варьируя эту мысль на все лады, Твен мастерски использует возможности наивного сознания своих юных героев. Ведь самый их возраст служит предпосылкой нормальности их жизненных реакций и той незамутненной чистоты взгляда, которая помогает им (как и Тому Сойеру) совершать открытие реального мира. Для ребенка короли, герцоги, принцы и нищие еще не перестали быть людьми. Поэтому и Эдуард Тюдор и Том Кенти, каждый на свой лад, ощущают противоестественную сущность господствующего миропорядка, все установления которого направлены против человека. Антитеза «искусственного и естественного», «иллюзорного и подлинного» в новом романе Твена поднимается на уровень историко-философских обобщений. Она проходит не только сквозь мир угнетенных, лишенных всех своих законных человеческих прав, но и сквозь мир угнетателей, поставленных перед угрозой утраты своей живой души и замены ее мертвой маской.
Какими бессмысленными, ненужными кажутся Тому Кенти все тонкости дворцового этикета. Подавленный дворцовым ритуалом, он ведет себя так, как должен вести себя живой и нормальный человек, попавший в выдуманный мир, где естественный строй человеческой жизни подменен искусственным порядком, на поддержание которого уходят все силы участников этого нелепого маскарада. Королевский дворец кажется ему тюрьмой, и он искренно жалеет об утраченной свободе, проклиная раззолоченную клетку, куда привела его судьба. «Чем прогневал я господа бога, что он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух, поля и луга и запер меня в эту темницу?» (5,513).
Все описания придворной жизни в романе Твена исполнены скрытой иронии. В характерной для него невозмутимой манере писатель раскрывает внутренний комизм всех обычных для этого мира традиционных правил этикета, когда десятки людей помогают одному человеку надевать чулки, когда самые обыкновенные человеческие действия, например процесс поглощения пищи, превращаются в парадное зрелище, к которому приковываются десятки и сотни благоговейных взоров.
Маленькому нищему, не посвященному во все тонкости дворцового ритуала, трудно представить себе, что на свете существуют такие должности и обязанности, как должность главного хранителя королевских чулок, наследственного подвязывателя салфетки, мальчика для порки и т. п. Необычайно выразительной является трагикомическая ситуация, в которую попадает Том Кенти в связи с тем, что у него во время парадного обеда «зачесался нос, а наследственного чесальщика носа не оказалось».
Этот юмористический эпизод с осязаемой наглядностью доказывает, что весь строй придворной жизни находится в вопиющем противоречии с самыми простыми и естественными побуждениями человека, что «природа» (не может пробиться сквозь преграды придворного этикета. Как и всегда у Твена, вторжение здравого смысла в мир нелепых, искусственных отношений производит глубоко комическое впечатление. Этот «герой» входит в королевский дворец в лице маленького нищего, и все его наивные, бесхитростные суждения вносят в роман Твена стихию сдержанного, тонкого юмора. Правда, и Том Кенти в той же мере, что и окружающие его вельможи, является сыном своего времени. Как и они, он заражен всеми свойственными его эпохе предрассудками и суевериями. Он, так же как и милорд Сен Джон и герцог Гертфорд, верит в существование ведьм и глубоко убежден, что, сняв чулки, ведьма может вызвать бурю. Но при всем том преимущество маленького нищего перед придворным обществом заключается в простоте и естественности его мировосприятия, в трезвости и непредубежденности его взглядов на жизнь, в его простонародном здравом смысле. Именно с этих позиций он пытается «править» английским королевством, и его наивные попытки повергают окружающих в неописуемое смущение. Так, стремясь сократить огромные расходы на содержание королевского двора, Том предлагает своему штату переехать в маленький домишко «насупротив Билинсгейта». Нисколько не сомневаясь, что такая перемена благотворно отразится на всем характере государственной жизни, он аргументирует свое предложение следующим образом: «Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами» (5, 517).
Когда несчастный человек, которому предстоит быть заживо сваренным в кипящем масле, в отчаянии бросается к ногам «короля» — Тома, Том содрогается от ужаса и жалости, между тем как чопорные вельможи, затянутые в шелк и бархат, выслушивают рассказ осужденного с равнодушием людей, уже давно потерявших способность сочувствовать чужому горю. Быть может, некоторые из них по природе и не злы, как герцог Гертфорд, которому не чужды некоторые гуманные стремления. Но отделенные глухой стеной от жизни народа, могучего источника правды и справедливости, они давно утратили естественное восприятие вещей, давно перестали отличать добро от зла. В бездушном мире раззолоченной лжи нет места живым человеческим чувствам. Из всех обитателей королевского дворца лишь один принц Уэльский, десятилетний ребенок, по самим особенностям своего возраста еще способен на великодушные порывы.
Уродливое дворцовое воспитание сделало его капризным, избалованным, своевольным, ко оно еще не убило в нем живую душу, не заглушило его человеческих чувств. И именно поэтому Твен заставляет его спуститься с высоты королевского трона в мрачную бездну народного горя и на себе самом испытать бесчеловечность законов, созданных его предками.
В то время как Том Кенти, сидя на королевском престоле, пытается смягчить чудовищную жестокость существующей законодательной системы, Эдуард Тюдор, бродя по пыльным дорогам Англии, знакомится с ее практическими следствиями: голодом, холодом, нищетой и страданиями. Сцены, изображающие дворцовый быт, последовательно чередуются с картинами безотрадной жизни народа. В стремительном темпе они следуют друг за другом. Два мира, существующие внутри Англии XVI в., одновременно отражаются в двух зеркалах. Благодаря этому композиционному приему читатель с особой остротой чувствует всю глубину социальных контрастов расколотого надвое средневекового общества.
Стихия невежества, темноты, грубости бушует за раззолоченным фасадом тюдоровской Англии. Народная жизнь сначала поворачивается к принцу своей самой неприглядной стороной: нищие, бродяги, воры и бандиты, грубый негодяй Джон Кенти, его вечно пьяная старуха-мать выходят навстречу маленькому наследнику английского престола, впервые столкнувшемуся вплотную с жизнью своих «верноподданных».
И не сразу, а постепенно, в процессе своего вынужденного сближения с народной средой, принц начинает смутно понимать, что ответственность за эту грубость нравов, за это невежество, пьянство целиком ложится на те социальные условия, в которых живет его «добрый народ».
Приемы Твена остаются неизменными на протяжении всего романа. Твен оживляет архаическую летопись средневековья. Средневековый кодекс уголовных законов со всеми его пытками и казнями перестает быть достоянием профессоров истории и уголовного права. Он наполняется живым человеческим содержанием, обрастает множеством необычайно убедительных житейских подробностей. У добрых женщин-анабаптисток, которых слуги английского правосудия с варварской жестокостью сжигают на костре, оказываются две молоденькие дочери. Матери погибают на их глазах, и страшная сцена сожжения живых людей от этого становится еще более трагичной.
Английское правосудие обрекает на чудовищные страдания ни в чем не повинного человека только по одному подозрению в убийстве, приговаривает к смерти женщину и девятилетнего ребенка по подозрению в колдовстве, посылает на виселицу карманного воришку, проступок которого вызван голодом.
Во всех этих мрачных и жестоких эпизодах Твен, как и в сценах, изображающих придворную жизнь, делает детское сознание тем пробным камнем, на котором испытывается бесчеловечная жестокость законов.
Эдуард Тюдор, чьи предки создали страшную систему казней и пыток, проявляет живое человеческое участие к замученным и затравленным жертвам королевского правосудия. «Лучше бы мне ослепнуть, чем видеть этот ужас!» — говорит он. В его душе происходит сложный процесс. Он смутно чувствует, что в мире призрачных, поддельных, иллюзорных ценностей есть только одна настоящая, подлинная ценность — человек, и она ежеминутно приносится в жертву ложным кумирам и нелепым фетишам.
И все же подлинную человеческую теплоту, бескорыстное участие, доброту и сострадание он находит именно здесь, в этом мире нищеты и страдания… Роман Твена, рисующий страшные условия жизни народа, — это не филантропическая книга, взывающая о сострадании и милосердии к униженным и обездоленным, а произведение, пронизанное горячей любовью к народу, верой в его моральные и нравственные силы.
Несчастные анабаптистки, осужденные на страшную смерть, находят в себе душевные силы, чтобы приласкать и подбодрить одинокого, беспомощного мальчика.
Простая фермерша, движимая состраданием к голодному ребенку, дает ему место за своим скромным столом.
Откуда-то из бездонной глубины народного моря неисповедимыми путями приходит к Эдуарду его защитник и покровитель — Майлс Гендон. Все эти люди видят в маленьком оборвыше не «помазанника божьего», а бесприютного ребенка и, помогая ему, они действуют совершенно бескорыстно. Так, узнав в английском короле опекаемого им маленького бродягу, Гендон меньше всего думает о тех выгодах и преимуществах, которые это необычайное происшествие повлечет за собою лично для него. Не придавая никакого значения своим самоотверженным и великодушным поступкам, он не ждет за них никакой награды. Не случайно этому простому и добродушному человеку Твен в своем романе отводит такую важную роль: в нем воплотились лучшие черты народной психологии: скромность, бескорыстие, великодушие.
Деклассированный потомок рыцарского рода, приобщившийся ко всем горестям и невзгодам народной жизни, полусолдат, полубродяга, Майлс Гендон больше связан с миром обездоленных и угнетенных, чем с привилегированными классами общества, к которым он принадлежит по своему происхождению. Вся история Гендона, которого негодяй брат лишает всего, что принадлежит ему по праву — имени, состояния и любимой женщины, по своему внутреннему смыслу глубоко соответствует логике жизни окружающего его общества. Она еще раз подчеркивает глубокую извращенность отношений, господствующих и в королевских палатах, и в нищенской лачуге, и в рыцарском замке. В биографии Гендона нет ничего волшебного и необычайного. А между тем именно он играет роль доброго волшебника в мудрой и человечной сказке Твена. В тех эпизодах, героем которых является Майлс Гендон, с особой остротой ощущается невидимое присутствие сказки. Появление Майлса Гендона, который, как и все добрые волшебники и феи, обычно приходит на помощь герою в самые критические моменты жизни последнего, не является чистой случайностью. В нем есть какая-то внутренняя необходимость и неизбежность. Ведь и сам маленький принц всегда убежден в том, что Майлс должен прийти ему на помощь: «Ты долго медлил, сэр Гендон, но наконец-то ты пришел!»
Вмешательство Гендона в судьбу принца воспринимается как осуществление некоей закономерности, способствующей победе добрых и справедливых начал жизни.
Осторожная и приглушенная поступь сказки особенно явно слышится в финальных сценах романа, где Эдуард Тюдор, добившийся признания своих династических прав, восходит на трон предков. Эта сцена, разумеется, должна изображать не торжество монархического принципа, а апофеоз справедливости. Книга Твена кончается так, как должна окончиться всякая сказка, — неизбежным поражением злых сил и победой добра.
Как и в «Томе Сойере», источником чудесного в жизни является простой, обыкновенный человек; сказочный мотив повествования в «Принце и нищем», как и в предшествующем произведении Твена, рождается из глубокой веры писателя в силу и возможности людей. Отсюда и особое внимание к проблеме воспитания личности. Если Том Сойер не столько поддавался воспитанию, сколько оборонялся от него (и именно поэтому мог сохранить естественные первоосновы своей личности), то его тезка Том Кенти, а в равной степени и его двойник принц Уэльский уже несут на себе следы воздействия окружающей их среды, меняясь под ее непосредственным влиянием.
Книга Твена — своеобразный «роман воспитания». Писатель раскрывает в ней сложный процесс становления человека. В сознании его маленьких героев происходят сдвиги и перемены; каждый из них, попав в необычные для него жизненные условия, преображается не только внешне, но и внутренне. Сама жизнь выступает в роли их учителя, и из уроков, преподанных ею, они извлекают соответствующие моральные и практические выводы. Дорогой ценой принцу и нищему приходится оплачивать приобретаемый ими жизненный опыт. Оба они оказываются в трагическом положении: если на долю принца Эдуарда выпадают жестокие физические истязания, то маленький нищий подвергается опасности искалечить свою душу.
Постепенно Том Кенти становится королем не только по своему внешнему виду, но и по психологии. «…Бедный, запачканный сажей котенок за эти четыре дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком» (5, 535). Том привыкает повелевать и уже находит в этом своеобразное удовольствие. Начиная ощущать преимущества своего положения, он приходит к выводу, что, «по правде говоря, быть королем не так уж и плохо: тяготы этого звания нередко возмещаются разными выгодами» (5, 526). Процесс постепенного усвоения норм придворной жизни становится и процессом известной моральной деградации Тома Кенти. Когда во время коронации его мать в жалких лохмотьях приближается к нему со словами любви и нежности, с уст Тома едва не срывается жестокий возглас: «Женщина, я не знаю тебя!» Отрекаясь от матери, он как бы отрекается от самого себя, от всего, что было в нем хорошего и светлого. К счастью, его царствование заканчивается до того, как завершается процесс его «воспитания». Да и его здоровая природа — природа человека из народа — сопротивляется пагубному влиянию окружающей его обстановки. Но, независимо от этого, история маленького нищего красноречиво показывает, что и в самом образе жизни привилегированных классов общества скрывается тлетворное, деморализующее начало. В то же время народная среда оказывается мощным педагогическим фактором, под воздействием которого английский король приобретает качества, необычайно ценные для правителя. В ходе сюжетного развития романа раскрывается одна из его центральных мыслей, с предельной ясностью выраженная самим автором: «Королям следовало бы время от времени самим испытывать на себе свои законы и учиться милосердию».
«Моя идея, — писал Твен в одном из писем, — показать смысл чрезмерной жестокости законов тех дней, заставив самого короля испытать некоторые из них и дав ему возможность видеть, как эти законы применяются по отношению к другим — все это должно объяснить некоторую мягкость, которая отличала царствование Эдуарда VI от тех, кто ему предшествовал на троне и последовал за ним».
Впрочем, Твен не переоценивал чисто исторических последствий этого педагогического эксперимента; при всем своем милосердии Эдуард VI не может изменить коренные основы государственной жизни, его добрые поступки лишь смягчают, но не уничтожают жестокость законов. Реалистическая трезвость мышления Твена проявилась в том, что он не ставил существование той или иной системы в зависимость от доброй или злой воли одного лица. Американский писатель-демократ, глубоко воспринявший опыт недавней революции, хорошо понимал, что самый лучший монарх бессилен изменить систему существующих общественных отношений. В своем романе он хочет остаться верным суровой реальности истории. Он не знает путей ее грядущего развития, не знает подлинных средств преодоления жестокой суровости законов. Поэтому трагической правде истории во всей ее безотрадной жестокости он может противопоставить только истину сказки, основанную на глубокой вере в человека, нравственную силу народных масс. Это гуманистическое кредо он сделал своей опорной точкой в борьбе со всем деспотизмом и произволом настоящего и прошлого. Именно поэтому его историческая сказка стала одной из самых светлых и добрых книг мировой литературы.
В мировоззренческой эволюции Твена книга «Принц и нищий» представляет чрезвычайно важное звено. Его философия истории сформировалась в своих общих чертах. Впервые Твен с полной ясностью выразил ту мысль, к которой он приближался уже в своих предшествующих произведениях. Глядя на европейскую историю глазами ребенка, он раскрыл ее глубоко трагическую основу: в мире прошлого он обнаружил два мира — угнетателей и угнетенных, рабов и рабовладельцев.
Эту философию истории он в дальнейшем распространил не только на прошлое, но и на настоящее, не только на Европу, но и на Америку…
Решающей стадией в развитии этого процесса стало появление двух взаимосвязанных книг: «Жизнь на Миссисипи» (1883) и «Приключения Гекльберри Финна» (1885).
Кризис «Американской мечты». «Жизнь на Миссисипи», «Приключения Гекльберри Финна»
Книга очерков Твена «Жизнь на Миссисипи» и «Приключения Гекльберри Финна» создавались почти одновременно, первая из них может рассматриваться как пролог ко второй. Почву для их появления подготовили события, происходившие в США 80-х годов: реакция на Юге, дискриминация негров, усиление плутократии, обострение социальных конфликтов. В США стремительно нарастала волна рабочего движения.
Оба произведения Твена появились накануне одного из самых трагических событий общественной жизни 80-х годов — казни пяти рабочих лидеров в Чикаго (1887).
Террористическая акция правительства, направленная на искоренение бунтарских настроений американского пролетариата, произвела перелом в общественном сознании прогрессивных деятелей культуры США. Хеймаркетская трагедия для некоторых из них стала поворотной точкой духовного развития. Хоуэллс писал, что его кругозор «бесконечно расширился» в связи с «легальным умерщвлением» пятерых людей, казненных за их убеждения. С подлинным мужеством и энергией включился он в борьбу за спасение жертв американского правосудия и, убедившись в бесплодности своих усилий, пережил глубокий внутренний кризис. «После пяти лет оптимистического довольства… — признавался он в письме к Генри Джеймсу, — я испытываю к ней теперь отвращение и чувствую, что она кончит очень плохо, если не будет перестроена на основе действительного равенства»[65]. Слова эти знаменательны в применении не к одному только Хоуэллсу. Процесс переоценки ценностей, созданных буржуазной цивилизацией, характерный для прогрессивного искусства Америки конца 80-х — начала 90-х годов, вступает в кульминационную стадию своего развития, и в него фактически включаются все передовые художники США, в чьем сознании проблема трагических противоречий собственнического мира и созданной им цивилизации закономерно представала в тесном единстве с другой эпохальной проблемой — роли и места рабочего класса в исторической жизни человечества. «Во всем мире люди должны спросить себя, — писал Хоуэллс о Хеймаркетской трагедии, — каково же то дело, во имя которого люди идут на смерть с такой готовностью, так беспощадно?»
Ответ на этот вопрос можно найти в одном из высказываний другого американского писателя — Уолта Уитмена. В конце 80-х годов поэт-демократ пророчески предрекал победу сил демократии, «чей неизбежный громкий протест против несправедливости скоро услышат все тираны мира. Патриции, правители, короли, — возглашал Уитмен, — думают, что спасение государств и наций зависит от них. Но нет, на самом деле они паразиты, только массы могут все спасти, только народ, а без народа все погибнет»[66].
Эта декларация во многом обобщала и настроения Марка Твена. Высказанные Уитменом мысли еще ранее прозвучали в речи, произнесенной Твеном в Хартфордском клубе 22 марта 1866 г. в защиту одной из ранних рабочих организаций США, так называемых «Рыцарей труда», за деятельностью которой писатель следил с неослабевающим интересом. Эта речь, носящая многозначительное название «Рыцари труда» — новая династия», по утверждению Ф. Фонера, наиболее убедительно показывает, каким верным другом профсоюзного движения был писатель.
Возвещая появление нового законного короля («впервые… порфиру надел подлинный король, впервые слова «король милостью божьей» перестали быть ложью» — 10, 688), писатель рассматривает его существование как залог счастливого будущего Америки. «Он поставил перед собою благороднейшую из задач, когда-либо стоявших перед человечеством, и он выполнит ее». Вывод этот, сформулированный в 1886 г. (за год до Хеймаркетской трагедии), подготовлен уже дилогией о Миссисипи (как иногда называют американские исследователи два названных выше произведения Твена). Красноречиво свидетельствуя о его демократических симпатиях, они в то же время ясно показывают, что воцарение нового «короля» в представлении Твена отнюдь не являлось процессом легким и безболезненным. Направление развития буржуазной цивилизации вызывает его глубокую тревогу, ибо он уже начинает видеть в ней тормоз жизненного развития народных масс, преграду поступательному движению жизни.
Уже в лирически скорбной «Жизни на Миссисипи» Твен начинает свой суд над цивилизацией. Созданная в момент начинающегося кризиса «американской мечты» Твена, эта книга воспроизводит его путь от «Тома Сойера» к «Гекльберри Финну» — от надежд к разочарованию — в формах, поражающих своей графической четкостью. Ее две части (написанные в разное время) точно соответствуют двум этапам этого пути и заметно отличаются друг от друга как своим содержанием, так и повествовательной тональностью.
Начатая еще в 1874 г., почти одновременно с «Томом Сойером», книга очерков о жизни на Миссисипи родилась под знаком тех же ностальгических настроений. В первой ее части Твен воскрешает воспоминания о тех днях, когда безвестный юноша Сэмюэль Клеменс водил пароходы по великой реке. Время лоцманства он считал счастливейшим периодом своей жизни. Неоднократно он утверждал, что лоцманство — его любимая профессия и он охотно вернулся бы к ней, если бы семья не возражала. Возвращаясь к этому пройденному этапу своего жизненного пути, Твен рассматривает его сквозь дымку «элегии». С оттенком чуть грустного умиления он описывает свое знакомство с Миссисипи, с замечательными людьми, с которыми его столкнула судьба в процессе обучения лоцманскому делу. Впоследствии, когда в 1882 г. писатель возобновил свою работу над книгой, он включил в нее очерк истории лоцманства — первой рабочей организации США, создавшей свое профсоюзное объединение. Факты личной биографии Твена объединились с хроникальными данными из истории профсоюзного движения в США. В результате возник особый сплав проникновенной лирики и острейшей публицистики, определивший не только познавательную, но и художественную ценность произведения Твена.
Его документальная книга далеко выходит за рамки своего хроникального задания. В лирически проникновенной форме здесь воплотился позитивный идеал Твена, его «американская мечта» о свободной, гармонически целостной цивилизации, основой которой станет освобожденный и радостный труд человека. Сообщив ей черты осязаемой, жизненной конкретности, Твен вместе с тем провел резкую грань между ней и реальной американской действительностью, предвосхитив, таким образом, все направление своей дальнейшей творческой эволюции. Несмотря на прочность и фундаментальность реальной, фактической основы книги, представляющей летопись подлинных событий недавнего прошлого США, она вся пронизана духом романтики, той особой чисто твеновской романтики, которой чужд всякий элемент отвлеченности и условности и которая не боится жизненной прозы, но, напротив, в ней-то и находит свой первоисточник. Такой романтикой овеян прежде всего образ Миссисипи, представляющий один из повествовательных центров книги. Изобразительная мощь, с которой он написан, придает ему огромную внутреннюю емкость, сообщая ему значение своеобразного символа. Прекрасная река, многоводная, своенравная, вольная, становится олицетворением ничем не скованной свободы — этой вечной мечты человечества, рожденной самими законами бытия и сохранившей красоту своего первозданного облика лишь там, где он запечатлен в зеркале живой, непокоренной и незакрепощенной природы. В мире всеобщего рабства лишь одна Миссисипи свободна. С непринужденной легкостью она разбивает цепи, которыми ее пытается сковать человек. «Десять тысяч Речевых комиссий со всеми золотыми россыпями мира не смогут обуздать эту беззаконную реку, не покорят ее, не ограничат, не скажут: «Ступай туда» или «Ступай сюда», не заставят ее слушаться… не запрут ей путь такой преградой, которой бы она не сорвала…»
Но идеал свободы кроме общечеловеческого имеет и специфически национальное содержание. В книге Твена проявилась одна из характернейших черт писателя — его влюбленность в технику. С тех пор как он положил руку на рулевое колесо парохода, этот сын Америки питал неослабевающий интерес к достижениям техники. Каждое новое открытие приводило его в восторг. С наивностью, достойной Тома Сойера, он пытался принять личное участие в чудесах, происходивших на его глазах. Его причастность к ним, проявлявшаяся в форме крупных капиталовложений, в конце концов разорила Твена, и он на закате жизни оказался в паутине долгов, на выплату которых уходили все его писательские гонорары. Эти дорогостоящие трагикомические эксперименты едва ли сводимы к простому «хобби» великого человека. Свобода и прогресс в сознании Твена существуют нераздельно, фундаментом идеальной цивилизации, о которой он мечтает, должен стать союз природы и человеческой мысли, и она будет строиться не в противоречии с достижениями разума, а на их основе. Поистине эпиграфом к произведению Твена могли бы служить слова его младшего современника Томаса Манна: «…нет противоречий между природой и цивилизацией, последняя только облагораживает первую, не отрицая ее»[67].
Восторг Твена вызывает не только река, но и скользящие по ней пароходы, составляющие как бы неотъемлемую часть ее естественного бытия. Писатель восхищается совершенством их конструкции, мудрой слаженностью их отдельных частей, изяществом их внутренней отделки. Симпатии Твена к этому чуду техники опираются не только на пристрастие к науке (в которой он находит «нечто захватывающее»), но и на ощущение его дружественной связи с Миссисипи. Между пароходом и рекой существует полное взаимопонимание, они говорят на общем языке и живут единой жизнью. В художественной системе книги эта мысль занимает значительное место; именно она определяет ее образный строй. В прямой зависимости от нее находится структура метафор Твена с их характерной пантеистической окраской.
Одна из важнейших функций художественного метода Твена здесь состоит в уничтожении граней между созданиями природы и человеческого разума. Сливаясь в системе единого образа, они образуют нерасчленимое поэтическое целое, живущее по своим особым законам. Именно на это «работает» механизм его сравнений. Все действия речных судов настойчиво соотносятся с явлениями жизни природы. Так, гонка двух красавцев-пароходов ставится рядом со скачкой мулов как спортивные упражнения одного порядка (причем писатель отдает предпочтение первому из них). «Ослепительный сноп белого электрического света» озаряет воду и склады, «подобно полуденному солнцу», а очаровательный вельбот, «грациозный, длинный, быстрый», в сознании автора ассоциируется с борзой. Живя одной жизнью с Миссисипи, пароход, как и она, испытывает неприязнь ко всему, что становится тормозом в их свободном движении. Ему хочется «стукнуть» «встречную мель» так, «чтобы она вылетела на середину Мексиканского залива», и он отказывается от этого намерения с «явной неохотой».
Техника и природа здесь действуют заодно, и их мирное содружество скреплено разумом и волей человека. Романтический пафос книги целиком опирается на эту мысль. Она становится фундаментом, на котором Твен воздвигает одно из самых своих грандиозных сооружений — памятник во славу лоцманства. Написанная в элегической тональности, его книга есть не что иное, как реквием славной профессий, ныне уже отошедшей в область воспоминаний. Для Твена лоцманское дело есть нечто неизмеримо большее, чем разновидность ремесла. Труд лоцмана в его трактовке становится квинтэссенцией трудовой деятельности человечества, воплощением ее высокого, творческого смысла. Рука лоцмана на рулевом колесе послушного ему железного гиганта, заставляющая его двигаться в лад со свободной, раскованной природной стихией, — такова самая точная метафора прогресса в понимании Марка Твена.
Процесс совершенствования жизни и природы должен совершаться не в противоречии с ее законами, а на основе познания их и уважения к ним, и лоцманский труд полностью отвечает этим требованиям. Высокое искусство управления пароходом зиждется на превосходном знакомстве с рекой, на проникновении в ее «душу». Мало знать все излучины и пороги Миссисипи, нужно еще понимать ее настроения, считаться с ее капризами, идти навстречу ее желаниям, предвосхищать их, «завести интимные дружеские отношения с каждой старой корягой, с каждым старым тополем». Такая «интимность» кроме знания предполагает еще и любовь, и, вероятно, главный стимул для триумфов лоцманов — их влюбленность в свое Дело. Они любят реку, любят пароход, любят свою нелегкую профессию и гордятся ею, как дано гордиться лишь подлинно свободным людям, чья энергия и ум расходуются в полном соответствии с их внутренним призванием. В те дни, пишет Твен, «лоцман был на свете единственным, ничем не стесненным, абсолютно независимым представителем человеческого рода… У каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого ребенка есть хозяин, и все они томятся в рабстве. Но в те дни, о которых я пишу, лоцман на Миссисипи рабства не знал» (4, 321). Но при всем своем восхищении Твен отнюдь не закрывает глаза на то, что лоцманство — этот оазис свободы — для прошлого Америки являлось таким же отступлением от господствующих социальных законов, как и для ее настоящего. Идеальный гармонический союз техники, природы и человека — этот поэтический прообраз некой утопической, еще не существующей цивилизации — мог возникнуть лишь там, где во мраке всеобщего рабства случайно зажглась искорка свободы. Случайность этой вспышки, ее кратковременность и обреченность особенно подчеркивается Твеном во второй части книги. Она была написана спустя восемь лет после создания первой, и в ней совместились два временных измерения. Центр ее внутренней тяжести передвинулся с прошлого на настоящее, и прошлое подверглось рассмотрению уже с точки зрения своих безрадостных итогов. Стык времен, происшедший в книге, привел к изменению и ее повествовательной окрашенности. Если в первой части преобладают светлые, ясные тона, то вторая написана темными красками. Эти колористические нюансы указывают направление эволюции писателя от лучезарного «Тома Сойера» к сумеречному «Гекльберри Финну». Временной интервал, отделяющий первую часть «Жизни на Миссисипи» от второй, позволяет осознать размеры пройденной писателем дистанции. Книга, начатая как апофеоз вольности, переросла в трагедию всеобщего закрепощения.
Автор «Тома Сойера» окончательно отрекся от своих юношеских иллюзий. В нем угасло всякое стремление идеализировать вчерашний день американской истории. Теперь он знает, что и в «патриархальной» Америке процветали ханжество, фарисейство, злобная нетерпимость, и то, что именовалось «высокой цивилизацией», на деле было «полуварварством», не желающим признавать себя таковым. С особенной беспощадностью этот процесс развенчания довоенного общества США осуществляется в главах книги, не включенных издателями в ее окончательный текст и опубликованных лишь в 1944 г. С горечью и сарказмом писатель говорит в них о тех «славных» временах, когда «все гордо размахивали американским флагом, все хвастались, все пыжились». «Если верить словам этих наших горластых предков, — пишет Твен, — наша страна была единственной свободной… из всех стран, над которыми когда-либо всходило солнце, наша цивилизация — самой высокой из всех цивилизаций; у нас были самые большие просторы, самые большие реки… мы были самым знаменитым народом под луной, глаза всего человечества и всего ангельского сонма были устремлены на нас, наше настоящее было самым блистательным… — и в сознании такого величия мы изо дня в день расхаживали, хорохорясь… ища, с кем бы ввязаться в драку» (4, 502–503).
Ссылаясь на путевые впечатления иностранных туристов, Твен восстанавливает непривлекательный облик увиденной ими «обетованной страны». Из всех иностранных книг об Америке начала XIX в. ему более всего по душе книга англичанки миссис Троллоп; смелой женщины, сумевшей найти в США «цивилизацию», которую нельзя счесть цивилизацией вообще. Возмущение, иногда звучавшее в голосе этого честного летописца, по мнению Твена, «вполне оправданно»: ведь в книге миссис Троллоп шла речь «о рабстве, о дебоширстве, о «рыцарственных» убийствах, фальшивой набожности и всяких других безобразиях, которые сейчас ненавистны всем, как были ненавистны ей в те времена» (4, 427).
В своем стремлении к разрушению национальной легенды Твен не щадит и идиллическую обитель своего детства. Реальный Ганнибал, куда писатель заглянул после 20-летнего отсутствия, оказался совсем непохожим на радостный мирок Тома Сойера. Трезвому взгляду усталого взрослого человека представился обычный провинциальный город «с мэром и муниципалитетом, с канализацией и, наверное, долгами». За истекшие два десятилетия он несомненно продвинулся по пути прогресса: «Тут проходит с полдюжины железных дорог и выстроен новый вокзал, который обошелся в сто тысяч долларов» (4, 595). Твен, несомненно, одобряет эти нововведения, но они не вызывают в нем тех лирических эмоций, какие пробуждал старый, патриархальный, простодушный Ганнибал. Да и существовал ли этот Ганнибал? Его призрак и сейчас будит воспоминания, но эти тени былого теперь уже окружены не солнечным сиянием, а вечерним сумраком. Почему-то Твен вспоминает о бродяге, сгоревшем в тюрьме, об утонувшем примерном мальчике — «Немчуре», о другом отнюдь не примерном мальчишке, тоже поглощенном волнами Миссисипи («так как он был отягощен грехами, то пошел ко дну как топор»). Быть может, эти невеселые реминисценции навеяны не только мыслями об умерших, но и созерцанием живых? Ведь и эти последние являют собою достаточно унылое зрелище. Веселые товарищи детских игр Твена превратились во взрослых неудачников или в озлобленных обывателей, и, пожалуй, эта печальная трансформация яснее всего иллюстрирует направление жизненного развития страны «равных для всех возможностей». Элегическая окраска книги Твена возникает не из тоски по утраченной молодости, а из сознания бесприютности и неприкаянности «американской мечты», которой нет места ни в прошлом, ни в настоящем. Лоцманство — этот случайный просвет в истории США — умерло и никогда не воскреснет, ибо и будущее не сулит ему никаких возможностей возрождения. Перспектива дальнейшего развития цивилизации, пророчески угаданная Твеном, внушает ему глубокую тревогу. Во всем, что он видит, нет живой души! Америка движется по пути превращения в некрополь, и груда «мертвых» пароходов на речной пристани служит зловещим символом этой неизбежной метаморфозы. Процесс духовного омертвения цивилизации становится всеобъемлющим, распространяясь на все области жизни общества. Обывательские дома приобретают сходство со склепами, а конгресс, уже в прошлом обнаруживавший признаки умирания, окончательно преобразился в «кладбище».
Всеобщее стремление к искоренению живой души проявляется даже в тенденциях научного развития. Наука несомненно движется вперед, и Твен неизменно полон уважения к ней, но в ее свершениях он кроме созидательного обнаруживает и некое разрушительное начало. Ведь это она «убила» пароходный транспорт, обвив землю кандалами железных дорог!
Среди омертвелого мира одна лишь Миссисипи остается нетронутым очагом жизни и свободы. Но ее кратковременная дружба с человеком кончилась, и теперь она неутомимо восстает против его тиранического произвола. Дороги природы и цивилизации, некогда пересекшиеся в одной-единственной точке, круто разошлись, и писатель склонен считать это положение необратимым. Трагедия лоцманства оборачивается трагедией «американской мечты». Тем самым определяется и тематика последующих произведений писателя-реалиста. «Жизнь на Миссисипи» — важная веха на его творческом пути. Здесь уже накоплен весь материал, из которого будет вылеплен величайший шедевр Твена — роман «Приключения Гекльберри Финна». Обе эти книги создавались в близком соседстве друг с другом, и между ними помимо идейной намечается и чисто сюжетная связь (эпизоды с плотовщиками, участником которых является некий, пока еще безымянный, мальчик, с некоторыми коррективами были включены в текст нового романа Твена). Его герой, получивший имя Гекльберри Финна, в буквальном смысле слова вынырнул из Миссисипи. Рожденный свободной природной стихией, этот «озорной и шаловливый дух реки»[68] сохранил свою духовную связь с нею и, продолжив ее конфликт с цивилизацией, окончательно прояснил его социально-исторический смысл.
«Жизнь на Миссисипи» наряду с «Принцем и нищим» составляет прелюдию к самому значительному из созданий Твена — его роману «Приключения Гекльберри Финна». Две тематические линии, намеченные в этих произведениях, скрестились, и в точке их скрещения возникла одна из величайших книг Америки — книга, из которой, согласно утверждению Хемингуэя, «вышла вся американская литература»[69].
В США нарастал мощный подъем демократического движения, и величайший писатель Америки выступил от лица демократических сил своей страны.
Протест писателя против уродливых, извращенных форм жизни буржуазного мира в его новом произведении приобретает чрезвычайно четкий и последовательный характер. Вся ложь и фальшь «демократической» Америки, царящие в ней обман и произвол предстают в романе как система отношений «цивилизованного общества», в основе которого лежит насилие над человеческой личностью — рабство во всех его видах и формах… В то же время в нем во весь голос зазвучал и другой, не менее важный мотив творчества Твена — благородная вера в простого человека. Несмотря на то что «Гекльберри Финн» представлял собою своеобразное продолжение «Приключений Тома Сойера», новый роман свидетельствовал о больших переменах, которые произошли в сознании писателя за время, отделявшее «Гекльберри Финна» от первой детской книги Твена. Писатель окончательно расстался с одной из своих самых стойких иллюзий — с иллюзией «американизма». Она исчезла, уступив место горькому сознанию, что и Америка, с ее «особым», отличным от европейского, образом жизни, с ее «демократией» и «свободой», является царством наглого хищничества, социального неравенства, рабства и угнетения. В творчестве Твена «Гекльберри Финн» открывал самую трагическую страницу, отмеченную горестными сомнениями и тяжелыми разочарованиями.
От оптимистических произведений своей юности Твен шел к полным гнева и сарказма рассказам и романам 90-х и 900-х годов. Его новая книга — самая значительная веха на этом пути.
Автор «Гекльберри Финна» полемизирует не только с многочисленными образцами авантюрно-приключенческой литературы, но в известной степени и с самим собою, с прежним Марком Твеном, создателем «Тома Сойера».
Формулируя замысел своего романа, он писал: «Я возьму мальчика лет тринадцати-четырнадцати и пропущу его сквозь жизнь… но не Тома Сойера. Том Сойер неподходящий для этого характер…» Создавая приключенческий роман особого типа, роман о настоящей жизни, настоящей, а не вымышленной борьбе, Твен противопоставляет «игрушечным» приключениям Тома Сойера реальную жизнь и реальные приключения своего нового героя — Гекльберри Финна. Писатель ведет своего героя сквозь жизнь, и жизнь раскрывается перед Геком во всей своей сложности и многообразии, во всем своем глубоком трагизме, во всей неразрешимости своих противоречий… Ее мощный поток влечет маленького бродягу навстречу опасностям и приключениям. Они поджидают его за каждым поворотом Миссисипи. Они подстерегают его и на полузатопленном пароходе, и на плоту, и в ветхой лесной хижине, где он живет со своим пьяницей — отцом.
Роман становится «авантюрным», потому что «авантюрна» сама жизнь. С подлинно реалистической силой Твен показывает, что жизнь богаче, сложнее, трагичнее самых необузданных поэтических фантазий. На каждом шагу она создает «романы» и «новеллы», перед которыми меркнут худосочные литературные вымыслы. Писателя как бы увлекает многообразие тем и сюжетов, порожденных самой жизнью. Им тесно в рамках одного повествования. Обгоняя и вытесняя друг друга, они проходят перед глазами читателя, создавая ощущение бурного, непрерывного движения. Здесь есть сюжеты, едва намеченные, и есть целые новеллы, обладающие самостоятельной, законченной фабулой. В рамку повествования о Гекльберри Финне вставлена и история гибели возчика Боггса, убитого полковником Шерборном, и пикарескная новелла о наследстве Питера Уилкса, на которое покушаются два мошенника: «король» и «герцог».
В трагической новелле о Грэнджерфордах, где мотив родовой вражды переплетается с любовным — историей любви молодого Шепердсона и Софии Грэнджерфорд — американских Ромео и Джульетты, потенциально заключен сюжет целого романа.
В эту пеструю вереницу разнообразных новеллистических сюжетов вплетаются великолепные картины природы. Со страниц романа встает мощный и прекрасный образ Миссисипи, огромной свободной реки. Ее глухой гул как бы слышится на всем протяжении повествования. Он то умолкает, то возобновляется с новой силой, в виде своеобразного аккомпанемента сопровождая события романа. Самой формой своего повествования Твен утверждает идею свободной, живой, здоровой жизни, широкой и вольной, как разлив Миссисипи.
Эта метафора как бы нарочито подсказывается самим Твеном. Образ Миссисипи является не только внутренней художественной доминантой романа, но и его структурной моделью. По принципам своего художественного построения «Гекльберри Финн» полностью отвечает одному из программных требований эстетики Твена. Он являет собою совершенный образец свободного, ничем не связанного сюжета, развитие которого совершается само по себе и более всего напоминает стремительное движение потока. Наибольшее соответствие этому идеалу Твен находил в «Дон Кихоте» Сервантеса. (Мнение это разделял и Хоуэллс, утверждавший, что роман испанского писателя «есть высшая форма литературы», ибо в нем «все естественно развивается из характеров и обстоятельств» и «эпизод сменяется эпизодом без сковывающего контроля со стороны интриги…»[70]). Обоснование подобных приемов можно найти в «Автобиографии» Твена. «…Рассказ, — пишет он, — должен течь, как течет ручей среди холмов и кудрявых рощ. Встретив на своем пути валун или каменистый выступ, поросший травой, ручей сворачивает в сторону, гладь его возмущена, но ничто не остановит его течения — ни порог, ни… мель на дне русла. Он ни минуты не течет в одном направлении, но он течет, течет стремительно, иной раз опишет круг в добрых три четверти мили, чтобы затем вернуться к месту, не более чем на ярд отстоящему от того, где он протекал час назад, но он течет и верен в своих прихотях по крайней мере одному закону, закону повествования, которое, как известно, не знает никаких законов» (12, 88–89).
Точно следуя этой программе, Твен самой формой своего романа воспроизводит образ вольного, «прихотливо» струящегося ручья (реки), сливая в нем воедино «душу» Миссисипи с «душою» его главного героя Гека Финна (чему содействует и принцип повествования от первого лица).
«Дитя Миссисипи» — Гек Финн — поистине создан по ее образу и подобию. Он подлинно природный человек, и его мироощущение естественно настолько, насколько это возможно в условиях противоестественного общества, по отношению к которому он занимает оборонительную позицию. Тесно связанный с героями предшествующих произведений Твена, он представляет собою качественно новую редакцию его «простаков» (а в целом и всех иных «простаков» американской и европейской литературы).
Пережив множество изменений и перевоплощений, твеновский «простак» вступил в одну из самых значительных стадий своего существования. В «Приключениях Гекльберри Финна» он стал социально определенной личностью. Все обычные черты этого характера: здравый смысл, наивность и бесхитростность чувств и мыслей в сочетании с изрядной долей хитрости и плутовства, его житейская мудрость и детское простодушие — приобрели четкую социальную основу, став свойствами человека из народа.
Естественное сознание в этом романе окончательно становится народным сознанием. Конфликт Гекльберри Финна с «демократической» Америкой — это конфликт социальный, приобретающий в романе четкое и реалистическое сюжетное выражение. В отношении Гекльберри Финна к окружающему миру нет ничего искусственного и надуманного. Оно мотивировано и социально и психологически. Он не иностранец, приехавший из Персии, не великан, попавший в страну лилипутов, не юный философ, разглядывающий действительность сквозь призму оторванных от жизни философских теорий. Человек из народа, свободный от многих предубеждений буржуазного мира, он видит вещи по-иному, чем окружающие его «порядочные люди», и в бесхитростной, наивной форме рассказывает о своих жизненных впечатлениях.
В истории демократического сознания Америки (а соответственно и в истории ее прогрессивного искусства) Гек Финн занимает особое место. В нем воплотилась та его форма, которую вслед за Уолтом Уитменом хочется назвать «демократией сердца». «Демократия, — говорил Уитмен в конце 80-х годов, — включает все моральные силы страны… она живет, скрытая в сердцах огромного количества простых людей»[71].
Слова эти могли бы стать эпиграфом к роману Твена. Стихийно-демократическое мироощущение его героя в представлении Твена и есть форма естественного отношения к жизни. Источником демократии для писателя являются не книжные формулы, выработанные социологами и философами, а живые движения неразвращенного человеческого сердца. Импульсы, в принципе свойственные каждому внутренне здоровому и нормальному человеку, у Гека получили известную опору в условиях его «воспитания». Простодушие этого «простака» — достаточно сложный психологический комплекс, в котором детская наивность самым причудливым образом сочетается с реалистической трезвостью мышления, с прямотой и ясностью суждений, столь свойственной людям из народа. Удивительная тонкость чутья, позволяющая ему «ощупью» добраться до самой сути увиденного, — результат как его возраста, так и специфического жизненного опыта. Бездомный бродяга, уже с самого раннего детства вынужденный заботиться о себе, он обладает множеством практических навыков, необходимых человеку из низов, чей жизненный «капитал» состоит из умелых рук и способности преодолевать трудности. Его воспитательницей была сама жизнь. Сделав Гека трезвым реалистом и практиком, она избавила его от многих иллюзий, в том числе и детских. Обеими ногами он стоит на земле, и не ожидая помощи ни от кого, с недетским мужеством встречает испытания, уготованные ему судьбой.
Но эти типические черты народного мироощущения у Гека как бы высветлены, смягчены и очищены, освобождены от налета грубости и эгоизма — отметин жизни, от которых (как видно из романа) не всегда свободны люди его социального круга. Сквозь его трезвость и практицизм нет-нет да и проглянет четырнадцатилетний подросток. Конечно, он не умеет играть, как его сверстники, но в его отношении к их играм таится немалая доля детской наивности, специфической наивности ребенка, никогда не знавшего детства и чуть ли не с момента своего рождения жившего по нормам сурового и жестокого взрослого мира.
Мышление Гека чрезвычайно конкретно, и поэтому ему недоступна высокая область романтических фантазий. Рассказы Тома Сойера о рыцарях, волшебниках и великанах вызывают у него только чувство недоумения. Справедливость этих поэтических рассказов прозаически мыслящий Гек Финн всегда стремится проверить экспериментальным путем. Выслушав рассказ о лампе Аладина, он немедленно вооружается старой лампой и железным кольцом и при помощи этих нехитрых предметов пытается вызвать духа. Характерно, что при этом мальчик преследует чисто практические цели: «Я хотел выстроить дворец, чтобы продать его». Маленький бродяга может без колебаний отказаться от шести тысяч долларов, может с радостью отдать попавший ему в руки мешок золота законным владельцам, но духа он вызывает не для того, чтобы на него полюбоваться, а с вполне конкретной «деловой установкой», возникающей в его сознании как своего рода «условный рефлекс». Привитый мальчику всей системой его восприятия, он срабатывает как бы непроизвольно, позволяя увидеть то, что составляет «зерно» его натуры — натуры неподкупного и последовательного «бессребреника», еще не извращенной влиянием буржуазного чистогана. Практичность твеновского героя парадоксально сочетается с полным равнодушием к коммерческой, меркантильной стороне жизни, к стяжанию и накоплению. Это удивительное бескорыстие — глубинное свойство народной психологии, «дистилляция» которого является результатом и юности героя и самого его положения отщепенца, живущего «на краю» буржуазной цивилизации.
Прозаический склад его ума вовсе не свидетельствует о недостатке воображения… Гек Финн обладает и фантазией и воображением, но только совсем другими, чем Том Сойер. Об этом говорят хотя бы его импровизированные рассказы, в изобилии рассыпанные по тексту романа. «Новеллы» Гека — прежде всего форма самозащиты, он сочиняет их под давлением обстоятельств. Но в то же время его ложь сродни поэтическому творчеству. Он лжет свободно и вдохновенно, незаметно для себя увлекаясь собственными фантазиями. Импровизаторский талант Гекльберри Финна несомненно сродни литературному дарованию Марка Твена, одна из особенностей писательской манеры которого состоит в том, что он любит демонстрировать ту легкость и непринужденность, с какой жизнь рождает множество «сюжетных выкрутасов».
В «Приключениях Гекльберри Финна» сама жизнь выступает в роли великого импровизатора, она является «музой» не только Марка Твена, но и Гекльберри Финна.
Мудрено ли, что Гек видит вещи по-другому, чем опутанные ложью и предрассудками, фальшью и лицемерием представители «цивилизованного» мира? На столкновении наивного, здорового мировосприятия Гека с узаконенной системой жестокости и лжи «демократической» Америки основана обличительная сила романа.
Свое отношение к ней Гек далеко не всегда выражает в форме прямых суждений. Как и другие твеновские «простаки», он довольно скупо комментирует наблюдаемые им события. Иногда он как будто бы не решается дать им, оценку. Скромный и непритязательный по природе, Гек не страдает излишним самомнением. Разве может он, полуграмотный и «по всей вероятности испорченный подросток», поставить под сомнение суждения и поступки, принципы поведения взрослых, образованных, порядочных людей? В его мыслях не всегда царит полная ясность. Но он чувствует противоестественность и бесчеловечность господствующих отношений и поэтому в его манере изложения событий неведомо для него самого таится огромная сила обличения. В лексическом составе его речи, в последовательности мыслей, в характере ассоциаций есть нечто глубоко враждебное всем законам и порядкам окружающего мира. На выявлении скрытого антагонизма двух качественно различных форм восприятия жизни и основана вся художественная специфика романа.
Книга Твена — решающий сдвиг не только в идейном, но и в художественном развитии Америки. Хемингуэй очень точно определил ее место в литературном процессе США. Сами принципы композиционного построения романа подводят его к порогу XX в., приобщая к художественным открытиям нового столетия. Поистине Твен был предтечей реалистических достижений американских писателей нашего времени, в первую очередь — именно Хемингуэя. Структурные сдвиги, происходящие в «Гекльберри Финне», ощупью уже ведут американскую прозу навстречу хемингуэевскому «айсбергу». Внутренняя сатирическая линия романа перерастает в особое художественное измерение, функции которого близки к знаменитому «подтексту» Хемингуэя. Как и у Хемингуэя, здесь возникает особый скрытый план, превращаясь во «второй, и притом чрезвычайно важный, пласт произведения, не только не совпадающий с первым, но часто и противоречащий ему»[72].
Двупланный принцип построения романа как бы «моделирует» принципы американского жизнеустройства. У американской цивилизации также есть подтекст. Ее оборотной стороной являются отношения многоликого и разнородного рабства, и взор Гека (тоже иногда как бы двоящийся) проникает в эту скрытую суть. Его суждения по частным вопросам нередко поражают своей нелепостью, но, вместе взятые, они, как правило, создают необычайно целостное представление о существенных сторонах жизни. Эта «синтезирующая» тенденция, характерная для людей интуитивного склада, проявляется уже в оценке режима, установленного в доме усыновившей его вдовы Дуглас. Соображения Гека относительно бытовых навыков цивилизованного человека, гигиены и кулинарии, фасонов одежды и аксессуаров жизненного комфорта, взятые в отдельности, вызывают улыбку, но вместе создают весьма выразительный образ, далеко выходящий за пределы одного частного явления. Распорядок жизни респектабельного буржуазного дома в восприятии Гека приобретает черты сходства с церковным и тюремным режимом одновременно. Разрастаясь до масштабов своеобразного символа, он становится олицетворением американской цивилизации, жизненные отношения которой складываются под знаком физического и духовного рабства. Все необходимые атрибуты цивилизованного образа жизни: звонки, возвещающие часы обедов и ужинов, застольные молитвы, неизбежный кодекс приличий — в интерпретации Гека Финна оказываются тяжкой цепью, стесняющей человеческую свободу, а необходимость ее ношения санкционируется сухопарой мисс Уотсон — строгой блюстительницей устоев христианского благочестия.
Интуитивная прозорливость Гека, помогающая ему схватить самую суть жизни цивилизованной Америки, особенно обостряется, когда между ним и объектом его наблюдений возникает некая дистанция. Плот, на который переселяется мальчик, — нечто большее, чем его временное пристанище. Это сама его жизненная позиция, представшая в предельно наглядных, визуально воспринимаемых формах, позиция изгоя, созерцающего мир со стороны, с просторов Миссисипи — единственного оплота его стихийного свободолюбия. Расстояние, с которого он взирает на «цивилизованную» Америку, само по себе помогает ему собрать воедино все разрозненные эпизоды жизни американского Юга и воссоздать из них целостную панораму. К плоту, плывущему по Миссисипи, Америка как бы невольно поворачивается своей оборотной стороной. Гек видит грязные улицы, покосившиеся дома, убогие лавчонки, видит ленивых, грубых, невежественных обывателей, пережевывающих табачную жвачку…
В «мирной» жизни американского Юга Гек открывает некое преступно-авантюристическое начало. Плот плавно движется по Миссисипи, и за каждым ее поворотом беглецов ожидает очередная кровавая драма или грубый, жестокий фарс, свидетелями или участниками которых нередко становятся Гек и Джим.
В эпически неторопливом ритме (как бы воспроизводящем движение плота) перед глазами Гека раскрывается «американская трагедия». «То, что начиналось как комедия, постепенно наполняется трагическим содержанием».
В бесхитростно наивных речах Гекльберри Финна слышится гневно-иронический голос самого автора.
Разумеется, между наивными рассуждениями Гека и мыслями самого Марка Твена не существует прямого соответствия. Но манера повествования Гека, его простодушные домыслы, брошенные им вскользь реплики нередко становятся путеводной нитью, при помощи которой читатель может проследить ход авторской мысли и установить мнение Марка Твена по поводу разнообразных явлений американской действительности.
Для выявления сатирического подтекста романа Твена большое значение имеет сама последовательность мыслей Гека, характер его ассоциаций, механизм внутреннего сцепления разнохарактерных жизненных впечатлений. Его сопоставления никогда не бывают случайными и при всей их комической парадоксальности поражают меткостью. Так, в сознании Гека образы его вечно пьяного папаши и вдовы Дуглас, двух учителей и наставников как бы сливаются воедино, и он цитирует их изречения подряд.
Глубоко иронический смысл этого сопоставления заключается в том, что для него действительно есть некоторые основания…
Между миром ханжеского благочестия и стихией грубого, разнузданного, хищнического произвола существует некая внутренняя связь, и наивные рассуждения Гека содержат в себе недвусмысленный намек на это обстоятельство.
Что общего между оборванным скандалистом и благочестивой провинциальной дамой? А между тем их взгляды во многом совпадают. Так, оба они убеждены в важности аристократического происхождения, и отец Гека, в котором, по словам его сына, «аристократизма не больше, чем в драной кошке», заявляет, что «порода для человека так же важна, как для лошади»… Вообще по своим взглядам и убеждениям родитель Гека мало отличается от самых добродетельных и высоконравственных представителей санкт-петербургского избранного общества.
В совершенстве владея сентиментальной фразеологией «порядочных людей», он проповедует мораль и нравственность в такой патетической форме, которой мог бы позавидовать любой учитель воскресной школы. Он любит «жалкие слова» и «высокие чувства» — недаром благочестивый судья так умилился, выслушав трогательную исповедь старого Финна, вознамерившегося встать на путь добродетели, «а жена судьи, та даже поцеловала его руку». При этом едва ли не самое замечательное качество папаши Гека заключается в том, что он увлекается собственными разглагольствованиями и искренно любуется своим благородством и «честностью».
Прожженный плут, вор и бродяга, чья жизнь представляет собой сплошное отрицание «священных» принципов собственности и религии, выступает в роли их ревностного защитника и проповедника. Во всем Санкт-Петербурге нет человека, который защищал бы их в такой воинственно-непримиримой форме. Даже собираясь что-нибудь украсть, он обосновывает свои намерения соображениями глубоко нравственного и альтруистического характера. Так, мистер Финн утверждает, что «всегда следует стащить курицу, раз есть возможность, потому что, если она тебе и не нужна, всегда найдется кто-нибудь другой, кому она пригодится, а добрые дела не остаются без награды». «Только, — оговаривается Гек, — мне не случалось видеть, чтобы курица отцу не пригодилась, но, во всяком случае, он так говорил».
Стремясь присвоить деньги Гека, его папаша становится в позу отца, оскорбленного в своих лучших чувствах, и с необычайным пафосом говорит о своих родительских правах. «Отбирают у человека родного сына, родного сына, а ведь человек растил, заботился, деньги на него тратил! Да! А как только вырастил в конце концов этого сына, думаешь, пора бы и отдохнуть, тут закон его и цап!»
Впрочем, хотя отец Гека и любит изображать себя непонятой и гонимой жертвой несправедливых законов, он отнюдь не является противником существующего общественного строя. По своим политическим убеждениям он консерватор, и если и порицает действия правительства, то только потому, что видит в них избыток либерализма. Правительство, по его мнению, недостаточно охраняет «священные» устои американской государственности. Встретив на улице вольного негра из Огайо, он глубоко возмущается тем, что этот негр у себя на родине пользуется избирательным правом… «Я и спрашиваю у людей, почему этого негра не продают с аукциона? И что же, по-вашему, мне сказали? Да сказали, что его нельзя продать, покуда он не пробудет в этом штате шесть месяцев… Вот так правительство, называет себя правительством и повсюду трезвонит, что оно правительство, а между тем должно сидеть как чурбан целых шесть месяцев, прежде чем схватить проклятого вольного негра в белой манишке, бродягу и вора».
Разногласия между старым Финном и американским правительством, таким образом, заключаются только в том, что правительство предполагает продать негра через шесть месяцев, а мистер Финн требует, чтобы это было сделано сейчас же…
Истинный сын «демократической» Америки, зараженный всеми предрассудками цивилизованного мира, старый Финн являет собою его гротескно-карикатурное подобие. В нем воплотилась одна из самых характерных особенностей этого мира — вопиющее противоречие между ханжеской, филантропической моралью и хищнической, разбойничьей практикой. Именно поэтому образ старого пропойцы в романе приобретает необычайно широкое типологическое значение и разрастается до масштабов своеобразного символа. Следы «деятельности» его «собратьев по ремеслу» — бродяг, бандитов, грабителей — видны повсюду… Даже свободная стихия Миссисипи несет на своих волнах трупы зарезанных и задушенных людей… Даже на плот Гека и Джима вторгаются два «двойника» старого Финна — «король» и «герцог».
Караваны авантюристов и проходимцев снуют по вольным просторам прекрасной реки. Вместе с тюрьмой, молитвенником и воскресной школой они знаменуют собою «достижения» американской цивилизации…
Этот разгул бандитизма в восприятии Твена есть знамение времени. Писатель видит в нем своего рода «стрелку», указывающую не только путь дальнейшего развития американской цивилизации, но и точку ее соприкосновения с европейским образом жизни. Нитью Ариадны и здесь служат простодушные обобщения Гека. Твен заставляет его вести на плоту беседы отвлеченно-философского характера, дабы просветить невежественного Джима, и этот педагогический процесс включает в себя экскурсы в область европейской истории. Совершая их, Гек стремится быть объективным и дать строгую и беспристрастную характеристику европейских монархов.
Исторические познания Гека весьма путаны и сбивчивы. Их источником являются, по-видимому, рассказы Тома Сойера и полузабытые уроки школьного учителя, воспринятые Геком в то время, когда он по повелению вдовы Дуглас приобщался к цивилизации. Воскрешая в своей памяти эти отрывочные сведения, Гек преподносит: потрясенному Джиму настоящую окрошку из хаотически перемешанных фактов и имен. Эти поразительные по своей сумбурности и нелепости исторические «лекции» производят острокомическое впечатление. Но именно благодаря наивной манере изложения нарисованная Геком картина приобретает необычайную выразительность. Гек Финн перепутал факты, но уловил общий смысл европейского исторического процесса. В представлении Марка Твена европейская история — кровавый хаос, и в интерпретации его героя эта ее сторона выступает с удивительной ясностью.
Пусть Генрих VIII оказывается сыном герцога Велингтона и топит своего родителя в бочке с мальвазией. Пусть этому злополучному монарху кроме совершенных им злодеяний приписывается множество поступков, в которых он не повинен, в том числе война с Америкой и создание Декларации независимости. Суть заключается в том, что все европейские властители рубят человеческие головы «так равнодушно, будто завтрак заказывают», что все они — Карлы, Людовики, Эдуарды и Ричарды — англы, саксы и норманны — только и делают, что занимаются «грабежом да разбоем». «Все они — дрянь порядочная», — беспристрастно резюмирует Гек. Подобные экскурсы в европейскую историю не новы для Марка Твена. В наивных рассуждениях Гека и Джима слышатся отзвуки тех настроений, которые нашли свое воплощение в «Принце и нищем». Однако мотив иронического осуждения Старого Света в «Приключениях Гекльберри Финна» выполняет особую роль. Дискуссия о сущности европейского самодержавия служит своеобразным комментарием к событиям, происходящим на плоту. Как бы для того, чтобы подтвердить справедливость оценки Гека, здесь появляются два проходимца, именующие себя «герцогом» и «королем». Мелкие двулики, присвоившие эти пышные титулы, отнюдь не являются выходцами из царства теней, случайно уцелевшими обломками феодального прошлого. По своей психологии и морали, по самому своему облику, по формам своего поведения «король» и «герцог» целиком принадлежат настоящему. В откровенной, примитивной форме они исповедуют мораль буржуазного чистогана в специфически американском деловом, прозаическом варианте. В них нет ни демонической иронии бальзаковского Вотрена, ни его богатырского размаха. Они не ищут ни свободы, ни власти, не бросают вызов буржуазному миру. Как истые бизнесмены, «король» и «герцог» стремятся только к извлечению максимальной прибыли из всех своих предприятий и превращают в товар все, что им попадается под руку. Они торгуют пастой для зубов, которая удаляет зубной камень, а заодно и зубную эмаль, и Библией, и Вильямом Шекспиром. Они продают Джима, не прочь продать Гека; если надо, продадут друг друга.
«Король» и «герцог» — предтечи «позолоченного века», века шарлатанства и спекуляции, обмана и надувательства.
Американцы с головы до пят, эти бойкие жулики являют собой живое олицетворение того духа предприимчивости, в котором Твен на раннем этапе своей деятельности видел основу национального характера… Они поражают своей энергией и неутомимостью в изобретении всевозможных темных махинаций. Их энергия неистощима… С легкостью и простотой бродяги перевоплощаются то в раскаявшихся пиратов, то в удрученных горем родственников покойного Питера Уилкса, то в странствующих торговцев, то в бродячих актеров.
Рисуя бурную деятельность двух мошенников, увлеченных погоней за наживой, Твен как бы указывает то грязное русло, в которое устремляется поток национальной энергии. Американская специфика образов «короля» и «герцога» особенно ощущается благодаря тому, что они пропитаны жизненной атмосферой Запада. Язык, на котором говорят оба мошенника, их манеры, повадки типичны для Запада. Не случайно «король» выдает себя за сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Легенды, связанные с Людовиком XVI, пользовались популярностью у фронтирсменов Запада.
И все же парадоксальное утверждение Гека в чем-то близко правде. Поддельные «король» и «герцог» ведут себя, как настоящие короли и герцоги. С их появлением плот Гека и Джима из «очага свободы и демократии» становится точным подобием сословно-иерархического общества, основанного на отношениях господства и подчинения. Профессиональные обманщики устанавливают на плоту деспотический режим. Следуя обычаям всех деспотов и угнетателей, они присваивают себе скудное достояние своих «подданных», Гека и Джима, и обрекают их на подневольное существование. Как и прочие короли и герцоги, они обосновывают эти наглые претензии на неограниченное господство своими династическими правами и ссылками на благородство своего происхождения. Оборванные, пьяные мошенники, подонки буржуазной Америки являются карикатурой на европейских монархов. Но в этой карикатуре есть забавно преувеличенные и парадоксально-заостренные черты сходства с оригиналом… Именно поэтому Гек и приходит к поразительному выводу, что прожженные американские прохвосты как две капли воды похожи на титулованных особ, восседающих на европейских тронах.
«Все короли мошенники, дело известное, — говорит Гек Джиму, объясняя ему, что их самозванные владыки ничем не отличаются от настоящих. — Возьми хоть Генриха Восьмого: наш против него прямо учитель воскресной школы» (6, 163). И тут же грустно резюмирует: «Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись» (6, 135).
Рассуждения Гека смешны и наивны. Но за ними где-то глубоко прячутся горькие и скорбные раздумья самого Марка Твена. В жизни современной ему Америки Твен открывает некоторые средневековые тенденции.
Разумеется, в США нет титулов, тронов и корон. Но хотя сословная бутафория Европы и отсутствует в Америке, в ней, так же как и в Старом Свете, царят силы хищничества, эгоизма и корыстолюбия. Авантюристы, жулики, грабители, воры всех мастей и рангов — вот истинные «короли» и «герцоги» Америки.
В глубоко парадоксальных рассуждениях Гека прорисовываются контуры будущего сатирического шедевра Марка Твена — его романа «Янки при дворе короля Артура». Уже в «Гекльберри Финне» Твен недалек от вывода, что в самих США процветают дикие средневековые нравы и обычаи. Разве история Грэнджфордов, ставших жертвами феодальной вражды, менее чудовищна, менее страшна по своим последствиям, чем распря двух средневековых итальянских родов Монтекки и Капулетти? Разве мелкие авантюристы «король» и «герцог» не являются карикатурным подобием титулованных авантюристов, на протяжении столетий распоряжавшихся судьбами европейских народов? Тем самым Твен «как бы перебрасывает мост от Европы к Америке, а одновременно и от прошлого к настоящему»[73]. Первоначальную конструкцию этого «моста» можно обнаружить и в «Принце и нищем» — книге, которая писалась одновременно с «Гекльберри Финном».
Историческая концепция «Принца и нищего» полностью ложится на материал современной жизни. Как и в тюдоровской Англии, в Америке XIX в. есть два мира: мир богатых и обеспеченных людей, опутанных ложью, фальшью, «золотыми цепями», и мир обездоленных, гонимых и порабощенных людей из народа. И так же как в «Принце и нищем», эта трагическая правда скрыта под маской условностей, предрассудков, лицемерия. Обряд переодевания совершается здесь на каждом шагу и в буквальном и в переносном значении этого слова. Поминутно переодеваются «король» и «герцог», переодевается девочкой Гек, переодевается Джим, выдаваемый за «бешеного Араба», переодевается вся Америка, прикрывающая уродства своей жизни нарядной маской цивилизации.
Маска эта не только скрывает, но и уродует скрытые под нею лица. Она обнаруживает настойчивое стремление прирасти к человеку. Состояние духовной раздвоенности и заставляет человека обороняться не только от окружающего мира, но и от самого себя. Зерно этой внутренней трагедии (которая в дальнейшем станет одним из главных психологических мотивов американского искусства XX в.) уже прорастает в душе Гека.
Его взаимоотношения с буржуазной Америкой носят более сложный характер, чем может показаться на первый взгляд. Сколь бы ни было вынужденным его соприкосновение с цивилизацией, оно до некоторой степени определило образ мыслей Гека. Его ум и чувства находятся в состоянии разлада. Интуитивно восставая против буржуазной морали, Гек в то же время не смеет отвергнуть ее до конца. Потенциальный драматизм этой глубоко противоречивой позиции не сразу осознается самим героем. Постепенно нарастая в ходе развития романа, внутренняя психологическая коллизия Гека достигает своей вершины в момент сюжетной кульминации, на самом гребне повествования, смыкаясь с одной из его главных линий — историей негра Джима. Этот второй герой книги, проданный своей владелицей мисс Уотсон в низовья Миссисипи, бежит и, скрываясь от преследующего его закона, становится спутником и другом Гека. Тем самым подготавливается и внутренняя драма Гека. Любовь и уважение к Джиму вступают в конфликт с предрассудками общества, в котором он живет. Так возникает ситуация, которую сам Марк Твен охарактеризовал как коллизию «здорового сердца и больной совести». Спасая Джима, Гек сам оценивает свое поведение как греховное и преступное. И в то время, как голос долга грозно повелевает герою Твена выдать Джима, голос его сердца настойчиво напоминает ему о доброте Джима, о его самоотверженности, о его трогательной привязанности к нему, Геку.
Душевная драма Гека раскрыта Твеном с огромной психологической глубиной и подлинно реалистическим мастерством. Она рождена всей внутренней логикой характера Гека, создавая который Твен еще раз подтвердил свое убеждение о прирожденной, инстинктивной доброте человека. Под шелухой чуждых, навязанных ему понятий и представлений в его герое живут здоровые чувства, стремления, столь характерные для народной среды. Буржуазная цивилизация отчасти извратила его мысли, но не задела его чувств, и в решительные минуты он руководствуется своим внутренним чутьем, которое безошибочно подсказывает ему правильное решение. Восставая против законов буржуазной Америки, помогая Джиму бежать, Гек следует естественной логике своего неиспорченного и неразвращенного сердца. И эта естественная логика находится в вопиющем противоречии со всеми моральными, религиозными и этическими законами буржуазного мира. Проявляя элементарную человечность, Гек вступает в конфликт с государством, церковью, религией, сознательно идет на разрыв с узаконенным кодексом буржуазной морали и нравственности. В этом и заключается героизм Гека. Полностью отдавая себе отчет в том, что его поведение несовместимо с требованиями религии, он готов принять все неизбежные последствия своего греховного поступка. Его наивная фраза: «Ну так я пойду в ад» — свидетельствует о большом мужестве. Окончательно избрав свой путь, он уже не испытывает ни сомнений, ни колебаний. Его внутренняя борьба завершается. Из стихийного бунтаря он становится бунтарем сознательным.
Захватывающе увлекательная, острозанимательная книга Твена о реальной борьбе и реальных приключениях по-своему героична. Героический поступок Гека не приносит ему ни почестей, ни лавров, не делает его предметом восхищения окружающих людей. Общественное мнение, которое одобрило подвиг Тома Сойера, восстанет против Гека, если его участие в судьбе Джима будет обнаружено. В «Приключениях Гекльберри Финна» Марк Твен дал формулу героизма, которая явно шла вразрез со всем узаконенным, каноническим пониманием этого слова. Героизм заключается не в защите «священных» устоев собственности, религии и законности, а в борьбе с ними[74].
Так в ходе сюжетного развития романа бунт Гека постепенно принимает все более и более широкие масштабы. Фигура самого Гека кажется все более значительной. Бунтарь и свободолюбец, Гекльберри Финн привлекает читателей не только своим мужеством и героизмом. Внутренний мир Гека по-настоящему прекрасен и поэтичен. Недаром Твен хотел, чтобы на иллюстрациях к его роману Гек непременно был изображен красавцем.
Тема «поэзии прозы», намеченная еще в «Томе Сойере», в «Гекльберри Финне» приобретает совершенно особый смысл. Воплощая в этом романе ведущие тенденции своего предшествующего творчества, великий писатель впервые во весь голос говорит о глубокой поэзии «простого сознания», о красоте душевного мира простого человека.
В вершинном произведении Твена впервые в истории американской литературы произошло слияние народного с общечеловеческими буржуазная цивилизация выступила в роли душителя того и другого. Характерная руссоистская антитеза «природа и цивилизация» в «Гекльберри Финне» приобрела огромную четкость социального смысла. Мир собственнической цивилизации с его искусственными, противоестественными отношениями оказался на одном полюсе Америке, а все живое, нравственно здоровое, истинно человеческое — на другом, и черта, разделяющая их, прошла вдоль береговой линии Миссисипи. Стихия раскованной, вольной природы легла естественным водоразделом между «двумя Америками», став одновременно законным и единственным прибежищем двух людей, стоящих по ту сторону буржуазной цивилизации.
Уже в «Жизни на Миссисипи» — книге, которая послужила своеобразным прологом к «Гекльберри Финну», возник удивительный по красоте и силе образ великой и мощной реки Миссисипи…
Этот образ снова возникает на страницах «Гекльберри Финна». Огромная река изображается здесь как живое существо. Великолепная картина утра на Миссисипи поражает своим внутренним динамизмом, тончайшим переливом света и тени.
С напряженным вниманием, с неподдельным интересом Гек следит за этими быстро сменяющимися картинами, и все они как бы отражаются в его душе.
Гек и Джим неотделимы от Миссисипи, она является их естественным пристанищем. Они живут одной жизнью с ней, свободно ориентируясь в сложной смене ее настроений, во всех проявлениях ее гнева, веселья, радости…
Товарищи по несчастью, связанные общностью своей социальной судьбы, по-братски помогают друг другу. Преодолевая бесчисленные препятствия в мучительной борьбе со всем миром и самим собою, Гекльберри Финн спасает беглого негра от преследующей его своры работорговцев. И преисполненный благодарности Джим платит мальчику горячей привязанностью, заботится о маленьком бродяге, «единственном белом джентльмене, ни разу не обманувшем старого Джима».
Этих двух людей не разделяют искусственные преграды, расовые и сословные предрассудки не стоят между ними. Та подлинная демократия, которой нет приюта во всей «демократической» Америке, находит прибежище на маленьком плоту, плывущем по Миссисипи. Только здесь и существуют отношения социального равенства и национального дружелюбия.
Сложнейшие проблемы американской социальной и политической жизни получают на плоту естественное и простое разрешение.
Самое патетическое воплощение тема глубокой поэзии простого народного сознания находит в образе второго героя романа — негра Джима. Прототипом Джима был дядя Дэн — негр, которого Твен знал в детстве и о котором он сохранил самые светлые воспоминания. В «Автобиографии» Твен писал: «Мы имели верного и любящего друга, союзника и советчика в лице дяди Дэна, пожилого негра, у которого была самая ясная голова во всем негритянском поселке и любвеобильное сердце — честное, простое, не знавшее хитрости. Он служил мне верой и правдой многие, многие годы. Я с ним не виделся лет пятьдесят, однако все это время мысленно пользовался его обществом и выводил его в своих книгах под именем Джима и под его собственным и возил его по всему свету — в Ганнибал, вниз по Миссисипи, на плоту и даже через пустыню Сахару на воздушном шаре; и все это он перенес с терпением и преданностью…» (12, 35).
Обаяние образа Джима — в необычайной человечности, простоте, бесхитростности его чувств, мыслей, поступков. Наивный, непосредственный, глубоко честный, великодушный, он нарисован Твеном без оттенка сентиментальной идеализации, свойственной его литературным предкам и сородичам (включая дядю Тома из известного романа Бичер-Стоу).
Ничто человеческое не чуждо Джиму. Он даже иногда может схитрить, сплутовать, солгать, совершенно так же, как хитрят и плутуют дети, наивно торжествуя, если им удастся провести старших.
Глубоко невежественный, до смешного суеверный, он не знает самых элементарных вещей.
«Разве французы говорят не по-нашему?» — спрашивает он Гека. И когда Гек пытается разъяснить ему, что фраза «Парле ву франсе?» не таит в себе ничего оскорбительного и просто-напросто означает: «Говорите ли вы по-французски?», Джим негодующе возражает: «Так почему же он (француз. — А. Р.) не спросит об этом по-человечески?» (6, 88).
Юмористическая окраска этого диалога кажется особенно яркой, потому что твеновский Джим говорит на особом негритянском жаргоне, изобилующем неправильностями и идиомами. Живую негритянскую речь Твен передает во всей ее непосредственности, впервые поднимая ее до уровня большой литературы. Он не старался приукрасить и стилизовать речь негров, как не приукрашивал и не скрывал их невежества.
По части всяких суеверий и предрассудков Джим далеко опередил даже Гека, и этот последний с полным основанием считает своего спутника непререкаемым знатоком всяческих магических обрядов и ритуалов.
Чуждые многих предрассудков цивилизованного мира, и Гек и Джим с головы до ног опутаны суевериями, широко распространенными в народной среде. Они верят в магическую силу змеиной кожи, приносящей несчастье тому, кто до нее дотрагивается. Они не сомневаются в существовании ведьм, духов, привидений. Некоторые страницы романа целиком посвящены своеобразному пересказу бытующих в народной среде суеверий.
«Где-то далеко ухал филин — значит, кто-то помер: слышно было, как кричит козодой и воет собака, — значит, кто-то скоро умрет… Потом в лесу кто-то застонал, вроде того как стонет привидение, когда хочет рассказать, что у него на душе… А тут еще паук спустился ко мне на плечо. Я и сам знал, что это не к добру, хуже не бывает приметы, и здорово перепугался, просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился, потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм…» (6, 12).
Все эти мотивы, целиком заимствованные из негритянского фольклора, Твен переносит в свое повествование в том самом виде, в каком он впервые воспринял их во времена своего детства из уст негритянских невольников.
Вплетаясь в слова и мысли Гека и Джима, фольклорные мотивы выполняют в романе двоякую роль. Они подчеркивают невежество и наивность Гека и Джима… И в то же время благодаря фольклорной форме, в которую облечены все чувства и мысли героев Твена, читатель ощущает поэтическую природу их внутреннего мира.
Наивные фантазии Джима, который считает, что луна «снесла» звезды, как лягушка несет икру, что падающие звезды — это «испорченные», которые выбросили из гнезда, сродни древним поэтическим мифам, созданным народным воображением. Как и все народные мифы, «космогония» Джима рождается из ощущения непосредственной близости человека к природе, участия в ее жизни. Эта мифотворческая стихия разлита по всему роману. Так возникает созданный Джимом и Геком наивный, трогательный и по-своему прекрасный миф о Каире. В представлении героев Твена Каир — маленький захолустный американский городишко — преображается в некую обетованную страну свободы. Они ищут ее на всем протяжении своего пути. Благодаря этому мотиву их странствование приобретает своеобразное символическое значение, в нем как бы воплощается порыв к свободе всех обездоленных и угнетенных. И в то же время высокопоэтические стремления, чувства, мысли Гека и Джима нередко облечены в смешную и наивную форму. Поэзия здесь смешана с невежеством, искренние чувства — с суевериями. «Астрономические» теории Джима одновременно и трогательны и смешны, безграмотны и поэтичны…
Интерес к негритянскому фольклору был не чужд современной Твену американской литературе. В 1881 г. Дж. Ч. Харрис издал сборник негритянских рассказов и сказок «Дядюшка Римус, его песни и поговорки. Фольклор старой плантации». В этой и других книгах Харриса повествование ведется от лица простодушного, благожелательного, детски наивного старика негра. Бесхитростные рассказы о братце-кролике, о брате-лисе, адресованные маленькому белому мальчику, пленяют своей свежестью и непосредственностью, полны юмора и мудрости народных сказок. И хотя книги Харриса свободны от расистских предрассудков, автор, со снисходительной улыбкой глядя на своего героя, ни слова не говорит о тех гонениях и унижениях, которым дядюшка Римус подвергался. Напротив, для Харриса характерна известная идеализация доброго, старого, довоенного времени. Уже в самом начале сборника — во вступлении — он рисует патриархально-идиллическую картину содружества рабов и рабовладельцев. «Жизнь на плантации во многих отношениях была нелегкой, но рабы обычно любили своих господ и располагали достаточным досугом для игр и прогулок».
В наивности и простодушии твеновского Джима есть много общего с дядюшкой Римусом. Но эти черты его характера имеют совершенно иной смысл. Для Твена это не «прирожденные» качества негров, а социально типичные формы сознания негритянского народа, обусловленные историческими условиями его существования.
Джиму, родившемуся и выросшему в условиях рабского существования, недоступны даже скудные крохи той школьной премудрости, которой располагает Гек. Он весь находится во власти невежественных представлений и чудовищных суеверий. Но в то же время его совершенно не коснулось растлевающее влияние циничной морали буржуазного чистогана. Находясь вне сферы ее воздействия, он сохранил непосредственность и чистоту своего душевного мира; все лучшие качества народной психологии: бескорыстие, великодушие, глубокая честность и благородство — в его характере приобретают необычайно чистое и целостное выражение. Гонимому и униженному Джиму свойственно подлинное великодушие, доходящее до самопожертвования. Сколько раз он рискует своей столь дорого доставшейся ему свободой во имя благополучия своего спутника и покровителя Гека! Бескорыстно преданный мальчику, Джим сторицей воздает ему за то человеческое участие, которое Гек, единственный из всех белых людей, проявил к преследуемому рабу. Недаром Гек временами «был готов целовать его черные ноги». «Одна эта фраза делала Марка Твена заклятым врагом всех реакционеров Америки, проповедующих и насаждающих расизм»[75].
Перед Джимом ни разу не возникает та мучительная дилемма, которая стоит перед Геком. Ему ни разу не приходит в голову, что его бегство из неволи является преступным нарушением «мудрых» и «справедливых» законов Америки. Невежественный, добродушный пожилой негр твердо знает, что людей нельзя продавать и покупать, что право человека на свободу — столь же несомненно, сколь его право дышать, ходить, говорить… Эта истина живет в его простой и чистой душе, и весь его печальный жизненный опыт — опыт бесправного невольника — укрепил в нем сознание ее непререкаемости.
Гек и Джим как бы представляют разные (хотя и внутренне взаимосвязанные) формы стихийно-демократического мироощущения, и его внутренняя целостность и чистота находится в отношениях обратной зависимости от степени близости героев к буржуазной цивилизации. В этой постановке вопроса уже во многом намечалась перспектива дальнейшего развития литературы, в которой тема «демократии сердца» получила большую жизнеустойчивость. Число «потомков» Гекльберри Финна в литературе XX в. огромно, и в него входят не только его прямые преемники — «земляные» и «лесные» люди литературы 30-х годов (Ансельмо из романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», Минк из «Особняка» У. Фолкнера, Джоуды из «Гроздьев гнева» Дж. Стейнбека и т. д.), но и другие «стихийные бунтари», в рядах которых не последнее место занимают и мятущиеся интеллигенты Хемингуэя, состоящие с героями Твена в отношениях если не близкого, то отдаленного и опосредствованного родства. Сформулировав тему последующего искусства, Твен вместе с тем наметил и путь ее дальнейшей разработки. В его романе раскрылся ее глубоко трагический смысл. Слив воедино человеческое и демократическое, он показал, что ни для того, ни для другого нет места в буржуазной Америке. Фантастический Каир — страна свободы — существует лишь в наивном воображении героев Твена. Их погоня за призрачным городом происходит внутри некоего замкнутого круга. В этом смысле характерна и сама композиция романа, финальные сцены которого представляют своеобразную параллель его начальным эпизодам. Вольная стихия Миссисипи примчала Гека и Джима не в обетованный край свободы, а в крошечный городишко Пайксвилль. Захолустный городок с невежественными обитателями, со всем убожеством жизненного уклада представляет собою точное подобие того Санкт-Петербурга, который был исходным пунктом путешествия героев романа. И как бы для того чтобы усилить сходство, Гек встречается здесь со своими старыми друзьями — Томом Сойером и тетушкой Полли. Все начинается сначала. Убежав от вдовы Дуглас, он попадает к тетушке Салли. Как и прежняя воспитательница Гека, она собирается сделать из него «порядочного человека», Все пути фатально ведут в Санкт-Петербург. Этот заколдованный круг, в пределах которого блуждают герои романа, олицетворяет противоречия сознания самого Марка Твена.
В этом плане чрезвычайно многозначительным представляется финал романа. Именно здесь, в последних сценах книги Твена, вновь возникает уже знакомый читателю мотив игры в приключения. Том Сойер и Гекльберри Финн по инициативе Тома освобождают Джима из неволи. А между тем Джим уже свободен, и Том отлично знает, что бывшая его владелица — мисс Уотсон — отпустила своего раба на волю. Но Том до времени держит это в секрете и не посвящает в тайну ни Гека, ни Джима.
И вот, педантично следуя инструкциям своих любимых романов, Том с наивным эгоизмом шаловливого подростка делает невыносимой и без того тяжелую жизнь Джима. Снова и снова в романе Твена возникают пародийные мотивы, изображающие в нарочито комическом плане стандартные ситуации авантюрно-приключенческих романов. Подземные ходы, переодевания, зловещие анонимные письма, пироги, начиненные веревочными лестницами и напильниками, — весь традиционный реквизит приключенческих романов, лишенный своего романтического ореола, предстает как чудовищное нагромождение бессмыслицы и нелепостей. «Каждый раз, когда крыса кусала Джима, он вставал и писал строчку-другую в дневнике» (6, 278), — с обычной своей эпической обстоятельностью рассказывает Гек, и одной этой фразы достаточно для того, чтобы ощутить вопиющую нелепость тщательно организованного Томом Сойером романтического дивертисмента с крысами, пауками, змеями и дневниками, написанными кровью.
Но Джим и Гек послушно подчиняются Тому Сойеру, перед авторитетом и познаниями которого они благоговеют. Они, прошедшие сквозь горнило многочисленных жизненных испытаний, пережившие много реальных приключений, столь дорогой ценой купившие познание действительной жизни, покорно отдают себя в распоряжение озорного мальчугана, начитавшегося вздорных книг.
Фальшивая подделка под романтику побеждает подлинную романтику. Живая, действительная жизнь почтительно отступает перед высокопарным вымыслом, признавая его мнимое превосходство. В лице Тома Сойера с его культом «романтической литературы» сама «цивилизация» — система искусственных, нелепых, условных, вопиющих в своей бессмысленности и жестокости установлений — торжествует над здравым смыслом, над естественной человеческой логикой, над человечностью и гуманностью. Эта мысль, глубоко спрятанная в комических финальных сценах романа, представляет собою как бы итог всего повествования. Вместе с тем в заключительных эпизодах развенчивается прежний герой Твена — Том Сойер. Том — «мальчик из порядочной семьи» — позволяет себе участвовать в освобождении беглого негра только в том случае, когда он заранее знает, что этот негр уже свободен.
Игра Тома Сойера, при всем ее обаянии и прелести, не затрагивает незыблемых основ буржуазной жизни. Она великолепно согласуется с законами буржуазного общества. Создавая книгу о реальной борьбе и реальных приключениях, Твен с сатирической беспощадностью развенчивает фальшивую романтику со всем ее поддельным блеском и мишурой.
Рабство лежит в основе всех отношений «цивилизованного» мира и определяет не только его мораль и религию, но и его «поэзию» и «романтику». Игра в «героизм» и «свободу» происходит здесь за счет того же затравленного и многострадального Джима, чье «освобождение» «осуществляется с помощью столь искусственных трюков, что мы не способны поверить в него»[76].
Появление «бунтарской» книги Твена произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Реакционная критика неистовствовала.
«Скучная и грубая книга», «книга — самая настоящая дрянь». Такими отзывами встретили буржуазные критики выход в свет величайшего произведения американской литературы.
«Фарс в литературе и фарс на сцене исходит из того духа непочтительности, который, как мы часто и справедливо отмечали, является отрицательной стороной американского характера, — писал «Атлантик мансли». — Культивируя этот дух непочтительности, Марк Твен проявил и талант и прилежание. Мы надеемся, что теперь, когда его последняя попытка так позорно провалилась, он использует их в направлении более похвальном для него и более благотворном для его страны».
Все эти негодующие отзывы служили хотя и косвенным, но в то же время несомненным доказательством огромного новаторского значения книги Твена. Поистине роман Твена был необычным явлением. Эту необычность по-своему отметила современная Твену американская литература. Буржуазная критика не пожелала простить автору «Гекльберри Финна» смелости, с которой он заявил о моральном и нравственном превосходстве своего героя над «порядочными» людьми «цивилизованного» общества — общества мещан, стяжателей и лицемеров.
Из всех современных Твену американских писателей лишь один Уолт Уитмен сумел с такой убедительностью показать душевное величие простого человека, сложность и красоту его внутреннего мира. Но если в героически величавой поэзии Уитмена эта тема воплотилась в форме грандиозных космических символов, то в романе Твена она предстала в своих обычных, будничных, неказистых одеждах, в прозаически неприкрашенном виде. И эта реалистическая простота, будничность и неприкрашенность «Гекльберри Финна», с его простонародным языком и многочисленными «вульгарными» сценами, давали врагам Твена лишний повод для злобных инсинуаций.
Несмотря на то что Хоуэллс постарался выбросить из лексикона Гека все «непристойные» слова и обороты, буржуазные филистеры увидели в книге угрозу общественной нравственности.
Так, слово «sweat» (пот), которое произносил Гек (более «изысканным» и «благопристойным» обозначением этого понятия было слово «perspiration»), вызвало у благовоспитанных леди и джентльменов настоящий взрыв негодования.
Когда в 1884–1885 гг. избранные места из романа были напечатаны на страницах трех номеров «Сэнчери магэзин», пуритански настроенные подписчики протестовали против появления этой «непристойной» книги.
В дальнейшем она была издана с большими купюрами: так, из нее были целомудренно изъяты сцены, изображающие постановку «Королевского чуда» — спектакля, на который, как известно, «дети и женщины не допускались».
Мнение «благочестивой» Америки выразила Луиза Олькотт, с негодованием заявившая: «Если мистер Клеменс ничего лучшего не может сказать нашим чистым мальчикам и девочкам, пусть он помолчит».
«Богохульную» книгу не раз изымали из детских библиотек; за то что Гек выразил пожелание отправиться в ад, его вышвырнули из библиотеки города Конкорда в штате Массачусетс… После этой катастрофы его оставили в покое на 16–17 лет… Затем книгу выбросила вон Денверская библиотека. Сам писатель хорошо понимал «кощунственный характер» своего произведения. Полушутя, полусерьезно он заявил: «Когда Гека Финна оставляют в покое, он мирно бредет своей дорогой, время от времени то тут, то там калеча душу какому-нибудь ребенку, но это не страшно — в раю детей и без того будет предостаточно. Настоящий вред он приносит только тогда, когда благонамеренные люди принимаются его разоблачать. В такие периоды он сеет в детских душах ужас и смятение и уж тут не упускает случая — вредит сколько может. Будем надеяться, что со временем люди, действительно пекущиеся о подрастающем поколении, наберутся ума и оставят Гека в покое» (12, 261).
И в то же время автор романа правильно оценивал все значение своего творческого подвига. Когда один из бруклинских библиотекарей попросил Твена вступиться за «Гекльберри Финна» и дать ему «хорошую рекомендацию», писатель ответил: «Я бы искренне желал сказать два-три добрых слова в защиту Гека, но, по правде говоря, я считаю, что он не лучше Соломона, Давида, сатаны и прочих представителей этой почтенной братии».
В этом сопоставлении, при всей его иронической парадоксальности, заключается глубокий смысл. Причисляя своего героя к лику легендарных библейских мудрецов и бунтарей, Твен как бы подчеркивал значение и величие тех идей, которые воплощены в его образе.
Писатель по праву считал «Гекльберри Финна» одним из сильнейших своих произведений и ставил его рядом с «Личными воспоминаниями о Жанне д'Арк» (1896) — книгой, которая была любимым детищем Твена. Это пристрастие автора к своему роману вполне объяснимо: ни в одном из его произведений не отразились так полно сокровенные мысли и чаяния писателя.
Позднее творчество Твена
Высшая точка творческого развития Твена — роман «Приключения Гекльберри Финна» стал переломным моментом его эволюции. В этой книге уже определилось направление дальнейшего пути писателя. Критические мотивы «Гекльберри Финна» в позднейших произведениях писателя получали все более острое, непримиримое выражение.
На рубеже веков США стремительно становились «одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой»[77].
В последние десятилетия XIX — начале XX в. глубина этой пропасти стала поистине необозримой. Об этом свидетельствовали и демонстрации безработных вокруг Белого дома, и массовое обнищание фермерства, раздавленного «железной пятой» капиталистических монополий, и непрерывные вспышки костров ку-клукс-клана, и, наконец, серия колониальных войн, развязанных империалистическими кругами США. Все эти зловещие симптомы общественного неблагополучия помимо национального имели и общеисторический смысл. Они означали вступление США, как и всего буржуазного мира, в эпоху империализма.
Империализм, обнаживший противоречия современного общества, обнажил и двойственную природу буржуазного прогресса, раскрыв тем самым разрушительную функцию буржуазной цивилизации. На пороге войн и революций она превратилась в тормоз человеческого развития, машину гнета и истребления народов. Ее именем освящались колониальные «подвиги» империалистов, и все их преступления против человечества мотивировались необходимостью ее насаждения. Все эти явления, вызывавшие глубокую тревогу современников, требовали не только социально-политического, но и историко-философского осмысления. Нужно было обобщить весь опыт, накопленный человечеством, и дать оценку его достижениям. Этим путем и двигались историки, философы и художники конца XIX — начала XX в., и он, как и следовало ожидать, приводил их к диаметрально противоположным выводам, «полярность» которых определялась различиями их идейных позиций. Одним из наиболее заметных итогов этих «футорологических» и историко-культурных изысканий явилась концепция «тупика» истории, ее трагической бессмысленности и бесполезности и обреченности всех ее созидательных усилий. Приобретя в трудах европейских культурфилософов начала века видимость целостной теории, она получила наибольшую завершенность в известной книге Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1916). Обобщая пессимистические раздумья буржуазных идеологов, ее автор объявил цивилизацию «продуктом разложения, окончательно ставшими неорганическими и умершими формами жизни общества»[78]. Неизбежность их отмирания, по мнению Шпенглера, объяснялась полной исчерпанностью творческих возможностей. Книга Шпенглера вышла в 1916 г., но уже задолго до ее появления мысли, высказанные в ней, «прорезывались» в трудах его единомышленников, вступая в непримиримое противоречие с логикой реального движения истории и с теми ее живыми, революционными силами, которым, вопреки всем мрачным прогнозам, принадлежало будущее. Опорой этих прогрессивных сил становились передовые идеи современности, в первую очередь социалистические и марксистские. Их отзвуки слышались в произведениях даже тех мыслителей и художников, которые не находились непосредственно в сфере их влияния. Все эти тенденции духовной жизни на рубеже веков проявлялись и в области американской идеологии. Но если у историков Европы главный акцент лежал на вопросе о судьбе культуры, то американцы передвинули его на проблему научно-технического прогресса (предпосылкой чего было бурное индустриальное развитие США, особенно содействовавшее обострению социальных конфликтов). Отдельные американские социологи (Генри Адамс) уже в то время пытались найти источник бедствий современного человечества во внутренних, имманентных законах развития технической цивилизации. Но наряду с такой системой объяснения жизни в Америке 80-90-х годов (равно как и первых годов XX в.) предпринимались попытки построения других, прямо ей противоположных, и они носили неизмеримо более активный и действенный характер. Правда, среди прогрессивных «футурологов» также не существовало полного единства мнений. Так, если Эдуард Беллами — автор романа-утопии «Взгляд назад» (1891) стремился построить здание будущего общества на фундаменте всеобщего равенства, то Хоуэллс, как явствует из его романов «Путешественник из Альтрурии» (1894) и «Сквозь игольное ушко» (1907), возлагал свои надежды главным образом на моральное совершенствование людей. Э. Беллами создал роман-утопию — жанр, который в конце XIX — начале XX в. пользовался в Америке известной популярностью (романы С. Х. Стоуна, С. Шиндлера и др.). Самой общей чертой произведений подобного типа явилась тенденция истолкования прогресса в тесной связи с социальными законами жизни общества. Процесс индустриального развития не вызывал у их авторов мистического трепета. Они находили для науки и техники законное (и достаточно значительное) место в разумно организованном царстве будущего и справедливо полагали, что разрушительные функции прогресса возникают не внутри его, а навязываются ему людьми. Но поиски внебуржуазных форм существования совершались не только в романах-утопиях. Они составляли внутренний пафос деятельности нового поколения американских писателей-реалистов: Фрэнка Норриса, Стивена Крейна, Хемлина Гарленда, Теодора Драйзера, Линкольна Стеффенса[79]. Их литературный идеал, четкое выражение получивший у Гарленда, при всей своей устремленности в будущее уже давал характеристику и существующим явлениям литературы. Та литература, которая, согласно Гарленду, не будет создаваться на основе «салонной культуры» и «придет из дома простого американца», дабы «решать проблемы борьбы за сохранение демократии, связывая вопрос о свободе с вопросом о национальном искусстве»[80] была уже не только «утопией», но и жизненной реальностью, и ее создателем был не кто иной, как Марк Твен. И все же дорога его не вполне совпала с новой магистралью развития реалистического искусства XX в. Соприкоснувшись с нею во многих точках, Твен обошел ее стороной.
При всей близости к своим преемникам он принадлежал к другому, раннему этапу литературной истории Америки. Его связь с романтическими и просветительскими традициями XIX в. носила более прямой и непосредственный характер, чем у его последователей. Социальные проблемы, поставленные перед Америкой конца XIX — начала XX в., с трудом вмещались в его идейно-философский кругозор. Поэтому его позднее творчество развивалось под знаком острейших, непримиримых противоречий. Двигаясь в общем русле идейных исканий эпохи, Твен приходил к трудносочетаемым выводам. Углубившаяся социальная прозорливость писателя одновременно рождала в нем и надежды на лучшее будущее человечества, и настроения все усиливающегося пессимизма. Вера Твена в возможность обновления общества на этом этапе, несомненно, получила новую точку опоры. Растущий размах рабочего движения помог ему увидеть общественную силу, способную спасти цивилизацию и вознести ее на высоту, еще невиданную в истории. Он понял, что «только рабочий класс заинтересован в сохранении всех ценных завоеваний человечества»[81]. Его уже упоминавшаяся речь «Рыцари труда — новая династия» по существу открывала выход к новому пониманию истории.
Используя «метод широких обобщений»[82] и соотнося «рыцарей труда» со всем историческим процессом прошлого, настоящего и будущего, Твен рассматривает профсоюзное движение как росток, из которого возникнет завтрашний день человечества.
Так апофеоз рабочего класса уже обнаруживает тенденцию к перерастанию в своеобразную философию истории. Подготовленное всей логикой предшествующего развития писателя, выступление в защиту «рыцарей труда» свидетельствует о процессе его внутренней перестройки. «Усилившееся господство плутократии и движение американского общества по направлению к империализму заставило его подвергнуть пересмотру свою концепцию прогресса и вырабатывать новую философию истории»[83].
Действительно, прогресс предстал перед Твеном, как и перед его современниками, в формах, заставивших писателя произвести переоценку своих просветительских ценностей. Его представление об общественном прогрессе как о неуклонном движении по прямой линии пришло в противоречие с объективной логикой исторического развития. Поставленный перед необходимостью выработки новой системы исторических воззрений, он в своей речи уже делает шаг навстречу этому открытию. Но, приблизившись к самому его порогу, Твен так и не сумел перешагнуть через него. Новая концепция истории могла возникнуть лишь на основе социалистической теории. Для Твена — одного из последних могикан буржуазной демократии[84], далекого от понимания экономических законов развития общества и возлагавшего все свои надежды на «разум»[85], условие это было невыполнимо. Эти глубоко противоречивые тенденции внутренней жизни писателя и воплотились в его новом романе «Янки при дворе короля Артура». Создававшаяся на протяжении ряда лет эта «притча о прогрессе» отразила и процесс духовных исканий писателя, и во многих отношениях их трагический результат. Твен не смог в ней свести концы с концами и дать ответ на им же поставленные вопросы.
Но при всей неразрешенности этих проблем его роман (задуманный как «лебединая песня» писателя) стал одной из вех в истории мировой и американской литературы. Призвав на суд истории буржуазную Америку, Твен создал сатирический шедевр, достойный стать рядом с произведениями Джонатана Свифта.
В созданном на грани 90-х годов романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) Твен возвращается к теме средневековья. (Отправной точкой для экскурсов Твена в легендарное царство Артура послужила книга английского писателя XV в. Томаса Мэлори «Смерть Артура».)
Вместе с тем именно при сопоставлении нового произведения с предшествующими бросаются в глаза изменения, происшедшие как в исторических воззрениях Твена, так и в общем духовном климате его творчества.
Они проявились и в поэтике его исторического романа. Тема европейского средневековья разработана здесь иными средствами, чем в «Принце и нищем». В гротескно-сатирическом произведении Твена нет лирической мягкости, столь характерной для его исторической сказки. Нет в нем и сдержанного, тонкого юмора. Он написан в воинственно-боевой, вызывающей манере, краски в романе сгущены до предела, а образам свойственна почти плакатная резкость очертаний. Все пустоты здесь заполнены, все пунктирные линии вычерчены. Картина народных страданий в новой книге Твена выписана во всей широте, во всем многообразии оттенков. Мрачные подземелья, в которых десятилетиями томятся люди, костры, пытки, бесконечные надругательства над человеческим достоинством, чудовищная грязь и нечистоплотность — все это увидено с предельной остротой зрения. Беспощадность и ясность этого взгляда мотивирована многими причинами. Наблюдателем здесь становится взрослый человек, способный не только увидеть, но и логически осмыслить происходящие процессы. Но характерная резкость твеновского рисунка здесь идет не только от возрастных особенностей героя романа. Она зависит от некоторых чисто пространственных отношений между изображаемыми предметами (что снова заставляет вспомнить о «Гулливере» Свифта). Оттенок ретроспективности, еще присутствующий в палитре «Принца и нищего», в «Янки» окончательно исчезает. Расстояние между наблюдателем и наблюдаемым сокращено до минимума. Объект изображения находится, в такой близости не только от героя, но и от самого автора, что становится осязаемым. Воображение Твена здесь питается вполне реальными жизненными фактами, происходящими где-то рядом с ним, и ощущение этой близости определяет всю атмосферу романа, а до известной степени и сам характер его замысла. Секрет романа о средневековье заключается в том, что его автор обнаружил «средневековье» в XIX в. Уже здесь он приближается к мысли о том, что «нынешний день человечества ничуть не лучше вчерашнего» (12, 650), выраженной им с полной логической ясностью в одном из писем 1900 г.
Двойной прицел сатиры Твена не составлял тайны для его современников. Хоуэллс, сердце которого, по его собственному признанию, «обливалось кровью» при воспоминании о жестокости и несправедливости прошлого, столь точно воспроизведенной в романе Твена, тем не менее ясно увидел, что речь в нем идет не только о VI в.: «Душа наполняется стыдом и ненавистью к тем порядкам, которые по сути дела похожи на настоящие»[86]. Подобные выводы подсказывались всей внутренней организацией романа.
Пространство здесь, как в некоторых романах Герберта Уэллса, становится своего рода визуально воспринимаемым временем. Герой романа, современник Твена, попадает в VI в. Сокращение дистанции между вчера и сегодня осуществляется через сдвиг в историческом времени, и этот условный гротескно-фантастический прием позволяет Твену «столкнуть лбами» две эпохи. В его романе происходит встреча «начала» и «конца» европейской истории и отсутствие промежуточных звеньев создает возможность установить их сходство и различия между ними. Процесс возникновения цивилизации демонстрируется здесь и в его первоистоках, и в конечных итогах. Тем самым XIX столетие призывается на очную ставку с историей, и писатель производит беспристрастный смотр его достижениям. Результаты этой проверки оказываются неблагоприятными для обеих сторон: XIX век — век «прогресса и гуманности» — не только оказывается чем-то похожим на варварский мир средневековья, но и, сколь ни парадоксально, в некоторых отношениях как бы проигрывает от сравнения с ним. В артуровском царстве процесс наступления на природу еще только начинается, цивилизация еще не до конца прибрала ее к рукам, поэтому здесь существуют ее нетронутые оазисы, изобилующие таким богатством красок, что они почти ослепляют Янки, привыкшего к серым и тусклым тонам. «Спокойная и мирная» местность, на которой он очутился в результате какого-то необъяснимого чуда, показалась ему «прелестной как мечта» (6, 317), а огненно-красные цветы на голове маленькой девочки, бредущей по пустынной тропинке, как нельзя более шли к ее золотым волосам.
Свежесть и целостность еще свойственна и человеческим чувствам, и она во многом определяет своеобразие средневекового мироощущения. Рыцари Круглого Стола — большие дети, люди наивного, целостного, «детского» сознания, и поэтому в романе Твена они иногда кажутся почти привлекательными. Особая, «ребяческая», природа их мировосприятия и поведения обыгрывается и в прямой, и в косвенной форме. Многие сюжетные и психологические мотивы нового романа Твена недвусмысленно соотносятся с его детскими повестями (так, странствие короля Артура, путешествующего инкогнито, явно калькирует основную сюжетную ситуацию «Принца и нищего»). Простодушие и наивность, свойственные этим грубоватым взрослым людям, иногда сообщают их образам известное внутреннее обаяние. Его излучает, например, легендарный Ланселот — краса и гордость артуровского двора. Грозный воин, внушающий почтительный страх всему своему окружению, в сущности есть не что иное, как большое доброе дитя. Недаром этот простодушный гигант питает такую привязанность к маленькой Алло Центральной — дочери Янки, находя с нею общий язык. По-своему обаятельна и болтливая спутница (а потом и жена) Янки — Алисанда (Санди). Она — воплощение женственности и доброты, и Янки глубоко заблуждается, когда в начале своего знакомства с ней принимает ее словоохотливость за проявление глупости. Ведь и в самой ее болтливости есть нечто привлекательное, как, впрочем, и во всех наивных россказнях артуровских рыцарей и дам. Они являются «фабрикой вранья» не в большей степени, чем фантастические измышления Тома Сойера и… Дон-Кихота. Это та мифотворческая живость воображения, которая свойственна людям, еще не потерявшим ощущения «волшебства» жизни, ее «чудесной» природы. «Врали» средневековья уже тем выгодно отличаются от лгунов современности, что сами искренно верят в реальность своих выдумок.
Но на сей раз Твен далек от идеализации целостного сознания. Он вносит в свое повествование множество сатирических штрихов, приоткрывающих оборотную сторону средневековой «идиллии». Подобную отрезвляющую функцию выполняет, например, сценка, происходящая во время королевского пира: на голову спящего короля, усыпленного нудным рассказом Мерлина, взбирается крыса и, держа в лапках, кусочек сыра, грызет его «с простодушным бесстыдством, посыпая лицо короля крошками».
«Это была, — с чувством поясняет Твен, — мирная сцена, успокоительная для усталого взора и измученной души» (6, 328). Характер авторского комментария уточняет смысл юмористического эпизода, позволяя разглядеть его сатирический подтекст. «Умилительное» простодушие крысы в чем-то сродни патриархальному простодушию английских аристократов VI в., в детской наивности которых есть оттенок животной примитивности.
В формулу «простодушное бесстыдство» вмещается и стиль застольных бесед вельмож с его сочетанием высокопарности и предельной грубости и откровенности (все вещи здесь называются своими именами), и наивное любопытство придворных дам, разглядывающих голого Янки, и комментарии, которыми они сопровождают свои наблюдения («Королева… сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня», 6, 333). Во всем этом много детского, но еще больше скотского. Английские аристократы представляют собой одновременно и «детей» и «скотов», и ударение чаще всего делается на втором из этих слагаемых. Почти буквальную расшифровку этой мысли дает остросатирический эпизод, изображающий романтический подвиг Янки, который в соответствии с господствующими обычаями освобождает знатных дам, якобы плененных злыми волшебниками. При ближайшем рассмотрении «аристократки» оказываются свиньями, а замок, в котором они обитают, — хлевом. Эпическая невозмутимость, с которой Янки рассказывает о хлопотах, доставленных ему маленькой графиней «с железным кольцом, продетым сквозь пятачок» (6, 436), устраняет разницу между титулованной особой и «хавроньей» и вдобавок лишает эту параллель всякого оттенка необычности. «Скотство» английских аристократов есть нечто большее, чем штрих их индивидуальной характеристики. Это — черта социально типичная и исторически обусловленная. Знатные обитатели Камелота, быть может, и не родились скотами. Но они стали таковыми благодаря условиям своего общественно-исторического бытия. Акцент, который падает на эту мысль, знаменателен с точки зрения эволюции Твена. Детерминистские начала его жизненной философии явно усиливаются. Автор «Янки» еще не изменил принципам просветительства и по-прежнему хочет верить в изначальную доброту человека. «Человек всегда останется человеком! — провозглашает герой Твена. — Века притеснения и гнета не могут лишить его человечности!» (6, 527).
Но на просветительскую антропоцентрическую концепцию уже заметным образом наслаиваются позитивистские влияния, воспринимавшиеся Твеном не только в историко-социальном (Ипполит Тэн), но и в литературном преломлении. Характерно в этом смысле, что одной из книг, которой зачитывался поздний Твен, была «Земля» Эмиля Золя. Роман Золя в его восприятии имел отношение столько же к Франции и французам, сколько и ко всему человечеству. «Разве не кажется невероятным, — пишет Твен в одном из своих писем, — что люди, о которых идет здесь речь, действительно существуют», а между тем «они могут быть обнаружены… скажем, в Массачусетсе или в другом американском штате»[87].
В «Янки» Твен уже находится в преддверии этой мысли. Взгляд Твена на природу как бы двоится. Его по-прежнему привлекает красота ее первозданных очагов, но он уже не питает к ним полного доверия. Оборотной стороной чудесного пейзажа является изобилие надоедливых насекомых, чье общество невыносимо для человека XIX в. Патриархальная целостность средневекового сознания также имеет свою изнанку. В новом романе Твена природа рассматривается не столько как источник нравственной чистоты, сколько как материал, в руках мастера способный принять любую форму. Средневекового варвара с одинаковой легкостью можно сделать и человеком и зверем, и трагедия средневековья заключается в том, что оно создает все условия для «озверения» людей. В рыцарях культивируются их животные инстинкты, народ превращен в инертную и покорную массу «баранов» и «кроликов». Низведенный до положения стада, он готов принять свое бесправие в качестве естественного состояния. В запуганных и униженных рабах убито чувство человеческого достоинства и, как предстоит убедиться Янки, воля к борьбе.
Процесс превращения «ребенка» в «зверя» в романе многократно иллюстрируется и предстает во множестве разнообразных вариантов. Одним из наиболее живописных является образ феи Морганы. Этой бесчеловечной феодальной властительнице, как и многим ее современникам, не чужды детская наивность и особое варварское простодушие. Не случайно некоторые штрихи ее психологической характеристики вызывают в памяти образы Тома Сойера и Гека Финна: ее и их жизненные реакции в чем-то сходны. Логика их мышления во многом однородна. Так, процесс расшифровки непонятных слов у них протекает совершенно одинаково и, что самое замечательное, приводит к «аналогичным» результатам. Если фея Моргана, понимавшая фотографию «не больше чем лошадь», видит в слове «фотографировать» синоним глагола «убить», то Том Сойер и его «разбойничье» окружение аналогичным образом «переводит» загадочный термин «выкуп». Когда атаман только что организованной шайки Том Сойер разъясняет своим сообщникам, что будущих пленников придется держать в пещере вплоть до получения «выкупа», между ним и одним из его слушателей происходит следующий диалог:
«— Выкупа? А что это такое?
— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это в книжках читал… Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.
…А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?» (6, 17–18).
Едва ли нужно пояснять, что практические следствия этих сходных «лингвистических» экспериментов полярно противоположны и именно эта полярность позволяет измерить качественные различия в детском и варварском сознании. Конечно, кровожадные импульсы средневековой дамы бесконечно далеки от наивного романтизма санкт-петербургских мальчишек, для которых убийство есть понятие сугубо отвлеченное, не имеющее никаких точек соприкосновения с реальной действительностью. Ведь именно тогда, когда романтическая условность становится жизненной реальностью, она вызывает неопредолимое отвращение у Тома и Гека.
В иных отношениях с реальностью находятся садистские склонности феи Морганы. Оттенок наивности, свойственный ее кровожадным эмоциям, ясно показывает, какой податливостью отличается первобытное сознание, как восприимчиво оно ко всякого рода разлагающим влияниям.
Как явствует из всего содержания романа, Твен на данном этапе своего творческого развития еще не совсем отказался от мысли, что на этом «черноземе» истории можно вырастить и здоровый посев. Фея Моргана — не единственная представительница средневековой знати, и рядом с нею в условиях той же исторической действительности существует великодушный и благородный король Артур. Его требуется только слегка «поскоблить», чтобы под «искусственной» личиной короля («Король, — утверждает Янки, — понятие… искусственное», 6, 562) обнаружить человека, и Твен предпринимает этот очистительный процесс на тех же испытанных путях, что в «Принце и нищем». Ведь в смысле уровня своего интеллекта и степени его незрелости король Артур мало отличается от маленького принца Эдуарда. Корруптирующее воздействие королевского звания еще не успело до конца извратить его «детскую» душу. Маска сидит на нем неплотно, между ней и лицом существуют заметные зазоры, и сквозь них видны его еще не стершиеся живые черты. Пройдут века, и маска прирастет к лицам тех, кому суждено ее носить.
История «работает» не на Артура, а на фею Моргану и ей подобных. Пробуждение человека уже в VI в. совершается лишь в порядке единичного опыта, тогда как появление людей типа Морганы «запрограммировано» всей системой господствующих социальных отношений. Внутренняя извращенность этой прелестной, ангелоподобной женщины — результат извращенного хода истории, глубокой противоестественности созданных ею отношений. Ее зоологическая прирожденная жестокость получает опору и в традициях прошлого, и в тенденциях рождающегося будущего.
Характер феи Морганы — это сгусток исторически типичных свойств ее самой и социальной среды, увековеченных историей. Именно эта сгущенность и выводит ее образ на линию исторической перспективы, сообщая ему особый футурологический ракурс. Если Алисанда — «прародительница немецкого языка», то Моргана — скорее всего прародительница инквизиции. В ходе столетий ее уже узаконенная жестокость будет возведена в ранг высшего милосердия и станет стержнем религии, этики, морали.
Янки, взору которого открылись зачатки этого процесса, знает, каково будет его продолжение. Он знает, что принцип сословной иерархии в ходе истории утратит свою изначальную наготу, но останется неизменной основой жизни общества. Важнейшие правовые, юридические и религиозные установления (церковь и тюрьма) уже выполняют свою историческую функцию — освящения и охраны господствующего социального порядка.
Из поколения в поколение «воспитательница» человечества — католическая церковь — будет без устали внушать людям представление о божественном происхождении этого порядка, и унаследованные от нее идеи, войдя в сознание человечества, укрепятся с прочностью, почти непреодолимой. Не поэтому ли и в XIX в. сохранились отношения сословной иерархии — эта опора истории, скрепляющая связь ее времен?
Цепь эта нерасторжима, и Америка составляет одно из ее звеньев. Тщетно Янки пытается отторгнуть свою страну от всемирно-исторического процесса в качестве единственного государства, неподвластного его универсальному закону. Напрасно утверждает он, что зараза благоговения перед званиями и титулами, когда-то жившая в крови и у американцев, уже исчезла. Подобные, сравнительно редкие рецидивы «американизма» не получают опоры в романе, вступая в противоречие со всей логикой его образного развития. Ведь и сама история рабочего Хэнка Моргана (Янки) со всей непререкаемостью свидетельствует о том, что и у современной ему Америки есть своя «аристократия».
Эта печальная истина, скрытая в «подполье» сатирической книги Твена, то и дело выбивается на его поверхность. Уильям Дин Хоуэллс, чуткий и проницательный читатель Твена, оценивший «Янки» как «урок демократии», сразу же заметил, что «в книге есть места, где мы видим, что аристократ времен Артура, жиревший на поте и крови своих вассалов, по сути дела, ничем не отличается от капиталиста времен мистера Гаррисона, богатеющего за счет рабочих, которым он недоплачивает»[88].
Сходные аналогии несомненно приходили на ум и самому Твену. Недаром, согласно первоначальному замыслу писателя, в роман должен был войти в качестве составной его части рассказ «Письмо ангела-хранителя». Можно предположить, что герой этого рассказа — богатый промышленник Эндрью Ленгдон — был введен в роман Твена в качестве живого доказательства неистребимости царства «скотов». Его «скотство» есть нечто еще более несомненное, чем скотство средневековых рыцарей, и уж конечно, при всей их грубости и жестокости в них больше человеческого, чем в нем. Ко всем их отрицательным качествам он добавил (с помощью если не католической, то пресвитерианской церкви) еще и фарисейство. Грубое животное, подвластное всем низменным инстинктам, он прикрывает свои зоологические импульсы личиной религиозного благочестия и человеколюбия. Таков «рыцарь» новейших времен — рыцарь денежного мешка. Отталкивающее лицо этого реального хозяина Америки, выглянувшее из подтекста, могло бы стать наглядной антитезой образу гуманного Янки, лишь по воле каких-то тайных сил поднявшегося до положения Хозяина. Но расстояние между реальной правдой истории и ее нереализованными возможностями осознается и без их лобового противопоставления. Совершенно ясно, что все происшедшее с героем романа — это то самое исключение, которое подчеркивает несокрушимость и незыблемость некоего веками существующего порядка.
Твеновский Янки стал Хозяином лишь по капризу истории, подобно тому как Санчо Панса стал губернатором по капризу скучающей герцогской четы. Как и этот испанский «простак», его американский двойник (в облике которого черты Санчо Панса причудливо объединились с чертами Дон Кихота) показывает, на что способен простой человек, если обстоятельства позволяют ему выявить его творческие возможности. Недаром Янки не хочет возвращаться в «родной» XIX в. Недаром он так тоскует по далекому прошлому. Оно стало его второй, настоящей родиной («Я, — признается герой, — почувствовал себя в этом веке совсем как дома… и если бы мне предоставили выбор, я не променял бы его даже на двадцатый», 6,352). Первоначальный замысел книги особенно акцентировал эту мысль. Финалом книги должно было стать самоубийство Янки. В окончательном ее варианте он умирает, но причина его смерти, как явствует из предсмертного бреда героя, — жгучая тоска по тому миру, где осталось все, что было ему по-настоящему дорого. Ведь именно там он нашел себя и обрел людей, признавших его права на роль, которую он играл, — роль законного хозяина государства. Возвращение в современность лишало его даже той (тоже, впрочем, призрачной) свободы, которой он располагал в Англии артуровских времен. В условиях США XIX в. этот талантливый сын народа из «босса» превращается в рядового труженика, у которого есть лишь одно право — трудиться на предприятии какого-нибудь Эндрью Ленгдона. «Что досталось бы на мою долю в 20-м веке? — спрашивает Янки и отвечает: — В лучшем случае я был бы мастером на заводе — не более» (6,352).
Завоевания прогресса, которыми так гордится Америка XIX столетия, оказываются, таким образом, весьма сомнительными. На этом этапе писатель еще не склонен начисто отрицать благотворную роль научно-технических достижений цивилизации, но он уже догадывается об ограниченности и двойственности этой роли, о ее относительном характере. Тень этих раздумий лежит на реформаторских мероприятиях его героя. Уже с первых моментов своей преобразовательной деятельности Янки попадает в пределы некоего заколдованного круга.
Средства искоренения средневекового зла, на которые рассчитывает этот энергичный социальный реформатор, надежны далеко не во всех отношениях. Сама насаждаемая Янки цивилизация не есть абсолютное благо. И в ней таится разрушительное и деморализующее начало. Плод многовекового развития классового общества, она впитала в себя яд вскормивших ее отношений социального неравенства. Эта отрава проникла во все поры буржуазного прогресса, и его научно-технические достижения смогут стать благодетельной силой жизни народа лишь в условиях иной социальной действительности. Чисто американская влюбленность в технику и прагматическая прямолинейность мышления Янки мешают ему осознать эту истину до конца, и он начинает серию своих прогрессивных мероприятий с телефона и велосипеда. В результате «американский эксперимент», произведенный со всей серьезностью, открывает шлюз для всепроникающей беспощадной иронии. Ее поток изливается на оба исследуемых объекта и не щадит ни Америку XIX в., ни Англию VI в. Технически усовершенствованный Камелот становится злой карикатурой на современное Твену индустриальное общество США. Сочетание телефона и пещеры, «свободной» прессы и работорговли, велосипедов и тяжелых, неудобных рыцарских доспехов — разве этот сатирический гротеск не воплощает самую сущность «американского образа жизни», более того, всего, буржуазного прогресса? В нелепом образе дремучего, грубого, варварского мира, к которому кое-как прицеплены отдельные элементы чисто внешней культуры, уже потенциально заложен мотив «джунглей цивилизации», столь характерный для американской литературы XX в. Пересаженные на невозделанную почву VI в. достижения цивилизации XIX столетия не только подчеркивают убожество и примитивность господствующих жизненных форм, но и сами как бы подвергаются дискредитации. Неведомо для самого реформатора в его реформах таится некая закабаляющая и разлагающая сила. Этот незримый фермент разложения присутствует, например, в финансовой политике Янки. Биржевая игра, затеянная им, разжигает темные страсти в самых, казалось бы, нравственно устойчивых представителях рыцарства. Одним из них оказывается не кто иной, как простодушный и добросердечный Ланселот. Совершенно неожиданно в нем обнаруживаются недюжинные способности к сомнительным спекуляциям. Ведь именно его финансовые аферы становятся непосредственной причиной многочисленных бедствий, захлестнувших злополучное королевство Артура и поглотивших самого его владыку.
Сомнительны и другие нововведения Янки. Даже самым благодетельным из них свойствен оттенок иронической двусмысленности. Научные познания Янки и его технические навыки спасают ему жизнь, помогают разрушить козни волшебника Мерлина, возносят безродного плебея на вершины государственной власти, делая признанным «боссом» средневекового общества. В некоторых отношениях прогресс полезен и для обитателей Камелота. Технизация их варварского быта обеспечивает им известный комфорт и некоторые жизненные удобства. Но она не дает бесправному и обездоленному народу Англии того, в чем он более всего нуждается, — духовного и политического освобождения. В мире, где человек закабален, и сама техника обнаруживает способность к закабалению и порабощению личности, к превращению ее в свой придаток. Нет сомнения, что мыло — великое благо, дарованное людям цивилизацией, но отношения между ним и его потребителями строятся не только по принципу «мыло для человека», но и по прямо противоположному. Во всяком случае, на такую мысль наталкивает вид рыцарей, превращенных в странствующую рекламу. К неудобствам, причиняемым нелепым вооружением, добавляется еще ряд других, связанных с их культуртрегерской миссией. Не менее характерна и участь столпника, отбивавшего поклоны во славу господа. Рационализаторское рвение Янки превратило благочестивого подвижника в своеобразное автоматическое устройство — в двигатель швейных машин. Но хотя в результате такой трансформации число рубашек в королевстве несомненно возросло, положение самого бедняги столпника ни в чем не изменилось. Ему по-прежнему вменяется в обязанность отбивать поклоны. Эта гротескно-сатирическая подробность как бы намекает на известное тождество двух столь непохожих друг на друга эпох. В каждой из них человек из «цели» становится «средством», и если средневековье делает его довеском к нелепым религиозным ритуалам, то в XIX в. ему суждено стать приложением к технике.
Влюбленность Твена в технический прогресс не помешала ему разглядеть и другую, еще более зловещую его сторону. Гротескно-сатирические образы его романа уже намечают мрачную картину дальнейшего развития техники: в условиях собственнического мира техника становится союзницей смерти, орудием убийства и разрушения. Финальные сцены книги, в которых эта мысль выражена наиболее прямо, уже как бы распахивают дверь в XX в., вплотную приближая Твена к таким, казалось бы, далеким от него писателям, как Герберт Уэллс или Рэй Бредбери.
«Путешествие во времени», совершенное героем романа, помогло его автору нащупать одну из трагических тем грядущего столетия — тему дегуманизации науки в буржуазном обществе. Хитроумный Янки, ослепляющий наивных дикарей «волшебством» своих научных познаний, в чем-то не менее наивен, чем они. «Простак» новейшей формации, он слишком доверяет лукавому «демону», находящемуся у него в услужении.
Как водится, коварный слуга предает своего хозяина. Попытка использовать великое научное открытие — электричество — в качестве боевого орудия для разгрома Мерлина и его варварской орды неожиданно оборачивается против Янки. Электрические провода, предназначенные для уничтожения его противника, оказались сетью, в которой запутался он сам. Смертоносное электрическое кольцо обросло горами трупов, и сквозь эту преграду, воздвигнутую смертью, не смогла пробиться горсточка благородных и смелых людей — соратников Янки. Самая совершенная техника отнюдь не является панацеей от бед человечества, если ему не на что опереться, кроме как на нее.
Трагедия этого открытия состоит в том, что оно обобщает опыт не одного человека, а всего человечества XIX в., и в первую очередь той страны, для которой идея научно-технического развития имела определенный «культовый» смысл и служила опорой для целого комплекса национальных иллюзий. От «американской мечты» здесь отпадает один из ее первоэлементов, — идея идиллического содружества природы и науки, призванного стать фундаментом утопического царства свободы. Подточенный всем ходом современной истории, этот несостоявшийся идеал отбрасывает тень и на самого ее носителя. У умного и доброго Янки есть своя особая трагическая вина. Янки из Коннектикута воплощает не только сильные стороны национального характера, но и черты его известной исторической ограниченности. Его образ двоится, как и образ насаждаемого им прогресса. «Простак» сочетается в нем с «мудрецом», прагматически мыслящий американец со «всечеловеком», гражданином республики будущего.
Сын своего времени и своей страны, Янки связан с ними некоторыми особенностями внутреннего, духовного склада. Его подход к жизни и людям в чем-то столь же примитивен, как варварские воззрения дикарей VI в. Чрезмерная прямолинейность и упрощенность, свойственная мышлению этого воинствующего прагматика, отнюдь не всегда подходит под категорию «разум» и даже «здравый смысл». Убежденный рационалист, он слишком верит в арифметику, полагая, что все существующее в принципе сводимо к ее четырем правилам. В деловитости этого почитателя всяческих механизмов иногда мелькает нечто сходное с ними. Так, наряду с прочими фабриками он учреждает в царстве короля Артура и фабрику настоящих людей, считая, по-видимому, что и эту новую разновидность человечества можно изготовлять в массовом оптовом порядке по некоему готовому эталону. А между тем именно он сам и является этим долгожданным новым человеком, появление которого подготовлено не усовершенствованными методами техники (и даже педагогики), а логикой классовой борьбы. Кузнец из Коннектикута, с его умелыми руками, великодушным сердцем и демократическим сознанием, он является обобщенным образом пролетария, той новой силы, которой предстоит проложить дорогу в лучшее будущее человечества. В мире прежнего и новейшего рыцарства он занимает особое место. Он тоже рыцарь, но рыцарь не дворянской чести и не наживы, а труда. Его странствие в веках целью своею имеет не отыскание «чаши Грааля», а другого сокровища — народного счастья. Вся его история есть не что иное, как попытка образного воплощения мыслей, изложенных в публицистически обнаженной форме в речи Твена «Рыцари труда» — новая династия». Поистине Янки стремится осуществить благороднейшую из задач, когда-либо стоявших перед человечеством, и все его столь различные реформы ставят перед собою одну и ту же цель.
Это повзрослевший Гек Финн, чей демократизм уже стал системой вполне осознанных убеждений, мечтает о создании народной республики. Прямой наследник «отцов» американской демократии, он происходит из Коннектикута, в конституции которого сказано, что «вся политическая власть принадлежит народу и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет неоспоримое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным» (6,386). Как явствует из приведенного высказывания Янки, идеальное государство, о котором он мечтает, — это все то же царство невоплотившейся «американской мечты». «Духовная родина Янки, — пишет А. К. Савуренок, — это не Америка Рокфеллера и Вандербильта, это Америка Пейна и Джефферсона, провозгласившая суверенное право народа на власть и самоуправление»[89]. Путь в эту обетованную страну, так и не найденный соотечественниками Янки, пытается отыскать этот «рыцарь труда».
Но тщетно стучится он в закрытую дверь будущего. Пытаясь раскрыть ее различными ключами, он использует для этой цели самый разнообразный и противоречивый опыт, накопленный историей. Создавая акционерные общества, он насаждает и профсоюзные организации. Широко развернутая филантропическая деятельность, к которой Янки побуждает его доброе сердце, не мешает ему принять и одобрить методы революционного насилия. В этом смысле, как и во многих других, Янки служит рупором идей самого Марка Твена. Радикализация взглядов писателя на этом этапе проявляется в его изменившемся отношении к французской революции. «Когда я кончил «Французскую революцию» Карлейля в 1871 г., — пишет он в письме к Хоуэллсу, — я был жирондистом; но всякий раз, когда я перечитывал ее с тех пор, я воспринимал ее по-новому, ибо сам изменился мало-помалу под влиянием жизни и окружения. И теперь я снова кладу книгу и чувствую, что я санкюлот! И не бледный бесхарактерный санкюлот, но Марат…» (12, 595).
«Якобинское» кредо писателя оказалось достаточно устойчивым. Свою верность ему он утверждал как в связи с событиями прошлого, так и настоящего. В 1890 г. в письме к издателю «Свободной России» Твен призывает русский народ к тому, чтобы стереть с лица земли самодержавие, и всякое проявление нерешительности в этом вопросе расценивает как «странное заблуждение, никак не вяжущееся с широко распространенным предрассудком, что человек — существо разумное» (12, 610–611). В 1891 г. в письме к другому своему русскому корреспонденту С. М. Степняку-Кравчинскому автор «Янки» восхищается поразительным, сверхчеловеческим героизмом русского революционера, который «прямо смотрит вперед, через годы, в ту даль, где на горизонте ждет виселица, и упрямо идет к ней сквозь адское пламя, не трепеща, не бледнея, не малодушествуя…» (12, 614).
Пришелец из XIX в., Янки в своей деятельности прямо ориентируется на опыт французской революции, послуживший отправной точкой для всей истории его столетия (а в значительной степени и его страны).
История преподает Янки, а заодно и Марку Твену, жестокий урок, в чем-то сходный с тем, какой был преподан ею людям 1793 г. Рационалистическая мысль, замешанная на дрожжах Просвещения, наталкивается на существование законов истории. Они-то и оказываются незримой преградой, стоящей на пути освободительных порывов Хэнка Моргана. Тщетно пытается писатель объяснить причину постигшей его героя катастрофы. В рамках его философии истории для нее нет объяснений. Ведь для того, чтобы разгадать эту трагическую тайну, нужно понимать, что «общество… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами», ибо в его власти только «сократить и смягчить муки родов»[90].
Антропоцентрическому просветительскому сознанию с его верой в беспредельное могущество разума как единственного двигателя прогресса эта истина недоступна. Поэтому единственный источник трагических неудач Янки Твен находит в незрелости народного сознания. «Сердца дали трещину!» — с горечью констатирует Хозяин, убедившись, что порабощенные церковью рабы не смеют ополчиться против ее зловещей власти. Но при всей убедительности такой мотивировки она проясняет лишь одну из сторон конкретной социально-исторической ситуации. Ведь всей логикой своего романа Твен показывает, что даже удавшаяся буржуазная революция не положила конец господству социального зла, а лишь видоизменила его внешние формы. Революционные потрясения 1770-х годов сделали США республикой, но отношения социального неравенства сохранились, и правит страной не рабочий из штата Коннектикут, а лицемерный стяжатель — Эндрью Ленгдон.
Трагедия Янки кроме социального имеет еще и этот метафизический смысл. Герой Твена выпадает из исторического времени, и для него не находится места ни в одной из эпох. Опыт, приобретенный им, ввергает его в состояние внутренней неприкаянности и глубокого одиночества.
Страшное кольцо, в которое попадает Янки в результате своих героических экспериментов, воспринимается как своеобразный символ всей исторической жизни человечества, поступательное движение которого совершается в пределах некой замкнутой кривой Освободительная мысль человечества заблудилась в этом зловещем лабиринте и тщетно мечется в поисках выхода. След этих метаний Твен мог усмотреть и в трудах современных ему публицистов и историков. Но хотя путь писателя и соприкоснулся с путями пессимистических культурфилософов Европы и Америки, свои идеи он почерпнул не столько из их книг, сколько из событий живой действительности. Тенденции исторической жизни Америки и всего мира, столь несовместимые с его критериями прогресса, бесконечно далекие от разума, справедливости, естественности, повергали его в трагическое недоумение, и тупик этот представлялся ему состоянием самой истории. Идея трагической бессмысленности истории сделалась одним из стержневых мотивов позднейшего творчества писателя. Вступив в противоречие с его неистребимыми гуманистическими и демократическими идеями, она сообщила им оттенок трагической безнадежности. Именно в таком противоречивом выражении предстают они в его историческом труде, посвященном Жанне д'Арк, — «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» — произведении, которое отчасти можно рассматривать как своеобразное продолжение «Янки». Фантастические приключения Янки, несомненно, являются прелюдией к книге о фантастике самой истории, и именно этим объясняется особое распределение ее внутренних акцентов, многие из которых, освободившись от своей гротескной условности, получили звучание неизмеримо более сильное, чем в предшествующем произведении Твена. «Жанна д'Арк» — наивысшая точка в развитии демократических идеалов Твена и одновременно самое красноречивое свидетельство их обреченности. Твен как бы воздвигает здесь памятник своей мечте, погибающей на взлете. Ее глубоко поэтическим воплощением в книге становится образ Жанны д'Арк. Интерес Твена к французской народной героине возник еще в годы его детства. Уже тогда в его душу запало зерно замысла, который вынашивался на протяжении всей жизни писателя и окончательно созрел к 1896 г. Твен задумал свое новое произведение как серьезную книгу. («Это будет серьезная книга — говорил он, — для меня она значит больше, чем все мои начинания, которые я когда-либо предпринимал»). Судьба французской крестьянки волновала в конце XIX — начале XX в. не одного Марка Твена. К ней обращались и такие художники, как Анатоль Франс и (несколько позже) Бернард Шоу. Сделавшись предметом внимания больших мастеров мирового искусства, трагедия Жанны д'Арк приобрела смысл, далеко выходивший за пределы одной эпохи истории. Их общим программным заданием стало утверждение творческих возможностей народных масс, их способности двигать историю по пути истинного прогресса. Воспитательное воздействие таких романов в период, «когда народ побеждал, хотя в борьбе с врагом гибли его лучшие дочери и сыны, трудно переоценить»[91].
Но вера в созидательные силы народа у этих писателей сочетается с горьким сознанием трагизма его исторической судьбы, столь полно воплотившейся в участи Жанны д'Арк. В ее лице сама история как бы создала обобщенный символ своей многовековой трагедии. В таком направлении и излагается летопись легендарных подвигов Жанны в книгах, ей посвященных. Различия между ними проявляются не столько в истолковании общего смысла изображаемых событий, сколько в характеристике самой Орлеанской девы.
У каждого из мастеров, создающих ее портрет, есть своя Жанна, не похожая ни на один из ее многочисленных двойников. Становясь фокусом, в котором преломляются заветные чаяния глубоко различных художников, образ Жанны д'Арк несет на себе отпечаток их неповторимой творческой индивидуальности. Таким слепком с авторской души является и Жанна д'Арк Твена. Книга о ней не принадлежит к числу его лучших созданий. Но ни в одну из них он не вложил так много своего, не раскрыл так полно то, что таилось в святая святых его внутреннего мира. «Возможно, эта книга не будет пользоваться спросом… — писал Твен в 1895 г. Г. Г. Роджерсу, — это не имеет значения — она писалась из любви к предмету» (12, 629).
Его мечта о гармонически чистом, целостном человеке, самые интимные и личные чувства которого неотделимы от гражданственных устремлений, впервые получает здесь полноту образного воплощения. Если у Бернарда Шоу Жанна д'Арк — образец крестьянского здравомыслия и практицизма, то у Твена она — олицетворение нравственного величия и удивительной душевной красоты. Эта семнадцатилетняя пастушка — подлинное «дитя природы», чистое, непосредственное, искреннее во всех проявлениях своей целостной, неизуродованной натуры. Ее образ неотделим от образа чудесного широколистного дерева, под сенью которого она родилась и выросла. Его невидимые ветви осеняют ее даже тогда, когда она уходит из родной деревни, дабы выполнить свое высокое предназначение. Природная мудрость сердца сочетается в ней с ясностью мысли, не омраченной никакими эгоистическими расчетами и нечистыми помыслами. Спасительницей родины ее делает не вмешательство небесных сил, а глубина патриотического чувства, столь естественная для простого человека, кровно связанного со своим народом и своей землей. «Она была крестьянка. В этом вся разгадка, — пишет Твен. — Она вышла из народа и знала народ» (8, 17). Нерасторжимость связи с тружениками Франции и служит залогом подвигов Жанны. Но в этой же связи — залог и ее обреченности. Безродная и бесправная дочь народа, она нарушила запреты эксплуататорского общества, поднявшись на высоты, где обитают его бездушные правители. В логово зверей пришел человек, и ему уготована здесь неминуемая гибель. Удивительная тонкость душевной организации этой простенькой девушки резко контрастирует с варварскими нравами привилегированных сословий. «Жанна, — пишет Твен в предисловии к книге, — была правдива, когда ложь не сходила у людей с языка, она была честна, когда понятие о честности было утрачено… Она была стойкой там, где стойкость была неизвестна, и дорожила честью, когда честь была позабыта. Она соблюдала достоинство в эпоху низкого раболепства» (8, 10).
Злобная, фанатически нетерпимая каста не прощает Жанне не только ее нравственного превосходства, но и ее плебейского происхождения. Судьба спасительницы Франции, преданной и проданной церковью и монархией, обобщает логику исторического процесса, в ходе которого народы мира — эта творческая созидательная сила жизни — получали лишь одну награду из рук своих хозяев — мученическую смерть. Неизменность логики истории, в основе которой на протяжении веков лежали отношения классового угнетения, подчеркивается и повествовательной формой романа. Она утверждается и посредством прямых высказываний рассказчика, и системой образного развития книги и самими принципами ее композиционного построения. Твен, как и обычно, ведет свое повествование от лица рассказчика. На сей раз эта ответственная роль поручается современнику Жанны. Рядовой представитель французского народа, сьер Луи де Конт, быть может, не всегда способен подняться до уровня Орлеанской девы. Не все в ее действиях понятно ему до конца. Но его вера в нее — неизменна, и именно в ней заключается источник его интуитивной прозорливости, помогающей ему постичь глубокий патриотический смысл подвига Жанны. В его бесхитростном изложении есть оттенок наивного удивления, явственно показывающий, что все великие события, участником которых он стал, представляются ему до некоторой степени необъяснимым «чудом», «чудом своего века и всех последующих веков» (8, 370). Слово «чудо» не сходит у него с языка, приобретая далеко не однозначный смысл. По сути дела, оно несводимо к своему узкорелигиозному, мистическому значению. В устах сьера Луи де Конта это понятие приобретает кроме иррационального особый, вполне рациональный смысловой оттенок. Он смутно чувствует, не всегда умея облечь свою мысль в логическую форму, что героические свершения Жанны есть некое отступление от привычного и узаконенного порядка вещей.
В реальной истории, как и в фантастическом повествовании о Янки, один раз за многие тысячи лет произошло нечто вроде порчи ее налаженного и выверенного механизма, и только потому и мог совершиться «самый благородный подвиг из всех когда-либо совершавшихся на земле». Для Твена и сама Жанна д'Арк, и ее героические свершения есть великое чудо истории. И Твен заставляет скромного летописца деяний Жанны то и дело повторять это утверждение, варьируя его на все лады.
Привычная терминология эпохи в данном случае оказывается предельно точной. Безыскусственная вера средневекового «простака» в возможность чудес на сей раз получает объективные жизненные основания. События, о которых он повествует, действительно выпадают из логики социального развития общества. Изменив самой себе, история как бы начала действовать по законам сказки. Подобный «зигзаг» ее тысячелетнего пути был чистой случайностью, и сама его кратковременность свидетельствует об этом. Допустив его как бы по недосмотру, история стремится взять за него реванш. Костер, на котором сгорает освободительница Франции, преданная государством и церковью, восстанавливает связь времен, возвращая жизнь человечества в узаконенную колею, Автоматизм ее размеренного хода непреодолим, и именно это печальное обобщение, во многом подготовленное гротескно-сатирическим романом «Янки из Коннектикута», в хроникальном труде Твена уже распространяется на реальные факты истории.
Нельзя не видеть, что эта безрадостная концепция находила опору не столько в прошлом, сколько в настоящем и родилась именно на его почве. Источник света, озаряющий изображаемые события, как это часто бывает у Твена, помещен за их пределами, и его мрачные лучи льются издалека, из Америки XX в. Отправной точкой для его экскурсов во вчерашний день служили события жизни империалистической Америки конца XIX — начала XX в. — страны, внешнеполитический курс которой складывался под знаком безудержной колониальной экспансии, а внутренний — под знаком наступления на жизненные права американского народа. Все эти исторические деяния «самой цивилизованной» страны мира окончательно убили веру Твена в благодетельную роль буржуазной цивилизации. Да и мог ли он сохранить свои просветительские иллюзии, когда «Соединенные Линчующие Штаты» «огнем и мечом» насаждали «цивилизацию» на Гавайских островах, в Пуэрто-Рико, на Филиппинах, когда линчевание негров стало повседневным явлением в жизни США, когда под грозный аккомпанемент нараставших рабочих восстаний американская печать громогласно и красноречиво прославляла военные подвиги генерала Фанстона, утопившего в крови население Филиппинских островов?
В мрачной атмосфере американской жизни рубежа веков самый жизнерадостный писатель Америки превратился в сурового и беспощадного сатирика. Настроения мрачного пессимизма, овладевшие Твеном на склоне лет, углублялись трагическими событиями его жизни — смертью жены и дочерей. Его наивная вера в чудеса техники обернулась для него непредвиденной бедой: наборная машина Пейджа, с которой он связывал свои надежды на обогащение, принесла ему разорение. На старости лет писатель попал в кабалу к издателям, чтобы выплатить свои долги, в том числе и те из них, погашение которых диктовалось соображениями не юридического, а нравственного порядка. Жизненный и творческий путь Твена завершался под непрерывными ударами судьбы, под тяжестью растущего сознания иллюзорности всех его надежд и мечтаний. Горечью, болью и негодованием дышат его поздние произведения. Его рассказы, памфлеты, статьи 90-х годов XIX — первого десятилетия XX в. представляют собой как бы единое произведение, подчиненное общему замыслу развенчания буржуазной цивилизации. В широком глобальном развороте эта тема предстала в книге «По экватору» (1897). Написанная в виде серии путевых очерков, она в значительной своей части посвящена трагедии колониальных народов.
«Трехгодичный курс цивилизации, — с горечью констатирует Твен, — только и дал канаку что ожерелье, зонт и явно несовершенное уменье сквернословить… Простое христианское милосердие, простая гуманность подсказывает нам, что мы должны отправить этих людей домой и обрушить на них войну, мор, голод — и все это будет для них менее губительно, чем «цивилизация» (9,62).
Со всей непримиримостью Твен заявляет, что подвиги белых колонизаторов сродни разбою и гангстеризму, и что те, кого они именуют «дикарями», превосходят своих завоевателей не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Сверкающая панорама Цейлона, буйство ярчайших красок, гибкие полуприкрытые человеческие тела, прекрасные коричневые лица, изящные грациозные жесты, движения, позы, свободные, естественные, лишенные какой-либо скованности…» (9,261) — разве эта «гогеновская» картина не является живым упреком цивилизованным варварам, вытаптывающим оазисы земной красоты? А сколько таких очагов здоровой человечности уже вытоптано и изуродовано «железной пятой» нового Молоха! Уничтоженное племя тасманцев, вымирающее население Австралии, обнищавшие каталонцы — таковы плоды цивилизаторской деятельности просвещенных европейцев. Да одних ли европейцев?
В сознании американского писателя эти методы насаждения цивилизации ассоциируются с рабовладельческими традициями его родной страны, и он не делает между ними различий. «Во многих странах, — пишет он, — на дикарей надевают кандалы, морят их голодом до смерти… сжигают дикарей на кострах, на дикаря напускают стаи собак», ради развлечения «гонят их по лесам и болотам… Во многих странах мы отобрали у дикаря землю, превратили его в раба, каждый день стегаем плетью, попираем его человеческое достоинство… принуждаем работать до тех пор, пока он не свалится замертво… заставляем мечтать о смерти как о единственном избавлении…» (9,155).
Писатель большой политической прозорливости, Марк Твен ясно видит, что рабовладельческая эпопея, в которой империалисты Европы и Америки играют одну и ту же позорную роль, принимает все более широкие масштабы. Петля рабства затягивается вокруг новых и новых народов. Со всей силой гнева он обрушивается на главного виновника англо-бурской войны[92] Сесиля Родса. «Когда его вздернут, я непременно куплю себе кусок этой веревки!» — уверяет писатель.
Триумфальное шествие буржуазной цивилизации в его интерпретации является наступлением на жизнь, человечность, природу. Процесс этот широк и универсален. Он распространяется не только на цветных, но и на белых. «Механизм цивилизации — «возвышающий, а не уничтожающий» (9,63) — насильственно отторгает человека от всех источников, питающих живые силы его души, стирая с личности индивидуальные краски, лепит его по своему образцу — тупой мертвой машины. Этот образ и является внутренней художественной доминантой поздних произведений Твена. Не всегда получая в них зримый, пластически осязаемый облик, он тем не менее изнутри определяет их сатирическую поэтику.
По особенностям своей идейно-художественной структуры сатирические произведения Твена представляют собой одновременно и окончательное завершение принципов его юмористики, и их прямую антитезу. Процесс поглощения живого мертвым, едва только намеченный в ранних рассказах писателя, в творчестве 80-90-х годов рассматривается со стороны его конечных итогов, с полным сознанием роковой необратимости. Борьба между живой, энергичной, буйной жизнью и системой мертвенных, искусственных установлений кончилась победой этих последних. Цивилизованная Америка окончательно застыла и омертвела; живое человеческое развитие здесь уступило место закону инерции. Демонстрация этой трагикомической метаморфозы происходит уже в рассказе «Банковый билет в 1 000 000 фунтов стерлингов» (1893), где Твен подвергает сатирическому развенчанию пресловутый миф об успехе. К полунищему герою рассказа действительно приходит успех в классически американском значении этого слова. Он обретает богатство и солидное положение в обществе, женится на девушке, обладающей не только красотой, но и внушительным приданым. Существенно, однако, что все эти дары фортуны попадают в руки счастливца без всяких усилий с его стороны.
Успех героя не является результатом его энергии, предприимчивости и инициативы, не имеет никакого отношения к его добродетелям и талантам. Он приходит к успеху автоматически, двигаясь вдоль некоего «конвейера», в ход которого он включился чисто случайно. Движение по этой механической колее направляется и регулируется людьми, которые и сами уже как бы автоматизировались. При соприкосновении с магической банкнотой, которая служит подлинной лакмусовой бумажкой для измерения духовной жизнеспособности буржуазной Америки, они дергаются как марионетки, которых потянули за невидимые ниточки, и чаще всего впадают в состояние окаменения, которое у них проявляется почти совершенно одинаково. Так, хозяин ресторана, в котором пообедал мнимый миллионер, «застыл на месте, не сводя глаз с билета… и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой». Улыбка портного «застыла, пожелтела и стала похожа на… потоки окаменевшей лавы». «Я даже сохранил свои старые лохмотья, — рассказывает повествователь, — ради удовольствия купить какой-нибудь пустяк и быть обруганным, а потом убить ругателя наповал миллионным билетом» (10, 597, 601, 604–605).
Однотипный характер жизненных реакций у всех, кто встречается с обладателем банкового билета, запрограммирован и предустановлен механизмом денежных отношений. Эта машина уже начала фабриковать одинаковых людей, стирая их живые лица и заменяя их неким стереотипом. Визитной карточкой человека становится денежная ассигнация, и ее владелец освобождается от необходимости предъявлять что бы то ни было, кроме нее, в том числе даже имя и фамилию… Даже эти чисто внешние признаки человеческой индивидуальности становятся необязательными и вполне могут быть заменены длинной цепочкой нулей, входящей в состав грандиозной цифры 1 000 000 фунтов стерлингов, обозначенной на клочке бумаги. Так, в сатирических рассказах Твена уже прослеживается одна из важнейших тем американского искусства XX в. — тема стандартизации и унификации личности, ее приведения к единому цифровому знаменателю. Тема эта входит в литературу в виде целостного художественного комплекса, в составе которого явственно различаются столь характерные мотивы позднейшего искусства, как мотив фикций, масок, личин — многочисленных подделок и суррогатов, подменивших живую жизнь и восторжествовавших над ней.
Заполонив все пространство Америки, фикции прочно воцарились во всех ее углах и закоулках. Они подчинили себе политику, идеологию, мораль, быт и внутренний мир американского обывателя. Порождаемые отношениями имущественного неравенства, маски плодятся и множатся с поистине фантастической быстротой. Образ денежного магната Эндрью Ленгдона из сатирического рассказа «Письмо ангела-хранителя» (1887), «замаскированного негодяя», чье каждое вслух произнесенное слово находится в противоречии с «тайными молениями» его сердца, обладает огромной обобщающей широтой. Это портрет целого мира, где все вещи живут не под своими именами, где ханжество именуется религией, злоба — добротой, скаредность — щедростью, и все это нагромождение лжи в целом — демократией. Развитию жизни, вольному, как течение Миссисипи, поставлена неодолимая преграда. Эта мысль подтверждается не только прямым содержанием сатирических рассказов Твена, но и самой манерой повествования. Буйное цветение художественного слова, столь характерное для юмористических произведений Твена, здесь как бы насильственно прекращено. Изложение событий нередко носит нарочито протокольный характер. «Письмо ангела-хранителя» написано в манере канцелярского отчета, рай, как и вся система мироздания, бюрократизировался, в нем уже не совершается ничего неожиданного и непредусмотренного, происходящие здесь «чудеса» — мизерны и жалки. Они измеряются масштабами личности того же Эндрью.
Становясь ведущей темой сатирических рассказов Твена, тема масок, фикций, подделок варьируется в них на множество ладов[93]. Под этим знаком Твен пересматривает и собственные, ранее созданные произведения. Возвращаясь к своим прежним сюжетам, он вносит в них изменения, продиктованные его новым взглядом на вещи. В таком преображенном виде воскресает, например, сюжетная схема «Принца и нищего», костяк которой четко вырисовывается в сатирической повести «Простофиля Уилсон» (1894). История двух мальчиков, поменявшихся местами, приобретает здесь характерную американскую окраску. Негритянка Роксана, подменившая хозяйского младенца своим собственным, сама того не ведая, продемонстрировала бутафорскую сущность юридических установлений США, основой которых являются расистские предрассудки. Расовые различия — такая же фикция, как различия сословные, и понятие «негр» столь же условно, как европейские титулы, с их выдуманными номенклатурными обозначениями.
Иллюзорный характер расистских измышлений в повести Твена раскрыт с особой наглядностью, ибо здесь они не подтверждаются даже различиями внешнего порядка: оба мальчика — белые, и один из них считается «цветным» только потому, что в его жилах течет одна тридцать четвертая часть негритянской крови. Его мнимая расовая неполноценность — ярлык, прилепленный к нему извне, столь же неорганический элемент его личности, как королевская одежда Эдуарда Тюдора. Сравнение это в данном случае подсказано самим автором повести: подмена здесь совершается посредством «переодевания». Рокси наряжает своего сына в рубашечку господского отпрыска, и это определяет весь характер дальнейшей жизни детей.
Трагизм подобного социального эксперимента заключается отнюдь не в том, что блага жизни распределяются между героями не по праву и достаются не тому, для кого они предназначены обществом. Маска в повести Твена играет роль значительно более зловещую, чем в его исторической сказке. Она обладает огромной цепкостью и непоправимо калечит и уродует сознание человека.
В повести «Простофиля Уилсон» гибельные последствия социального маскарада оказываются неискоренимыми. Организованное Уилсоном торжество справедливости, в результате которого «негр» и «белый» вновь меняются местами, лишь доказывает необратимость их нравственных потерь. Изуродованные противоестественностью своего общественного положения, они и в новых жизненных условиях остаются рабовладельцем и рабом. Одному из них — сыну Роксаны — навсегда суждено быть паразитом и тунеядцем, а другому — юному Дрисколу — забитым и запуганным существом, и никакие механические перестановки не смогут изменить это положение вещей. Янки, герой предшествующего произведения Твена, утверждал, что в мире, где господствуют отношения общественного неравенства, «касты и ранги, человек никогда не бывает вполне человеком, он всегда только часть человека». Все происходящее в «Простофиле Уилсоне» подтверждает это. Ярлык, прочно прилепившийся к единственному умному человеку из обитателей захолустного южного городка, характеризует не столько самого Уилсона, сколько его жизненное окружение, состоящее из людей, пораженных своего рода духовной глухотой. Начисто лишенные чувства юмора (качество, которое для великого юмориста Твена служит своеобразным мерилом внутренней жизнеспособности человека), они оказались неспособными понять невинную остроту Уилсона и заклеймили его прозвищем «пустоголовый».
Механическая, мертвая цивилизация плодит полумертвых людей, в душах которых постепенно глохнут живые струны. Америка поистине превращается в гигантский «некрополь». Мотив этот, впервые прозвучавший еще в «Жизни на Миссисипи», в поздних произведениях Твена разрастается до масштабов иронической симфонии. Предприимчивый полковник Селлерс, вновь возрожденный Твеном в его повести «Американский претендент» (1892), остро ощущает кладбищенскую атмосферу жизни своей страны и на сей раз именно с нею связывает свои надежды на обогащение. Все его головокружительные проекты строятся вокруг одной и той же идеи — гальванизации мертвецов. Завладев его сознанием, она воплощается во множестве вариантов, каждый из которых, по непоколебимому убеждению их автора, должен способствовать не только преуспеянию самого Селлерса, но и страны в целом. В самом деле, разве плохо было бы заменить полисменов, которые уже и сейчас находятся в состоянии полной духовной смерти, настоящими покойниками? «Ведь это несомненно сократит расходы по их содержанию!» «В Нью-Йорке имеется две тысячи полисменов, — деловито разъясняет Селлерс. — Каждый из них получает четыре доллара в день. Я поставлю на их место моих покойников и возьму за это в два раза дешевле» (7, 33). Еще большей широтой и смелостью отличается задуманная им реорганизация конгресса. «Я извлеку из могил опытных государственных деятелей всех веков и народов, — вдохновенно вещает «великий реформатор», — и поставлю нашей стране такой конгресс, который будет хоть что-то смыслить, а этого не случалось со времени провозглашения Декларации независимости и не случится, пока этих живых мертвецов не заменят настоящими» (7, 34). Как явствует из этих рассуждений, некрофильские вдохновения Селлерса опираются на тенденции реального развития американской действительности.
Чем иным является «добродетельный» город Гедлиберг, если не царством мертвых душ? Живая жизнь здесь давно иссякла, уступила место всему поддельному, показному, искусственному. Эксперимент, проведенный таинственным незнакомцем, чьим орудием сделался мешок с золотом, — это испытание не только на честность, но и на духовную жизнеспособность. В его результате проясняется полная внутренняя мертвенность столпов гедлибергской нравственности — этих «символов» правдивости, неподкупности и религиозного благочестия. Их высокие моральные качества столь же поддельны, как медные кругляшки, вокруг которых разгорелись их стяжательские страсти. «Позолоченный век» создал «позолоченных людей». Все сюжетное развитие рассказа строится на ироническом обыгрывании этого мотива. Многоступенчатое построение рассказа, с его словно нарочито искусственными фабульными перипетиями как бы имитирует процесс постепенного сдирания позолоты, под каждым слоем которой оказывается новый. Ложь, составляющая фундамент жизни Гедлиберга — буржуазной Америки, — многослойна, и действия незнакомца строятся на точном учете этой многослойности. Его странный дар обрастает множеством документов. За сопроводительным письмом, вложенным в мешок с золотом, следуют другие послания, комментирующие первоначальные. Каждое из них ведет к очередному открытию, дополняющему характеристику девятнадцати гедлибергских святош: корыстолюбцы оказываются еще и лжецами, завистниками, лжесвидетелями, клеветниками. Инструкции дарителя становятся инструментом для сдирания «позолоты». Снимая один ее пласт, они в то же время подготавливают необходимость перехода к следующему. Этот аналитический процесс в конечном счете приводит к познанию истины: добродетель Гедлиберга фиктивна, и под этой мертвой маской давно уже нет ни одного живого лица со своим особым «необщим выраженьем».
Обитатели Гедлиберга удручающе похожи друг на друга. Билсон неотличим от Вилсона, их совершенно одинаковые мысли укладываются в одни и те же словесные формулы. Вся разница между ними может быть сведена лишь к крохотному словечку «уж», которое то ли было, то ли не было произнесено в каком-то неизвестно когда состоявшемся (а может быть, и несостоявшемся) разговоре с неким неведомым собеседником… Оттенок нереальности и фиктивности присущ всем событиям, происходящим в этом искусственном мирке, в котором как будто бы уже не осталось подлинных вещей, а вместо них существуют лишь подделки и двойники. В рассказе Твена все как бы удваивается, утраивается, учетверяется… Подделки и маски множатся на глазах по принципу цепной реакции. Поддельна добродетель, которой гордится этот чванный город, поддельна неподкупность его граждан, поддельны их нравственные устои и сам эксперимент, который проделывает с ними их тайный враг, зиждется на серии подделок и суррогатов. Суррогатами оказываются многочисленные письма, рассылаемые им гедлибергским столпам, да и сам мешок с золотом, из-за которого разыгрывается вся эта трагикомическая фантасмагория, есть не что иное, как раззолоченная фикция, груда медных блях!
Рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг» (1899) — одно из тех произведений Твена, в котором сфокусировано содержание всего его позднего творчества. Завершая линию развития Твена-сатирика, он в то же время представляет собой художественную интродукцию к циклу его политических памфлетов, большая часть которых была создана в первые годы XX в. Повесть о Гедлиберге с исчерпывающей убедительностью демонстрирует теснейшую связь Твена-сатирика с Твеном-памфлетистом, позволяя в то же время увидеть двусторонний и взаимообусловленный характер этой связи. Если публицистика Твена подводила фактическую базу под его художественное творчество, то его сатирические рассказы в чем-то уже подготавливали метод публицистического сообщения фактов действительности в их прямом, «газетном» выражении. Рожденные на стыке искусства и публицистики памфлеты Твена могут рассматриваться как выжимки из его сатирических рассказов. Доводя до предельной четкости главные мотивы своего сатирического творчества, писатель дает метафорическую формулу цивилизации, поражающую своей меткостью и остротой.
В интерпретации Твена вся система отношений цивилизованного мира оказывается гигантской «оберткой», испещренной такими заманчивыми словами, как «любовь», «свобода», «правосудие» и т. д. «А под оберткой, — пишет Твен, — находится Подлинная Суть, и за нее Покупатель… платит слезами и кровью, землей и свободой» («Человек, ходящий во тьме», 1901). Цивилизация оказывается набором всевозможных подделок. Подделкой является и религия, за которой стоит каннибальская ненависть собственников ко всему, что противоречит их интересам («Военная молитва», 1905), и национальный флаг Америки, чьи полосы и звезды следовало бы заменить черепом и скрещенными костями («Человек, ходящий во тьме»). Поддельно благочестие Рокфеллеров, поддельно даже слово «джентльмен» — личина, под которой скрывается разнузданное хамство. Грубой подделкой под Вашингтона является генерал Фанстон («В защиту генерала Фанстона», 1902), да и вся демократия есть не что иное, как маска страны, действительное имя которой «Соединенные Линчующие Штаты» («Соединенные Линчующие Штаты», 1901).
Беспощадно острый взгляд Марка Твена сумел разглядеть один из парадоксов буржуазной цивилизации, создавшей диковинный сплав самого бесстыдного лицемерия с самой цинически обнаженной, ничем не прикрытой жестокостью.
Жестокость эта оголяется столь же непринужденно, как русский царь, который, сбросив пышные одежды, подобающие его сану, с любопытством созерцает свою малопривлекательную наготу («Монолог царя», 1905). Точный лапидарный язык Твена-памфлетиста (тоже как бы обнаженный) помогает разглядеть подробности этого «стриптиза», совершаемого с предельной откровенностью. В самом деле, что может быть откровеннее, чем «вдохновенные» слова генерала Смита, обращенные к солдатам. «Жгите и убивайте, — призывает он их, — теперь не время брать в плен. Чем больше вы убьете и сожжете, тем лучше. Убивайте всех, кто старше девятилетнего возраста» («В защиту генерала Фанстона»).
Разве не является пределом циничной откровенности спич, произнесенный на банкете «отставным военным в высоком чине», пылко воскликнувшим: «Мы из породы англосаксов, а когда англосакс чего-нибудь хочет, он просто это берет»! Если перевести на простой язык высокопарное изречение этого вояки, поясняет Твен, то его смысл сведется к следующему: «Англичане и американцы — воры, разбойники и пираты, и мы гордимся, что принадлежим к их числу» («Мы англосаксы», 1906).
Цивилизация, создавшая множество масок, испытывает все меньшую потребность в их ношении. Реальность стала призрачной, неправдоподобной, фантастической.
В незаконченном отрывке «Необычайная международная процессия» (1901) победное шествие современной цивилизации изображается в виде зловещего парада привидений. Возглавляемая двадцатым веком, «юным пьяным существом, рожденным на руках сатаны», процессия, в состав которой входят все фикции, созданные цивилизацией, напоминает оживший кошмар: аллегорическая фигура христианства (величественная матрона в пышном платье, запятнанном кровью), идущие с ним рука об руку Кровопролитие и Лицемерие, эмблемы орудий пыток, разбитых сердец и окровавленных тел и вполне реальные образы монархов, президентов, каторжников, воров и пр. в одинаковой мере вписываются в бредовый «ансамбль» буржуазной цивилизации. Пластическая, осязаемая рельефность этой фантастической картины объясняется тем, что она написана рукою большого художника. Политические памфлеты Твена рождены «на стыке» литературы и публицистики, и, как всякие публицистические шедевры, принадлежат искусству. Сухую газетную информацию Твен перерабатывает в образы. Апеллируя к способности внутреннего видения своих читателей, Твен предлагает им представить зрелище массовых линчеваний. Для этого нужно мысленно «поставить… 203 человеческих факелов в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев — мужчин, женщин и детей, юношей и девушек». Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологой, повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти (если бы мы расположили эти костры на плоской местности, разъясняет Твен с привычной для него реалистической обстоятельностью, точностью и вниманием к деталям, то це смогли бы видеть ни начала, ни конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы ее от наших глаз) («Соединенные Линчующие Штаты»). Необычайная ясность, полнота этой картины помогает воспринять ее зловещий смысл, далеко выходящий за пределы ее основной темы — трагедии негритянского народа. Кровавые призраки, рожденные империализмом, завладев настоящим, движутся в грядущее, преграждая путь дальнейшему жизненному развитию. Мысль эта у позднего Твена становится своего рода навязчивой идеей. Под ее влиянием он вносит завершающие штрихи в свою мрачную философию истории. В его работах начала XX в. современность то и дело «опрокидывается» на прошлое и безысходность настоящего становится формулой всего исторического процесса. Буржуазная цивилизация все больше и больше ассоциируется с Вавилоном[94]. Неизбежность ее гибели утверждается с подлинно пророческой силой. Расцвет, гибель и упадок этого нового Вавилона должны были стать сюжетом целого цикла произведений («Эдиповский цикл»), и хотя замысел этот и не претворился в жизнь, черновые фрагменты дают некоторое представление о направлении его предполагаемой разработки. Рупором своих гневных «иеремиад» Твен делает «безумного философа» Реджинальда Селькирка и вкладывает в его уста мрачные инвективы против обреченной, порочной цивилизации, уничтожившей «простоту и радость жизни и заменившей… ее романтику и поэзию… денежной лихорадкой…»[95] Твен не сомневается, что ей уготована участь древних цивилизаций, навсегда исчезнувших с лица земли. Но вместе с тем он полагает, что «попытки» удержать историю от повторения себя самой едва ли имеют смысл. Бессмысленность подобных экспериментов, по мнению писателя, определяется моральным состоянием человечества, деградация которого дошла до такой степени, что его едва ли стоит спасать. Да и по самой природе своей человек едва ли заслуживает спасения… «Мир был создан для человека, а человек был создан для того, чтобы страдать и быть проклятым», — пишет Твен в «Письмах с Земли»[96]. Этот мизантропический вывод, столь неожиданный в устах одного из величайших гуманистов Америки, был подготовлен предшествующей эволюцией писателя.
Еще в 1890 г. он сделал попытку развенчания человеческой природы. В незаконченном трактате «Что есть человек?» он подверг сомнению идею изначальной чистоты человека, непогрешимости нравственных первооснов его природы. Прирожденным инстинктом людей он объявил их эгоистические импульсы. Но на этом этапе он еще верил в облагораживающую силу воспитания. «Воспитание — могущественный фактор, — писал он, — оно заслуживает внимания, труда, усилий». В последних его работах идея врожденного зла приобретает уже гипертрофированные масштабы. «Злоба ставит его (человека. — А. Р.) ниже крыс, личинок, трихин. Он — единственное существо, которое причиняет боль другим ради забавы и знает, что это — боль… Нетерпимость — это все для себя и ничего для других… Такова основа человеческой натуры, и имя ей — эгоизм» (12, 109, 113).
Так, идея «человека-зверя», подсказанная и позитивистскими теориями, и каннибальскими подвигами империалистов, наносит окончательный удар его «американской мечте».
В лице Твена американский Адам, постепенно убеждавшийся, что его Эдем превратился в бесплодную пустыню, тщетно метался в поисках исчезнувших оазисов человечности.
Характерно, что в одном из сатирических рассказов 90-х годов Твена («Дневник Адама», 1893) сам библейский миф об Адаме подвергается ироническому пересмотру. Переосмысляя его в духе позитивистских теорий, Твен создает образ получеловека-полуживотного (с ударением на втором из этих слов). Так, под напором безжалостной иронии рушились просветительские, руссоистские первоосновы национального мифа. В поздних произведениях Твена осуществлялся «подрыв руссоизма под самый корень»[97]. «Американская мечта» лишалась своего исконного просветительского прибежища. «Возвращение к природе вместо того, чтобы воспитать в человеке идиллические, аркадские добродетели, сделало людей еще более животно-грубыми, лишив их атавистические качества всякого оттенка романтики!»[98]. Характерно, что писатель, утративший веру в американский Эдем как в религиозном, так и в философском значении этого символического понятия, пытался сконструировать особый новый «рай» не только для того, чтобы высмеять традиционное филистерское представление о загробном блаженстве, но и с тем, чтобы обрести в нем хотя бы скромное местечко для отовсюду изгоняемой демократической утопии. Обе эти тенденции диковинным образом совместились в его рассказе «Путешествие капитана Стромфилда на небеса» (1907). Над этим произведением Твен работал на протяжении нескольких десятилетий, и оно носит отпечаток его идейных метаний. Сотворенный им «рай» оказался довольно противоречивым мироустройством. На равных правах в нем сосуществовали и принципы восстановленной социальной справедливости, и заботливо соблюдаемый «табель о рангах». Обездоленные, гонимые и непризнанные сыны человечества здесь получают воздаяния за свои земные страдания. В то же время высшие ангельские чины — архангелы и пророки — ведут себя, совсем как зазнавшиеся аристократы, не снисходя до общения с «простым людом». В довершение всего причудливая космогония, еще не утратившая сходства со своим первоматериалом — первозданным хаосом, втиснута в рамки жесткой и несгибаемой бюрократии. Райское блаженство капитана Стромфилда, пожалуй, обретает характер реальности лишь в те счастливые мгновения, когда он отбрасывает в сторону официальное «обмундирование» праведников: крылья, арфу, нимб и пальмовую ветвь.
Единственное, что оказалось здесь по-настоящему приятным, — это возможность избавления от филистерских атрибутов райского блаженства этой маски, сфабрикованной церковью по заказу ханжей и лицемеров. Сколь ни парадоксально, частичная демаскировка происходит здесь и с самим автором рассказа. В ироническом и скептическом «раю» Твена (в отличие от дантовского ада) есть место для надежды. Она живет в самой атмосфере его «прелестной фантазии, полной юмора философской сказки для взрослых»[99]. Твен-сатирик оставался и юмористом, а Твен-мизантроп — гуманистом и демократом. Эту «тайну» выдает не только исполненный комизма рассказ о капитане Стромфилде, но даже самые мрачные и безрадостные произведения писателя. Его пессимизм, позитивизм и мизантропия были парадоксальной формой его гуманизма, за ними стояла неистребимая любовь к человеку. Ведь даже его звероподобный Адам в финале рассказа неожиданно обнаруживает способность к преображению. Обстоятельное повествование о его скотских похождениях заканчивается кратким сообщением о пробудившейся в нем любви к его подруге Еве. И это истинно человеческое чувство, по-видимому, разбудит в животном дремавшего в нем человека.
Эта же неизбывная вера в возможность «пробуждения» людей, парадоксально сочетавшаяся с настроениями неверия и отчаяния, отразилась и в самом трагически безысходном произведении Твена — повести «Таинственный незнакомец» (1898). В этом произведении Твен вновь обратился к теме детства, неоднократно воскресавшей под его пером и на позднем этапе его творчества. «Перетряхивая» свои старые сюжеты, он пытался под новым знаком возродить своих прежних героев Тома и Гека, но его поздние повести о Томе Сойере и Геке Финне («Том Сойер — сыщик», 1896; «Том Сойер за границей», 1897) отнюдь не входят в число творческих удач их автора.
Жизнерадостный, обаятельный юный бунтарь Том Сойер превращается здесь в филистера, готового ретиво защищать нормы буржуазной религии и морали. Но его образ лишен жизненной силы и убедительности. Этих качеств не хватает и другим героям романа — Геку и Джиму. Их образы утратили свою реалистическую глубину, выразительность. В них нет прежней непосредственности, простоты, и отсутствие этих качеств нельзя было компенсировать искусственными приемами, к которым прибегает Твен в обеих своих книгах, создавая вокруг героев экзотический фон и заставляя их переживать удивительные приключения.
Поздний Твен — жестокий сатирик, пером которого водила жгучая ненависть к буржуазной цивилизации, собирался продолжать повествование о Томе и Геке в характерном для него пессимистическом направлении. Рисуя картину мрачного будущего своих героев, в одной из дневниковых записей 1891 г. Твен пишет: «Гек возвращается домой. Бог знает откуда. Ему 60 лет, спятил с ума. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки и проч. Из долгих блужданий приходит Том. Находит Гека. Вспоминают старое время. Жизнь оказалась неудачной. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают» (12, 499). Разумеется, лишь в итоге больших внутренних потрясений, огромных разочарований, невосполнимых утрат писатель мог написать эти скорбные строки.
Повесть о Геке и Томе, состарившихся, разочарованных, измученных жизнью, никогда не была написана, быть может, потому, что Твен не мог проявить такую жестокость по отношению к своим любимым героям, в которых воплотились его лучшие идеалы и стремления. Но элементы этого замысла воплотились в его повести «Таинственный незнакомец». Особняком стоящая среди романов и повестей писателя, она поражает своей мрачной безысходностью, своим трагическим колоритом.
На страницах «Таинственного незнакомца» читатель снова встречает веселых и беззаботных детей, в образах которых под «обратным знаком» как бы воскресли черты Тома Сойера, Джо Гарпера, Бекки Тэчер. Правда, они живут не в Америке XIX в., а в австрийской деревушке XVI столетия, но, несмотря на свои средневековые костюмы, они несомненно сродни американским ребятишкам из Санкт-Петербурга. Им свойственны такая же жизнерадостность, такая же неистощимая изобретательность в играх и шалостях. Но вот в этот радостный мир приходит некий таинственный незнакомец, окруженный атмосферой мистической тайны, он зовет себя сатаной; из его уст дети слышат горькие, страшные слова о бренности и тщете всего земного, об обреченности всех человеческих надежд и стремлений. «Я говорю тебе правду, нет ни бога, ни Вселенной, ни человечества, ни земли, ни неба, ни ада. Это все сон, чудовищный, нелепый сон…» И под действием этих безотрадных речей угасает кипучая жизнерадостность маленького слушателя сатаны, ибо он чувствует, что таинственный незнакомец прав. Прав он и тогда, когда говорит о глубокой порочности людей, считая их недостойными ни любви, ни снисхождения и проявляя милосердие лишь к животным, как к существам, в которых еще есть нечто от первозданной чистоты и гармонии. Союз человека и природы — лишь светлая мечта ребенка, которой нет места в страшном мире, заселенном апокалиптическими видениями. И все-таки эта мрачная доктрина опровергается самим текстом скорбного и трагического произведения. «Таинственный незнакомец», вне всякого сомнения, был «пересмотром санкт-петербургской идиллии, потребность в котором мучила и волновала Твена на протяжении всех 1890-х годов»[100]. Патриархальный провинциальный городок в позднем рассказе Твена преобразился в мрачное царство жестокости и несправедливости. Но сам образ детства по-прежнему противостоит мраку и жестокости мира взрослых. Недаром таинственный незнакомец удостаивает своей дружбой маленького Теодора. Он знает, что, хотя «богу чуждо понятие нравственности» (как пишет Твен в одном из своих, писем), в душе человека живет нравственное чувство и он становится злым лишь в условиях «злого» общества. «Твен, безусловно, подвергает осмеянию не некую изначальную нелепость мира, а то, что в этом мире творится»[101].
В незавершенном произведении, начатом в 1898 г. и опубликованном лишь после смерти писателя, как бы сталкиваются (не сливаясь до конца) две линии его творчества: оптимистическая философия, которая предстает в столь типичном для Твена воплощении — в образах жизнерадостных и веселых детей, и настроения трагического пессимизма, характерные для последних лет жизни писателя.
Но читатель, который знает и любит Твена, хорошо понимает, что эти зловещие призраки и реалистически полнокровные образы его лучших произведений по сути дела возникли из одного источника — из любви Твена к своему народу, из тревоги за его будущее, из ненависти к его угнетателям.