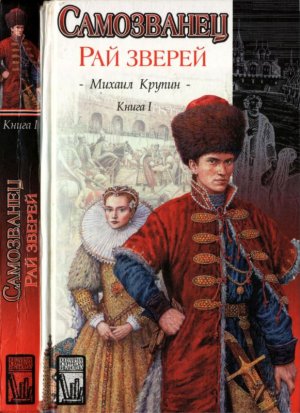
Восстал из своего логовища лютый молодой лев, подлинно враг, не столько человек — наделенное даром слова существо, сколько воплотившийся антихрист, и как темное облако, поднявшись из глубокой тьмы, неожиданно, почти внезапно напал на нас.
«Временник» Ивана Семенова
Часть первая
МОСКОВСКИЕ ЧУЛАНЫ
Колдуны
В часовню влетела стрела. Искры слюды закрутились на гребне волны света, брызнули по полу. Боярин Александр Никитич Романов-Юрьев, любопытствуя, подошел к разбитой оконнице.
— Какой бек так удачно бьет? — мрачно загадывал он и дергал рукоять палаша. — Я ему лоб расколю!
Жмурясь на солнечный плеск сквозь чугунные соты, посыпанные осколками, боярин видел зубчатый кремль Китай-города, а за ним огородную тесную зелень Москвы, всю в бисере главок соборов и колоколен. Ниже сей панорамы, по-над частоколом, окружавшим тот терем Романовых, в коем сидел Александр, двигались наконечники копий, вскипала бурная брань; кто-то, не отвлекаясь, рубил частокол бердышом. Временами боярин примечал даже головы государевых стрельцов, выставляющиеся над воротами, и стрелы, летящие прямо в него. Но Александр Никитич был не робкого десятка, его широкие латы легко отражали любую стрелу; ерихонка[1] с забралом лихо заломлена на затылок: что попадут в лицо, боярин не верил. Стрельцов, матерящихся и желающих перелезать через ворота усадьбы, также крыли, вилами и протазанами сбрасывали вспять со двора служилые люди Романовых.
— Ослушники! — кричали из-за забора раззадоренные стрельцы. — Теперь уж не отворяйте — все одно всех прибьем!
В домашней часовенке, недалеко от Александра Никитича, сидел на бледном половичке под иконами брат Федор. Он уже прочитал молитвы и теперь только каялся.
— Аспид нас дернул, — Федор говорил, — черт дернул на Страстной выворачивать из-под Бориса престол! А все ты, Ляксандр, набежал, всполошил и меня, и Черкаскова: Годунов помирает, Годунов помирает! А он вон прошлый — високосный ведь! — год хворал все, да не помер, так теперь уж ему легота: в могилу и нарочно не соскочит!..
— Глазами сам видел, — оправдывался Александр Никитич, отходя от окна, — на носилках выволокли с Красного крыльца: мол, любуйтесь, россияне, живой! Четыре рынды[2] протащили царя по площади, а царь-то рта не раскрыл, руки не поднял. Вот так, в двух шагах от меня проплыл — цветом, как жаба в тени, а глазищи моргают.
— Дура! — перебил Федор. — То стрельцам он моргал, чтобы наш дом обложили… Ох, рано стали посадских мутить, — повел опять причитания. — Ведь был Бориска — полумертвый, мы опять растормошили. Теперь пощады не жди… А ведь и как было иначе, — останавливал недоуменный взгляд Федор на шелковой пряди лампадки пред образом, — неровен час, Годунов отошел бы, а тут Шуйские стали б чиниться на царство, надобно ж было мазуриков Рюриков обойти!
Оба брата раскаивались теперь в тактических промахах дела, серчали на досадное нарушение замыслов, но крики и хрипы людей, падавших с расколотыми черепами но обе стороны частокола, долетая до их слуха и понимания, не задевали совести боярской: братья с детства усвоили накрепко, что у древнего рода есть два пути: престол или смерть.
Между тем на дворе вышло нечто внезапное: над воротами взмыл молодец в ярком распахнутом терлике[3], со двора хотели пхнуть его вилами, отправив назад, но вдруг опустили оружие, и молодец без препятствия спрыгнул на землю Романовых. Через мгновение он уже спешил, звеня серебряными скобами на каблуках, по темной витой лесенке в образную и, еще не успев отдышаться, предстал братьям.
— Юшка! — воскликнули оба Никитича, а Федор так даже привстал с иола, натолкнувшись на паникадило лбом. — Ты как здесь, волчья юла? Весь дом облеплен стрельцами, а этот проник.
— А мне что? — сиял Юшка сквозь жуть и тревогу каким-то блажным, скоморошьим оскалом. — Сзади к этим воякам подкрался да прыг одному на загривок, а с загривка во двор. Ладно, ваши жильцы не проткнули — дед Ерема насилу признал, прямо в глаз пикой метил.
— Вот сатаненок. — Как ни тяжка была минута, а Романовы хохотнули: с такой уж вздорной беспечностью поднес Юшка свое появление.
Это был малый лет девятнадцати-двадцати, низкорослый, но крепкий. Черты лица сразу поражали своей неправильностью, одновременно славянской округлостью и немецкой черствостью линий. Но по глубинным зеленым глазам, сохраняющим равновесие безумия и лукавства, отваги и страха божия, расторопности и лени, в любой части света отличили бы в нем никчемного московита. На его широкий покатый лоб вились темно-русые пышные пряди, но ни усов, ни бороды, признака мужества россиян, совсем не было — волос не рос на этом странном лице, только под носом цвела бородавка.
Юшка около трех лет служил конюшим у Михайлы Романова, а месяц назад перешел к его шурину князю Черкасскому без кабальной записи, по скрытому уговору господ. Черкасским же он и был сейчас прислан. Юшка без промедления слово в слово поведал Романовым княжьи наказы по движению заговора, а также те имена и те числа, какие нельзя и какие придется называть царю в случае взятия братьев под стражу.
— Худородный опричник не царь мне! — фыркал Александр Никитич. — И под стражу его воровскую не дамся. Вскоре будем пред Богом держать свой ответ! — И боярин прочнее сжимал рукоять палаша.
— Обождите, кормильцы мои, — застрочил от себя уже конюший, чутко поглядывая в разрушенное оконце, — не пыхтите. Может статься, не все дело худо. Кабы уже были у Бориса какие крепкие улики на вас, как же, стали бы стрельцы с вами цацкаться: навощили бы стрелы и терем в мгновение зажгли. А там либо выкурили сидельцев, либо, как во времена Иоанновы, в золе испекли, — неплохая кончина для явных преступников? Только, видимо, ратникам велено взять вас пока без ущерба.
Переглянулись бояре, дивясь раннему разуму Юшки. Александр Никитич, взбодрившись, даже сам начал думать.
— Мчись, светлая голова, — встряхнул он Юшку за плечи, — поспешай вновь к Черкасскому, передай: пусть ведет свою свиту сюда, вместе мы перекрошим проклятых стрельцов.
— Э, голова твоя в мехах, — нахально отразил его конюший, — это же будет доказанное окаянство. Ты же сам под топор ползешь.
Уязвленный в гордыне, Никитич сгреб дерзкого за узорчатый ворот кафтана, но Юшка приостановил неминуемую расправу тем, что выпучил страшно глаза на оконце, ахнул: «Гляди!» Боярин, поверив, всмотрелся и вдруг по-медвежьи взревел. Подскочил тоже к ставням и Федор, и вовремя: частокол как раз скрыл небольшой, подошедший верхами отряд, но, пока тот отряд шел с горы от торговых рядов, братья-бояре успели заметить в кругу ратников своего казначея Бартенева. Еще с вечера он был направлен смущать и склонять в стан Романовых южный посад и еще не являлся.
Внезапно ворота усадьбы опять заходили под градом ударов. Только этот бой был неровня прежнему, во сто крат тяжелее и реже, как будто вздыхало бегущее чудище. Оцепенели в часовне бояре, заметались подворьем жильцы и холопы. От последнего вздоха ворота дубовые, выплюнув скобы и петли, обрушились наземь, и в облаке пыли грянулась об них сверху сосна-таран на цепях. Боярские люди, рассеянные вдоль всего частокола, не смогли отразить вмиг ворвавшийся ярый, секущий железом отряд.
Юшка, вместо того чтобы встать на защиту любимых господ, бросился сломя голову в сени. Но по витой лесенке, ведущей в часовню, уже громыхали стрельцы. Бывший конюший, знавший как свои пять пальцев дом, в полумраке откинул над узенькой дверью овчину и прыгнул в чулан. Перелетев через какие-то сундуки и мешки, Юшка ткнулся в заваленный лесом розг угол и мертво затих.
Стрельцы перед образной не забывали креститься, перекинув оружие в левую руку.
Федор Никитич швырнул перед ними пистолю на стол: под иконами кровь-де лить неповадно.
Тогда к нему сделал шаг знакомый в лицо царский стольник, одетый сегодня попроще, в синий стрелецкий кафтан с золотыми кистями на запонах. Какое-то время стольник не мог говорить, усмиряя скопленную перед частоколом злобу.
— Бояре Романовы, — произнес он наконец мрачно, — великою милостию государя и великого князя Бориса Федоровича повелено так: пока вины ваши не доказаны некою вещью, сраму над вами не учинять. А допрежь дожидать вам и челяди вашей скорого прощения либо пытки. Ну-ка эфтого, — повернулся стольник к стрельцам, и те вытолкнули вперед казначея Бартенева, — повтори свой извет.
Рослый, но слабый Бартенев отвел взгляд от своего напрягшегося барина, но все равно не знал, куда деть глаза, всюду встречался с оливковым зраком святых. Тогда он зажмурился и рассказал такое:
— Мой господин хранит в казне волшебные коренья, паки зело помогают ему извести государя Бориса Федоровича.
— Пес! Пес! — вскричали Романовы. Александр Никитич хотел выхватить саблю, но та оказалась отобрана.
— Отмыкай казну, — указал хладнокровно Бартеневу стольник.
— Ступайте, ищите! — поощрил усмирившийся Федор. — Водяного найдете. (Он сегодняшним утром сам отмыкал ларь с серебром, дарил подопечных, чтобы крепко держались в опале, и теперь был уверен: ларец не таит чудес.)
Но Бартенев, перекрестясь, снял с цепей паникадило о двенадцать свечей и, выйдя из образной, не повел стрельцов в иные крыла дома, где местилось мирское богатство князей, а сунулся сразу в какой-то чулан. Там он поставил светильник на кадь с ароматической смолой и быстро нашарил поблизости малый заржавленный сундучок.
— Вота, их вся тут казна сокровенная, — пояснил Бартенев стрельцам.
— Лжет, поганый! — взревел Федор Никитич. — Братцы, служивые, в этот чулан никогда алтына не западало.
— Смирнее, боярин! — сказали внимательные стрельцы, взяв на случай Романовых под руки.
Бартенев откинул трапецию крышки, стольник двинул паникадило ближе к ларцу, и все увидели в нем — поверх денежной насыпи — тощие неведомые корешки и котовые когти.
Стрельцы охнули и так стиснули мышцы Романовых, что у тех и совсем подкосились некрепкие ноги.
— Все видали? — спрашивал царев стольник, подделывая внезапное негодование. — Приберите, ребята, в Аптечный приказ колдовские грибы и бояр-чародеев, взять туда же, как велено в грамоте, жен, детей да придворную челядь их, коли еще не порублена, первым делом дворецкого Петьку Бестужева, стряпчего Фролку Филипова да конюшего Юшку Отрепьева!
— Юшка-то еще на Троицын день к князю Черкасскому перешел, — подсказал Бартенев.
— Ну так от нас не уйдет — на того пса опального тоже петля мылена.
Братьев Никитичей повели тесной лесенкой вниз. Но тут самый юный и голубоглазый стрелец, видно только пришедший служить из какой-то оброчной деревни, вдруг с запозданием осилил смысл действия.
— Злодеи-искусники! — вскричал он, стремясь дотянуться клинком до Романовых. — Вы хотели достать государство ведовством и кореньем!
Но парня служивые швырнули назад, он опять оказался в чулане и начал в тоске сокрушать все недоброе, залепляя саблю воском и миром. Так с боем дошел он до противной стены и вдруг пошатнулся и замер. У стены поднялась чья-то тень с тонкой розгой в руках.
— Свят, свят, не скочи на шею, — забормотал было ратник, но, опомнившись, взвизгнул: — Братцы, на помощь, меня кикимора ловит!
Стрельцы, подходя, хохотали, кикимора щелкнула страшно зубами, и ратник свалился без чувств. Юшка подхватил его душистый клинок и снова выскочил в сени. Здесь ему показалось, что дом весь кишит стрельцами. Но он помнил, что на переходе лесенки есть маленькое, заволоченное бычьим пузырем окошко, и помчался туда. Проколов пузырь саблей, он рывком вытолкнулся наружу и заскользил вниз по точеному столбику, подпирающему фасад. В душе Юшка благословил того, кто делает такие столбы, с ободками и резными цветами: было теперь за что зацепиться ногой.
— А вот он, конюший-то Отрепьев, — указал со двора на слезающего Бартенев, сегодня он точно выслуживал чин.
В это самое время из боярской конюшни выводили лихих жеребцов, отписанных со всем иным достоянием Романовых в царев обиход. Юшка, спрыгнув на землю, пронзительно засвистал. Золотой аргамак[4] фыркнул, вспрянул ушами и, сбив с ног стрельца-коновода, первым примчался к любимцу. Юшка запрыгнул на сухую атласную спину, впился пальцами в гриву, гикнул, понесся, прикипевшей к руке розгой отмахиваясь от подбегающих с яростной бранью стрельцов. В один мах перелетел аргамак поваленные ворота и ринулся по вольной улице вдаль.
Ратники начали было пускать за ним стрелы, но стольник то дело им воспретил из опаски поранить мещан. Вслед беглецу верхами тоже не поскакали — разве беса догонишь?
— Запалить, что ли, дом-то? — спросили у стольника.
— Не след, — отвечал он, подумав, — вон видите кирку костела, а сбочь ее избу посольства польского? Там и канцлер литовский Сапега. Царь сказал: им не надобно видеть пожар.
Но государев слуга прогадал. Тем же вечером выехал с посольского двора в походном кунтуше[5] гонец с почтой королю Сигизмунду.
«Нам удалось узнать, — означалось в той почте, — что нынешний пресветлый помазанник и великий князь насильно вторгся в царство и отнял его от Никитичей-Романовичей, кровных родственников умершего Феодора, сына Грозного Иоанна. Названные Никитичи-Романовичи усилились, что было и справедливо, и при них стало достаточно людей, но тою ночью пресветлый царь и великий князь на них напал.
Его сиятельство канцлер сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов шли ночью из называемого Кремлем замка с горящими факелами, после мы различали пищалью и лучью пальбу. И так мы стояли на нашем посольском крыльце, смотрели и, может быть, с непривычки к таким в мирных селениях ужасам, даже почти не боялись.
Дом, в коем жили Никитичи-Романовичи, был подожжен с четырех сторон, почти всех пресветлый царь и великий князь убил, но, по другим данным, не меньше и арестовал, сведя с собою.
Зле, бардзо зле начался новый век в землях дикой Московии! Не зря Гораций воскликнул: о рус!
С тем кланяются вашей высочайшей милости, королю польскому и литовскому, тут ежечасно рискующие для славного вельможного сейма и высочайшего рыцарства, послы Заславский, Збарский и Пелгжимовский».
Холода
За Яузой в роще Юшка пустил аргамака на волю. Седок на лихом жеребце без седла и узды был для всех подозрителен. По задворкам, обильно поросшим берсенем и малиной, конюший Романовых выбрался к стенам Чудова монастыря. Здесь давно отдыхал и спасался от мира Юшкин дед, Елизарий Замятня. Когда-то Замятня был крупной фигурой, охранял благочиние Белого города. Сам Годунов поставил его объезжим головою от речки Неглинной до Алексеевской башни.
Теперь же Замятня удалился по старости лет на покой — в монастырь. Но и здесь воскресал в нем порою дух разгульной, овеянной шустрыми стрелами юности. Хоть его келья и смиренное облачение инока ничем не выделялись средь прочих, брат Елизарий, издавна ведший дружбу с архимандритом, поставлен был независимо и высоко. Когда он приметно одуревал от беспрестанных молитв и трудов послушаний, Замятня выстраивал братию в монастырском саду, и начинались боевые учения. Монахи охотно разминались, вырезывали кленовые стрелы и луки, поочередно охаживали шестопером[6] растрепанный кожаный щит. Относящихся к ратному делу с прохладцей или почитающих его искушением дьявола Замятня легко убеждал, развивая живые картины осады татарскими ордами Чудова монастыря. Не от дедушки ли Елизария и перешла к Юшке открытость наитию — ветру выдумки в житейских глухих облаках?
Выслушав влетевшего в келью внука, старик всполошился.
— Эх, паря!
— Что делать, дедка?
— Что делать — заголясь бегать!
— Бежать?
— И бежать тебе, внучек, на Монзу, в гнездо отчее Железный борок. Там друзья, там укроют. Сидеть смирно, покуда здесь бури натешатся. А уж я уловлю ясный миг, государя умолю за тебя.
Юшка согласно кивал, вытирал пот со лба.
— Дедушка, сегодня же и пущусь, упрежу только князя Бориса Черкасского, что Никитичи взяты.
Замятня алтынами сделал глаза.
— Цыц! И не думай соваться. Тебя самого чуть сегодня секирой по шее не упредили. Князь что нам, сват, брат? Авось без тебя его гусельки отыграют.
— Благословенно буде имя Господне, — раздалось густо за дверью.
— Аминь, — выхрипнул отзыв дед, узнав голос игумена. Спрятать внука в келье аскета все одно негде.
Архимандрит, войдя, бросил на Юшку смущенный да пристрастный взор, заговорил с дедом.
— Брат Елизарий, — изрек он, — прости, что тревожу в час духовной беседы с… сим отроком юным. Только знаешь… — игумен замялся, не зная, как и продолжать. — Там, у ворот монастырских… стрельцы, государевы люди, с ними окольничий, стольник Татищев. Вопрошают, не здесь ли твой… Здесь не скрылся ли Юрий Богданов Отрепьев, служка татей Романовых и Черкасских?
— Пафнотий, не выдавай, — взмолился Замятня.
— Татищев-от, аки волк рыкающий, с обыском рвался в обитель, я еле сдержал, уберечь дабы Чудов от сраму и разорения. Сказал: сам, мол, схожу посмотрю и спрошу у Замятии. Мне он верит, стоит там и ждет, — вздыхал тяжко игумен, — как солгать? Не смогу. Полвека не брал такового греха на душу, не взыщи, Елизар.
Замятня чем далее слушал, тем больше мрачнел. Но вдруг истинное вдохновение озарило его напряженно-морщинное, смуглое от старческого, как будто свечного, загара лицо.
— Слушай, игумен, — вскричал он, — стольник спрашивал, нет ли в обители Юрия, служки Романовых?
Пафнотий кивнул, пока не вникая.
— Так его здесь и нет! Лгать тебе не придется!
Монах резво выдвинул из-под киота некрашеный ящичек, выхватил круглые ножницы и бросился к внуку. Не успел Юшка опомниться — две вольные его кудрицы — крест-накрест — слетели на каменный пол.
— Постригается раб Божий Юрий… — заливался старик, — отрекается мира, во зле и страстях погребенного…
— Целуй, — ткнул он Юшке в лицо осиянный пиропами[7] крест с груди архимандрита Пафнотия, — раб Божий, в бозе приявший имя… ну? Какое имя приявший?
— Не хочу, — звенел жалобно Юшка, — пошли все к черту! Я от них и так удеру.
— Монастырь-от обложен стрельцами, — стращал дед, — пожалей хоть меня, старика, а в обличии иноческом и удирать способнее. Всюду укроют, напоят, накормят. Да и царь-то скорее простит: чай, чернец не мирянин, уже не укусит.
Юшка весь потемнел, покорился. Расцеловав крест игумена, едко и злобно, как в смрадном дыму, возгласил:
— Принимаю священное имя Григорий.
Вздрогнула рука с помазующей кистью у игумена Пафнотия. С тех пор как подмел землю Русскую опричной кровавой метлой Григорий Лукьянович Малюта Скуратов-Бельский, монахи остерегались брать это, задетое дьяволом, имя.
Полночной Москвой шел чернец. В этот час в стольном граде было не светлее, чем в поле. Только слабенькие лампадки перед внешними ликами храмов служили неясными вехами путнику. У ограды обширного, мягко пошевеливающего тьму сада чернец остановился. Он чутко прислушался и три раза условно мяукнул… На это внезапно никто не ответил. Монах замяукал призывней и громче, но, едва он умолк, тишина уплотнилась. Только ветви сирени качнулись в саду да две зеленые искры мелькнули у ног чернеца — явилась откуда-то кошка. Тогда он с досадою плюнул и, найдя на ограде знакомый сучок, перелез в сад. Здесь монашек уже не таился, пошел, развязно насвистывая и отбрасывая перед собой шумные ветви. Казалось, он нарочно старается окружить себя звуком беспечности, чтобы не приняли его за вора и не прибили укрытые в зарослях сторожа. Однако так он достиг самой усадьбы, не повстречав никого и все более удивляясь. Еще давешней ночью здесь царило необычное оживление: балагурили, кутаясь в армяки, караульщики, у крыльца барского терема тлел костер и повсюду паслись на цепях волкодавы. Сейчас было тихо. Поравнявшись с приставленным к главному зданию утлым жилищем, инок замедлил шаги.
Он, казалось, обдумывал что-то, оглядываясь и прислушиваясь в тревоге, но вокруг по-прежнему таял и млел в благоухающей темени сад. Вдруг, решившись, монашек скользнул к затворенным ставням.
На этот раз ему повезло: робким стуком в окно чей-то сон был встревожен и прогнан. Зашуршала отодвигаемая заволока, кто-то приник изнутри к ставенному сердечку. На срывающийся, испуганный шепот, поминающий совесть и Бога, монашек поспешно ответил:
— Свой я, свой, Ефросинья… Отрепьев, — и действительно это был он. Тогда ставни резко, без скрипа раскрылись, и монах перебрался в избу.
— Ты откуда, Юрок? — растревожился девичий голос во мраке. — Ой, да что я, дуреха, и свечу не зажгла, все не вижу тебя.
— Стой, не дело, — остановил сенную девку Григорий, он хотел утаить свою рясу (не узнает никто — не сболтнет, ищут-то щеголя Юрия, а не монаха), — кого-нибудь принесет на огонь, — объяснил он решение вслух. — Что у вас сотворилось? Ни собак, ни людей во дворе… Где князь?
— Да неужто, родимый, не знаешь? Понаехали лихоимцы…
— Ой?! Говори ты толком, какие лихоимцы, какого полку?
— Так ведь бес их узнает… Я так думаю, Сторожевого, — понравилась Ефросинья, — а начальный человек над ними Михайла Салтыков.
— Ой ли? Ты откуда проведала?
— Да он сам нам так с Дунькой сказал: «Я, говорит, девки, ваш новый хозяин, Михайло Глебович, сын Салтыков».
— Фрось, ты не вовсе ль рехнулась? Станет царский окольничий служкам сенным представляться?
— Не сбивай, Юшка. Выслушай поряду. Этот главный явился сначала без войска, один. Что ж, ему отворили, не стали стрелять-то, князь в горницу звал. Так ведь он, нечестивец, с коня не сошел, закричал от крыльца: «Борис Камбулатыч! Беда! Оговорили Романовы-Юрьевы твою удалую головушку. Они, мол, перед царем уличенные в воровстве колдовском, и тебя приплели. Только батюшка-царь Годунов им совсем не поверил, говорит: быть не может, чтоб мой Камбулатыч на меня замышлял, а кликнуть его сюды, он один мне всю правду доложит. Вот я, батюшка, и прискакал. И царь, и суд боярский на патриаршем дворе ждут твово слова». Князь-от наш выскочил сам не свой, не то рад, не то злобен, да на конь, да и ускакай совместно с этим посланным.
Только час не прошел — летит тот царев слуга сызнова, голосит: «Беда, детушки! Все холопы Романовых с пытки боярина вашего, князя Бориса, порочат, таки небылицы возводят на горемычного, что царя инда дрожь пробиват! Одно теперь князю спасение, православные, — вам упасть пред царем и очистить от хитрых изветов хозяина». Наши тут взволновалися, распалилися: «Веди, говорят, честный дворянин, на патриарший двор, пусть пытает нас царь, постоим за боярина!» — «Ладно уж, — отвечает тот посланный, — только скиньте покамест с себя все оружие, чтоб не приняли вас за крамольников, да по улице двигайтесь тихо и стройно, и народ не мутить». Эдак всех и увел, а остаться велел только Дуньке, да мне, да ключнице старой Антиповне.
«Прямо былину сложила», — дивился Отрепьев слаженности причитания. Фрося повела жалобнее:
— Вот сидим мы, дрожим, засыпает Антиповна, только смотрим: опять супостат ворочается, только едет уже не спеша, подбоченившись, а за ним, на конях, — полный полк стрельцов, человек с десяток, не менее. Вот въезжают в усадьбу, он стрельцам говорит: «Запирайте, ребята, все двери амбаров на замочки пудовые, а где нету замка, забивайте дубовыми сваями, чтоб никто не присвоил ни зернышка: потому — я хозяин сего благолепия. Царь Борис-де меня за бескровное, тихое взятие злых воров-лиходеев своих сейчас жаловал шапкой боярской и этой боярской избою, со всеми ее причиндалами, со всем серебром-златом, что в ней. А пока пусть стоит заперта, заколочена, покуда слуг добрых сюда наберу вместо прежних разбойников». Об Антиповне же приказал: взять от этой старухи ключи, отпугнуть за ограду, пусть идет помирать к каким знает святым местам. А красных девок, сказал, мол, оставьте в своем теремке. Перееду сюды, их попробую! А вы, говорит, девки, живите, ничего не бойтесь, кто ни начал бы вас доставать, отвечайте охальнику: мы-де девки свово Салтыкова-боярина, для него бережемся.
Высказывая таковые слова, Ефросинья охрипла, обиделась голосом.
— Вот это хлюст, вот это боярин, такому бы и я послужил, — приговаривал во время рассказа чернец, забывая от невольного восхищения, что этот боярин лишил его крова.
— Что же мне теперь делать? — спросила жалобно Ефросинья.
— А я знаю? — удивился Отрепьев. «Разве баба в такой каше может спастись?» — грустно усмехнулся про себя.
— Ты сам-то куды?
— Я-то? Прочь из Москвы.
— А куды?
— Знать больше — на дыбе трещать дольше.
— Юшенька… возьми меня с собой.
— Мне с тобой несподручно. Прощай. — Григорий взялся за ставень.
— Неуж ты меня и не поцелуешь?
Григорий остановился. Желание и страх невозможного грехопадения боролись в нем. Он уже хотел прямодушно признаться, что теперь он не тот, кем был раньше, теперь он невинный монах, но Ефросинья придвинулась. На монаха повеяло таким знакомым и пряным теплом, что он тут же, забыв думать, отыскал своими устами ее уста и, ненасытно всю катая в объятиях, повлек на постель.
Только далеко за полночь инок выбрался из Москвы и поворотил на Владимирскую дорогу. С виду шел он бодро и спешно, но тяжело, непокойно замирала его душа. Каждый миг ждал он грома с небес. Однако же небосвод был просторен и чист, полный месяц беспечным дозором обходил мир, и ничто не предвещало грозы на голову грешника. Тогда, отчаявшись увидеть над собой ужасную молнию, Григорий решил, что Бог расплатится с ним за унижение рясы иначе, не тревожа особо окрестностей: видимо, чернец должен над мельничным ставом либо запрудой осклизнуться и потонуть. Но как ни дрожали колени Григория при переходе таких скользких мест, он миновал их благополучно.
Приблизившись к темному перелеску, монах облегченно вздохнул: все оказывалось проще, его зарежут разбойники. Глухой стеной обступили его со всех сторон вековые деревья, забурчал где-то филин, с наслаждением квакали хором лягушки, но разбойников не было видать. За пятнадцать лет разумного правления Годунов привел-таки Русь в божий вид благоденствия, и даже лихие люди по дремучим дорогам повывелись — выгоднее стало жить смирно.
Напрасно Григорий ждал скорой кары от Господа: на всех не взрастивших в душе ко природе Спасителя иного волшебного чувства, кроме трепета ужаса, казнь одна: Бог измученно отворачивается от них, он не может на них смотреть.
Тем же летом и, как верится нам, вне зависимости от того, был ли Отрепьев хорошим монахом, изрядно ли отправлял монастырские службы игумен Пафнотий и справедливо ли губил неугодных, крадущихся к трону бояр Годунов, так же мало внимая всем иным делам жителей грешной земли, эту землю настигли каленые острые камни[8]. Они предваряли огромную глыбу с павлиньим хвостом. Та глыба еще не была ни объяснена, ни обозвана, так как фряжский[9] астроном Галлей покуда не брался за дело.
Горящие камни, шипя, пробивались на землю, и по небесному нолю затеялась великая смута и возмущение, с ледовитого Севера сдвинулись тяжкие облака. То тепло, что осталось еще на Руси, возносясь, повстречало клубящийся холод. Хлынул ливень. Затянул в нескончаемую серую пелену луга и жита, соборы и курные избенки. То приметно редея, то пускаясь опять, с новой силой, лил в Москве и в Рязани, в Новограде и Пскове, в Чернигове и Смоленске, иных градах и весях кряду десять недель. Думали — новый потоп, вышло хуже. Погнила и озимь, и ярь на нолях. Спохватились в июле. Нагишом, омываясь холодными струями, стали жать уцелевшее, хоть незрелое жито — все хлеб. Не поспели, в Мефодиев день упала на землю последняя капля, отошло все земное тепло к небесам. И настали морозы. Середь лета укутали землю сугробы. Роясь в них, зажигая костры на полях, земледельцы спасали последние мелкие зерна.
Новая весна обрадовала было теплом. Поля, какие успели заполнить всей озимью старых семян, дали дружные всходы. Но в апреле ударил мороз и сорвал цвет с несчастных посадок. Озяблую рожь выцарапывали из-подо льда и, дождавшись тепла, стали сеять, как ярь. Еле-еле вспахали, с плачем тыкая острым рожном в вылезавшие ребра кобылок, как-то выживших этой зимой над пустыми яслями. Но Север лишь притаил дыхание. Летом снова озлились дожди и снега.
Только осень явилась сухая и жаркая. Но крестьяне в каком-то забвенном тумане следили за солнцем: им нечего было ни сеять, ни есть.
Русский кот и принц датский
По обе стороны главной метеной дороги от ворот Белого города до Кремля протянуты цепью стрельцы. Ожидается въезд иноземных гостей. Только что по цареву приказу молодой боярин Михайла Салтыков с оскаленной копьями сотней проскакал им навстречу. Стрельцы из цепи тоже имеют свой хитрый наказ: они осматривают толпы зевак, прихлынувшие из боковых улочек вплоть до охраны — обветшавших, исхудалых отшугивают оружьем и бранью как можно далее. Напротив, тех же немногих, кто сумел сохранить красные щеки и добрый кафтан, подтягивают к самому ратному ряду. Немец должен увидеть: Москва, как и в прежние годы, сильна и богата, звенит и цветет. И хоть срублены мерзлые дерева, лапчатые углы и столбы по усадьбам оседланы тощими страшноглазыми озорниками. В окнах ближних домов всюду женские лица, молодые и старые: женам и дочерям именитых людей не стать отираться в народе.
— Едут! Едут! — принеслось издаля, и стрельцы оцепления покраснели, держа разом двинувшуюся толпу.
Показался блистающий поезд[10]. Впереди шагал белый бахмат[11], выделенный из царской конюшни, весь в долгих кистях и весомых поводьях. Конь нес старшего посла, спокойного и величественного человека. Рядом с ним ехал юноша со смешливым и добрым лицом, обрамленным льняными до плеч волосами, Гартик Ганс, принц датский. По правую руку от принца помещался Михайла Салтыков, хлопотливо вращавший глазами, а позади стройно шли вся посольская свита и почетная сотня стрельцов.
Удивительны и потешны казались москвичам и короткие камзолы гостей, и закрученные блины шляп, овеянные тетеревиными перьями, и низкие скоморошьи сапожки со шпорами. А лица-то, лица! Босые у всех, безбородые! Тьфу, нехристи, сразу видать.
— Что это, Аксель? — спрашивал у старшего посла принц Гартик, впервые посещавший Московию. — Почему у этих людей, что поставлены сразу за воинами, такие одежды? Они весьма искусно, богато расшиты, но так тяжелы и длинны. Смотри, рукава достают до колен, в этом есть тайный смысл?
— Смысл? Не знаю, но в этом есть явный размах, — отвечал умудренный посол, — здесь считается так: чем длиннее рукав, тем щедрее его благородный владелец. Вы удивитесь еще более, принц, когда увидите меховые горлатные шапки знатнейших бояр. Эти шапки, на изготовление коих уходят десятки песцов и лисиц, на три головы увеличивают рост человека, но нисколько не служат утеплению одной головы.
— Аксель, довольно насмешек! Взгляни лучше на эти чудесные храмы! — останавливает посла принц Гартик, перенося внимание с зыбкой толпы на недвижимость. — Как блещут купола на солнце, их возносят широкие светлые стены, никакой вычурной лишней лепни, как у нас. Здешние церкви походят на радостных рыцарей в шлемах…
— Мой принц готовится принять православие? — тонко улыбнулся посол.
— Взгляни, Аксель, — продолжал Гартик, словно не замечая дружественной издевки, — местные жители, возводя несравненные дома Божии, совсем не заботятся об украшении собственных зданий. Кажется, здесь небо спустилось на тесную землю и живет с нею рядом. Жилища из простых, необшитых бревен, малые оконца… Не блажен ли народ, что так верует?
Михайла Салтыков тупел, слушая неуловимую тарабарщину спутников. Но если те вежливо обращались к нему через толмача, он чувствовал себя еще хуже: Михайла помнил государев наказ, на какие вопросы нельзя давать путный ответ, но послы, как назло, подсыпали все именно их. Впрочем, их любопытство касалось буквально всего: и почему на Москве случаются так часто пожары, и правда ли, что был страшный голод, и сколько войска стоит сейчас в городе, и с какими иноземными королями водит дружбу московский монарх.
Михайла, царский посланник, обводит тяжелым, преисполненным достоинства взглядом послов, добрых от трепета любопытства. Не спеша отвечает он на тот вопрос, что приглянулся ему более прочих:
— Пожары случаются Божьим соизволением.
То и дело подлетали гонцы из Кремля с указанием двигаться то быстрее, то медленнее: послы должны были войти во дворец в самый миг, когда государь сядет на трон.
Наконец поезд выбрался на пригорок, отступили тесные домики, и стал виден каменный пояс Кремля. За ним так часто росли луковки храмов, что Кремль казался одним гигантским монастырем. Всех глубже ушла в небеса Ивановская колокольня. Ее золоченая маковка мягко парила над миром.
— Ах, Аксель, — схватился за сердце принц Гартик, — смотрите, сейчас взлетит.
Старший посол тоже ахнул: пока не было его в Москве, по указу Бориса столп колокольни надстроили еще на два яруса. Салтыков знал, что секрет взлетной тяги «Ивана» в тонком соотношении ярусовых высот, но не стал объяснять то гостям: пусть пугаются чуда.
— Это, видимо, тоже зодчий Конь, — очнувшись, предположил старший посол, — царь Борис умеет сыскать таланты. Строительство — страсть этого государя.
— Вы говорите о том ли Коне, что возводит ужасную крепость в Смоленске?
— Да-да, и стена Белого города с двадцатью семью башнями, что сейчас у нас за спиной, тоже его работа.
В ответ на это замечание принц печально вздохнул:
— И кого боится такой могущественный государь, что даже лучших своих мастеров вынуждает лепить оборонные стены?
— Почему же? Борис успевает повсюду, он так же неусыпно печется о благоденствии своих подданных, как и об их безопасности. При этом на лету схватывает все новшества западных королевств. Совсем недавно он соорудил водопровод с мощным насосом, использовав старинное лишнее подземелье. Теперь вода из Москвы-реки поднимается по нему на Конюшенный двор. Заметьте, принц, этот каменный мост с зубцами, на который мы сейчас вступим (тоже недавняя идея Бориса), явился откровением для горожан, так они привыкли увечиться по зыбким деревянным настилам. А близ такого моста сразу с легкостью устроили и плотину, и мельницу, — указал плеткой посол, и поезд загремел по белому камню.
Под мостом действительно стояла невысокая крепкая мельница. Колесо недвижимо сидело в воде, верхняя половина его была суха, налипшая ряска сгорела на солнце — видно было, давно не мололи.
С берега к мельнице припадали плакучие ивы, сквозь зелень сквозящие серебром, далее шли то ли разобранные до подклетей срубы, то ли сенники. Стрельцов на мосту не было, река по бокам не таила опасности для гостей, но за мельницей, там, где кончались зубцы, продолжалась стрелецкая цепь. Среди ив и подклетей, по берегу тоже, хоть и не часто, стояли нарядные ратники, зорко осматривали водную гладь.
Тем не менее кошку сначала никто не заметил. Рыжая, в бурую полосу, вылетела она на бугор, сиганула на иву, а оттуда метнулась на мельницу. За ней следом мчало несколько человек, лохматых и тощих, в оборванных зипунах, они-то, как видно, и вышугнули бедняжку из-под чьего-то крыльца.
Стрельцы вскричали, тряся бердышами, но те, не раздумывая, уже лезли на мельницу вслед за добычей. На мельничной крыше полосчатый зверь весь собрался, примерился и прыгнул на мост. С правого берега, развалив цепь, подбегали стрельцы, и животное метнулось в сторону остановившегося посольства. На зубцах уже висели, подтягиваясь и болтая ногами над мельницей, полубезумные люди. Салтыков подскакал, стал работать и плетью, и саблей — сбрасывать охотников в воду.
Принц же Ганс Гартик, решив, что опять ловит ведьм инквизиция, принял у оруженосца, наставил на кошку копье, перепуганный зверь пробежал по нему, как циркач, и зазвенел когтями на ожерельях принца. Тем временем один оборвыш тоже, проскользнув под кулаком Салтыкова, су-мел-таки скатиться на мост. Он вмиг подскочил к принцу с криком:
— Отдайте, немец, кота, он невкусный!
Ганс Гартик улыбнулся, не понимая. Тогда мужичок вытаращил чумовые, в кровяных нитях, глаза, ухватился за серебряную узду бахмата, на коем сидел принц, и завопил благим матом:
— Ой, какой большенький коник! Мясца-то — и за день не скушать! Возьми кота, немец, коника отдай!
Бахмат, сам обезумев от криков, от кошки, взвился на дыбы, мужичок потащился, вцепившись в поводья, а принц растерялся и съехал в московскую пыль.
Но тут набежали стрельцы. Первый безо всякого зла, а будто выполняя обычную, нерадостную работу, отнял от коня мужика и, как тростинку, смахнул его в реку. Мужичок тот отфыркался, вынырнув, поплыл было по течению вниз, но быстро устал и лег на спину.
На излуке Неглинной оборванца прибило к глухому зеленому берегу. До тех пор вода с таким трудом держала его обезжиренный тесный скелет с костями, что пловец еле выполз на сушу. Сквозь лопухи перед ним мерещилась теперь чья-то разворованная изгородь, выше изгороди колосился синий бурьян, а еще выше в пустом тумане плыли дальние стены Белого города, окаймляющего посад. Мужичок, значит, еще находился в Москве.
Приподнявшись на колкие локти, он огляделся. Невдалеке в отмятой лебеде серовато пролегало что-то неживое, но еще как-то напоминающее бедующую человеческую жизнь. Мужичок, раздув ноздри, приблизился и различил замершего с открытым ртом старика, а может, это был молодой, рано покоробившийся от ожога голода, — теперь это нельзя узнать. Рядом с покойным помещался холщовый мешок, смятый плоскими, не содержащими что-либо складками; только несколько черствых ржаных крох, видимо выложенных на землю для учета стариком перед смертью, так и располагались правильной линией, с обеих сторон которой две мягкие мощные крысы, питаясь, двигались навстречу друг другу. Подползший бродяга сосредоточился и прыгнул на крыс. Впервые после срыва охоты на кошку и лошадь ему повезло, он получил одного грызуна и скрутил набок непримиримую вострую мордочку. Затем мужичок быстро проглотил остаток ржаной черствой пыли и начал сочную крысу, но та, внезапно ожив, закусила сама мужика, с боевым писком вырвалась и унеслась в бурьян. Охотник, впрочем, не очень расстроился, он уже успел почувствовать сытость от хлебных крох, и жилы сырого животного не так уж прельщали его. Подумав, походив вокруг старика, мужичок крякнул, взвалил сухое удобное тело на плечи и пошел с берега — поискать улицу за сорной травой.
Вскоре он признал, кажется, местность. Обошел немые лавки мытного рынка и, ведомый смрадным лакомым запахом, взял направление на корчму.
Всадник, летевший навстречу, поперек седла державший с опаской на взводе ручную пищаль, перед огромной лужей придержал жеребца. То был знакомый бродяге посыльный конник Афонин. Прежде, когда голодающий мужичок еще владел посудной мастерской, Афонин часто по казенной нужде проезжал мастерскую, по пути выпивал из резной ендовы, поданной из окна мастером, молока или меда, по настроению: у посудников, как в кабачке, тогда всего хватало.
— Будь жив, мастер! — заметил конник знакомого. — Снова родственника хоронишь? — указал он пищалью.
— Тесть на охоте усоп, — схитрил мужичок, подкрепленный из сумки покойного и ненадолго забывший алчное свое безумие, при помощи которого сам охотился в этот день.
— По-моему, ты его еще до Воздвиженья похранял, вслед деду, — вспомнил Афонин.
— То тесть был обычный, а это внучатый тесть — троюродного свояка шурин, — изобрел без усилия бывший посудник и без прощания двинулся далее, чтобы не устать, стоя под рассыпавшейся ношей.
— Сходи лучше на Скородом, на ленивый торжок, — окликнул мужичка снова посыльный, — там государевы люди с утра хлебцы казенные делят задаром между желающими. Все ваши туда пошли.
— Да знаю, — на ходу отозвался бродяга, — там убьют сейчас, не протолкнешься. Вся, почитай, страна за столичным питанием приковыляла. Может, к вечеру ближе схожу, посмотрю.
— Смотри. Лень одежу бережет, — ухмыльнулся Афонин и пустил жеребца шагом в лужу.
Взбираясь на черное заветное крыльцо[12], бродяга-посудник уже едва двигался от тяжести груза и дымного питательного дурмана, обволакивающего горячий кабак.
— Ты? — спросила мужичка хорошая мясистая целовальница в пятнистом убрусе[13], заправленном за уши, и отливающем жиром шугае поверх пачканого сарафана.
— Пирожка, милая, сырничка, — взмолился хрипло бродяжка, пожирая торговку глазами.
— Дохляка в этот раз принес, — сурово заметила целовальница, знающе приподнимая, как куричьи крылья, легкие ладони усопшего.
— Ладные больше не погибают, — оправдывался мужичок. — Годунов по базарам кормленья устроил, кто покрепче, до царских харчей пробивается.
— Опускай, — указала торговка, откинув розовой ладной ногой лоскутный половичок, а рукой за чугунное кольцо подняв дубовый ворот тайного погреба.
Кое-как посудник с покойником сошли по лесенке вниз и там шатнулись, чуть не упав. Повсюду скалились трупы, теплились кушанья. Собаки, кошки и воробьи колыхались в одной связке, мыши, как овощи, были уложены насыпью в подсыхающей ботве хвостов. Улыбчивый громила-мясник, подпоясанный корзлым от крови передником, бросал на красную колоду тушки и мелко их нарубал, затем обворачивал тонким блинком теста и отправлял в наспех сбитую печь без трубы, на раскаленный под.
— Не пойдет такой, — сказал стряпник-хозяин, осмотрев в свою очередь свежий товар, — смотрите, даже в костях пустота, — преломил он старика.
— Говорит, больше хороших не будет, — кивнула на бродяжку хозяйка. — Царь начал льготы налаживать.
— У? — Громила задумался, но ненадолго. — А сам он не подойдет?
У мужичка опустели ноги в коленях, но он подумал: не расслышал все же тут что-нибудь, и лишь когда целовальница обняла его сзади, прижавшись пышущей радостью сытости и алчной женственности плотью, а стряпник подошел с топором, бродяга затосковал.
— Подожди, наперво голову отделяй, а то закричит, — разумно поправляла заработавшегося хозяина хозяйка.
Сил, чтобы чуть дольше бояться или громко негодовать, у посудника не было, зато он тихо ощутил смысловую законченность собственной жизни.
«Вот и хорошо, — заключил он, подложив руку под голову, чтоб не кололась мелкими косточками колода, — хорошо, пускай жрут меня, мучаются. А мне пока за эго в небе сливки облаков взобьют».
В Благовещенском соборе в Кремле служили раннюю обедню. Корифей выпевал ектеньи, любознательно глядя на царскую свиту, крестившуюся невпопад. Оба клироса вторили дьякону, украшали высокие тоны высокой, смирённой заранее жалобой.
Борис всегда делал в церкви несколько дел, то есть именно отстаивал двухчасовую обедню, там же принимал безотложные доклады и челобитные, думал и управлял государством.
Сегодня он чувствовал себя наиболее уютно в соборе: с ним вместе молится едва ли не все высшее духовенство. Саккосы и фелони[16] дышат высшим спокойствием, от них ли ждать подвоха: какой монастырь не облагодетельствован? а сколько соборов построено? а впервые дарованное Русской земле патриаршество, уравнявшее Московию с Византией?
Вот он, в длинной мантии рытого бархата, в змейках золота и эсонита, в белом греческом клобуке с жемчужным херувимом над старым челом — патриарх всея Руси Иов, стоит рядом, говорит приглушенно и искренне, следя, чтобы никто, кроме друга-царя, не слыхал. Излишняя предосторожность: и Борис-то внимает с трудом за густыми распевами дьякона.
— Тому четверть века назад, как глад великий приключился, Иоанн-то Васильевич, помню, пальцем не пошевельнул, чтоб народу помочь… На тебя ж дивуюсь, государь! Просто открыл издыхающим пастбища неистощимые, не пощадил казны! По торжкам, площадям твои слуги весят хлеб колобами, высыпают полушки, наделяют всем поровну бедных…
Годунов решил запастись терпением, знал: раз Иов начал с превознесения его державных достоинств, готовит нелицеприятное.
— Кротким царствованием Феодора Иоанновича, — заметил скромно Борис, показывая, что слышит, — богатства верные сочленены. Малою милостью казна не иссякнет.
— Не цареваньем Феодора благочестивого да не гораздо разумного, а едино правлением твоим, — поправил патриарх и продолжал: — Шлешь беспрестанно посыльных во все свои веси — отыскать во скирдах старый хлеб, государеву рожь продают на просухи по полуполтине. Только, — Иов нарочно прервался, воздел над глазами седые клочки, — только ведомо ли тебе, великий государь, ведомо ли, что в скудельницы[17] трупы сыпать не поспевают, на Москве и в пределах ея стало сладкое блюдо псы, кошки, а порой и людей поедают, забывши Христа, человеки?
— Ведомо, владыко, — с учтивой точностью ответил Борис, — сам знаешь, голод такой непривидано. Ты, значит, думаешь, мало люд сирый дарю, мало делаю?
— Нет. Милости твоей, надежа, нет равных в царях во Израиле, да на всяко богатство есть бочка без дна. Милостинные деньги твои люто проворовывают приказные. А рожь и пшеницу, что ты отдаешь за бесценок, скупают премногие торговые люди — купцы да твои же бояре, а там скидают четверть по рубля четыре — серебром! Это сколько же зернышек купит мужик?
Иов умолк, негодуя.
— Ты один друг мой истинный, отче, — приложил руку к сердцу Борис, — один мне всю правду обскажешь, ты словом, как лекарским зелием едким, всегда упреждаешь напасти.
Царь польстил старику, подтвердив свое расположение; для себя же сделал вывод о слабой осведомленности Иова в последних владетельных делах. Уже отовсюду шли стоны и жалобы, накануне у Бориса Федоровича побывали челобитчики из Сольвычегодска, моля о защите от хищных купцов, и Борис обещал им защиту.
— Как же быть нам с сим лихом, владыко? — чутко спросил Годунов, выражая смирение. Но Иов сурово и важно молчал, видимо, считал свое слово сказанным.
— Ваня, подь сюды! — Борис Федорович повел рукавом порфиры. Дьяк Иван Тимофеев предстал, поправил заморские стекла на переносье. — До вечерни указ сотки. Я, великий князь и государь всей Руси, Астраханского царства, Казанского… не забыл всех царств, сам дорисуешь?.. дабы Русской земле облегчение и веселие показать и избыть всех скупающих хлеб, богатеющих в бедстве народном кромешников, велю по площадям, и ленивым торжкам, и базарам выпускать в одне руки не более трех четвертей. Тако же повелеваю всем купцам взять одну цену на рожь, и не более быть той цене, чем две цены царского жита. А ежели продаст кто не по указу сему — посадскому миру прибытки того отбирать и пускать в государеву розницу. А того самого живоглота кромешника, будь хоть знатный купец, хоть боярин…
Иов затаил дыхание, глянул тревожливо на Бориса: мол, шутки с такими друзьями, по-своему с каждым, опасны.
Борис приостановился, сделал страшные глаза патриарху:
— Хоть купец, хоть боярин… наказывать на пять рублев.
Патриарх облегченно вздохнул.
— Видит Бог, Борис Федорович, в мудрости и мягкосердии нет тебе равных.
— Погоди-ка, владыко, ведь это не всё. Пока приказал мало.
Иов глянул опять на царя и почуял сердечную дрожь. Настал его черед опасаться подвоха. Вспоминать стал — вспомнил, какой человек перед ним.
Темная, с серебряной прониткой борода, отпущенная государем только в последние годы, округляла лицо и делала его мягким. Но крупные скулы, углами, глаза раскосые, узкие и успокоенные до презрения, говорили о древних татарских корнях родословной царя.
Борис не был рожден государем, он стал им. Хладнокровно взирал на безумные вспышки Иоаннова гнева. Не вписанный в опричнину, неосторожно не пятнал имени своего Грозному в угоду кровью несчастливых, но и сам был обойден несчастьем: ни казнен, ни опален, ни на день не утратил доверия царского и незадолго до смерти тирана сумел даже (Бог один знает как!) подарить ему мысль, что нора поумерить опричный разгул.
Однако, как бы высоко ни ставил Иоанн IV государственный ум Годунова, опекунами слабого сына Феодора и правителями земли он завещал стать иным. Умирающий царь понимал, что Борис не допустит расторжения брака Феодора со своей бездетной сестрой и на том оборвется династия. Но только завещанные, беспрестанно враждующие между собою князья, опекуны нового государя[18], сами не сумели избегнуть неприметной опеки Бориса. Вскоре одни из них оказались в северных монастырях, другие — в светской ссылке, третьи — на строительстве отдаленных крепостей, Борис же по смерти Феодора занял престол.
Все, все свои удивления вспомнил мгновенно Иов, глянув в тускло, темно проблеснувшие очи человека, столь вознесшего его.
— Мало, — повторил со значением Борис. Легчайшим шевелением перстов, без касания взглядом, развернул Тимофеева — дьяк отправился прочь, послушный и нелюбимый… — Не остановим ничем страшный глад, пока крестьянин наш в крепости. Посадских еще прокормлю, а крестьян? Раньше хоть на Юрьевой неделе мог мужик с гиблого места на доброе перейти, а ныне? Благослови, владыко, хочу Юрьев день воскресить. — У царя, как от ветра, раздулись широкие ноздри. — Не могу видеть, как народ мрет. Пусть идет, куда знает. Пусть уходит из этой страны.
Вместо того чтобы благословить Годунова, владыко перекрестился сам, он подумал, что царь помешался.
Корифей замолчал, хор повел смирный ексапостиларий, и Годунов возвысил голос, обращаясь ко всем отцам церкви.
— Вы усердно молились, учители православия, вы просили у Бога облегчения доли земли, послабления холода долгого, утоления глада великого. А теперь я спрошу: вы согласны ли сами ослабить узду? Отпустить на иные, богатые нивы скрепленных с владением вашим крестьян?
Священники обмерли, потом по крещатому полю саккосов и риз пробежал шепоток.
Подошел протопоп Еуфимий, самый немощный, нарочито соня, опустился перед царем на колени.
— Надежа православный, смилостивься, не лишай лавры и вотчины наши последнего утешения.
— Ах так? — усмехнулся Борис, сдержав негодование. — Ну, а кто ж вас утешит, таких горемычных, когда мужики перемрут?
— Ничего не умрут, мы прокормим, — выступил игумен Чудова монастыря, говорил как сквозь ужас. — Монастырских запасов покамест хватает. Мы ведь чувствуем, сколько крестьянину следует помощи выдать, чтобы он в изобилии сытости до весны смог дотянуть.
— Ах, как складно! — воскликнул Борис. — Но зачем же, коль крестьянам у вас хорошо, им не дать вольный выход раз в год? Коль у вас так вольготно, все пахари с вами останутся, да еще и с иных-то земель прибегут?
— А вот это бы неплохо, — быстро сказал Еуфимий, еще не вставая с колен. — Только боязно, — все же вздохнул он, подумав, — мужик-то глупец, не укажешь ворот, стену лбом расшибет.
— Ладно-ладно уж, лекари сердца моего, — смягчился Борис, поднимая с колен протопопа, — сохраняйте все крепости ваши по-старому.
Он призвал на молитву обедни всю церковь, чтобы только точнее понять место высших в задуманном деле. Глядя на горе священников, Борис выяснил: к знати мирской подступать даже нечего с этим — сожрут.
А вот боярских детей[19], не имеющих крупных хозяйств, наказать все же можно: не сумел поддержать в лихолетье крестьянина — выпускай. Эти «вьюноши» помещены все на землях окраин да пустошей, их проклятия царю не страшны.
Иереи в смиренном благодареньи сложили руки, склонили перед Годуновым головы, а вставший на ноги Еуфимий даже воодушевился для нового слова.
— А сказать ли тебе, батюшка государь, за какие такие грехи-окаянства нас гнев Божий постиг или как его впредь можно точней отвесть?
Годунов терпел за неробкий нрав Еуфимия, не стал обрывать его.
— Раньше всякие бритые немцы, — убежденно повел протопоп, — по Москве опасались ходить! Поганка их Кокуй-слобода никакого почета не знала! А нынче? Глянешь, едет возок. Что, боярский? Не то. Патриарший? Да и на то не похоже. Вот царю такой впору. Только кланяться — но и не царский. А чей? Тьфу, какой-нибудь твой англичанин, Жером аль немчин пахучий! Где же это привидано? Кирху себе возвели в слободе! Государь, оглянись, иноверцы с твово изволения ставят мольбища здесь! На земле православного Рима!
— Да пойми же, постой, оглашенный, — попытался Борис укротить старика, — иноземцы полезны. С ними бойко любая торговля идет. А в делах просвещения науками мудрыми нет их способней.
— Государь мой, дозволь, — не сдавался старик, — добродетели твои неисчисленны, — ни вина рекою ты, ни крови не льешь, как, за упокой был бы помянут, приснопамятный всем Иоанн, — ты воздержан, незлобив и мудр. Это значит: на Русь кару Господа, моровую беду мог навлечь твой один неизбывный порок — привечание иноземельных. Ну, торг торгом, а вот просвещение какое ж от немцев идет? А, штуюденты, знаю. На службу из Англии выписаны. А штуюденты те знамо что. Девок лапать, да водку жрать по кабакам, да транжирить казну на базарах — на это г-о-о-разды.
Борис оглядел духовенство, все стояли, потупившись, но с истовой крепостью в лицах. Казалось, протопоп говорит по общему немому соглашению. Так и было.
— Подождите, святые отцы, — проникновенно молвил Борис, — вот кончится голод, умножится снова казна, — позову величайших, ученейших к нам. А пока потерпите студентов.
— Покряхтим — уж вот только не надо ученейших, — ревниво заметил игумен Пафнотий.
— Земля Русская велика и обширна, — вздохнул Еуфимий, — и ныне едина в вере, в обычаях, в речи; а ну примутся, вырастут новые языки, не поймет отец сына, боярин холопа, народ государя, учнутся раздоры, терзания. Рознь сия в языке — и в Писании сказано — наказанье Господне, смешение суть вавилонское. Ты отправил в учение за море думных дьяков детей, ведь честнейших, Давыдова, Костомаровых. Как робятки там живы, а приедут домой, так узнают ли землю свою?
— Королева английская пишет: все живы, — смиренно заметил Борис, — в городах именитых Оксфорде и Кембридже поражают наставников здравым рассудком и ленью. Да последнее, пишет, не поздно лозою поправить.
Вокруг посветлело от невольных улыбок. Борис понял: время легко, как бы в шалость, поддеть и подрезать духовных.
— А что, отец Еуфимий, — спросил он, — не желаешь ли тоже за море проездиться? Не завидки ли берут? Только нет, не пущу. Там ведь мигом тебя езуиты к себе переманят. Им-то точно такие свирепцы нужны. Ты ведь, чуть что не так, чуть кто говорит на ином языке, не по-твоему, так под ним уж костер раздувашь? Ты иди в инквизицию прямо.
Как ни крепились седатые, развеселились — явного хохоту не было (храм!), — но все же колыхнулись крещатые саккосы, блеснули переливчато камеи и панагии, противостояние самодержца и священства исчезло, растаяло, как туман.
Еуфимий сердито крутнул головой в клобуке, отошел к стороне. Салтыков, крестясь от портала, подкрался к царю.
— Государь, послы датские, особливо принц Гартик, покуда из Коломенского шли, пропылились, порвались чуток… Просят-молят прием отложить.
— За семь верст оборвались? — Годунов пронизал страх посыльного взглядом: глубоко ли темнит? — Куда ж ты смотрел? Может, и рук аль ног недостача?
Новоиспеченный боярин затрепетал, заалел, думая, как доказать прямоту:
— Только платье у принца уделано, с ожерелия жемчуг рассыпан…
— Ладно-ка, — перебил Годунов, — передай, желаю видеть людей, а не платья. Проводи во дворец.
Затихало великое славословие. К Борису Федоровичу обратился архимандрит Пафнотий, игумен Чудовского монастыря. Он просил за какого-то Отрепьева. Годунов припомнил чудовского монаха Замятию, что был некогда ему добрым слугой, и то, что внук его, точно, служил Романовичам и Черкасским, был в почете у этих строптивцев, возможно, замешан в крамоле. Недаром его, одного изо всей ближней челяди ссыльных бояр, так и не сумели сыскать. Тому минуло два года, но просьба о милости к беглому показалась Борису Федоровичу дерзостью.
Впрочем, когда заступник поведал, как Юшка Отрепьев, узнав об открытых злодействах господ, дико струсил и тогда же, два года назад, принял иноческий сан, Годунов улыбнулся. «Ловкий человек, — подумал он о юном Отрепьеве, — знает, чем царскую милость сыскать. Он, конечно, к Романовым в службу пошел, ожидая как раз, что братишки достигнут престола, только разве то важно? Раз умен, так теперь понимает, у кого сила. А прощу, к Годунову-царю возрадеет и в сердце своем».
Звонари на всех колокольнях кремлевских, едва завидели выходящего из собора царя, двинули языками большими и малыми.
Окольничие с двух сторон поддерживали великого государя под белые руки, словно боялись: под тяжестью барм золотых не дойдет до палат; за ними шли белые рынды, священнослужители, дьяки, бояре…
Над хоромами, храмами и избяными приказами плыл, плескался малиновый звон, словно Бог бросал с неба огромные точные капли — не плотным дождем, а в неявном порядке, не исчезающем в плеске строю.
Похвала чудотворцам московским
Пищальник Афонин подъехал к Суздалю с северо-запада. На пути его встал, Спасо-Евфимиев монастырь, строенный при ордынцах еще. Розоватые стены монастыря с могучими восьмигранными башнями, облегая левый, отвесный берег речки Каменки, господствовали над окраиной.
Миновав арку надвратной Благовещенской церкви, пищальник свернул на Успенскую трапезную. На паперти жалось несколько выцветших и потемневших стариков и старух, нищего вида. Один, подойдя к ближней липе, снимал с ветви кору и обсасывал мякоть. Другой как раз любил кору, он брал ее в полу сермяги и относил к паперти, где делился с лежавшей на плитах старухой, скупой на движения. Из трапезной вышел молоденький статный монашек с небольшим караваем в руках и начал делить между нищими хлеб. Он, как птицам, отламывал каждому мелкую крошку, и Афонин решил, что он делает это в насмешку, со зла. Но здесь все было рассчитано, пищальник вскоре увидел, как один старичок, изловчившись и выхватив кус из буханки, мгновенно забился в суровейших корчах.
Рядом с действом кормления другие монахи кололи дрова. Афонин спросил у них о происхождении нищих, оказалось, что это не нищие вовсе, а новые, пришлые крепостные, выжитые бескормицей из дальних угодий обители и принесшие в монастырь вместо оброка свои затихающие тела и разгневанные желудки. Монахи по ходу беседы полюбопытствовали у пищальника: что ему? Афонин назвался государевым человеком, ему нужен Григорий Отрепьев. «Таких у нас вроде нет», — отвечали монахи. «А не этот?» — прикинул один, указав на питавшего нищих.
— Что ж вы, Божии люди, не знаете, как брата зовут? — удивился Афонин. — Эй, дружище, — кликнул он сам чернеца, — как по имени-прозвищу ты? Не Богданов Отрепьев, ты-ты, с бородавкой, оглох али как?
Но монах явно слышал, от неожиданности он даже сам себе положил в рот хлебную крошку и начал жевать.
— Не зови, служивый, — запретил Афонину чернец-дровосек. — Он где-то обет молчания дал, слышать слышит, а вот говорящим пока мы его не видали, а кто он таков, про то отцу игумену лишь ведомо.
У игумена потчевался сейчас воевода Измайлов, пищальник решил обождать, спешился, приткнул оружье к поленнице и поведал обступившим его, как московского гостя, монахам основную причину собственного путешествия. Афонин вез в Юрьев-Польский и Суздаль великую весть, повеление государя о снятии крепости с холопов и хлебопашцев возрождением Юрьева дня, отмене ловли, битья — с возвращением хозяину — беглых, что ушли от неволи в голодные годы. Афонин рассказывал громко и ясно, голодающие крестьяне, широко открыв рты, потянулись к нему, даже старуха, лежавшая стыло на паперти, затревожилась, села и мерцала уже молодыми глазами на ратника. Впрочем, когда Афонин прибавил, что холопы боярские, больших дворян, епископские и монастырские сюда не касательны, взор старухи обратно просох и померк. Обняв костяными пальцами голову, покачнулась она на плите.
— Да вот еще в монастыре то ли в вашем, то ль в Предтеченском в Галиче, — добавил пищальник, — наказали Отрепьева этого мне раздобыть. Был в делах воровских, а сейчас его дед указал, где искать, потому как теперь государь его милует, отпускает все старые вины и велит ему быть на Москве.
Грянул выстрел, метнулись грачи с монастырских берез, монашек, хлебный раздатчик, стоял с дымящеюся пищалью в руках, смеялся от радости.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — выговорил он с непривычки охрипло и шатко и кинул старухе оставшийся хлеб.
— Спасибо, пищаля, — обратился он к оторопевшему ратнику, — завтра едем к царю.
Чернецы закрестились, впервые вняв голосу брата, столь вольно и просто сложившего тяжкий обет. Афонин, смекнув, что уже отыскалась пропажа, тоже обрадовался и, отбирая у парня оружие, спросил его ласково:
— Что ж назавтра? Езжай хоть седни.
— За Каменкой, в пойме, видал ты другой монастырь?
— Ты про женский, Покровский?
— Ну да, — Отрепьев сильно почесал за ухом, — надо мне-то сходить, чай, туда попрощаться.
«Из какой же он секты?» — подумал Афонин. Монахи в молчании принялись за дрова.
Назавтра чернец и пищальник оставили Суздаль. Вскоре следом за ними по Владимирской окрепшей колее покатились возы. Их тянули жиловатые лошаденки: бабы, сидя на скарбе, прижимали к себе тощих козочек; дети плакали от слабости и обиды на голод; мужики, засыпая, роняли поводья. Неживая окрестность тускло отсвечивала на солнце, листва на деревьях и травы, побитые летним морозом, не могли ни желтеть, ни алеть в честь осеннего праздника.
Это был Юрьев день, разрешенный крестьянам побег с земель слабых поместий. От Владимира часть их свернула на Судогду, часть — на Москву и Коломну. От Коломны лишь самые крепкие двинулись дальше, на богатые земли южных «украин». Иные везли сбережения озимых семян. Но северный ветер уже настигал, обтекал, обгонял их.
И увидели белый, искрящийся Днепр, перевитый лазурными лентами санного следа.
Григорию было указано жить в келье деда Замятни. После скудости пищи удельного монастыря, бережливого крайне в голодные годы, стол кремлевской обители показался Григорию сказкой. Даже в постные дни чернецы здесь вкушали линей, стурионов и саженных белорыбиц, ловленных в водах студеных морей. Не было недостачи ни яблок крепких, ни вишен, ни сочных малин, хотя летом казалось: вся ягода сгибла во льдах.
Но прощенный чернец очень скоро отъелся, окутался розовым свинским спокойствием и даже перестал понимать, в чем же тут для него царская милость, если тафья[20] и ряса все едино навек. На удивление быстро заучивал Григорий молитвы, псалмы и писание, легко переписывал книги со всеми вьюнами узоров, не путая вычурных букв, но чувствовал: вместо смиренного света зрело в душе что-то недоброе. Тому немало способствовал сам дух монастыря, дух тайной крамолы и недовольства. Григорий выяснил скоро: немало монахов из чудовской братии надело клобук поневоле, как он, с бердышом под гортанью прижатые к краю житейского поприща. Царский двор содержал их под боком то ли в знак прощения и особой милости к опальным, то ли остерегаясь выметать сор из Кремля, словно сор тот, развеявшись по великой пустынной стране, мог взойти чертополохом вотчинных бунтов.
Не доброю волей простившись со светом, иные и в монастыре дело спасения души откладывали на потом, а пока разгоняли тоску, как могли. Иные озорничали. Могучий, седатый чернец Варлаам заходил в церковь пьяный и читал все молитвы навыворот. Собирались в келье Мисаила Повадьина и слушали про Литву. Мисаил долго жил там с заволжскими старцами, ему было что порассказать об арианах и протестантах. Начинал он обычно с хулы на родное:
— Монахи и инокини постригаются не для того, чтоб спасаться, — дрожал под темными сводами истовый голос, — но чтобы доставлять себе приятныя удовольствия и шляться из города в город! Живут, расточаючи средства на ровнях с мирянами! Архимандриты и игумены избегают братских трапез, а предаются пиршествам в своих покоях — разве что с высокими гостями! (Нет, девочки-то проникают туда беспрепятственно!) «Отшельники» ездят по всем городам и не стыдятся иметь при себе мальчиков! А спорят такие поганцы охрипло, нешуточно: «Ходить ли во время богослужения против солнца или посолон? Креститься двумя или тремя перстами?» И все пышнее обряды и церемонии. Они подменили дух истовый, Божий повсюдно.
— А вы, — запальчиво перебивал Варлаам, обращаясь в лице Повадьина ко всем сторонникам воздержания, — а вы изгнали с вашего стола питательные блюда. Опоясываете чресла натуго поясом, изнуряющим члены. Пошто вы иссушили мозги, умертвили желудки?
Но когда Мисаил начинал про ученых литвин и астрономов Польши, все испуганно примолкали. Предсказания лунных затмений католиками казались безграмотным инокам колдовством. Московия, преемница тонущей Византии, отгородившаяся от сметливого Запада упрямством военной державы, в науках шла не далее, чем «Отче наш». И царь Борис был не в силах мгновенно рассеять кромешную темень в умах иереев, единственных, впрочем, блюстителей просвещения Руси, — на протяжении слишком долгих эпох даже имевшиеся по монастырям книги по арифметике, географии, музыке выгрызались подвальными крысами, как неблагочестивые.
Старец Замятня не хаживал в кельи крамольников, но внуку не воспрещал. Понимал: кротость в тесной каморке — мученье для юности. Наказывал только: наблюдай-веселись, да уж сам там ни в какие прения не суйся.
Опасался Замятия недаром: излюбленным делом иных был поклей на царя. В том особо усердствовал Варлаам Яцкий, бородатый, бесстрашный.
— То царили над русскими Рюриковичи, род великих князей Калиты, изначально поставленный Богом. А сей кто? Не то татарин, не то малый помещик, всех князей, и Мстиславских, и Шуйских, оттер, сел на трон, немец бритый.
— Нет, его всем народом на Земском соборе избрали, — возражал кто-нибудь, — как ведь выли, просили на царство.
— Уж не ври, народ в ноле был. Выбирал патриарх, его кум, он-то с толку и сбил весь собор и посадский народ… А хоть бы и народ, — осерчал Варлаам, уловив несуразицу в собственных мыслях. — Что с того-то? Народ не Господь, очень просто ему промахнуться!
— Да ведь что ж было делать? — задумывался иной. — Борис уж себя показал как правитель, а наследников царских кровей не осталось по смерти Феодора.
— Правильно, — выкатывал глаза Варлаам, — последнего царевича Боря и уходил, ребятенка Димитрия, в Угличе.
— Брось ты басни, — усмехнулся однажды Повадьин, — слышал звон. Годунов хитрец, точно, но не злодей. А можно с шубьем нашим простым быть? Ам — и съели. Сочиняют теперь про него без стыда. Но Борис никогда лютым не был. Глянь, из ссылки уже и Черкасские ворочаются.
— Нет, поверить Годунову я не могу, — стоял на своем Варлаам, — нет, не наш он какой-то, не русский. Не пьет, не гуляет, кабаки закрывает. По-моему, он душегуб.
— А действительно, что-то не верится, — лез внимательно слушавший Юшка. — Неужели царевич смог сам заколоться?
— Сам вот, — не сомневался Повадьин, — ты, Варлаам, Шуйскими восхищался. Так ведь розыск-то в Угличе Шуйский Василий и вел. Уж одно, что Борис своему супротивнику дело тогда поручил, означает: что вскроют злодейство его, не боялся. Сказывал мне бывший там при Василии подьячий Фомин, двадцать свидетелей тут же нашли, причем разного чину, и стряпчие были средь них, и стрельцы, и мальчишки. Да после свидетельства их для суда прописали подьячие в семь почерков. При таком добром розыске где ж просочиться обману? Показали все дружно: «Забавлялся малой во дворе в тычку ножичком, и пришла к нему немочь падучая, и в ту пору как било его, покололся ножом и помре».
Варлаам недоверчиво хмыкнул, монахи вздыхали в сомнении.
— Да вы что? — удивлялся Повадьин. — Никогда припадочных не видали? Человек человеком, а как эта немочь найдет, вцепляется в первое, что под рукой, в плуг, в копье ли… Бьется, как стяг на ветру. Помню, так раздурился один в лодке на середине Днепра, я едва успел за ноги взять, потопил бы, ей-ей потопил.
Но чернецы качали головами, может, им, в отличие от Мисаила, действительно не доводилось наблюдать падучей, ставшей в те времена обычным делом среди высочайших династий, признаком их вырождения при погружении в жаркое пьянство и супружество в родственном тесном кругу.
— А вот я слышал, — мечтательно сказал какой-то инок, — что царевич был вовремя упрежден и вместо него предъявили злодеям простого похожего мальчика. И доныне Димитрий скрывается где-то от негодованья Борисова.
— Любопытно, сколько годков-то ему уж топерь? — подхватил другой монах.
Повадьин посмотрел на них дико и, махнув рукой, вышел из кельи.
— А вот с Гришку он был бы примерно, — прикинул Варлаам.
— Так, может, ты царевич и есть? — кто-то весело хлопнул Григория по плечу.
— Я и есть.
— Так поди царствуй, на вот державу и скипетр тебе. — Яцкий сгреб с подоконника, кинул Отрепьеву яблоко и с кочерыгой капустный вилок. Вилок Григорий отбил, а «медовку» поймал, закусил, сплюнул горечь, червивое место.
— Ладно, сходим, успеется.
Посетив на Николу Зимнего подопечный монастырь, патриарх заслушался певшейся там похвалой чудотворцам московским. Слог славословия был витиеват и скор, Иов почти ничего не понял, но рифмы составлены так благозвучно и слитно, что у владыки посыпались слезы. Иов был удивлен, он привык, что игумен Пафнотий порой сам сочиняет псалмы, но те получались много проще, аляповатей. Здесь чувствовалась иная рука.
Пафнотий не стал запираться (полвека не лгал) и опять выдал Юшку. Патриарх удивился пуще. Он уже представлял убеленного старца, знатока древнегреческой философии, а писателем вдруг оказался крамольный юнец.
Патриарх прошел в келью игумена, туда пригласили затем и Отрепьева.
— Предобрые славы слагаешь. — Благословляя склоненного инока, Иов спросил: — Где ж ты, сын мой, науку сию превзошел?
— Сам не знаю, владыко. Слушал, слушал: нескладно, дай, думаю, малость исправлю.
— Так-так, — светло улыбаясь, кивал Иов.
К Григорию, отвечавшему сначала лениво и неохотно, не глядя на то, что пред ним восседал патриарх, подоспело его вдохновение. Он завел глаза к голубоватому своду:
— Слово поставил — не то, другое — того хуже. Нет, думаю, недостоин к сим деяниям прикасаться. А уж возгоревал. Стал не нить ни медов, ни малвазии, не вкушал и скоромного. И тогда снизошло…
— Снизошло?! — придвинулся Иов.
Григорий примолк, отражая волнение.
— Что? Откуда? — волнуясь, пытал патриарх.
— Откуда-то… — загадывал загадки Отрепьев, становил недвижимо зрачки в округлившихся веках.
Бездумный расчет его оправдался. Посмотрев еще почерк Григория, Иов повелел ему перебираться на патриарший двор. Пафнотию и Замятне было сказано: взят для книжного будто письма.
Отрепьев вовремя разглядел патриарха. Возвышение Иова началось еще в разгар опричных казней Иоанна, когда ценились не столь богословские мудрости, сколько кротость смирения. И если бы Григорий сболтнул, как легко он черкает каноны, этим выдал бы разум вообще и спугнул бы владыку. Но простак, выбиваясь из сил, повторяющий слово, идущее с Неба, не мог быть опасен, напротив, он мал и безвреден, за это ему и почет.
Происхождением Отрепьев тоже угодил Иову. Мать где-то в Галиче, стрелецкий сотник отец зарезан по пьяни литвином в Москве. Как и царь, патриарх рассудил, что благодарная преданность бывшего служки опальных Романовых прочно ему обеспечена.
Голубые огни
Недоброе наследство досталось Годунову от Грозного. Когда-то всем нравилось работать на землях обителей. Роскошные лавры, освобожденные от податей в пользу казны, остригали крестьян не так люто за пользование священской землей. В противоположность монастырским дети боярские, коим предоставлялись владения в занимаемых под царство пустошах, были большею частию голы, не могли ни подкормить землепашцев в голодные годы, ни ссудить семенами. За это они предлагали крестьянам оброки и барщину, им хотелось бы выжить самим и утешить исправной уплатой налогов царя. От таких дел мужик кидал в сани хозяйство, семью и отчаливал прочь. Так что дети боярские сами хватались норой за соху, но у них получалось не очень. Просились со службы, куда-нибудь в челядь, к богатому дяденьке.
При подобной подвижности люда в выраставшей, как грозные дрожжи, стране без окрепших границ государство искало пути получать-таки с граждан налоги. А налоги на славные войны (дань росту) тоже нужны были славные.
Иван III повелел все расчеты крестьян с господами земли, все переходы вольных «смердов» на новые веси приурочить к Георгию Зимнему (двум неделям по стороны Юрьева дня). Мол, сие учиняем для исправности записей, к пользе всех добрых людей. Георгий праздновался как раз после жатвы и прочих последних осенних трудов, и указ показался сначала едва ли не мудрым, удобным для жизни селян. Но то был первый шаг, первый камень основы невольничьей крепости. И не успел состариться тот, кто при Георгиевом учреждении, обучаясь ходить, гонял на выпас жирнейших гусей, как расцвели «заповедные лета»[21], с нищетой, батогами и рабством.
Можно было, наверное, что-то придумать получше силка и загона, но горе-то в том, что Московия выпрямилась не государством, а воинским лагерем.
Поднявшая великокняжеский стяг во имя объединения и избавления родины от проклятущего ига, Москва собирала российские вотчины, огнем и мечом подчиняя строптивых. Победа над гордой Ордой не стала поводом к успокоению, она окрылила московских князей-полководцев. Завоевания царств Казанского и Астраханского, покорение вольного Новгорода, необозримой Сибири, боренье с Литвой… Можно было придумать получше… Но вся мудрость Москвы умещалась на острие ратовища[22], государство уже относилось к любым своим подданным как к завоеванным пленникам.
Борис тоже не видел сначала в отмене Георгия великого зла. Он считал это временной мерой. Пусть, мол, в пустоши мелкий помещик окрепнет, крестьянин потужится малость, а там поглядим. Но стихия небес, разыгравшись впервые над закрепощенным народом, показала воочию: в этой стране неуклюжего земледелия и неисповедимых ветров, если до сих пор чем-то крестьяне спасались от гибели в свое лихолетье, так только свободой, свободой движения — смены земель и господ.
Но и восстановление Юрьева дня не подарило желанного изобилия. Черносошный народ так успел обеднеть, что не мог устоять против летнего снега. Прослышав, что царь раздает серебро, кормит даром, голь устремилась к Москве. Годунов все же справился с жадной, костлявой толпой. Он придумал ей дело. По разным концам города заложили соборы, рядом с ними раскинулись слободы беженцев; новоявленные зодчие для собственного жилья складывали наспех корявые будки, там же, в песке и кирпичной пыли, государевы люди варили в котлах жидковатую кашу и вешали хлеб.
Но не все выходило так гладко, и порой Годунов думал с завистью об отправленных в дальние страны юнцах. Раз просил даже через Джерома Горсея, старшину делового кумпанства в Москве, королеву английскую о прибежище в Англии для себя и семьи. Но часы малодушия проходили, вновь Борис с возрожденной чеканной улыбкой наставлял во властительной мудрости сына, преемника царств. Федю, кроме того, обучали своим языкам и цифирному действу приближенные ко двору иноземцы, цесаревич с их помощью даже вычертил новую карту Руси.
Борис Федорович был не менее обеспокоен и судьбой старшей дочери Ксении. По старой доброй традиции царевны московские с достижением зрелости женской принимали всегда «образ ангельский», то есть безропотно шли в монастырь. Такой порядок имел свои причины: выдавать царских дочек за русских, за знатных ли, за беспородных ли означало еще увеличить грядущую неразбериху в престолонаследии, подначивать кровные распри князей и дворян. Устраивать же браки великих княжон с господарями иноземельными или детьми их и этим упрочивать дружбу держав московитам все был недосуг: воевали едва не со всеми. Годунов же, взойдя на престол, посчитал, что любой мир полезней славнейшей войны, и обезопасил страну договорными грамотами в порубежьях. Швеция гордится победой над по-сошным воинством Грозного, пресекла нарвское мореплавание — так найдем союз с Данией, мечтал государь, флот ее крепок на Балтике, запретит с высот палубных Карлу пускать на дно российских негоциантов. Для сего и задумано было женить приглашенного датского герцога Гартика Ганса на Ксении Годуновой — так Борис Федорович выручил бы и дочь, и Россию.
Принц Гартик сияющими волосами, скандинавским костюмом, туго обтягивающим гибкий стан, и косыми шрамами на лице, свидетельствующими о ратной отваге, вмиг заколдовал семнадцатилетнюю Ксюшу. Впрочем, принц сразу же простодушно признался, что шрамы сии не являют царапины вражеских шпаг, а всего-то следы от когтей перепуганной кошки. Своим рассказом он до слез насмешил и царевну, и Годунова, но, не чая, еще более привлек ее сердце к себе. Ксения и в тесном кругу своих дворцовых служанок слыла скромницей, густо не румянилась, не белилась, не покрывала зубов черным лаком, как иные московские щеголихи, и потому не смогла скрыть своей красоты от басурманина принца. Сердце Гартика забилось яснее, каждый шаг, каждое словечко Ксюши приводило его в восхищение. Окунала ли пальчики она в студени с имбирем, принц находил это верхом грации и изящества, плыла ли, метя пол бесчисленными парчовыми, шелковыми опашнями, — предугадывал в ворохе их нежнейшую фигуру; рассуждала ли робко о бытии человеков и царств вкруг святого присловия: «Бог дал, Бог взял» — Гартик дивился ее необычайному глубокомыслию.
Годунов был в восторге, однако синод наотрез отказался венчать молодых, пока принц не изволит принять православие. Гартик Ганс загорюнился, знал: не похвалят дома, коли сменит законы отцов на обычаи диких. Впрочем, юный датчанин не допускал и мысли, что его избранница может исповедовать что-то дурное. Православные тоже ревнители Бога единого, к тому же Ганс чувствовал: народы взрослеют быстрее религий, буйный варвар с Христом на устах превратится в изысканного феодала. Но ответственность перед родным королевством и Господом все же была высока, и, прежде, чем, уступив московским упрямцам, окропиться святой водой, принц усердно осваивал вязкий язык россиян, сам листал часословы и псалтыри, изучал компиляции митрополитов. В том ему помогали немногие, для большинства же двора и бояр он был шут, басурманин. Само простодушие и доброжелательность Ганса усиливали подозрительность родовитых московских витий. Когда принц, увлеченный беседой с царевичем Федей, зашел ненароком в Успенский собор, там была остановлена служба, а по удалении нехристя омыт пол и даже наново освящена вся церковь. На рождественском званом пиру, когда Гартик приветствовал патриаршию свиту искусным росчерком шляпы, духовные замерли в страхе — один только молоденький дьякон с бородавкой под носом помахал ему из заднего ряда над клобуками гусиным пером.
Отрепьев, прочно перебравшийся на патриарший двор, не забывал навещать раз в неделю родной монастырь. Келья деда Замятии вмиг наполнялась монахами. Григорий оправдывал все ожидания, привольно разлегшись на лавке, бахвалился:
— Вот, мол, я вам, ребяты, и в дьяконы рукоположен, патриарх-то уж в Думы царевы наверх с собой водит.
— Да ну, — переглядывались чернецы, — а скажи, что там царь учинял?
— Секретное дело, любезные братья, — качал головою Отрепьев, но в глазах плутовала смешинка. — Побожитесь, что не продадите. А то знаю вас: докажу, что не вру, а башки хвачусь к утру.
Монахи крестились, как городские мальчишки, довольные, что патриарший любимчик не заставил всерьез присягать целованием креста.
— За покупками в Китай-город никто не мотайтесь. Там назавтра не будет торговых рядов.
— Да нешто опять погорят? Звездочеты царю нагадали?
— Да что ж тут гадать, если царь сам велел поломать деревянные лавки, в береженье Москвы от пожаров настроить из камня ряды.
Отрепьев, прослывший беспечным бахвалом, на самом деле не говорил и малой толики того, что успевал узнать. Во время «сидения думского патриарха с бояры» жадно вглядывался в позлащенного человека на троне. Слушая богатый, густой голос Бориса — и грозный, и вкрадчивый, Юшка тщетно пытался понять: кто же он, царь безродный: злодей или правый? Заточение бывших господ своих, братьев Романовых, юный дьякон не ставил в вину Годунову, крамолу бы вычистил всякий монарх, а иной и посек бы без жалости головы. Но загадка погибели Дмитрия не давала дьякону покоя. Незатейливому, как отчет подьячего, рассказу Повадьина о розыске Шуйского Юшка тоже не очень-то верил. Он решил провести лучший, собственный розыск.
Как-то ненароком, разыгрывая простоту, рассказал патриарху: «Мол, давеча милостынь подал троим перехожим слепым. Да спросил их по жалости сердца, куда держат путь, и они мне открыли, владыко, идем, дескать, в Углич, на могилку царевича и крепко надеемся, дескать, на этой могилке прозреть. Потому как Димитрий давно уж творит чудеса то седой потемнеет, то безногий пойдет, а в нощи из надгробного холмика бьют голубые огни. Только правду ли бают слепые, пресветлый владыко?»
При рассказе Отрепьева Иов нахмурился. Испытующе глянул он на молодого диакона. Григорий выдержал взгляд, оставаясь наивным. Патриарх успокоился и прочитал наставление. Не след принимать за чистейший бурмит[23] всё, чему поклоняются сирые, темные люди, а тем паче слепые. Он, владыко, дивится, как разумом книжный и светлый Григорий сам не мог проявить: чудеса сотворяют лишь мощи замученных и убиенных, а царевич Димитрий зарезался сам, он едва ли не грешник, и если пред Господом что извиняет его, только то, что сие учинил безрассудно, забавляясь в падучей ножом.
Отрепьев вышел из палат патриарха, вытирая пот со лба, но готовность сурового ответа у нескорого на соображения Иова поразила его и сказала о многом.
Во время богослужений в Благовещенском соборе патриарх нередко представлял вниманию Годунова псалмы и каноны святым, сложенные новым слугой. Имя писателя произносить было не принято, ангелы уж отворят уста для Господней хвалы самому достойному, то есть считалось: каноны по преимуществу сочиняет сам патриарх.
В отличие от многих последних живых и прозрачных произведений, псалом в день греческого великомученика Дмитрия был составлен тяжелым умирающим слогом. Отрепьев преследовал одну цель: втиснуть темную строчку, где праведник сравнивался с камнем из Библии: «Яко камень, отвергнутый зиждящими, тако Димитрий стал главою в угле через ад в котле».
Борис почти засыпал под распев благовещенского доместика[24], исполнявшего этот псалом, как вдруг пробудился и дрогнул. В сплошном токе благонамеренных звуков почудилось, спелось: «Димитрий… главою в Угличе». Хотел озирнуться на патриарха, сдержался, прикрыл очи веками: может, решал — изучает его кто-то смертный или это по воле небес проскользнуло в молитве знамение?
Юшка сразу решил, что открылся убийца. Но еще раз неспешно обдумав свой сыск, он заметил: Годунову могли быть известны все слухи о собственном страшном злодействе и чудном спасении Дмитрия. Только как бы то ни было, ясно одно: память о несчастном наследнике Грозного до сих пор холодит и царапает сердце царя.
«Неужели царенье, поставленное от земли, — удивлялся монах, — так непрочно, так шатко? — Ему сделалось жалко Бориса. — Отчего он пугается знатного призрака? Разве простых пастухов Давида и Иосифа не избрали на царство израильское?» Отрепьева что-то порою влекло к Годунову. Во время стояний у бархатной стенки как хотелось ему подсказать что-то, даже поправить царя. То казалось диакону, что Годунов слишком мягок и кроток с боярами, то что долго мусолит указ. Но такой мелкий чин, как Григорий, все мысли был должен держать при себе, и, возможно, поэтому добрые чувства монаха к царю постепенно сменились на тихое бешенство.
Смысл иных решений Годунова, подсказанных длительным опытом, был просто темен для Юшки, в иных случаях Борис Федорович, уже постаревший, источенный болезнью, действительно чересчур осторожничал, избегал резких выпадов, взмахов, но — так или нет — маленький диакон, исполненный тайными бурями, негодовал всякий раз, посещая дворец.
И все вспоминались рисковые шутки с державой и скипетром в келье Повадьина. Сласть жуткая щекотала под сердцем, если только представить не в шутку, всерьез: скинуть рясу, назваться Димитрием, сесть на московский престол! Варлаам брякнул сдуру: «Валяй, царствуй», тут же забыл. Но Отрепьев, привыкший уже доверять своей сметке и ловкости, не увидел причин, по которым не мог бы обдумать шальную затею.
«На один грех больше — сами вы святейшие… И ведь верите же, будто я — благочестнейший отрок, певчий книгочей! Да что ж всего лишь это?.. Верите? А я и не диакон патриарший, вот и не угадали, я — аж Сам!..» — давился он и на постели от балбесного глубинного смеха — даже не победного, не мстящего…
«Годунов все равно правит глупо, не жалко и скинуть такого. А я бы…» — Григорий дышал вдохновенно глазами, и если случались монахи поблизости, думали: вот, сотворяет псалом.
Конечно, он и слышал, и в книжках, и на фресках видел, что всяк грех, строго по разряду в древней небольшой таблице, наказуется в посмертии. Но правила игры света и тени на согрешившей земле — совершенно другое, сложная премного, путаная вещь. Посмертие Отрепьевым еще не чувствовалось — значит, далече. Притом, любя и веря в деда и даже уважая несколько пример его, юноша смутно надеялся (чего для безмятежности житья пока достаточно) на старости свою гору страстей отмолить.
Ведь необеспеченный и малым голубым запасом крови Годунов — тоже не Божий помазанник, сам едва ли не преступник!.. Да велик ли грех столкать такого-то? (Особенно коли во благо земли?!.)
«Царь препросвященный» — тоже название одно. Недаром ежится на троне. Или боится ужаса на небе, или… Или так уж. Теперь и на земле побаиваться надо стало: нет больше естественных царей, а самый гибкий и лихой — теперь здесь царь.
Одно было худо: Отрепьева знали в Москве. «Цесаревичу» следовало объявляться скорее на дальней окраине, там полуголые, злые помещики в пустошах, там все недовольство, а значит, и смелость добыть себе жизнь. Справа — Польша, вниз — степи, казаки, как знать…
Как знать, пособят или выдадут головою? Давно ли метался по монастырям, хоронясь от Борисова гнева. На дворе патриаршем покойно и вкусно. Иной за подобную участь полжизни отдаст. Вот если бы снова опала? Отрепьев тогда бы уже не раздумывал. Но опалы ждать неоткуда — Иов ценил словотворца, все разбойничьи байки в монашеских кельях, все неосторожные шалости сходили Григорию с рук. Пел псалмы за чугунной решеткой двора вьюжный, добрый январь; в сердце книжника зря загорались и гасли мечты.
Праздник на льду
На крещенское ясное водосвятие длинный поезд, удав в золотой чешуе, от Кремля подвигался к реке. Шествие открывали, как обыкновенно, стрельцы, но им были на этот раз выданы из оружейной палаты богатые сабли и дротики. Вослед им высоко развевались на древках хоругви, плыли иконы, кресты в эсонитной[25], жемчужной оправе, затем шли и учители православия. Дивный блеск епитрахилей[26] архиереев усиливался вместе с саном. За владыкой уже начинались царские люди. Дьяки разных приказов, дворяне, стряпчие[27], стольники, думные, после бояре в соболях и бобрах — по три в ряд. После сам государь. Дале заново всякая служба, приказ, сановитые гости и опять-таки ратные люди, стрельцы.
Народ, весь худой да веселый, без шапок, занял, залил и Красную площадь, и белую реку, и все прилегавшие улицы.
Поезд подошел к иордани[28]. В морозном воздухе певчие перебивали колокола.
— Во Иордане крещаюся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе…
Патриарх окунул осторожно крест в воду, и крест засиял еще ярче. Знаменщики преклонили вокруг иордани знамена московских полков.
— Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе.
Под такой же малиновый звон возвращались к Кремлю.
Перед патриархом раскатывали кахетинские длинные коврики, чтоб не поскользнулся на льду. У кремлевских ворот ожидали особенно знатных и немощных несколько санных возков. Попрыгивали и били в ладоши кучера и запяточные. Пока шли водокрещи, возки перестроились, дабы в том же порядке доставить хозяев назад. Отрепьев того не учел (он в первый раз сопровождал Иова на такой церемонии) и, не глядя, катнул коврик к старому месту, к похожему на патриарший возку.
Иов погрозил ему посохом и прошел дальше. Юшка, сообразив, в чем дело, хлопнул себя по лбу. Живо сматывая дорожку, он подвинулся к пышным саням, тем, что принял сперва за свои. За широким, расписанным морозом по слюде оконцем неясно белело лицо. Юшка вдруг догадался, чья это карета: только самые знатные девицы не покидают возков, их всегда стерегут от нечистого глазу. Сделав вид, что никак не управится с тяжким ковром, Юшка вовсе дошел вплоть до дверцы. Ему что-то уже закричали запяточные, когда он, поскользнувшись, упал на окно. Близко качнулись жемчужные веси[29], в пушистых ресницах глаза ни напуганы, ни надменны, голубы да легки. Диакон не видел лица прекраснее, очарованный, распустил он подобранный коврик. Казалось, тяга земная утрачивала над ним свою власть и он вниз головой падал в небо.
Кто-то схватил Григория за плечи, не вдумываясь, он отшвырнул того прочь, в сугроб. Тогда слезший с лошади грузный детина размахнулся и сбил его с ног кулаком. Вторым ударом возница мог прикончить монаха, но вдруг тонкий трехгранный клинок уперся точно под ложечку царского служки. Принц Ганс Гартик, любезно улыбаясь, просил его не горячиться, вернуться в седло. Суматоха уладилась. Кучер, хмуро взглянув на вельможного немчина, отступил. Царевне, несмотря на старания пажей, удалось приоткрыть чуть-чуть дверцу возка. Ганс, подойдя, успокаивал:
— Не волнуйся, мой радость. То нечаянна стычка. У аббата бит глаз, то и все. Успокойся, мой ягодка.
Защелкали шелепуги[30], сани двинулись, поплыли к Фроловым воротам. Отрепьев еще стоял на одном колене, красно-зеленые бархатные жар-птицы пролетали в глазах. Русские люди шли мимо. Герцог не торопился уезжать, помог подняться; спросил не от милости, а по долгу, как равного, деревянно:
— Как ты чуешь? Стоишь? Ты сумеешь пойти? — и заулыбался: — А я тебя помню, ты на обеде епископов мне махал.
— Ну и ладно, — придя в себя, перенял его тон и Юшка, не знал только, как величать иноземца. — Спаси Бог за выручку, гость именитый. Теперь я должник твой, платить только нечем.
Дьякон поклонился, думал было идти, но Ганс опять придержал его:
— Слушай, ты первый московский, который так говорит со мной, который так мил. И ты есть мой должник, ты показывать мне Москва.
— А что тут показывать? Строится помаленьку. А так деревня деревней. — Юшка, желая понравиться датскому герцогу, бахвалился тем, что не ценит родное. — У вас там, я слыхал, города-то получше, да?
— Получше, да. Я хотел узнавать ваш обычай.
— А, пожалуйста. Хоть сейчас и пойдем. Не в санях? Пешком, что ли?
— Пешком, что ли? Да. Не в санях.
— А что все переспрашиваешь? Что на царевне не женишься?
— Я еще недостаточно знать ваш язык. Я покуда католик, — успевал Гартик Ганс отвечать на все вопросы Отрепьева разом; казалось, не он собирался узнать Москву, а Отрепьев — выпытать Данию.
Народ небольшими и крупными толпами расходился уже по дворам, утешенный зрелищем праздника. Григорий, заметив знакомого чудовского монаха, поручил ему коврик, и товарищи двинулись на Арбат.
По мере того как жаркие птицы отлетали от глаз Отрепьева, им снова овладевал воздух встречи с царевной. Чудный лик снова встал перед ним, суетливые мысли ушли, и в душе воцарилось блаженство безмыслия. Но оно продолжалось недолго. В отношении Ганса Григорий внезапно почувствовал злую досаду и ревность. «Почему? — тщетно спрашивал он сам себя. — Вот двое неглупых парней, но почему же один из них — русский и бедный, а другой — иноземец, богач, шляпа, шпага и даже колдунья-невеста».
— Как зовутся те башни? — указывал Гартик вперед. — Китай-город? Почему Китай? Не знай? Скорее похожие на итальянские крепости. Ах, вот и в масках танцоры, здесь все как в Венеции.
Действительно, впереди притоптывали и приседали несколько человек в деревянных личинах. Двое дули в гудки, один бил по яровчатым струнам и пел:
— Не гляди на них, Ганс. Это как раз не в обычае. Так, пьянь какая-то. Святки у них, вишь, не кончились.
— Эй, мужичок, — обратился Ганс Гартик к одному рослому плясуну, который почему-то был в рясе и обвязан большим, тканным в елочку полотенцем. — Пожалуйста, продавайт ко мне маску. У меня русской ньет.
Пляшущий приподнял, как забрало шелома, личину и обратился в нарезавшегося Варлаама Яцкого:
спел он, уперев руки в бока.
Герцог кинул ему золотой, взамен поймал маску вепренка, с детским смехом надел ее.
спел, хохоча, и Отрепьев, — и в водокрещи в чертовы игры играешь, ты язычник теперь после этого.
— Что плетешь? — замахал на него Варлаам. — Водокрещи еще не прошли. Вот теперь же и смою грехи.
Захмелевший монах припустился к реке, стаскивая на ходу рясу и отвязывая полотенце. Подбежав к иордани, скинул исподнее, сапоги, оглянулся на догоняющих диакона с герцогом-немцем и, похлопав по розовым, жирным местам, сиганул в иордань. Только столб перламутра взвился.
— Давай руку, дурила, потонешь.
— Очищается, крещается водою святою раб Божий, — хохотал в иордани монах.
Вылезая, однако, дрожал, но растерся густым рушником, стал как новый.
— Ты есть самый большой молодец, — похвалил его Ганс. — Вы не только живете в морозной стране, но еще и играете с холодом.
— Слушай, немец, а ты что? — вдруг сказал Варлаам. — И ты тоже харю цеплял. Очищайся.
— Брось, чудак. Принц, не слушай.
— Ничаво, — напирал Варлаам, — если он христианин, очиститься должен. Дома, немец, живи, как сам хочешь, а в гостях — как велят. А уж веселит водичка-то, вроде и хмель сошел, а все весело.
— Все весело? — Гартик стал раздеваться.
— Принц, ведь он морж привычный, промерзнешь, — качал головой Григорий, но явно не запрещал. Ганс вручил ему шпагу, одежу и маленький крестик в алмазах; с обратной стороны креста инок с трудом по-латыни прочел: «Боже, храни наследующего». Принц растерся снежком и, ахая, погрузился.
— Давануть сапогом басурмана? — предложил Варлаам. — Скажем, утоп, а одежа поровну?
У Григория перехватило дыхание… Ксения, ягодка, — не назовет ее так больше высокородный простак. Слишком душно. Григорий опомнился.
— Что ты, дьявол, по-твоему, немец уж не человек? Или думаешь снова очиститься?
— Да ты что, я шутил, — удивился искренно Яцкий.
— Шутил! Давай немца тяни, а то вправду потонет.
Выловленного Гартика била крупная дрожь. Растирали нещадно, но все ж полотенце было влажное от Варлаама. Довели до корчмы, дали водки и пенника.
Целовальник, завидев заморского чиновного гостя, пошел метать на стол. Из глубокого погреба, где долго таил от нищавших в голодные годы людей, поднял, вынес просольной белужины, доброй ветчинки, коровьего масла. Но, видимо, что-то уже залежало от жадности хлебосольца: Гансу сделалось дурно в желудке, а может, ослабила герцога ледяная вода. Лоб его запылал. Поддерживаемый под руки пьяными чернецами, добрел Ганс до посольских палат.
— Выпей стопку анисовой, — напутствовали его Варлаам и Отрепьев, — да в баньку. Пусть попарят, похлещут тебя хорошенько. Всю хворь рукой сымет.
Ганс последовал русскому средству: но в парной из желудка хворь легко подалась в ужаревшую кровь, а оттуда, сквозным прохождением распаренных мышц и костей, прямо в мозг. Утром Ганс не сумел встать с лебяжьих перин. Мельчайшее шевеление превращало его в сгусток адовой боли.
Окаянный псалом
— Благослови на подвиг, владыко. Идти думаю по святым местам.
— И думать нечего, не отпущу.
— Владыко!
— Не пущу, не просись, Григорий. Знаю, что у тебя на уме.
Отрепьев перепугался, но взял себя в руки.
— Да уж знаю. — Иов помолчал. — Откровение, мыслишь, сойдет. Молодой… — вздохнул печально и знающе. — Ну чем тебе худо здесь? Только почет. По стране-то ведь голод, разбой, людоедство. Обожди ты хоть год. Ну куда ты пойдешь?
— В Киев сначала. После, значит…
Иов впервые встречался с тем, чтобы человек-изгой, приближенный и обласканный им, сам отказывался от такой редкой доли. Правда, и человек редкий, что-то в нем прорастает, а что, и самому, поди, неведомо. Хрупко, зелено, — нет, отпустить невозможно, напротив, одно: задержать, охранить. Да и вирши кто ж будет слагать за Григория? Здесь не вольная воля ему: что хочу, ворочу.
— Будешь делать, что сказано, — заключил патриарх.
— Так я буду же делать такое, что сам, свет-владыко, прогонишь меня! — вдруг воскликнул монах.
— Ты пугать меня вздумал? — стиснул посох Иов. — Чего ж учинишь?
— Воровать почну, — бесстрашно ответствовал инок. — Гляди, сколько бесценных камней по иконным окладам. Ведь не останется ни одного.
— Ах, бесстыдник! Собака. Да ты… я… я… просто велю отодрать тя как Сидорову козу, да обет наложу сотню книг перебелить, да пост такой учрежу — к костям кожа прилипнет, а никуда не пойдешь! А сбежишь, повелю изловить и…
Иов выдохся. Отрепьев давно стоял на коленях.
— Прости, государь мой, владыко. Не думавши брякнул. Прости окаянству.
— Ну то-то, пошел.
«Поймает, точно поймает, — чуть не плакал Григорий, проходя патриарший двор. — Как же взять свои царства? А без царства и Ксении не видать. Что я ей — беспородный монах. Даже если и приглянулся, как быть? Сидит она за двадцатью замками, чтоб ни ветер не веял, ни солнце не жгло лица ее белого, чтобы я, добрый молодец, только и видел ее, что во сне.
Ах, Иов, Иов, препона нежданная. Как так сделать, чтоб сам ты меня испугался, сам на пушечный выстрел велел не пускать ко двору?»
Годунов у изголовья несчастного Гартика заливался слезами. Какого друга теряли и он, и Россия. Напрасно Ксения грезила дальним странствием рука об руку с милым, сияющим Ольборгом и Копенгагеном, напрасно дьяк Власьев, нанявший две шхуны в Любеке и зажатый в устье Наровы шведским флотом, ждал помощи от датчан. Герцог Ганс угасал.
В такое-то время к Борису явился Иов с соболезнованными виршами. От оконницы с новогородскими стеклами в палату пылили заутренние лучи.
Царь молился перед Спасителем, Крестом в человеческий рост с небольшим. Иов сделал знак благовещенскому доместику, вошедшему с ним. Певчий выпрямил грамоту, начал распевно частить. Словеса утешения высшим покоем осыпали царский покой.
Иов видел, как разглаживаются мученические морщинки Бориса, как в глазах государя является что-то большое, мистическое.
Доместик воспевал страдания кроткого Ганса, иноземца, узревшего истинный свет на Востоке Вселенной и уже предварявшего душу крещению Третьего Рима.
Доместик взял последнюю долгую ноту. Иов уже изготовился выслушать благодарственную от Годунова, но певчий почему-то не остановился, а с удивлением продолжал:
Иов бешено глянул на свиток: «Сам читал, что за дьявольское наваждение? Приписал, исхитрился чертенок или лист подменил!»
— Ты, замолчь, — шикнул он на доместика.
Но Борис уже сузил глаза, напряглись в сетке злые мешочки.
— Отчего же? Пущай дочитает.
— Государь, отпусти моей худости, думал, тако узря превеликие скорби твои, ублажить глупым словом, да токмо уж вижу: плохой из меня скоморох, не вели уж дочитывать, будет.
— Отчего же, занятно. Не думал, — как будто смягчился Борис. — Да только не понял покуда: над кем потешаешься — над умирающим али над паствой своей? Ну-ка дале.
продолжил доместик, сбиваясь на лад коляды. —
Это уже полетел камень прямо в Бориса. Немало архиереев злобствовали на привечаемых царем иноземцев, но Иов никогда не был ни вдохновителем их, ни пособником рьяным. А в этих виршах не то смех богохульный, не то азарт хищный, собравшийся в поклоне для прыжка.
Годунов глянул на Иова, обмершего владыку. Как не ладится с ним эта доблесть витийства. Али просто дурил да увлекся? Но в такой час! Ай, друг, ай, наперсник.
— Сперва чернецы с твоего же двора подучили лезть в прорубь беззлобного Ганса, единого друга мово. И вот, когда сей человек погибает, от коего только и ждал я себе утешения, ты над ним и над сердцем моим измываешься, бесов Гораций!
На мгновение Иову показалось, что это не Годунов, терпеливый, разумный, а тень Иоаннова перед ним, с ввалившимися огневыми глазами, трясущейся бородой. Еще миг — острым посохом грянет в висок.
«Воспитал на груди ядовитого гада, — думал Иов, еле шаря ногами в крутых переходах дворца. — Только вон. Этот демон погубит меня».
Ясно, вирши, псалмы и каноны можно чутко просматривать перед распевом, только разве Отрепьев не вымыслит мигом иного подвоха, и, быть может, такого, что сронит клобук патриарший Иов.
Дерзнет ли в лихую годину монах, даже самый отчаянный, двигаться в жуткой родной стороне в одиночку, без храбрых надежных друзей? Даже если пойдет без гроша, он несет на себе человечину, нежное мясо, от которого слюнки идут у волков, у медведей, у лесных одичавших крестьян и хозяев пустой придорожной корчмы, где пекут пироги из ночующих неосторожно.
Поэтому Отрепьеву нужны были спутники двух видов: могучего, чтоб защищаться от лютых врагов, и смышленого, знающего тот край, куда мыслил он бег.
Варлаам, монах первого вида, долго упрямился.
— Не пойду никуда, в Омельянов день ветер гудел — быть обратно голодному лету.
— А ты знаешь ли, Яцкий, на балясы твои у владыки сто изветов лежит.
— Да откель? Что, какие балясы?
— А поклеп на царя, а частушки-пьянушки? Тому, что не брошен в темницу, одна лишь причина — брат Григорий у патриарха в чести. Иов спрашивал давеча: «Что за притча там в Чудовом, Яцкий такой? Пишут и пишут на бражника-пса. Что, отдать его в Тайный приказ, ты как думаешь?»
— Ну, а ты? — не дышал Варлаам.
— А я что? Я наладил одно: «Яцкий — лучший монах, Яцкий первый товарищ, не мог он ни ереси сеять, ни крамолы ковать».
— Вот спасибо, Гришаня, вот, ну…
— Задышал? Аль забыл: патриарх меня гонит? Кто теперь защитит?
Мисаила Повадьина, знатока юго-западной вольницы, уговаривать или стращать не пришлось. Мисаил был прозрачен и телом и духом: винопития и угождения чреву, сей чудовской славы, чурался, а пьянел от медового ветра полей и дорог, сам скучал по нему и по вычурным спорам с ксендзами.
…Свертелось, свеялось так в голове у дьякона: пропаду или приду царем, чем погребенному спасаться заживо тут. (Так повторял он, хоть и не впрямь думал в случае большой невзгоды напрочь пропадать. Помнилось, что из темнейших тупиков есть тьмы исходов — сквозь заборы, в травы, в подклетовы окна, в иные державы, дворы и покровительства.)
Пожалуй, и мечтал, и планировал дерзание он очарованно и страстно, а все как-то легко, не всерьез. Одного желал тревожно, точно: получить или, если нельзя взять, как-нибудь забыть — развеяв на стезях — кремлевскую катальщицу, но… всерьез не рассчитывал он и на это. Будто далекая дорога не могла их разделить. И самая страшная даль, какую он мог только представить, никак не умещалась между ними. А с этой разрастающейся далью вместе вырастали и они, только становясь как бы прозрачнее, светлее.
Была, впрочем, немалая надежда на расставленные Мисаилом с чувством, с толком, на горизонте «нечистые» западные чудеса да на валашских и польских красоток, что, по уверению всеопытного чернеца, несравненно нежнее и белей москвитянок, которых чуть не каждую скребни зрачком, узнаешь злоскулую степнячку.
Но ни туземки-красотки, вверх вскидывающие то ли рубашки свои, то ли занавес над грядущим представлением, ни сам балаганчик тамошних чудес ничуть не затмевали монаху общего его чувства пути — до странности на сердце легкого, как подрагивающая кольчужно купина сирени.
И неужели страсть эта свободно всех не одолеет? Не сильнее ли она Годунова, чтящего одни свои больные ноги? Не больше ли всех дьяков и детей боярских — всего слепого старого простора их?!
Что он, безблаженный дьякон, в вольно-вязком фимиаме мира? Даже не малая свечка, так — серничок[32]. Но ведь и мысль тоже мельчайший блудный огонек, странник в человечьей голове, а ведь огонек этот правит, как за узду, всем ходом тела. Так что дело не в величине, но в существе «извозчичьей» этой частички.
Так и царство без мысли, что человек без царя в голове, — долго не живет. Восходящее родословие царей суть цепочка мыслей. Оборвется родословная — собьется мысль, и край без царя в кремле, как тугодум, стоит — неловко ловя старый воздух руками. Державе-голове нужно вспомнить мысль и дело прежних государей — или уж нужен совершенно новый царь.
Отрепьев пока и знать не знал, и гадать не гадал: в чем его новая царь-мысль? Но так легко и хорошо представлял, как все это Борисово (а ну и впрямь, а ну как?!!.) — только спичкой ткни — затлеет все, посыплется… А Отрепьев и не так еще подъедет и рассыплет — пугнет людей и голубей!..
Так был путь его в небренном взоре Ксении рассыпан — в мозаике сиреневых, мелких да легких, алмазинок его, что одно осталось: по нему, сладостно-обрывистому долу-взору, привольно плутать… Хочешь — совсем заблудиться, скользя, летя… И, выскользнув вдруг по ту сторону из ахеянского лабиринта, самому алмазным копьем, отлившимся из расщепленной молнии, вонзиться — самому — в хорошую — в кремляночку свою…
И что в пути том адского? Что с того, что ахеянский путь, язычий, сказочный, противобогов? Ложь ли, что я — цесаревич природный? Правда ли в том, что — не он? А кто? Диакон, разумник благочестный, плут собачий? Что мне данный двумя мытарями и пятью шарамыгами ярлык? Раз не знаю, кто я, не вправе ли избрать себя любым?!!. И что чертового в том? Если блуждание это уже заставляет забыть о сребролюбии там всяком, о блуде?.. Не Бог ли в том? Не горняя подсказка ли — нарочный толчок: иди, не жмурсь, твой это шлях и грех, но и твои молитвы, и судьба?..
В общем-то чьи это подталкивания и полузнаки — Боговы, благи ли, всепогибельны, лукавы? — дьякон путем не понимал. Но не мог уже дольше лишь думать об этом… Может, просто народившаяся молодость толкала его — макать свою емкую голову во все среды — и гулких страстей, и тихих напастей…
Рисковое служение Романовым, бега по обителям, внезапный взлет в предстоятелев причт[33] — все учило его, что всегда можно успеть оценить события и принять по родам их все решения, когда уже эти события идут (или даже летят полной метью). Весь опыт конюшего говорил о том, что рысака лучше смотреть, когда он хоть недалеко, но промчится, меняя побежки, а не когда в загоне стоит рядом — как ты. Ахалтекинская лошадка, например, может и стреноженной казаться бесовски красивой, но на ходу будет смешна. А бывает и напротив: несуразно сложенная по становому виду кляча вдруг на ходу распластается ласточкой, львицей, всех нолем обойдет — зениц от нее не оторвать.
На прогоне будет ясно, какой конь. Видно, куда и как летим: ко вратам в рай или в почву вельзевулову? От такого незнания было еще любострастнее и веселей. Ледок жути копил кровь где-то в преддверье сердца, да пока особо не пугал: дьякон много уже ведал о своем таланте ездока.
Часть вторая
ТЫ ЗНАЕШЬ, КТО Я ТАКОЙ?
Вторая Русь
Когда-то, еще до монгольского ига, во время усобиц воевода князя киевского Гедемин направлен был в дальний удел за положенной данью. Нежданно-негаданно Гедемин нахватал столько дани, что свезти ее разом лесными, корявыми тропами в отчину просто не мог. Но достойнейший витязь не растерялся; он принял решение, которое напрашивалось само собой: перед всею дружиной Гедемин высказал сомнение в том, что движение к Киеву — свойство любого богатства. Поигрывая добытыми ожерельями, воевода призвал удальцов посадить его князем на этой земле, что и было немедля исполнено. Так явилось великое новое княжество, то есть Литва.
Эту сказку давно затвердили московские умники. По ней выходило: издревле Литва была вотчиной Рюриковичей и только потом беззаконно, лихим воровством воеводы изъята из прочих земель.
Против этой легенды всегда восставали поляки, они говорили: «и до Гедемина известны литовцы-князья, с Гедемина они стали зваться великими. Что ж касается происхождения племени этих князей, то, конечно, оно повелось от затерянного авангарда войск Александра Македонского. Те войска, на Кавказе услышав о смерти вождя, сели в лодки-триеры, поплыли домой по Каспийскому морю, приняв его за Средиземное. И конечно, приплыли в незнамые степи; пройдя через них, заблудились в лесу, чуть одичали и стали Литвой».
Такой взгляд на историю края, разрушая московские сказки, давал право полякам гордиться союзом с одним из славнейших народов земли.
Что же до самих литовцев, то они в деревнях по верховьям Виндавы, Дубиссе и среднему Неману твердо верили в то, что спустились на землю на облаке ночью, с луны.
Как бы ни было то, а ко времени действия наших записок этот край населял самый разноязыкий народ. По древним помянникам монастырей было ясно одно: в старину племена, по названиям литы, ятвяги и жмудь, опекались чуть-чуть Новгородской и Киевской Русью. Князья-русичи их не теснили, не жгли, разве только сбирали какую-то легкую дань. Эта дань окупалась с лихвой тем, что братья-князья защищали Литву от свирепых немчан, становясь во главе общих ратей. Потому оратаи[34] Руси поселялись свободно на этой земле, не боясь скорой смерти от злого соседа. Вскоре в высшем сословии края господствовал русский язык, а в двенадцатом веке литовцы-князья вслед за Русью один за одним открестились от идолов и перешли в православие.
Когда же Русь подточили усобицы и повалили татары, Литва очень окрепла. Теперь уже киево-южные русские княжества искали под стягом ее защиты и отдохновения. Гедемин и его сыновья без пролития крови присоединили к владениям своим Полоцк, Витебск и Минск. И когда неизвестная миру Москва, возмужав, начала собирать разлученные русские земли, оказалось, что большая часть их осела в Литве.
К восьмой тысяче от сотворения мира литовскими стали уделы: Смоленский, Черниговский, Киевский, Галицкий, Минский, Волынский… «и многа-многа ящё». Если б эта страна не ослабила скорость земельного роста, Иван Грозный сумел бы наследовать разве какую-нибудь слободу.
Князья русские, вотчинные и удельные, «в числе многом тянули к Литве», почитая ее не в пример крепче бедной «горелой» Москвы, и, конечно, не менее исконно русской; была пущена новая сказка, что князь Гедемин — родной правнук святого Владимира Красное Солнышко.
Но князья-«москали» тоже были хитры и настырны. Затеялись долгие войны. Как знать, кто бы здесь одолел, не пришлось ли бы юной Москве поумерить державного гонора, если бы… Если бы польская шляхта и иезуиты-ксендзы не внесли свою ленту в великое дело развала Литовского княжества.
Началось все с того, что властитель литовский Ягайло вдруг стал королем польским. Сам ли он попросился, или шляхтою был приглашен в короли, неизвестно, но этот расклад и Ягайле, и панству пришелся по вкусу. Из-за склоки с Витовтом и союза с бесславным Мамаем, направленным против Москвы, под Ягайлой шатался литовский престол, он приладил корону опорой, достиг упрочения власти. Шляхта в свою очередь знала: подарив трон соседу, легко расширит свои кровные вольности и привилегии и, возможно, добьется его позволения приобретать ланы[35] на малоросской земле.
С восхищением знакомилась русская, патриархально-глухая Литва с «образованной» Польшей, где действовали Рей и Коперник. Особо понравился мелким дворянам сам строй шляхты, рыцарский, вольный, лишенный совсем иерархии знатности, диктующий волю свою королю. Дворянство литовское с помощью панов-магнатов решило добиться того же удела. Начальные люди великого княжества злобно противились, но безуспешно: ряды их дробились, расшатывались неуемными слугами папского Рима, все больше князей и вельмож посещало костелы, желая иметь право голоса в краковском сейме.
К подписанию Люблинской унии, знаменующей соединение двух государств, великое княжество уже представляло собою бездумную, четкую копию королевства. Все боярство, дворянство слилось в одну мутную взвесь, равноправную шляхту. Ее мало теперь занимали битвы с воинством грозной Москвы, уже отобравшей Смоленск и Чернигов, эта «новая шляхта» теперь воевала на сеймах со «старой», отмывая свои привилегии. Власть великого князя ослабилась донельзя, что никак не могло обеспечить литвинам успеха в войне. Кошкам смех — мышкам слезы, с укреплением панских свобод земледельцы литовские, некогда гордые, вольные, обнищали от «вольных» поборов, и все, кроме неуловимых хохлов, защищенных днепровскою Сечью, превратились в дворянских холопов по польскому образцу. Православный магнат беспрестанно бранился с родным своим братом католиком; разгорались ученые споры слуг папы, отчаянных иезуитов с наставниками из Византии: шла война, настоящая драка за совесть литовских князей. Но в раздробленной почве порой принимаются добрые зерна: христиане различного толка на средства магнатов и паств открывали дома академий и школ, состязаясь в учености. Сам обычай Литвы убеждения ближнего не кулаком, а осмысленным словом воспитал дух терпимости к чуждому духу вообще. Процветали все ереси, древние и молодые; скоморохи гуляли по краю; в глуши жмуди резвились язычники; иудеи бесстрашно селились по всем городам и съезжались на пышные ярмарки.
Вот в какие цветные и зыбкие веси унеслась наша летопись, в земли, где странно соседствовали православные и кальвинисты, поляки и русские, хохлы, литы, ятвяги, гуситы[36] и ариане; строились ратуши и синагоги, костелы и церкви, барокко теснило старинные мрачные замки, и над всей этой вычурной, пестрой страной, а точнее, поодаль стоял сиротой королевский дворец.
Косолапый бой
При впадении быстрой извилистой Вилии в былинную реку Горынь на холме стоит княжеский замок и вкруг него маленький город Острог.
Воеводство вельми хлебородно, атласно разостланы нивы: лен, пшеница, гречиха, овес, конопля.
Проходящие к городу нолем монахи дивятся, порою срывают колосья, шелушат в руках.
— Почему Господь южан милует? — указывает юный монашек друзьям на обильную пажить.
— Потому что на юге теплее, — ему поясняет бывалый, обветренный инок, худой, как поперечина плуга, — земля не промерзла, видать, как у нас, на аршин. Да к тому же в краях этих пашут железной «косулей» с подсобным передним ножом, и посев зарывается глубже.
Очевидно, монах здесь вращался и прежде, товарищи слушали чутко, с почтением.
— Значит, знатно литовчины лопают, может, и нас угостят? — робко спрашивает огромный мосластый монах, ему неуютно без снятого ветром скитаний с костей благородного жира. — Где плотнее харчи, в городу или в замке?
— Вы как знаете, я сразу в замок, — говорит молодой.
— Это правильно, князь Василь завсегда православных почтит, — одобряет тщедушный, бывалый.
Над зубчатым аттиком замковой башни виднелся уже часовой, он сначала ходил, разминаясь, потом сел на мортирку, смотрел на приближающихся монахов. По мосту на цепях, перекинутому через ров, они вскоре вошли в родовое гнездо малоросских магнатов. Во дворе было людно, ждали княжьих щедрот северяне: крестьяне, ремесленники — древоделы, посудники, санники, резчики, плотники — знали: в Остроге у князя они разживутся работой.
В тени белой акации расположилась скоморошья ватага. Волыночник нехотя перебирал трубки, вшитые в мех, и задорное блеяние освежало сердца утомленных. Рядом с ним отдыхал пожилой медведь, сквозь сон ухом помахивал музыке. Завидев вошедших во двор чернецов, скоморох перевел дух, отставив волынку и сплюнув:
— Опять черт эти юбки принес!
Остальные сопельщики[37] тоже надменно взглянули на схимников.
— Попа Бог дал, а черт — скомороха, — заявил мощный инок с не меньшим презрением. Оба вида российских бродяг, в рясах и комедийных кафтанах, почитались от века врагами, перебивающими друг у друга хлеб.
— Не ершись, Варлаам, глянь, их сколько, охальников, — дернул товарища за рукав старший. Но веселые люди уже поднялись, наливные, бугристые руки у всех — каждодневно ведь ходят на них и подолгу высоко воздетыми движут «петрушек».
— Это кто такой умный? — Один подошел к возразившему иноку. — А ну повтори, не сломивши язык: шли три попа, три Прокопья попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья попа, про Прокопьевича.
Трех монахов пробрало. Тощий тоже вскричал:
— Отойди от нас, ты, балаган на ходулях, пока не перекрестили!
— Отойди от них, Саня, — посоветовал вдруг и волынщик. — У попов — не без клопов.
Волынщик уже отмотал от акации цепь и внезапно огрел косолапого плетью. В тот же миг медведь был на ногах, поводя тяжкой мордой, рычал на хозяина, спрашивал: где его жертвы?
— Эй! Ты, парень, не прав… — испуганно начал, забыв про гнев, старший чернец.
— Не прав медведь, что корову съел, не права корова, что в лес зашла, — рассудил скоморох и кнутом помахал на «попов» своему лешаку.
Прочий люд, что случился поблизости, вмиг откатился, рассыпался: кто взлетел на высокие крыльца пекарен и служб, кто ударился вон, за ворота. Молодой и старейший монахи тоже было пустились, уговаривая и таща за собой того рослого, глупого. Только он, отмахнувшись от них, непреклонно и гордо остался в средине двора. В стихаре, полоскавшемся ветром, сложив руки на крепкой груди, ждал прибытия зверя.
Зверь не замедлил. Вперевалочку, боком, пригнув к земле голову, он приближался к монаху. Когда противников разделяла какая-то сажень, инок пронзительно свистнул. Безобразному звуку лешак ужаснулся и встал на дыбы, а монах, мигом выхватив из сапога поварской кривоватый секач, что есть сил ткнул в грудину противника. Тот сел, плеща лапами, как бы крестя человека; монах, испугавшись, что оборотень наколдует, хотел двинуть еще, но уже подбегал, заклинал покаянно волынщик, и боец отступил. Косолапый совсем повалился. Без слова смотрели потешники на страшного чернеца.
— Медведь лег — игра стала, — сам с усилием вымолвил тот.
Тогда все обступили хрипло дышащего бирюка. Волынщик и скоморох-костоправ, осторожно обследовав тело, нашли, что расколото только ребро и царапает зверя. Скоморохи еще раз, дивуясь, взглянули на воина, чью неловкость в бою искупала с избытком его геркулесова мощь.
Два товарища богатыря, впрочем, не выразили восхищения битвой, постучали ему по затылку и лбу. Но звонко цокали языками, хлопали ладонями по коленям подходившие уже без опаски зеваки, и никто не заметил, как из княжьего дома, с крыльца, сошел в польском кунтуше[38], отделанном соболем, пан. Присоединившись к толпе, пан печально взирал на творимое в собственном замке. «Да, опять москали, — думал он. — Почему они не переносят друг друга? Потешные, казалось, должны бы заботиться о ясном веселье души; церковные — о свете радостном духа, и что же? Вместо этого злятся, грызутся, свирепствуют, назло истребляют рабов и животных. Нелепые. Дело, конечно, в религии. Только латинство, изящное, смелое, сможет спасти этих грязных свиней».
Молодой православный монашек заметил раздумного пана. Подошел, поклонился, наверно приняв за дворецкого:
— Можем видеть мы князя Василия?
— Нет, а кто вам сказал, что отец здесь?
Монашек смутился, что не признал младшего князя. Тот сделал рукою: пустое.
— Да в Киеве еще мы спросили: кто ваш, киевский, самый большой воевода? Князь Василий Острожский. А где ж его взять-то, Острожского? Ясно, в Остроге. Вот мы и пришли.
Младший князь улыбнулся шутливой затее рассказа.
— Отец сейчас в Кракове. Только, ради Христа, не зовите при мне его этим Василием, именем, данным ему вашей схизмой[39], отец — Константин. Что за дело к нему? Может, Ян Константинович сможет его заменить?
Монашек скользнул быстрым взглядом по Яну, но, как видно, решив не размениваться на капризных католиков, отвечал приглушенно и смирно, с секретом:
— К воеводе иду от московских друзей. Дело должно ему сперва сведать. А когда ж он приедет, пан Ян?
«Московские друзья, — вознегодовал в мыслях Януш, — подумайте, важность какая. Что у темных туземцев может быть с отцом общего? Отпетая муэдзинами[40] Византия? Говорил своему старику: признавай власть священную папы — нет, артачился… И пожалуйста — московские друзья».
— В Краков лучше не суйтесь, — холодно произнес Януш вслух, — там не очень-то жалуют ваших схизматиков. Отец — исключение. Оттуда он едет на празднество равноапостольных в Дерманский монастырь.
И меньшой князь Острожский, решив, что уже сделал для московита больше положенного, повернулся и так же неспешно, раздумно взошел на крыльцо.
Виновные в давешней стычке, тоже приметившие князя, скоморохи пугливо жались к своему медведю. Но князь, очевидно, счел лишним заботиться о наказании этих пропащих людей.
Варлаам утомился от вязких дорог, стал задавать вопросы:
— Опять брести, как слепой по пряслу? И так еле нога ногу минует. Чем в Киеве худо было? Что за Дерман такой? Может, там с живых дерму[41] сдирают?
Мисаил и Григорий смеялись, скакали по глиняным кочкам. От холмов над Горынью с вершинами раковистого известняка разбегались до края земли яровые угодья, невольничьи фольварки. Высоко в голубых небесах упивались беспечными песнями жаворонки. Казалось, в такой день любая забота должна быть забыта духовными лицами, не занятыми посевной.
Но едва заповедная роща князей приняла чернецов в негустую, сквозящую тень, скрылись круглые башни, как Отрепьев решил посвятить своих спутников в замысел. Он открыл, что манил их в Литву не по прихоти вольного сердца, а имея единую мысль — здесь назваться спасенным Димитрием и, заморочив Острожского (а повезет, и иных воевод), властью их и воинственной силой добиться признания московитян.
А задача Повадьина с Яцким — кивать, подтверждать всем вельможам: мол, знаем монаха давно, вместе прятались от Годунова у благонадежных людей и что он, дескать, точно царевич.
Варлаам, к удивлению Отрепьева, сразу принял затею: думал, может, какие-то шутки Григория. Но Повадьин как запер язык на замок, кусал травки до самого Дермана.
В деревне-предместье Яцкий «пошел печь колобы» с миловидной торговкой, мол, «подай-ка блин, чтоб прошел как клин», «ах, купил бы и сала, да денег не стало»… «а запить ничего нет, червлена боярыня?».
— Сейчас, сердешный. Водички?
— А то? По мне, питья нету слаще воды, как перегонишь ее на хлеб!
— Угощу, ладно, только сам блином масленым в рот мне не лезь, — разгадала Варлаама торговка.
Повадьин тронул Григория за рукав, мигнул на Яцкого, — дескать, пускай лясы точит. Отошли, сели на глиняную основу избы.
— Я привел тебя в эту страну, — сразу сказал Мисаил, выплюнув ядовитую вочку, — приглянулся ты мне, что ли. Я привел. Но глядеть, как башку твою не протазане на страх и потеху кремлевскую выставят, я не хочу, уж избавь. От затеи тебя отговаривать, чаю, без толку. Но и руку в бесовском огурстве на старости лет не подам. Ты да Яцкий Бориса-царя только хаите, а ведь, коли сживет его кто, Русь совсем пропадет… Только нет, што я? Где вам, телята вы пьяные, скучно с вами, я лучше пойду на Афон.
Григорий слушал Повадьина, как провинившийся школьник, ковырял глинозем полинявшим носком сапога. Только скулы ходили упрямо, сказал тихо:
— Не забирай Варлаама-то.
— А чудо-богатырь мне на что? Не я воевать собрался.
Повадьин поднялся.
— Перекрести хоть, — напомнил Григорий, глядя в землю.
— Крамолу скуешь — перекрестят.
На грани мудрости
До богослужения греков-святителей было еще далеко. Григорий тосковал, попав снова в мужской монастырь. Но Яцкий был очень доволен, метал прибаутки, нагуливал жир, номинал только в недоумении Повадьина.
— Слушай, кот Баюн, — сказал ему как-то Отрепьев, — говорят, за рекой, недалеко, какая-то Гоща. Сходим, что ли, разведаем город.
Варлаам только фыркнул, провел по набитому брюху:
— Туго, как бубен, хорош здесь игумен.
— То голодный ты, брат, еле шел, а теперь уж и сытый не можешь?
— Да, не евши не мог, а поел — и без ног, — подтвердил Варлаам.
Отрепьев пошел гулять в Гощу один.
Там он был поражен католическим храмом. За прочными покойными церквами, как ростки покаянной земли, его шпили пронизывали серые облака, выбиваясь до горнего воздуха. В ложных арках фасада Отрепьев увидел недвижных людей, но, подойдя ближе, понял: они не живые, а выточенные. Остановив проходившего сгорбленного ремесленника в соломенной шляпе, он спросил:
— Это что же, языческий храм? Деревянные идолы вон, я смотрю.
Ремесленник увидел, что перед ним человек с Москвы, распрямился и гордо ответил:
— Сам ты идол. Резьба ренессанса, лепня. Три апостола с книгами.
— Фу, фу, фу, — передразнил хвастуна Отрепьев и двинулся дальше.
«Видел бы нашего Васю Блаженного, — думал он, почему-то озлясь, — так небось бы заткнулся».
На протянутом, точно конюшня, приземистом здании выведена в латунных крестах и латынью, и вязью толковая надпись: «Учение Фавста Социна».
«Школа, что ли? — прикинул Отрепьев. — Почему тогда розг не слыхать или плачущих учеников?»
Он подошел ближе. Из распахнутого окна нижнего яруса доносился взволнованный старческий голос:
— А сия прецессия объясняется попятным движением проходящей экватор эклиптики.
«Это он не по-русски», — смекнул только Григорий, тихонько пробрался к окну.
В небольшой горнице сидели люди: длинные патлы у всех, как у монахов, а ряс нет ни на ком. Сбочь повешенной на стену гладкой и темной доски стояли двое. Один объяснял про «прецессию», а второй сперва слушал со злобной усмешкой, а потом, видимо потеряв терпение, схватил белую тряпку и стал растирать меловые значки и круги по доске.
— Что за ересь? — кричал он на старого. — Значит, пятиться к древним системам? Для чего тогда бились Коперник и Фавст?
— Чтоб нас папа за новые взгляды казнил!
— А чем новые взгляды твои? — перебил снова тот, с тряпкой. — Сиракузские формулы знает всякий монах, а уж скажет складнее тебя.
— Здесь использован лишь дифферент Птолемея… — начал было докладчик, но только вывел из себя стирающего, и тот швырнул в него тряпкой. Докладчик пригнулся, меловая тряпка попала в Отрепьева, облокотившегося на подоконник. Взгляды всех обратились к нему.
— Вот увидите, все то же самое, — обратился противник ко всем. — Слышь, дружок, поди к нам, — пригласил он монаха, не смущаясь своим попаданием, — расскажи-ка нам, как создан мир.
Григорий готов был поклясться, что спутан здесь с кем-то другим, но все же сощурился, припоминая «Индикоплов»[42].
— Земля — плоскость, яко скиния Моисеева, сверху покрыта твердью и стоит на твердой основе, люди есть на одной стороне… Солнце прячется ночью за горы, и служебными духами движутся звездочки…
Сначала глаза округлились у всех, потом секта вся (как сидела) по чуть-чуть начала сползать на пол.
— Ну уж это… того, — непонятно сказал тот, что задал вопрос, когда снова смог стать непреклонным и злобным, — а с другой стороны, значит, это… того… нет людей?
Отрепьев ответил язвительно и подбоченясь, решив продержаться:
— А с другой стороны быть не может людей, иначе бы они упали бы.
Снова хохот: «Упали бы!», «Твердь! Нет, это ты, брат, пальцем в небо!», «Да откуда же взялся такой — к первогодкам его!»
— Подождите, ребята. Не знаешь ли, юноша, кто живет в Индии? — заговорщически подмигнул друзьям один.
— Мактиторы в Индии. Зубы у них в три ряда, а нога одна, ею они закрываются, как опахалом, от солнца…
— Слушай, хочешь учиться? — спросил серьезно, всмотревшись в монаха, сердитый сектант. — Но учти: твой игумен тебя не похвалит. Не в чести мы, социниане, у пастырей ваших.
Григорий тоже ощупал внимательным оком смешливое братство. Может, просто веселые люди, шуты, или вовсе какие-нибудь слабоумные? Только нет, непохоже: лица добрые, дерзкие, — Григорий не видел таких и у книжников на патриаршем дворе, лица, крепкие знанием точных понятий, закаленные вечным борением дум.
— Сам я себе настоятель, — решился Отрепьев, — только чур: научить меня быстро всему, до субботы.
— Хват! Да кто ты такой, чтоб курс за неделю тебе преподать?
— Угадайте!
— А что тут гадать: монах ты, и все.
— Теперь вы пальцем в небо.
Отрепьев с размаху метнул тафью под ноги, выпалил одним духом:
— Я — переодетый царевич Димитрий.
Уловил верхним краешком сердца: кто-то в сочувственном ужасе и вечной рясе замер, оставшись один наверху…
Ариане[43], последователи краковского старца Социна, с немалым рвением принялись за обучение «царевича». Проповедник Матвей Твердохлеб разгромил все твердыни его представлений о Ветхом и Новом Завете. Богословие арианства выводило Всевышнего менее жутким, Христос же и вовсе считался простым человеком, и на угнетение личным богатством кабальных холопов социниане смотрели как на преступление против Христа. Отрепьев чувствовал сердцем прозрачную прелесть воззрений своих новых товарищей. Все сектанты его тоже очень ценили, Матвей успел шепнуть каждому: если Димитрий когда-нибудь будет признан московским царем, арианскому братству должно повезти.
Отрепьева убеждали загодя в том, что учение Ария и Фавста уже пустило глубокие корни при всех королевских дворах европейских держав, и даже в Запорожской Сечи гуляет вольный казак-арианин Герасим, за верное понимание заповедей прозванный Евангеликом.
В богословии и философии Григорий особенно преуспел; в иных науках, чтоб чуть-чуть поумнеть, надо было запомнить сначала бессвязное множество терминов, а здесь все знакомо: строптивая логика на чистом месте. Когда Матвей Твердохлеб начинал объяснять ему несправедливый строй общества, Григорий даже подхватывал и шел с учителем чуть не на ровнях.
— Вот когда я буду царем, то всего всем дам вдоволь.
— Нет-нет, так тоже нельзя, — пугался Матвей, — тогда как овладеет людьми искушение? А не будет искуса, не быть добродетели высшей, она же его оборот.
— Ну и что, пусть вздохнут люди, — не соглашался Отрепьев, — пусть все эти вещи не действуют.
— Ну глаголил! — смеялся учитель. — Разве мир устоит без боренья заоблачных помыслов с чарами ада?
— А вот дети, — вспоминал вдруг Отрепьев, — какие особые помыслы и добродетели в них?
— Вот. А все потому, что в них нет сатанинских страстей!
— Ну вот видишь, — подсказывал Отрепьев, — а смотреть все равно ведь приятно.
Соглашались в одном: что в книжном и выпившем человеке много всего намешано.
— В единичном лице будто несколько лиц, — умствовал Твердохлеб, — я так думаю, недалеки времена, когда и одному человеку будут говорить: вы.
С астрономией, химией было сложнее: поначалу Григория все удивляло, потом стало теснить, раздувать. Ему представилось, что он станет самым великим монархом, основателем вольной, премудрой страны. Он напал на невзрачные литные книжки, изъясняющиеся не разнотравием слов, а емкой арабской цифирью.
Только вскоре Отрепьев увидел ничтожность свою перед этими книгами. (Иных мест даже гощинские учителя не могли прояснить.)
«Для чего мне весь мир, все утехи и слезы его, — еле двигалось творческой ночью в его голове, — если я не могу раскусить эту черствую, заледеневшую строчку, расписавшую все существо». И пропал бы монах в темных дебрях арабских значков, если бы не шпионом и пажем приставленный к нему развеселый поляк Ян Бучинский.
Ян не забывал вовремя причастить принца бастром[44], и тот свежел, забываясь.
Как-то утром Отрепьев с Бучинским похмельными вышли из школы и заслышали радостные колокола. Православные церкви сзывали своих прихожан на кирилло-мефодиеву литургию.
— О, я же должен быть в другом месте, — всплеснул руками Отрепьев.
— Як ты хцешь, Димитр, идзем разэм, — отозвался Бучинский.
Раскачиваясь, напевая псалмы, двинулись в Дерман. Пристали по дороге к двум крестьянкам, несущим дары в монастырь. Тяжелые корзины с дарами — яичками, сальцем и сдобой — давили на плечи женщин, а тут еще сбоку навешивались «филозофы». Крестьянки ругались. Забранились и пьяные.
— Лепей отэйдз, Димитр, ты — мних, — отгонял Ян Григория, — тобе не можно мец слабосци к паннам.[45]
Биение многих копыт в подлетающем облаке пыли вынудило всех убежать на обочину. Но облако не миновало прохожих, пало вблизи, передовой всадник, старец в панцире, осадил перед ними коня. С разлета, с трудом остановилась и его свита.
— Срамник рясный! — загремел голос старца, осиплый, но сильный. — А ты, Бунинский! Я дал братству вашему кров, пособил и карбовцами, думал, люди ученые, благочестивые, а вы только поите бродячих монахов, охмуряете даже паломниц. Не смейте на празднество оба соваться в обитель мою!
Ян Бунинский не был трезв или робок настолько, чтобы смолчать.
— Ясный кнезь Константин, — поклонился он, едва не свалившись, грозному всаднику, — я буду давать справозданя[46], коли выпию или в обществе женщин, которое я изберу, разве только синьору синода[47], а сей юноша, хоть и одет мнихом, и жил в монастыре твоем в Дермане, волен в действах своих еще боле меня, волен, кнезь, пшиказаць скопить с коня тобе и цаловаць кравэндзы його убранья…
Отрепьев приосанился.
— Этот юноша, — продолжал Ян, — есть природный царевич московский. Отпускает тебе, так и быть, безрассудны слова.
— Гей, ребята, — оборотился князь Константин к своим гайдукам, — взять бражников с собой, в монастырь, узнаем, что за птицу в нашем гнезде приютили и, коли не защитят ее там, взгреть обоих по всем мягким местам, чтобы помнили, как жартовать с воеводой Острожским.
Бунинский оказался не столько пьяным, чтобы в мгновение не отрезвиться, и брызнул в ближний овраг, полный жимолости и прочего куста. Отрепьев опешил и был пойман.
Варлаам долго не мог ничего отвечать, глядя то на Григория, то на старого князя в аквамариновых латах. Отрепьев начал тайно подмигивать другу, но князь приказал загородить его щитом, сам подмигнул Яцкому:
— Это кто?
— Где?
— За щитом.
— Григорий.
— Да? А вот он говорит, что — царевич Димитрий!
— Как?.. Ах, ну да, — Варлаам с перепугу присел, но его снова подняли.
— Так царевич Димитрий али Григорий?
— Григо… Димитрий.
— А откуда ты, монах, про то сведал?
— Григорий сказал.
В дальнейших расспросах не стало надобности. Константин Константинович приказал запереть бражника в свободную келью до окончания праздничного молебствия, а там уж он с ним «потолкует по-свойски».
Хотя за плечами самозванца, по-видимому, не стояло никакой знатной силы, Острожскому что-то нашептывало: его планиду лучше сразу окоротить. «Хорошо, дурак, мне попался, — с презрением, но и неясной опаской думал князь, — а не представился тем забиякам-безумцам, что подзуживают воевать с Москвой короля, уж они щегольнули бы собственным принцем». Князь Константин Константинович знал: «посполитому рушению»[48], обессиленному рубкой в Ливонии, не добыть славы в новой войне. Хотя все пращуры старого князя деятельно враждовали с Москвой, сама мысль, что неумный католик-король вновь столкнет православные земли, возмущала Острожского. Вообще князь был большой просветитель, надежа Византии: и в Остроге, и в Дерманском монастыре стучали его новенькие словолитни[49], константинопольские дидаскалы и светские учителя, приглашенные им, собирали приличные аудитории в Галиции и Литве. Князь считал самостийное, тихое сеяние и прорастание зерен учености в сумрачных почвах самым прочным из завоеваний.
Отрепьев, припав к чугунной решетке окна, замурованной в стену, чуть расслушивал за плясом малых колоколов величания:
— …Кирилле и Мефодие Богомудрии. Владыку всех молите, все языки Словенски утвердити в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша…
Шел второй день молебствия. После заутрени Отрепьеву принесли хлебца с первыми нежинскими огурцами, а перед вечерней, он знал, принесут молока. Скрепя сердце Григорий готовился к этому времени. Всю утварь нежилой этой кельи составляла копна старого сена на лавке со сломанной ножкой. Отняв еще одну ножку, Григорий упер лавку в угол для стойкости; скинув рясу, набил ее серой травой и в траву же искусно зарыл, сделав спящего схимника. Сам присел возле двери, сбочь выпуклых петель.
Во дворе ржали лошади новых гостей, вот усмирились, — наверно, расседланные. Возвещая вечерню, снова ожили колокола. Где-то рядом возникли шаги, приближались поспешно — человек опаздывал в церковь. Загремели ключи; крякнув, дверь приоткрылась, потом распахнулась совсем. Гайдук, уже безбоязненно переступив порог, пошел к лавке.
— Эй, никак не проспишься, ворона! На вот мо…
Григорий рубанул сзади лавочной ножкой, ребристым сосновым поленцем. Кувшин мягко пропал в черепках на полу, скользнув из рук ослабевшего, — белизна освятила всю келью.
Кинув деревянную ножку, Григорий подхватил оседающего гайдука и сложил в неприметное место недавней засады. Затаив жуть, выглянул в коридор: пустота, своды дальних покоев, ни крика, ни всполоха. Люди князя и братия уже на молебне. Полетел на носках вдоль дверей, спохватился: осмотрел себя — шерстяная, видавшая виды рубаха, парчовые штаники в латках. Такому куда?
Вдоль по стенам от главного входа до трапезной, откуда доносятся перезвоны посудного серебра, расставлены ратные латы гостей, кладенцы, арбалеты и ружья. Настоятель, ведя христиан к угощению, заодно будет это кропить. Отрепьев выбрал доспехи поглуше, с полновесным забралом, гравированными заострениями на локтях и носках сапогов, — может, бронь эту доблестный воин еще при Грюнвальде отнял у Тевтонского ордена.
Монах-конюх, занятый вместо вечерни созерцанием и холей гайдуцких атласных коней, вздрогнул и окрестил их, заслышав железную поступь.
— Что так рано от нас уезжаешь, любезный? — спросил, кланяясь, подошедшего, строго оборудованного рыцаря из княжеской свиты, в подслеповатом шлеме и с ружьецом в руках. — Который твой конь-то, давай заседлаю.
— Коатин Коатинович поылает меня бу-бу-бу, — произнес рыцарь неразборчиво, как из бочки. Указал на малорослую крепкую лошадь.
Монах, конский угодник, так ласково обратал и зануздал татарского скакуна что тот подпустил безо всякого гнева Отрепьева.
— Хочешь, загадку задам? — спросил дерманец, расстилая потник и пахву[50]. — Ниже собаки, выше лошади.
— Се-о, — промычал в шлеме Отрепьев и, сев в загаданное, дернул повод.
— Умный одно слово вымолвит, а уж ум скажется, — польстил витязю монах, — эх, узда наборная, лошадка задорная! — уже завистливо говорил он, глядя вслед поскакавшему всаднику. — Такому всё прах!
На грани Дикого поля
В белом ковыль-море шел рысью бахмат с бронированным всадником. Острова зверобоя порой закрывали с ушами коня, — казалось, рыцарь сам собою, кузнечиком скачет по травам. Легкий шлем, накаленный степным жутким солнцем, был снят и пристегнут к узде, голова рыцаря маленьким мячиком упруго вздрагивала над латами. Странник часто привставал в стременах и вытягивал шею, так он ждал появленья Днепра. Но вокруг только волны полынные ветер катил по степи да шарахались дрофы и стрепеты, вспугнутые бегущим бахматом. Всадник вздыхал; позволяя коню отдохнуть, бросал поводья, а сам, опьяневший от марева, закидывался в седле, запевал. То могучий церковный распев, то мирская привольная песня с необъятной, со смертной тоской по веселью тогда оглашали безлюдный простор. Тенор юношеский то затихал, то внезапно взвивался, будто припомнив любезный напев. Наконец рыцарь стих от какой-то прихлынувшей думы, но совсем ненадолго, опять распрямился, тряхнул головой и всему рассиянному дикому полю зыкнул с дружеским вызовом, звонким огурством:
— Ты-ы-ы, царство!
Фью-и-ить — просвистело легко за спиной, вместо прежнего звука голос коротко хрипнул, сожженный змейкой аркана. Рывок — рыцарь сброшен с седла, с лязгом грянулся оземь, степь пропала.
Он с возлюбленной шел к материнскому благословению. Мономахова шапка давила на темя. Оторочка соболья ласкала ресницы, но застила свет. Он встает на колени пред образом, но сквозь меха различает вдруг ясно: вся в огнистых перстнях держит, водит икону пугливо не материна рука. Тяжело, как налитую сталью, поднимает он голову, видит чужое лицо. Поворачивается и к милой: сказать, что не к месту пришли, но и тут замечает подмену — от шитого жемчугом косника до губ опадает батист с вытканной травкой, но губы видны, улыбаются, тонкие, хищные. Рыцарь так ужаснулся, что выскользнул из забытья. Небо блеклое, знойное — далеко. Вспомнил — нет, он пока что не царь, а расстрига Отрепьев. Близко — копченое, радостным диском лицо, остроконечный тюрбан. Ятаган перед носом. Татарин сидел у него на груди, — видно, думал: добить ли, забрать ли в Орду? Увидев, что пленник очнулся, охотник радушно оскалился, сделал знак ятаганом: вставай. Григорий, хватаясь за пардову шкуру[51], свисавшую с басурманского скакуна, еле-еле поднялся с земли. Кости вроде бы целы, но степь все еще колыхалась, плыла. Поганый с хрустом заломил ему руки назад, стянул, завязал там каким-то канатом:
— Карашо!
— Слушай, воин, — возразил наконец-то Отрепьев, — ты ведь знаешь, я кто? Царь секретный.
— Карашо, — рассмеялся татарин. — Карашо, бачка-государь. Калым за тебя большой будет.
Он поймал отрепьевского бахмата, помог связанному сесть в седло и, чтобы не шлепнулся, привязал его накрепко к лукам. Запрыгнув на своего тонконогого, протянул от поводьев бахмата канат, намотал на ладошку:
— Айда!
Двинулись мелкой хлынцой.
— Дурак, богатеи князья меня только боятся. Только радешеньки будут, что я в крымском плену. Уж скорее заплатят тебе, чтобы в клочья меня изрубил.
Степняк кровожадно взглянул на добычу. Григорий понял: сказал что-то не то — и быстрее поправился:
— А вот если служить мне надумаешь, войско охочих с собой приведешь, — вот тогда сам пожалую тя, хочешь — шапкой боярской, хочешь — вотчиной в Костроме…
Татарин сощурился, но в разговор не вступил, — быть может, всего не понимал по-русски, а может, считал, что его шапка — самая лучшая.
Так ехали. Кочевник пел одинаковую, ровную, как степь, песню да из лука расстреливал дроф. Ружье Григория он использовал исключительно в поварских целях: горючей затравкой в костре зажигал очерет[52], а на шомпол нанизывал, жарил над пламенем птичек. Вброд переходили неглубокие степные речонки с большой осторожностью, татарин подолгу крутил головой в камышах, прежде чем приказать коню двинуться в воду, — опасался рыбачащих запорожцев. Здесь был промысел знатный: эти дикие реки кишели сомом и подуздом, косяки кочевали в прохладной прозрачности.
Впрочем, как ни боялся татарин, встречи с казаками миновать не пришлось. На второй день пути грянул залп, над овражком в чилиге[53] пыхнуло три белых дымка. Шапку сдуло с кочевника, но сам он остался в седле. Свистнул, гикнул: нахлестывая скакунов, и своего и отрепьевского, полетел по степи. Но казаки не унывали, — бросив ружья, вскочили они на коней, вчетвером понеслись за поганым. Будь татарин один, он, конечно, ушел бы. Но прикрученный к луке Отрепьев не мог галопировать правильно, мешком бился на холке бахмата, и тому было тяжеловато бежать.
Казаки настигали. И степняк натянул повод, отказался от бегства. Он выхватил лук из налучья, наложил на кольцо халкедонского камня стрелу и так ждал. Когда между погонею и беглецами оставалось не более сотни саженей, тетива прозвенела. Казак покатился с седла. Хладнокровный кочевник достал и прицелил вторую стрелу. Отрепьев так понял: пришло время действа. Он окованной сталью тевтонской ногой, острием на носке сапога что есть силы махнул, саданул под ребро скакуну басурмана. Конь шарахнулся, взвизгнул, взвился на дыбы — басурман растерял лук и стрелы, ловил судорожно скачущую узду. Но уже подлетал жаркий ветер, сверкнули точеные брызги.
— Запорожцы, не смейте, — кричал, воспрещая расправу, Отрепьев, — он мне армию обещал!
Но как маковыми лепестками промакнули татарскую бритую голову, и зарубленный крепко обнялся со степью.
— Нехристь, на вот тоби за Стецка!
— Батьку, що з ляхом-то зробить?
— Перед Богом Христом ровны вси: що кацап, що еллин, — с важностию процитировал Евангелие старший, казак в атласных лазоревых шароварах, нарочито уделанных дегтем из презрения ко всем обольщениям мирским. — Роз-вяжите его, хлопцы. Нехай идет з Богом. Славь, иди: Сечь и вера спасли тебя.
У спасенного затекшие руки висели как плети, одна короче другой. Он спрыгнул на землю размяться, подошел к старшине:
— Евангелик? Герасим?
— Ну слухаю, — тут же ответил казак, но, взглянув на зовущего, часто захлопал глазами: — Хлопцы, дывытеся — вин до мене.
За пьянство во время лихого похода запорожский казак по закону карался немедленной смертью. Но едва выпадал по случайности мир, остров Хортица весь одевался туманом и зыбко качался на волнах Днепра. Кто живее других пропивал боевую добычу, шел на промысел в только им знаемые заветные речные места за бобрами. На Сечи оставался лишь тот, кто еще не истратил карбовцы и силы в отважной гульбе. Потому-то приезд запыленного рыцаря со старшиной Евангеликом был едва удостоен внимания сечевиков. Кто плясал под бандуру и скрипку, продолжал трамбовать каблуками просторную площадь; кто, бесчинствуя, рвал у товарища чуб, не оставил свое удалое занятие; кто раскинулся в центре майдана обрушенным памятником и не подумал ожить.
Евангелик смог, впрочем, собрать куренных к кошевому, те по должности все же старались хранить человеческий облик. По дороге кой-как объяснял, в чем вопрос: дескать, сам не пробачу якого друзья-ариане прислали царевича.
В крытой дерном избе, или хате, пришлеца усадили на самый большой ворох шкур. Атаманы сперва постояли, послухали, потеребили усы. Отгадав, что вельможа нестрашный, присели, затеплили трубки. Кошевой Сагайдачный повел осторожный, кичливо-пустой «политик», коим мог бы стяжать себе славу при венском дворе.
Но Отрепьев легко одурел от саврасых и пегих дымов, помнил только: сидеть поважнее. Кошевой, рассудив, что гость слаб в разговорной премудрости, сам раздумал юлить, выбил трубку на пышный персидский ковер и сказал:
— Може, ты и царевич… Мы люди степные. Вот що бы шукал ты варшавского трону и звал нас на ляхив, яки лепят на вильной Украйне костелы да хочут в холопское быдло козачество перекроить, мы бы и души не пожалели. Но ты нас зовешь на Москву, называешь злочинцем Бориса, а Сечь к нему мыслит. Борис нам зброение[54] шлет, гроши жалует. Це вчасно[55]. Король Жигимонт год назад страхом смерти своим забронил и пищали, и зелье сюда продавати. Годунов просит нас против крымских татар и Туретчины выступить, славное дило. А ты пидбиваешь с татарами снюхаться, купно вломиться на Русь.
Куренные согласно кивали в дыму.
— По нам кто на троне — тот царь и Москва. А московскую милость мы ценим. Православная Русь не песчаная шляхта, дел товарищества не стесняет. Мы пойдем на татар. Вы пока тут с Борисом рядитесь, решайте, кто царь. Запорожское дело — окраина.
Отрепьев поднялся, поняв: ему лучше на воздух. Куренные его проводили неясными, дымными взглядами.
Наутро Григорий седлал, гневно дергая сбрую, бахмата.
— Нет пророка в своем отечестве, — утешал Евангелик, — а то оставайся в Сечи. Обучу тебя конному бою. Що за дило, царевич, холоп ли — вместе будем гулять да врагов христианства крошить.
— Ни, — мотнул головою Григорий, — спаси Бог за душевное слово. Но сам рассуди: разве можно, чтоб волею Божьей наследник всех царств подчинялся хохляцкому гетьману и куренному? Не можно. К тому же, — прибавил он, вдруг рассмеявшись, — безмерно крутые порядки у вас. Баб совсем не пускаете, что ли, на остров?
— Совсим.
— Ну вот видишь.
Незаметно откуда-то к ним подошел кошевой. Он принес несравненный кинжал в ножнах, густо посыпанных гиацинтами[56].
— Цесаревич, — позвал он Григория, — хотел без подарка утечь? Не к невежам московским заехал. Высоких гостей здесь одаривать принято. Ляхов дарим коврами, скатерками турскими, дескать, скатертью путь с Украины, турок — чешскими кубками, в смех сухому закону их, а того, кому верим, откуда лукавства не ждем, мы дарим оружием, цесаревич.
Кошевой смотрел очень хитро, но Отрепьев был тронут и принял кинжал. Евангелик отвлекся в иудейскую лавку (он думал уже заказать угощение), и тогда атаман, снизив голос, по-русски сказал:
— Друг наш рыцарь литовский Адам Вишневецкий враждует с Борисом. Из-за спорных земель третий год межевые их судьи бранятся. Князь Адам городище поставит, а московитяне сожгут. Адам шибко сердит на Бориса, ты понял? Ты, помазанный хлопчик, в игре этой козырем в княжечью руку придешь.
— У Адама-то много ли ратников? — сразу спрашивал дальше Отрепьев.
— Мало. Но Вишневецкие — имя. Их слушает шляхта, король… Еще вот что… Сейчас, как проедешь в предместии Крамную площадь, спроси кантарееву хату, там пьют гости с Дону. Шепни им, кто царь.
Кошевой озирнулся и вдруг поклонился, тряхнул чубом с проседью. И тут же пошел восвояси. Отрепьев ему не успел и «спасиба» сказать. Не знал «цесаревич»: еще на кругу атаманском старик втихомолку обдумывал мысль: а не выкатить ли из погребов заповедных бочонки с горилкой, напоить до безумия Сечь, а там кликнуть: вот тот, кто себя называет кацапским царем и приехал сюда продавать нас татарам. «На погибель ему», — заревела бы тысячью глоток толпа, и от парубка вмиг места мокрого бы не осталось. А погиб человек — отлетела морока. Но потом кошевой передумал, пришел к самозванцу с кинжалом и добрым советом. «Нехай две щучихи, — смекнул он, — Россия и Речь Посполитая стравятся, зато мы, окуньки, целей будем».
Андрей
В кантареевой хате Отрепьев увидел: сидит, метет стол смоляными кудрями нездешний, на вид суховатый казак. Казак поднял голову и увидел: в зажженном лучами встающего солнца дверном окоеме стоит, сам лучится пузырчатым панцирем рыцарь.
— Ты кто? Ангел смерти? — крутнул языком наудачу казак.
— Я царевич Димитрий, — ответствовал ангел.
— Все одно ты покойник. И ты думаешь: я забоялся? Сейчас узнаешь, как сманивать в ад казаков!
И донец, размахнувшись, обрушил на беса клинок. Тот успел увернуться, подставив наруч, шашка только скользнула по гладкой броне — увлекла донца на пол. Там он и остался, уснул.
Когда он проснулся, солнце било сквозь войлок на крыше прямыми отвесными пиками. Рядом кто-то дремал в пышных латах, приткнувшись в углу. Казак постучался к нему в гравировку поножи:
— Ты тут кто?
— Я живой человек, не покойник, — поспешно ответил разбуженный.
— Намекаешь, что я так упился, стал на выходца с того света похож? — Донец подышал на зерцало лат гостя, протер и увидел отечное злое лицо. — Все, браток, чтоб еще я притронулся к адскому зелью…
Смел недопитую сулею[57] со стола, тяжело опустился на лавку.
— Погутарь со мной, друже, мне скучно. Звать меня атаманом Ондрюхой Корелой. А тя?
Рыцарь, видя, что минуло пьяное буйство, рассупонил, снял латы, подобрал сулею, чуть плеснул в деревянную кружку.
— Похмелься! — подождал, пока выпьет и порозовеет казак. — Атаман, я наслышан про битвы твои. Атаман, на тебя вся надежа. Узнай, я сбереженный царевич Димитрий.
И пришелец поведал донцу о чудесном побеге от злобных Борисовых слуг, долгих странствиях, светлых знамениях неба и о замыслах черных Бориса — ополье донское и волжское у казаков отобрать. Корела, умнея, смотрел безотрывно на сказывающего, ворошил смоляные нерусские кудри. «Черт дери Запорожье, кого тут не встретишь, — так думал. — Димитрий воскресший. Али врет? Но всю землю, видать, обошел. Эк ведь нужды казацкие знает. Будет царь настоящий — не для барской сволоты, ради бедных людей».
Когда объявившийся Дмитрий окончил сказание, казак предупредил:
— Государь, я не знаю, как и величать и чем потчевать милость твою…
Рыцарь дал знак рукою: мол, не суетись.
— Ты скажи мне, Ондрюша, как мыслишь о речи моей? К кому тянешь, ко мне ли, к Борису?
— Что тут мыслить? — Казак потянулся, сверкнул белоснежной улыбкой. — Годунов разве царь? Просто писарь. Бить ли войску донскому татар вместе с ратью московской, охранять ли в степи караван, в караване посольство Бориса к султану — первым делом указ, — Корела нахмурил по-глупому черные брови, подражая чиновному русскому чванству. — «Имяна, и хто имянем атаман, и сколько, с которым атаманом казаков останетца, то б есте имянно переписали, и дали б посланнику, а посланник бы те имяна слати к нам». Тьфу. Ну писарь, и только.
— Да ты знаешь, пошто эта перепись? Чтоб в холопы точней казаков обратить!
Атаман помрачнел:
— А вот даве дружок мой Ивашка Шестков перешел в государеву службу, прельстился дворянским окладом. Атаманом был вольным, стал царским поместным. Да ладно бы то. На земельной поверстке в Цареве Борисове белгородский помещик признал в нем холопа свово ж крепостного, мальчонкой утекшего в степи. Влепили Ивану все двести плетей и на пашню. Уй, срам-то! — Корела обрушил на стол богатырский кулак, спохватился — возможно ли так при царе.
— Ништо, атаман справедливый, ништо, — успокоил Григорий, — возьму свои царства, сыск бедных, утекших от барей негодных своих, отменю, а казакам дарую все земли по Тихому Дону, Донцу, по Яику и Тереку, всем обещаю извечные вольные лета.
Карела поднялся, похмельной влагой сияли глаза, руками как будто брал сердце.
— Государь… государь… да за это что хошь… да за это… — Корела не знал, куда дальше деть руки. — За это… — пригреб еще кружку, затряс сулею, — за это вот выпить бы ща.
— А кто давесь божился, Ондрей? — Пришлец пронизал казака горьким взглядом.
Казак зарычал, снялся с места, схватил самопал, сулею и — на волю. Там поставил бутылку на столб коновязи, отмерил пятнадцать сажен и, почти не прицелившись, жахнул. Блеснули осколки, горилка плеснулась на чуб запорожца, чинившего свиток под этим столбом.
— Це добре, — невозмутимо отметил хохол меткий выстрел донца.
Корела, обрадованный, повернулся к царевичу: вот, мол, видишь, уже и рука не дрожит.
— Князь Димитрий, вели: скачем вместе на Дон! Соберу тебе силу несметную!
Только круг куренных научил «цесаревича» скромности: пусть Корела — лихой атаман, кто сказал, что у них на Дону все такие родные?
— Нет, меня ожидают свершенья в Литве. Ну а ты отправляйся, не мешкай. Я же грамоту вашим сейчас начерчу. Коль другие донцы-атаманы в раденье ко мне от тебя не отстанут, собирайте полки, присылайте гонцов… в Вишневец, да на случай сюда, к кошевому.
Только час пополудни Григорий покинул веселую Хортицу. Его ожидал прежний путь от высокого левого берега Днепра, а Корелу — от правого. Вслед за «цесаревичем» на паром завели коней десять трезвых оружных казаков — Сагайдачный прислал гостю свиту с наказом «не дать его в трату в степях».
Когда земли Дикого поля стали мало-помалу сменяться полями жнивья и повеяло сытным дымком хуторов вишне-ветчины, «цесаревич» отпустил казаков, одному из них он подарил свой тевтонский доспех из опаски, что ищет пропажу Острожский. К тому же доспех не годился для нового замысла, так как «Димитрий» решил быть умнее с вельможами, сразу не бить себя в грудь кулаком: «дескать, знаешь ли, кто я такой», а смиренно пойти в услужение к князю Адаму и, только разведав биения сердца его, на сердце воздействовать тонко и точно.
Адам
Чигиринский майдан весь уставлен стольцами и лавками, по случаю ясного вечера повытасканными из пивных погребков. Скотопрогонный день миновал: тароватая шляхта, жолнеры и чиншевики[58] обмывают покупки. Отовсюду летит панский хохот, стук кубков и чаш, равномерный застольный гудеж то и дело взрывают виваты и тосты во славу и честь Вишневецкого. Князь Адам приобрел у мурзаек[59] сегодня восьмерых анатолийских жеребцов, великолепную лишнюю упряжь и теперь угощает все съехавшееся на торговый кут рыцарство. Он и сам, как обычный линейный жолнер, сидит здесь, с кружкой меда за крайним тесаным поставцом, млея, слушает сказки ближайшего гостя. Его фигура широкой кости, сами собою закручивающиеся усы, в глазах блеск влажной стали, большие ресницы — все выдает в нем чувствительного, но крепкого бражника.
Собеседник князя, рыцарь драгунской хоругви[60] киевского воеводства шляхтич Гродзицкий, рассказывает, как его господин добыл «лягушонка-царевича», хотел сделать французское блюдо, но «царевич» тот, соколом вмиг обернувшись, упорхнул из темницы — в руках воеводы оставил только свою «лягушиную кожицу».
— Стареет Константин Константинович, — сентиментально замечал князь Адам.
— Этот распоп, называющий себя русским царевичем, — продолжал Гродзицкий, — невысок ростом, бородавка возле левой ноздри и, как утверждают приглядевшиеся дерманские монахи, одна рука его несколько короче другой. Накажи, князь, будь ласков, холопам и слугам своим: коль увидят такого, повязали б, не мешкав, да потом отошли шутника к воеводе Острожскому, то-то старый мой пан будет рад.
— Лады, ладушки, — согласился легко князь Адам, поймал щенка-меделяна, гуляющего по поставцу меж братин, притянул к лицу тупоносую задорную мордашку: щенок начал кусать усы князя Адама. — Ах ты, цуцик, шутник, арлекин, — смеялся князь, из-за шерсти кутенка хитро взглядывал на драгуна Гродзицкого, видно, не был по правде хмелен.
Из Чигрин-Дубровы при Днепре, самого юго-восточного городка Вишневецких, граничащего с Диким полем, Адам Александрович отправился в Брагин, свое небольшое местечко при широком накатанном шляхе от Лоева до Чернобыля. Появление князя и здесь вызвало бурю: московские приказные, уже его поджидавшие, наперебой застрочили, что «люди Адама зашедши многи места и пределы московского царства» и что, «ежели те не оставят Прилуков и Снетина, царь Борис будет жаловаться королю Сигизмунду» и все прочее. Князь, уставший с дороги, разрешил Борису жаловаться.
Проходя по покоям, расшнуровывал пыльный кунтуш; сзади нудил немец-дворецкий, сообщал, сколько талярей[61] князю пришло с хуторов, сколько с мельничных колов.
— Будет врать-то, — перебил Адам Александрович, — пойдем поклюем что-нибудь.
— Мы не ждали ясного пана так рано, — повел бровью дворецкий (был малый с характером), — Бранислав еще не зажарил бекасов, и с каштанами взвар не готов.
— Ну пускай подадут хоть грибов с хреном. Вечно возится этот Бранислав. Почему еще повара не наймешь?
— Мастера скоро не попадаются.
— Да взгляни: всюду беженцы от мерзлоты, что идет на Москву.
— Всюду резчики людей либо воры, ясновельможный пан, — поправил дворецкий, — либо сеятели и жнецы, те, что пашут дубовой сохой и опытны не в приготовлении пищи, а в голодании от неурожая до неурожая. Впрочем, — замялся немец, — просился к вам на службу один человек. Он показался мне достаточно образованным, только ваша супруга, посмотрев, запретила.
— Ну, если Грезка запретила — гнать в шею… А почему она против?
— Видимо, не любит бородавчатых бабников, — не сморгнув, ответил дворецкий.
Князь Адам, отдыхавший в венском бархатном кресле, вдруг напрягся, взялся играть кисеей, выспрашивать о желающем службы: возраст, рост и иные приметы.
Отрепьев уже собирался на Дон, лежа в брагинской лучшей корчме за червонцы, вырученные запорожским кинжалом, когда дворецкий, вошедший вместе с жолнерами, пригласил его к князю.
— Повар ты или кто? — спросил сразу Адам Александрович, подойдя вплоть к Отрепьеву и делая явственное ударение на часть вторую вопроса. Но Григорий помнил умное свое намерение и заверил вельможу, что он лучший повар Москвы. Вишневецкий пожевал под усами.
Между людьми задержалась — примеривалась, разминаясь — пухлая муха. Князя вдруг осенило: замахнулся как будто на повара, а сам ухватил, стер в горсти муху. Но Отрепьев не только не сжался, как следовало родившемуся рабом, а даже моргнуть не успел.
— Не наготовишься на этих птах, — объяснил он по-своему действие князя, — и пьют, и хлебают!
«Благороден, не трус. Неужели троюродный брат?» — представил Адам Александрович, приходившийся дальней родней «московитому дому».
— Молодец. Отправляйся к Браниславу, в кухню, — заключил Вишневецкий и хлопнул невыясненного по плечу, что поуже.
Расстриге, занимавшему доселе при боярских и священских дворах только самые чистые, завидные должности, от конюшего до поэта, никогда не приходилось готовить (разве в Суздале варил на Пасху яйца; даже грибы, собираемые по пути в литовскую украину, монахи берегли до первого станового двора, а там вручали хозяевам с требованием жаренья с маслом).
Бранислав осознал вскоре всю кулинарную немощь Григория; тогда он предложил ему выполнять отдельные лакомства, так мастер мог быть уверен в неминуемой гибели наглого выскочки. Отрепьев сам понимал, что в готовке обычных блюд не ему состязаться с Браниславом, но он помнил пиры патриарха и решил произвесть удивление. Он нарвал слив-угорок, коими изобиловала вишневетчина, изъял косточки, вместо них вложил в каждую чищеный крупный орех. После этими сливами туго набил потрошеного жаворонка. Жаворонка он заключил в перепелку, предварительно разбултыхав в ней вино. Начинив перепелкой фазана, он взял порося. Не рубя, не кромсая, надрезал пасть, вытянул внутренности, залил две сулеи — сполоснул, как и прочие тушки, что стали его содержимым. Взялся жарить матрену всю сразу на зычном огне, кожу сжег, сердцевина осталась сырой, да к тому же еще, только князь Адам ткнул в это явство прибором, свинтус фыркнул ему на манишку венгерским вином.
Но явилось какое-то чудо. Хоть княгиня Гризельда и не прикоснулась к творению нового стряпника, сам Адам Вишневецкий жевал, с усилием двигая челюстями, да похваливал кухню боярства московского.
Расстрига-монах вдохновился: щуки, ряженные попугаями; начиненные колкой, усатой креветкой язи; кислый сбитень «медок» — все выпало на долю мужественного князя Адама. У него после первого же угощения не осталось сомнений: поваренок не тот, за кого он себя выдает. Заводил со слугой разговор о Москве и иных городах, вплоть до Углича, приглашал сыграть партию в шахматы, только тот притворялся, что может лишь в зернь.
«Может, это не тот, — стал задумываться Вишневецкий, — может, это ошибка, что руки различной длины. На взгляд — почти одинаковые». Вскоре князь Адам уже шпынял нового холопа, смотрел: не ответит ли на угнетение предполагаемый «благородный дух». Но благородный дух молчал. Отрепьев, закусив удила, изучал князя.
Наконец, князь Адам взял его прислуживать в баню, вдруг вспомнил, что нрав и повадки в парильне у голого как-то видней. Отрепьев полагал то же и обрадовался назначению (он уже откупорил на кухне пришедший из Польши бачок с пармезаном и гадал, где ему применить эту вещь: для горячей похлебки или к сладкому сырнику, как внезапно был вызван в парильню).
Адам Александрович уже раздевался в предбаннике.
— Что уставился? — пугнул он представшего повара. — Разоблачайся живей.
Григорий мигом скинул рубаху, исподние штуки и вдруг поймал изумленный взгляд князя. Как мог он забыть!
Князь Адам притянул его за золоченую цепку на шее, стал разглядывать в мелких карбункулах крест, с оборота прочел по-латыни: «Боже, храни наследующего».
Задрожали ресницы, усы… Князь рукой, ослабевшей внезапно, положил крест на место, в середку ключиц.
Дед Адама Александровича земно кланялся юному Иоанну (во время опричнины только отринул московскую службу), но сам Адам Вишневецкий был все же подданным Сигизмунда. Помолчали. Первым нашелся Отрепьев. По трепету княжьих усов он уже угадал, куда дует ветер.
— Что уставился? — изумился слуга господину. — Пойдем, мыльню-то выстудит.
Через полчаса заглянувший в пекло узнать, не надо ли чего, холоп-истопник различил сквозь клубы пара: ясновельможный пан Адам Александрович Вишневецкий, отдуваясь и жмурясь от жгучих брызг, вовсю хлещет березовым веничком нового служку, покрякивающего на полоке. Истопник объяснил сам себя угоревшим и, пройдя на воздух, вылил на голову шайку холодной воды.
Межевые судьи, воротившиеся из Заднепровья в Кремль, снова сетовали Борису Федоровичу на упрямого князя. Вишневецкий теперь, мол, не токмо кивает наследственным правом своим на украйные земли, а вовсе лишившись рассудка, кричит: «Мне Борис не указ!» — у него, мол, гостит настоящий московский царь Дмитрий Иванович, чуть не погибший от рук… нападавших.
Старший дьяк, павший ниц перед царем, колотил по ковру кулаками, показуя свое возмущение паном и тем подзаборником, коего пан приютил, «учинил и на конях, и на колесницах» и в коем он, старший дьяк, сразу узнал бы кремлевского «возвышенного инока», ежели бы не понимал, что этого никак не может быть.
Поначалу Бориса не очень встревожила жалоба на самозванца, пригретого южным магнатом. Но вызванный Иов затрясся, прослушав послов, — будто въяве увидел писца своего, сатанински хохочущего, в ярком убранстве. Принялся убеждать Годунова: Григорий и в монахах был чертом, а скинув рясу, конечно, стал ангелом тьмы. Испуг патриарха передался царю — он припомнил, что этот юнец (если только действительно это Отрепьев) служил прежде опальным Романовым. Не от них ли опять вьется ниточка заговора?
Неужели из мест заключения шлют условные посвисты преданным псам?
Годунов написал Вишневецкому: пусть берет эти спорные береговые местечки, пусть строится там. Он, Борис, царь великий и щедрый, ему дозволяет. Но пускай же за это князь выдаст царю головой окаянного Гришку (который, еще на Москве пребывая, «учал воровати и звать себя Дмитрием», но только такой «деловитый безумник», как князь, мог всерьез воспринять его байки).
Из письма Годунова Вишневецкий сделал один вывод: к нему идет добрая карта, незаконный властитель не в силах скрыть ужаса перед природным.
Князь Адам, сам боясь, что Борисовы ратники сделают вылазку и отобьют «цесаревича», увез его от границы подальше, в дедовский Вишневец.
Славянские распутья. Стежки в воздух
По пресечении династии литвин-Ягеллонов Речь Посполитая решила продолжить практику востребования королей из соседних держав. Воевода венгерский Стефан Баторий, прияв корону Польши, показал, каким благословением и для республики может явиться суровый и мудрый монарх. Гениальный мадьяр, давший Унии[62] европейскую армию и изрядно отделавший воинство Грозного, основал академию в Вильне, исправлял с увлечением календари и суды.
А по смерти Батория королем польским едва не стал московит. На элекционном[63] сейме явилось три партии: одну возглавляли вельможи Зборовские, стояли за эрцгерцога Максимилиана, брата германского императора; канцлер польский и гетман Замойский, лидер второй группы, предлагал пригласить сына шведского короля; третья партия, самая многочисленная, состоявшая по преимуществу из литовско-русских дворян, единодушно высказывалась за государя московского. Посреди сейма выставили три убора: немецкую шляпу, балтийскую сельдь с разинутым ртом и подобие Мономаховой шапки (из жести). Как и следовало ожидать, в эту шапку легло большинство жетонов.
Русские послы были уведомлены о великой чести, удостоившей их государя, и ознакомлены с условиями, на которых государь избирался королем Польши и великим князем Литвы: а именно — срочный взнос двухсот тысяч рублей серебром; принятие московским царем католичества, коронация в Кракове и постановка в перечисляющем владения титуле Польши выше Москвы. Русские, высокомерно смеясь, отвечали, что даже гонцов слать к царю не подумают, могут сами сказать: это все неприемлемо. Паны долго шушукались, все же смягчили надменные требования: пускай послы для начала внесут только двести золотых тысяч и катятся к черту в Москву поздравлять своего государя с избранием. Но тут послы заявили, что в денежном деле как раз, не спросившись Бориса, поступать им немочно (у них и не было денег), просили обождать с платой чинша. Заявление это убило вельможный сейм — вольной шляхте, во всем подражавшей роскошному Западу, уже не хватало на жизнь, и вопрос о немедленной мзде был едва ли не главным. Королем польским избран был швед Сигизмунд, посольство московское только успело выговорить на пятнадцать лет продление перемирия.
Проклянут поляки, литовцы и русские тот день, когда корона коснулась чела юного Августа Вазы, ставшего Зигмундом III. От полувекового правления фанатика иезуита Речь Посполитая так и не сможет оправиться, соседняя Русь еле выкарабкается из-под развалин.
Даже сторонники приглашения Сигизмунда с первых шагов его по земле польской почувствовали недоумение и тревогу. Сигизмунд, въехав в Краков, не ответил ни слова на пышную приветственную речь Яна Замойского, отбившего все атаки максимилианцев. Замойский, повернувшись к Илье Сневальскому, самому ярому борцу за избрание Вазы, вопросил изумленно и зычно: «Какого немого черта вы привезли нам из Швеции?»
Куда более польских дел Сигизмунда всегда занимали вопросы шведского престолонаследия. Коронованный в 1592 году и в стольном Стокгольме, в 1599-м он уже был низложен своим дядей Карлом с наследного трона и, не думая долго, втянул Польшу в трудные и совершенно ненужные ей многолетние войны с соседней страной.
Сигизмунд, околдованный иезуитами, желал прославить в веках свое имя, упрочив власть панства на этой земле. Его старания о похолопливании и перекрещивании в латинян малороссов хоть и не вызвали еще к началу века всеобъемлющего мятежа, но уже был казнен непокорный вассал атаман Наливайко и десятилетний Хмельницкий в детских играх уже назначал, себя гетманом.
Отношения с Московией, которую большинство панов хотели бы видеть в такой же «братской» унии с Польшей, как и Литву, при восхождении на престол Сигизмунда были не так уж плохи; в 1601 году молитвами Годунова подписана новая грамота о двадцатилетием перемирии стран; бояре и дворяне московские имели право (и даже поощрялись) учиться в польских школах и академиях. Тоже для «книжного научения» могли и шляхтичи ездить в Москву (но этот пункт был включен в договор Годуновым скорее для усыпления бдительности своих родовитых князей и архиереев, нежели для насыщения жажды поляков набираться ума на Руси). Вельможное рыцарство задыхалось в песчаниках Польши, его привлекал невозделанный, тучный российский простор. Годунов понимал это и объявил, что будет наделять панов ланами (но лишь тех, кто поступит на службу к нему, и без права наследования или продажи земли).
Борис Федорович знал: по своему худородству не может рассчитывать на безнаказанность Иоаннову. Он вел дело к сближению с Западом, но так медленно и осторожно, что этим не столько умащивал осоловелых московских бояр, сколько бесил нетерпеливых поляков.
Немало еще навредил плутовством Лев Сапега: привез в Москву план создания «общего» флота держав на Балтийском и Черном морях. Русский царь должен был предоставить строительный материал — лес, смолу и подобные вещи, а снабжение же «людьми рыцарскими» кораблей (набор шкиперов и экипажей) королевство брало на себя. Годунов улыбался: ну да, рыцарство будет на корабликах плавать, а из нас только щенки лететь, снасти виться, ай, милостивцы.
Но вообще диковатая Русь и задорная Польша входили в новый, семнадцатый век молодцами: взаимно терпимы и вежливы, даже кичливо галантны. Потому-то коронный гетман Замойский и послал Адаму Вишневецкому письмо, в коем ставил князю на вид беспричинное его укрывательство неопознанного отпрыска Грозного. «Милостивый князь, благосклонный мой друг, — писал гетман с вкрадчивостью крайнего неудовольствия, — что касается вашего московитянина, называющего себя сыном князя Ивана Васильевича, то весьма часто подобные вещи бывают правдивы, но часто и вымышлены. Еще и еще препоручаю себя вашей милости. Если бы милости вашей прислать его было угодно ко мне, я бы поприсмотрелся и что разузнал бы о том, сообщил бы его королевскому…»
Но Адам Александрович, зная доброе мнение гетмана о московитом Борисовом доме, не торопился выпускать из своих рук «находку». «В мой дом попал человек, — отписал он Замойскому, — напуганный с самого детства — ведь он сын Ивана, такого тирана. Потом мальчик долго таился от нынешнего узурпатора. Он едва отыскал в себе силы довериться мне, и пока его лучше бы с места не двигать…
Причина, что сам я не сразу же оповестил вас о нем, также в том, что я сам сомневался… а тут прибежали к нему двадцать московитян и признали за ним все нрава на великое царство…»
Адам Александрович ссылался на беженцев не ради пустой отговорки. Беженцы прибегали. Слух о спасенном царевиче Дмитрии, найденном князем, распространялся по всей вишневетчине и Южной России с неслыханной быстротой. Сначала в Брагин, потом в Вишневец приходили в охабнях[64] и в рубищах, с переметными сумами и лаковыми туесками люди. От кого пахло киноварью, от кого — землей. Кто-то утверждал, что вырезывал в Угличе царевы оконницы, кто-то возил туда боярам Нагим мед или бочки с семгой, кто-то — говяжьи конченые ноги. И все помнили мальчика Дмитрия. Каждый запомнил его не менее пятнадцати лет назад, но стоило им только взглянуть на кудрявого молодца в белом аксамитовом[65] кунтуше, посеребренном шитьем, на вопрос князя: не царевич ли это? — умильно рычали: «Царь-батюшка, выручник наш» — и падали, стукаясь лбом. Пришел Ян Бучинский, долго жал руку «Димитру», улыбался обворожительно. Пришел Варлаам Яцкий, облапил «царевича».
Отрепьев тоже радовался старым знакомым; распоряжаясь в имении князя, как дома, выкатывал пыльные бочки с фламандским и рейнским вином. Вишневецкий только усы покручивал. К нему одно за другим прилетали тиснутые вензелями послания: от короля — вопросительные, от коронного гетмана — требовательные, от шляхетства — едкие. Под этот письмовный шумок братья князя Адама уже набирали в Лубнах, боевом логове Вишневецких, охочую гвардию. Крымский хан, лучший друг князя, обещал подготовить поход на Москву, но Отрепьев зачем-то смолчал о том, что запорожцы как раз собираются в Крым, и вскоре переписка с ханом оборвалась.
Над Голгофой с распятием вращается медленно медный огненный шар. Служит шар циферблатом: золочеными меридианами разделен на двенадцать часов. Неподвижная стрелка напротив девятого часа. А зажжен шар рубиновыми витражами закатными.
За шпалерой, затканной античными нимфами, грустно мурлыкает лютня, но в комнате и в зеркалах ясно: белые вспышки улыбок, беспечные взгляды, прозрачный, как звон-перелив полевых колокольчиков, смех.
— Рожмиталь, прихвати буфы лентами… Стась, не спи, подними руку…
— А в Париже мысок лифа до кружев продлён… Стасик, хватит крутиться, не царапай люстрин[66].
Три сестры теребят, обсуждают, творят новое платье младшей из них, Марианны. Для этого и ради шутки почти готовое платье надето на братика Стася (пятнадцатилетний Стась ростом и щупленьким станом совсем как сестра). И теперь Марианна сама бурно участвует в создании блистательного своего наряда, шпыняет служанку-портниху и братца, спорит с умными сестрами. Стась отдувается, жалобно возводит глаза к ветвистым сияющим люстрам.
— Может быть, вместо круглого ворота попробовать здесь раздвоенный сердечком? — капризничает заказчица.
— Да нет, это кажется только, что круглый каркас не подходит, — объясняет портниха, — все потому, что у пана Стася уши торчат.
— О, ну долго еще? — стонет Стась.
— Потерпи, братик, скоро, — утешает ласковая сестра Альжбета.
— Уй, противный мальчишка, — шипит неласковая Марианна, — опять сваливаешься с каблуков!
— Узнаю, кто выдумал эти адские спицы, — возмущается Стась, качаясь в туфельках, — зарублю, и только! Как вы, феи, выделываете в них на балах манимаски? Ведь нет роздыху кавалерам!
— Если бы не каблуки, брат, мы летали бы так — кавалеры вовсе умерли бы, — смеется Урсула.
— Помнишь бал на Вавеле? — подхватывает Альжбета. — Король едва дышал, а все-таки пригласил тебя после полонеза на котильон. По-моему, он просто влюбился в тебя, и если бы ты уже не была замужем за князем…
— Ах, да, да, я надела тогда чудное платье из газа! Punto in aria! Стежки в воздух! А ведь этот наряд обещает не меньший успех, — сообщает Урсула притихшей внимательно Марианне. — Не упусти короля!
— Во всяком случае, пан Теньчинский уже обеспечен! — подмигивает Альжбета, и сестры хохочут, припомнив придворного юбочника.
— Как знать, — вздыхает грустно одна Марианна, — после этого склочного сейма, ополчившегося на отца, рыцари чураются нас как прокаженных…
— Какой сейм? Почему ополчился? — удивляется Стась, по молодости лет о многих семейных делах не имевший понятия.
— Маленький еще. Много будешь знать, на исповеди состаришься, — отрезают старшие сестры и значительно смотрят на младшую.
— А скажи-ка, сестрица, если бы Сигизмунд Август положил к твоим ножкам свое королевское сердце, — переводит опять разговор на монарха Урсула, — как бы к этому ты отнеслась?
— Благосклонно, — без раздумий, но гордо речет Марианна, вдруг сужает глаза, потом приподнимает лишь верхние веки, отчего вся становится хищной, магической, тайной, — я ему, августейшему, в мед подмешала бы яду. Я одна завладела бы троном, все вольное шляхетство я обратила бы в быдло, плебейскую армию и покорила бы мир!
Сестры и Стась, слушая, глядя на преображенную, захохотали от ужаса. Смех магической силой перекинулся за витражи: загрохотал булыжник на улице. Все бросились к окнам. Во двор въезжала обитая пурпурным бархатом колымага, высоко подбрасывали копытца восемь кровных анатолийских скакунов в ослепительной сбруе с плюмажами.
Из колымаги вышли: Константин Вишневецкий, муж Урсулы, отлучавшийся из имения в гости к брату, брат его (или, точнее, кузен) Адам и еще один шляхтич, безвестный и юный, в посеребренном кунтуше, с огромным султаном на беличьей шапочке.
Стась ахнул, выпрыгнул из башмачков; раздергивая крючки на груди, помчался из комнаты. Сестры вскрикнули, негодуя, послали вдогон братцу служанку-портниху, но сами остались в зале. Посматривали в зеркала, поправляя прически.
Едва выскочил Стась, дворецкий в швейцарском наряде, войдя, радостно возвестил:
— Пан Константин пшибыл в свой замок! С ним князь Адам Вишневецкий и князь Дмитрий Углицкий!
Вошли трое, побрякивая польскими саблями на поясах. Дамы изящно присели, улыбнулись родне — Адаму Александровичу и пытливо и гостеприимно взглянули на юношу-князя.
Константин Вишневецкий еще раз представил его (причем Углицкий опоздал щелкануть каблуками) и вкратце поведал жене и ее сестрам о необычайных похождениях гостя. Мнишеки: Альжбета, Урсула, Марианна и Стась, уже успевший переодеться и дышащий за плечами родных, изумленно рассматривали опального царя варваров-московитян. Варвар же приковался взглядом к Голгофе с шаром-циферблатом, тщась понять назначение вещи, и когда Константин заключил свой рассказ, повисла неловкая пауза.
— Как вам нравится в Польше, наследный принц? — нашлась Альжбета.
— Забавно, — бормотнул принц с подсказки Адама, чем мгновенно привел в восхищение дам.
— А это самый юный наш рыцарь, — заметил шурина князь Константин и представил Димитрию. — Цены бы ему не было, если бы меньше читал чепуховых стихов и не крутился у юбок сестер, а охотился бы да упражнялся побольше с пистолей и саблей.
— Я и вызову за такие слова, берегись, дядя! — вспыхнул Стась.
— Не серчай, пан Станислав, — вступил в беседу Адам Александрович, — а прочти лучше гостю какое-нибудь величальное место латинской поэмы.
— Нет-нет, из французской, Адам Александрович, — застрочили наперебой сестры, — Жана Клопинеля или Лорриса!
Стась задумался, притих. Но опять замелькали в глазах бирюзовые искры.
— Я прочту Кохановского, можно? — предложил, почему-то смутясь, а читать начал ясно и жарко, обращаясь к переминавшемуся сутуловато Димитрию.
К восторгам декламатора «князь» остался почти безучастен, только тщательнее изучал медный шар над распятием.
Но Константин Вишневецкий не сводил глаз с выразительно жестикулирующих рук чтеца и, едва рифмы кончились, задал вопрос:
— Пан Станислав, к чему ты украсился дамской подпругою?
Стась забыл отвязать над локтями кисейные ленты! Не находя, что ответить, сбитый этим щелчком с высшей пафосной ноты, стоял, собирал он пурпур щеками… и вдруг, сорвавшись, бросился вон.
— Это ваши проделки, — погрозил Константин дамам, — уберу отсель шурина завтра же. Поедет с нами в Самбор, к тяте своему. Сдам с рук на руки.
— Как, вы завтра уже покидаете нас, принц Димитр? Как, князья, неужели вы только проездом в Заложицах?
— Чему удивляетесь, сестры? — ехидно заметила Марианна. — Принц и теперь на часы все глядит. Я думаю, он пожелает двинуться в ночь!
— Князь! Принц Дмитрий! Наше общество вам не по гонору? Посмотрите: уже половина девятого часа!
Догорающий шар зазвонил с переливами. Дмитрий вздрогнул.
— Пощадите, как можно? — любезничал за него Адам Александрович. — Гость-москвич очарован. Естественно, мы остаемся.
Дамы-сестры склонились в глубоком, признательном реверансе. Принц покосился тоскливо на князя Адама, спрашивал: ему так же приседать или нет? Вишневецкий поспешил сам откланяться и повел подопечного устраиваться на покой.
Мнишки, чехи по происхождению, поселились в Польше сравнительно недавно, около полувека назад, но сразу же стали притчею во языцех панства.
На ту пору умерла прелестная жена слабого короля Сигизмунда II, Варвара Радзивилл. Король, и без того слабый, совсем упал духом, и приближенные ко двору Мнишки, Миколай и Ежи, отец и сын, смогли проявить свои веселые дарования. Сплошным потоком доставляли они Сигизмунду колдунов, вызывателей духов и нечисти, саму нечисть — духов бесплотных и плоть наложниц с зельями для возбуждения. Производя смотр монастыря бернардинок, пан Ежи нашел там монашку, напоминающую покойную Радзивилл, и тайком предоставил ее королю.
Распахивая перед его величеством дурманящие головокружительно бездны разврата, Мнишки ловко присвоили себе право распоряжаться королевской казной. Когда же изнуренный излишествами, больной и полубезумный Сигизмунд скончался в кришинском замке, Мнишки второпях той же ночью отправили в свои закрома все движимое замковое достояние. Одно то, что ни в покоях, ни в службах дворца наутро уже не сумели сыскать даже подходящего платья для облачения умершего монарха, говорило о нераздумывающей молниеносности грабежа.
Ораторы ближайшего сейма публично обличили придворных, однако благодаря связям Миколаю и Ежи удалось избежать преследования судом и, казалось бы, неминуемого возвращения наворованного. Зять Миколая, маршал Фирлей, помог совсем замять дело.
Тем не менее после такого скандала высшее рыцарство отвернулось от Мнишков. При суровом и деятельном короле Батории пану Ежи пришлось удовольствоваться неприметной должностью радомского кастеляна. Но принявшим корону Сигизмундом III говорун-царедворец опять был обласкан, поставлен воеводою сандомирским, старостой самборским и львовским. Под опеку его поступил роскошный королевский замок в Самборе. Сигизмунд Ваза никогда не посещал своей резиденции на Днестре, и пан Ежи сам расположился там как удельный монарх, причем на радостях быстро наделал долгов и охотно погашал их в счет доходов с имений Короны.
Однако Сигизмунд III был не в пример бережливее тезки-предшественника и всегда соблюдал известную дистанцию по отношению к Мнишку. На перехват кредиторов все чаще в Самбор стали наведываться судебные приставы короля. Они угрожали арестом всему имуществу воеводы, если тот не уплатит причитающееся с экономии.
Вот в такое-то трудное для пана Ежи время зять его, Константин Вишневецкий, привез в Самбор углицкого царевича. Искушенному рассудку пятидесятилетнего придворного интригана тут же живо представилось множество выгодных комбинаций, коих можно было достичь, пойдя с Углицкого. В случае определенной податливости принца и последующего успеха его притязаний на престол Москвы Мнишка ожидали следующие удовольствия: самое главное — необыкновенное благорасположение Сигизмунда, который давно мечтал о Руси как о послушной соседке-союзнице, чьей мощью он пробился бы к шведскому трону, и который, конечно, обрадовался бы представленному паном Ежи сговорчивому царевичу (хотя пока и без царства); затем — после славной победы Димитрия и поддержавшей его польской партии — воеводе Мнишку, возможно, удалось бы поживиться в Московии, например вывезти казну из Кремля, по всей видимости превосходящую сокровища кришинского замка. Для начала же можно хотя бы попытаться уломать короля недоимки с самборской экономии отнести в счет содержания московского принца, таким образом пан Ежи хоть уладил бы насущные финансовые свои дела.
Кроме того, младшая дочь воеводы Марианна была покуда не замужем. Воевода сразу положил для себя позаботиться о соблазнении московитянина и помолвке его с младшей дочерью. Тогда, если Углицкий впрямь оторвет Мономахову шапку, Мнишки тоже поднимутся на недосягаемую высоту.
Мчатся тучи
Исхудавший, зеленоватый под золотом барм Годунов сидел на скамье у изразцовой печи. На дворе бабье лето, а царь зяб, слабо пошевеливал недостающими иола ногами, залитыми свинцом, — чуют ли еще его волю?
На днях в Троице-Сергиевом погребли лучшего полководца Ивана Басманова, зарубленного станичниками.
«Боже мой! — болезненно морщился царь. — Что же надобно этой стране? Что ей требуется? Даровал людям льготы — они тут же взялись за дреколье! Неужели прав Грозный? Неужели лишь плеть да топор палача, без разбору секущий, суть благословение Русской земли? Почему каждый выстрел разумного замысла здесь сопровождается страшной прикладной отдачей, опрокидывающей государство? Что же это, московская закономерность? Государь глуп? Диавол хитер?»
Изнуренный таким вопрошением, Годунов вызвал Дарьицу, ведунью юродивую. С развитием хвори в себе и болезни в стране царь все чаще советовался с прорицателями и чародеями.
Вошла Дарьица. Белые, весь мир прибирающие глаза в черных кругах. Посконная рубаха, бронзовые окислившиеся мониста.
— Гадют тебе кто-то, — разболтав чародейный краситель в корытце с водой, убежденно сказала убогая, — кто-то гадит!
Тогда Борис Федорович приказал доставить ему все разрядные записи, жалобы и челобитные, изо всех городов сволоченные за год в приказы Кремля. На скамье, тут же, с братом Семеном принялся разбирать эти жесткие стопы; проявляли, выискивали ту скрытую, злобную силу, что подкапывается под страну. И сыскали.
В два голодных снежных года при восстановлении Юрьева дня стороной оборота дарованной пахарям воли явилось бессовестное своеволие землевладельцев. С одной стороны, бедный мелкий помещик был зол на царя, когда от него самовластно съезжал крепкий мужик, но с другой — вывернув царский указ наизнанку, слабоватых, которых не мог прокормить, сам сгонял с земли прочь, на «свободу». В первую очередь изгонялись холопы, не производящие хлеб, — домашняя челядь, псари, конюхи и боевые. Особенно много среди этих растерянных, лишних людей было боевых холопов, лишних ртов наиболее явных. А за воротами барской усадьбы именно у них не имелось никакого малого подспорья: ни лошади, ни бороны, ни запасов, ни навыка как-то выращивать пищу. У них был единственный навык — навык боя. Боевые холопы становились железным ядром, которое, выкатываясь за господские частоколы, вырастало, собирая рыхлую нищету.
Эти шайки разбойников объединялись в станицы и мстили своим господам, жгли их, грабили и разрубали отнятыми палашами.
Воевода Басманов, выехавший из Москвы покарать восставших, не прикинул их сил, взяв с собой только сотню конных стрельцов, и был за это, еще не проехав кузнецкой слободки, убит, как и большая часть его войска.
Годунов, собрав мощную рать, подавил подмосковное возмущение, казнил вождя бунтарей — Хлопка, но страна все еще неспокойно гудела.
Ополоумевшая от вселенского ветра погода, казалось, уже присмирела, входила в привычное русло; собран сам-к десяти урожай; цены снизились; ужасы голода минули. Но в стране рос невнятный шум. Мелочь отрядов, оставшаяся от развеянного войска Хлопка, еще злее мутила Московию. К ним откуда-то присоединялись все новые люди.
Дело здесь было вот в чем. Мелкие землевладельцы, изгоняя кабальных и пахарей, предпочитали им не выдавать отпускных «крепостей» — бумаг, заверяющих раскрепощение. И едва прошел голод, кормильцы-помещики кинулись разыскивать родных мужичков. Государевым людям в таком случае говорилось, что «смерды» удрали, не выплатив «рубль пожилого». Если обнаруженный, уже «зажиревший» на воле крестьянин упрямился, его били плетьми, наказывали, отписав в пользу барина чуть ли не половину подворья, п водворяли на прежнее место. Однако крестьянин не часто бывал доволен таким отеческим попечением власти, он зверел, ломал плуг и шел в лес.
Иные, едва осевшие на новой земле, заслышав об озорстве бар, смекнув, что им тоже не минуть позорного взятия, продавали дом, живность и вещи труда, прятали в землю выручку и всей семьей тоже присаживались на отдых где-нибудь сбочь лесного проезжего шляха, с кистенями в руках. Иные, более крепкие, совестящиеся проливать христианскую кровь, проживать грабежом и разбоем, но и надеющиеся избежать нищеты и неволи, слали царю челобитные.
Эти-то грамотки в делах волокитного Холопьего приказа перебирая, Годунов вдруг как на ладони увидел, что происходит в стране. По бесчисленным сотням крестьянских наказов и жалоб Годунов подготовил указ. Августа от шестнадцатого, лета 1603 от Рождества Христова надельщики Холопьего приказа обязывались предупредить всех бояр, и дворян, и игуменов, и прочих владельцев земель о жесткой необходимости выдачи письменных видов всем отпущенным (паче отосланным) пахарям или кабальным холопам. «Если ж чей-нибудь барин артачиться станет», указа сего не исполнит, то Холопий приказ должен мимо помещичьей воли наделять ходатая бумажной защитой, а для прочности оной вносить его гордое имя в Разряд. Так надлежало поступать с обитающими на Москве и окрест. Что же до городов иных, то столичный приказ, дабы изжить обычай своей волокиты, получал полномочия выдавать документ по одной устной справке пришедшего человека («о том, что его со двора, мол, сослати, отпускных-де не дати и велят кормица собой»).
Утром семнадцатого августа каждый проснувшийся помещик должен был почувствовать себя обездоленным, а крестьянин — родившимся вновь. Но никто ничего не почувствовал. Рано Годунов возомнил себя могильщиком методов Грозного. Он имел дело с Русью московской. Здесь следовало сначала показать плеть и плаху и следом быстрее читать закон, а так закон не работал.
Нашлись сотни способов злоупотреблений. Могучий помещик привозил в Москву полную телегу крестьян, отобранных у слабого соседа, его оружная челядь за шиворот вталкивала их в Холопий приказ, где по «вольному» заявлению хлебопашцев выдавали им «крепости», которые тут же хватал новый их господин. Слабый сосед приезжал на заморенной клячонке жалиться позже, его уже никто не слушал. В общем, Русь соглашалась понять всякий новый указ как угодно, толковать во всех смыслах, лишь бы не в том, в каком указ писан.
Как знать, много ли доброго сделал бы еще Годунов, постаревший в болезнях, управился бы он с раболепным лукавым дворянством, но все внимание государя внезапно перенеслось вне страны. Лучшие лазутчики сообщали из Польши: самозванец перебрался на королевскую дачу, в Самбор. Туда наведывался уже литовский канцлер Сапега, и, по видимости, он нашел общий язык с мнимым царевичем: до полуночи дворец сиял всеми окнами и фонарями, пели скрипки и вторы, на палаце кружились танцующие, а над замком расхлопывались в небесах огневые цветы.
Борис Федорович усадил дьяков Посольского приказа составлять обличения. У тех вышло: «Вор-расстрига Юшка-Гришка Отрепьев, яко был в миру, отца свово не слухал, впал в ересь, и воровал, и крал, также бражничал, играл нечестно зернью и, заворовався, постригся невем где в чернецы, шатался по монастырям и меж двор и махнул после в Литву со товарищи, чудовски чернцы». То, что Гришка служил у опальных Романовых, а затем на патриаршем дворе, Годунов приказал опустить: сохрани Бог, поляки вомнят, что вдохновлен этот мытарь влиятельными тайными силами, что за ним средоточится некая знать, посягающая на государя Руси. Брат Семен посоветовал эти недостающие строки записать новыми: год назад будто бы патриарх со Вселенским собором по всем правилам святых отцов и соборного уложения приговорили сослать Гришку на Белоозеро в заточение насмерть. Это упоминание суда давало явное право сразу требовать с Польши преступника.
С «обличением» к Сигизмунду желательно было (для пущего сраму Короне) послать кого-то из родственников самозванца. Дед Замятня-монах уже дряхл, отец мертв. Мать к такому суровому делу не годна. Но в Москве подвизался как галичский выборный дворянин Отрепьев Смирной, Гришкин дядя. При правлении и царствовании Годунова весьма преуспел — дослужился до чина стрелецкого головы. Голове и выпало путешествие.
— Добивайся, Смирной, очной ставки с племянником. Прямо в очи, пред всеми приспешниками узнавай-обличай! — наставлял Борис. — Но сперва за глаза перечти королю его вины, кои сказаны в грамоте.
Смирной кивал, кланялся, моргал виновато: и он ведь тоже Отрепьев, тоже хочет в цари?
При выходе из дворца Смирного поймали несколько видных бояр. Завели под крыльцо Грановитой палаты.
— Годуновы о Русской земле неустанно пекутся, возвышают тебя, — сказал Дмитрий Годунов (глава приказа-Аптеки). — Ведь племяш твой и в Думу был вхож, а он вот как решил.
— Батюшке-государю все хуже, — сказал Семен Годунов, — окаянный Григорий расстраивает. А преставится царь, малолетний Феодор Борисович сдержит ли царство — не знаем. Снова Рюриковичи да Гедеминычи свои морды подымут, а наши с плеч слетят… И тебе тогда славную службу Борису припомнят, семью тоже не пощадят. А все Гришка, племяш окаянный.
— Я ж своими руками его задушу, — прохрипел Смирной, закипая.
— Мы к тому и ведем, — поддержал боярин Татищев, — если Гришку от ляхов домой переправить тебе не удастся, ты убей, застрели беса, нехристя.
Смирной становился дышать, потом кудрявая, намащеная борода его зашевелилась, молвил мрачно и искренно:
— Застрелю.
Patron. Западня
Григорий не переставал восхищаться изобретательной расточительностью Мнишка. Дворцы Самбора блистали великолепием. Особую слабость пан Ежи питал к зеркалам. Иные залы имели сплошные зеркальные стены, на гранях вспенивающиеся лепниной. Зеркальные потолки отражали ступенчатые канделябры и люстры, дальнее кружево иола. На поворотах дворцового парка таящиеся, искусно подобранные зеркала обманывали и изумляли беспечного путника: то ему представлялось, что он в дремучем лесу, а то, что в бескрайнем цветении поля. Даже купол одной башни замка состоял из сияющих выпуклых линз, это мощное зеркало, видимо, предназначалось приманивать ласковых ангелов. Даже в спицах колес брички Мнишка были встроены зеркала, в них смотрелись бегущие рядом с пролеткой собаки.
Но более всего Отрепьеву нравилась обширная столовая с потолком из стекла, над которым гуляли в искрящейся влаге живые чудесные рыбы. В подвешенных кубах, шарах, иных формах хрустальных сосудов тоже плавали рыбы поменьше. Мнишек, как и «принц Углицкий», чувствовал очень уютно себя в этой зале, здесь он предпочитал обсуждать с важным гостем дела.
Развалясь в легких креслах у орехового поставца, самборский староста и «московский князь» потягивали французские вина (Отрепьев с трудом научился потягивать). Вальяжный, тучный пан Ежи млел в кружевах жабо и манишек, грушевидная, лишенная шеи его голова покоилась на мягком воротничке. Небольшие лазурные глазки сквозь блестки бокала лукаво взирали на гостя.
— Пшипусьцим, круль назначит пану принцу аудиенцию, — говорит Мнишек так, словно голосовые связки его из нежнейшего бархата. — Что поведает принц о себе королю?
— В общем, то, что и вам.
— О, пожалуйста, ваше высочество, все по порядку: сначала весь путь.
— Я ведь сказывал.
— Это неважно, mon cher. Повторение вас приведет к бессознательному усвоению. На приеме у Зигмунда, друг мой, вы благословите назойливость толстяка Ежи.
— Ну, родился. Напали Борисовы люди. Только я уже был подменен, спрятан у милосердных друзей…
— Ай, браво! Так и величеству, и всем отвечай: ну не помню, не знаю, сидел у друзей. У каких? Милосердных! Попробуйте вывести рыбку на чистую воду.
— На чистую воду? — встревожился «Дмитрий».
— Я имел в виду разоблачение этих друзей-московитов. Они ведь рискуют, — поправился Мнишек. — А в краковском замке на Вавеле масса лишних ушей.
Вообще воеводе был симпатичен «царевич». Приезжавший в Самбор Лев Сапега шепнул по секрету: старине Ежи повезло, что Дмитрием оказался именно такой человек. В разговоре с ним литовский канцлер выяснил: «великий княжич» знаком с бытом русских царей и епископов едва ли не лучше самого Сапеги, проведшего три года на Москве в хлопотах посольских и разведывательных. Так, «царевичу» ведомы все караулы и крыльца Кремля, стенопись Грановитой палаты, порядок ведения Думы, даже помнит он, сколько смарагдов и яхонтов на Мономаховой шапке и бармах царя, даже сколько ступенек ведет к повороту в покои царевны.
Обвинить его трудно и в мелкой неточности. «Но… брат Ежи, — тогда же, хитро улыбнувшись, добавил Сапега, — никогда не задавайте князю Дмитрию Углицкому вопросов об Угличе — в этом городе князь никогда не бывал. Ему неизвестны ни названия тамошних улиц, ни имена своих родственников, бояр Нагих, ни тех людей, что приставлены были Борисом сопровождать его с матерью в угличскую ссылку. Тем не менее, — заключил Лев Сапега, — Дмитрий очень хороший. Он достаточно прост, чтобы вы могли вить из него все что угодно, и достаточно хитер, чтобы это вам позволять».
— Не поверите, принц, — сказал как-то пан Ежи, — от вас в восторге все мои дочери, особенно Марианна.
Однако пан не дождался ответного комплимента — очевидно, Углицкий считал подобные заявления в порядке вещей, только хмыкнул довольно: чай, не татарва мы какая-нибудь, все при нас, потрогал свою бородавку у левой ноздри.
— Марианна, представьте, от вас без ума, — повторил со значением Мнишек.
— А мне глянулась больше Альжбета, — признался царевич.
— Но Альжбета ведь замужем, — возразил Мнишек, выгнув недоумевающе брови, — а Марианна свободна, — он сделал рукой, утопающей в брыжах манжеты, умеренный, предоставляющий жест… — А может быть, более вам подойдет Анна Австрийская? — капризно выпятил губы пан Ежи. — Только куда сбыть французского короля?
Отрепьев мерно хлопал глазами.
Мнишек решил выразиться яснее.
— Politic, Дмитрий, — сложная, хрупкая вещь. Потому предпочтительно связи между государями, также полезными деятелями государств подкреплять полюбовными браками. — Ежи грузно налег на ореховый столик, сжал в ресницах лазурь. — А ведь чем-то вы схожи с моей Марианной!
В ближнем кубе огромная рыбина боком причалила к зеленоватой хрустальной стене, ледяным глазом пучилась на цесаревича, чуть пошевеливая плавниками.
— Нет, мы… в общем-то… разные люди… — Вдруг Григорий проник в смысл предложенного, попытался глотнуть что-то высохшим горлом.
— Значит, разные?!. Милый царевич, но где же гарантии? — Мнишек стал покрываться недобрым румянцем. — Я представлю вас Зигмунду, расположу к вашей милости сейм, соберу посполитое войско, а вдруг вы, принц Димитрий, дорвавшись до царского трона, вместо самой малейшей награды велите отнять мне без жалости голову либо вовсе швырнете на полюс, к своим самоедам и снежным циклопам? Где ручательство прочной защиты от этого ужаса?
— Государево слово — строжайший закон!
— Ах! Спасибо, напомнили. Слово — строжайший закон! До тех пор, пока царь не придумает слово закона построже.
— Ну смотри, ясный староста, хочешь верь, хочешь не верь. А я молод жениться.
— Ваше крайнее слово?!
— Крайней не бывает!
— После этого вы, Димитр, смеете требовать, чтобы я вам помогал?!
«Димитр» встал, начал перешнуровывать натуго тонкий кунтуш.
— Ради Бога, пан Ежи, поеду опять к Вишневецким. Князь Адам уж и так недоволен, что кисну в Самборе. В Лубнах войско готово, поди!
— Ах! Охочая гвардия из казачков и татар! А вы знаете, принц, на что самое большее горсточка этого сброда способна?!
— На что же?!
Собеседники жгли без пощады друг друга глазами; поставец, сжатый с двух сторон будто в тиски, жалко пел и шатался, по нему перекатывались, позванивая, бокалы.
— Обожрать до великого опустошения всю вишневетчину, вот и славный поход! Зигмунд, польский король, в этом деле не вступит в союз с православными силами. Сыт бунтом Наливайки. Не нужна ему вооруженная Малороссия. А вам, принц Дмитрий, нужен король!
— Без тебя до него доберусь.
— Но учтите, любезнейший князь, промедление смерти подобно. Гетман коронный Замойский подзуживает Зигмунда Августа на брак с Ксенией, дочерью Годунова. Если только король даст согласие — все разговоры о вашем престолонаследии и возрождении старой династии Грозного станут смешны.
— Король… С Ксенией… как? — пролепетал «принц» и рухнул в кресло.
Пан Ежи смотрел с удивлением, — казалось, только что силы внезапно оставили скандалящего что было сил человека. Отдохнув, Дмитрий трудно вздохнул, опять подвинулся к столику, расставил бокалы, налил Ежи и себе.
— Что бишь спрашивали-то? — смотрел, словно вернувшись откуда-то.
— У меня, ваше высочество, есть дочь Марианна… — осторожно напомнил вельможа.
— Хорошо. Обручусь, — глуховато, уже без капризов, сказал Дмитрий, — только, пан воевода, скорее представь ты меня королю.
— Но за скорость, пан принц, тоже надо платить. — Аппетит царедворца стремительно начал расти (Мнишек чуял дух «жареного»). — Дочь моя католичка, воспитанница бернардинок. Если б ваше высочество тоже признало священную папскую власть…
— Да вы что, пан? Меня Вишневецкий убьет.
— А король взглянет тысячу раз благосклонней! Познакомлю вас в Кракове с пасторами Ватикана, и, надеюсь, общение с ними легко убедит вашу милость в больших преимуществах исповедания латинского.
— Сигизмунд будет рад, коли истинное христианство оставлю?
— Без сомнения! Только… я думаю, вскоре вы сами поймете ошибочность слов православия.
— Я и так арианин.
— Тем более! Кстати, mon cher, не мешало бы нам обсудить, так сказать… эм… подарки, приданое, кое в случае вашего триумфа должно принять мне и дочери.
— На Руси полагается в общем-то наоборот…
— Ах, принц Дмитрий! Вы что, не хотите быть цивилизованным, видным монархом? Хотите бессмысленно следовать диким обычаям варваров?
«Принц» виновато потер бородавку.
— Полагаю, достаточным вознаграждением, — продолжал Мнишек, — мне за труд дипломата и воина, Марианне за мужество въезда в ужасную Азию будет… чтэры тысенцы злотых из русской казны и… и-и-и… Северская Украина. Те владения, что простираются сразу за краем князей Вишневецких… э… Чернигов, Путивль, Глухов, Новгород-Северский — все должно стать удельными княжествами Ежи Мнишка! — Ежи грузно сопел, как задавленный этими землями. Вовремя остановился, прикрикнул с опаской: — С меньшим банком ответным не сяду играть!
Григорий смотрел долгим взглядом на сандомирского воеводу. Потом, словно вынырнув из забытья, хлопнул по столу, по восковой полировке ладонью. Покрутил, поднял мелкий бокальчик с мерцанием поддельного яхонта.
— Да бери, что я, в самом-то деле!
Собеседники чокнулись и осушили бокалы.
— Эй! Ты, дед! Это что за река?!
— Горынь была сроду.
— А ты кто, Змей Горыныч?
— А ты Добрыня Никитич?
— Догадливый! Слушай, дед, где тут город такой, Вишневец?
Старик бросил в долбленку выбранный невод; из-под руки различал на крутом берегу голосистых гарцующих всадников.
— Низко выехали, ребятишки! Вишневец по реке выше! Рысью жарьте, так к вечеру будете.
— Ах, незадача! Чтоб ты в бредне запутался, хрыч!
Всадники понеслись по холмам. Еще у Чигиринской заставы жолнеры обрисовали им стенную дорогу, но беспечные всадники все-таки сбились в ковылистой зыби путей. Чигиринские жолнеры князя Адама тогда сначала спросили: «Вы кто, вой? Людям Бориса сюда хода нет». — «Протрите гляделки, солдаты, — ответили путники, — видите, мы казаки». — «Где же ваши чубы-оселедцы, трубки-люльки и пошто сбруя конская пригнана не по-запорожски?» — «Потому что мы сами пока не хохлы-запорожцы, — те смеялись в ответ, — издаля скачем — с Тихого Дону, царевичу-батюшке Дмитрию везем низкий поклон от донских казаков». Жолнеры сами тогда улыбнулись, подтвердили, что Дмитрий гостит у Адама (недавно перебрались подале они, в Вишневец), и днепровский заслон не задерживал больше посольство донцов.
Отряд посольства насчитывал пять человек, из них два атамана: Корела, в лицо знавший Дмитрия, и рассудительный, грузный Иван Межаков. Еще трое выборных казаков, славных ратными подвигами, в схватке стоивших пятерых каждый.
По холмам над Горынью стучали подковы. То и дело кто-нибудь из донцов, повернув с колеи, забирался на гребень — поглядеть, не видать ли чего. Солнышко не перевалило зенит, когда все вдруг увидели круглые башни и стены с поясом аттика:
— Вишневец, атаман! А дедун говорил, рысью к вечеру будем!
— Он небось о своей рыси нам толковал. Скачем живо до замка.
Часовой, оседлавший мортирку, увидал подлетающих к крепости всадников, исчез с башни. Когда по цепному мосту, перекинутому через ров, казаки выехали на обширный замковый двор, к ним навстречу с крыльца княжьего дома сошли двое. Пожилой — в русском долгом кафтане, молодой — в польском.
— Бьем челом Вишневецким князьям! — браво выкрикнул панам Корела и, пощекотав коня плетью под очелком, заставил его помахать головой.
— Благодарствуем, витязи добрые, — отвечал вельможа в русском, — хотя мы всего лишь Острожские.
— Значит, мы не доехали до Вишневца, — всплеснул плеткой казак, — обознались, бывайте здоровы, Острожские. Едем, братцы, здесь Дмитрия нет.
— Так вы в гости к царевичу?! Не торопитесь, служивые, — остановил разворачивающих лошадей казаков старый князь, — в Вишневце его тоже не сыщете, в Польшу подался кормилец ваш, — засветло не долететь. А зайдите-ка лучше, ребятушки, перекусите, чем Бог послал, коникам передохнуть дайте, уж не обидьте нас с сыном.
— Вас ожидает отменное угощение, — подсказал и Острожский-сын в польском кафтане.
— Раз так, остаемся, — отвечали казаки и слезли с коней.
— Значит, вы, князья, тоже стоите за Дмитрия? — спрашивал Корела, усаживаясь за широкий стол в зале пиров. — К латинянам его понесло?
— И католики люди. Чванливые, правда, — рассказывал князь. — Януш мой тоже принял латинство. Наглый стал, спасу нет. А что сделаешь с ним? В детстве не запорол, так теперь лозой его не переломишь, самому седина в усы скоро подует.
Януш полупочтительно, полунадменно поглядывал на старика. Вражда отца с сыном, по видимости, не переходила границ богословского прения.
Слуги-стольники, рослые молодцы в вышитых свитках, перед каждым поставили блюдо с поджаренным, плещущим крыльями лебедем и огромную чашу с обарным, гвоздикой приправленным медом.
Старый князь поднял кубок за славных донцов, после гости — за добрых хозяев старинного замка, и все начали рвать еду (только Януш-католик разрезывал ножичком и подцеплял итальянским трезубцем).
— Неуж войско донское поддержит царевича Дмитрия? — мягко, с отеческим добрым задором расспрашивал князь Константин.
— Что ты?! Можно ли батюшку не поддержать? — отвечали донцы, с львиным рыком уписывая лебедей.
— Ваш Димитрий не промах, — кивал Константин Константинович. — Только больно блажной?
— Всякий царь по природе блажной, — растолковывали казаки, — лишь бы не был блаженный.
После первого блюда внесли кулебяки и рябчиков, выкрошенных под лимон, но Корела уже облизал пальцы и вытер о скатерть.
— Благодарствуем, ясные паны, но будет с нас. В седлах муторно станет.
— Куда на ночь глядя? — вскинул брови Острожский.
— Нам теперь ночи нет, — пояснил Межаков. — Государь — наше солнышко красное — рядом! Какая тут ночь?
— Отец не переносит, если гости радушию княжескому не окажут почет, — заметил Януш.
— Ох уж эти мне гостеприимные древности, — надул щеки Корела, — ведь уже птиц почтили, спасибо сказали охотникам и поварам, что ж еще?
— Не упрашивай их, шляхтич Ян, — вдруг сказал сыну князь Константин, и лицо его из добродушно-лукавого сделалось странным, ненастоящим — ослабло, а вылинявшие зраки глаз налились леопардовой алостью, — вишь, ребяткам не терпится вслед за царьком своим прыгнуть на Русь. Их воротит от княжьего меда, им подай христианскую кровь!
Да и мне выть[67] отбили любезные гости! — При этих словах князь в руках смял камчатый салфет и швырнул его перед собой на тарелку. Тут же рослые слуги, стоявшие наизготовке за каждым донцом, вырвав из рукавов по стальному пруту и вдев каждому под подбородок, примкнули к себе, удушая. Гайдуки, набежавшие вмиг, отсоединили гостей от кинжалов и сабель и стали вязать.
— Коршун выпорхнул, — сетовал князь, — но уж этих соколиков не упущу. Обыскать все посольство — должна быть депеша к расстриге-царевичу.
За подкладкой башлыка Межакова нашли закапанную сургучом грамотку, «…государю, яко Лазарю воскресшему из мертвых, — читали Острожские, поглядывая на охрипших, повязанных казаков, — писал ты до нас, государь, относительно вольных лет (ах, вот оно что, хмыкнул Януш), радуемся такому долгожданному утешению. Выполняя волю Господа и царя Божьего на Руси, шлем к нему атаманов…»
— Эй ты, атаман, расскажи, — подошел князь вплотную к Андрею Кореле, — сколько войска Дон может поставить надеже?
Казак с хрипом дышал, Константин расстегнул ему ворот, чтоб мог говорить.
— Пятьдесят тысяч сабель, — расплываясь в блаженной улыбке, шепнул атаман.
— Ты же, братец, наврал, — изумился старик, — всего войска донского пятнадцати тысяч не будет!
Януш точно ударил ногой атамана в живот. Атаман покатился.
— Он правда наврал? — спросил ласково князь Константин Межакова.
— Конечно, — ответил Иван, — пошукать по степи — тысяч сто наберется.
— На воров — супротивщиков батюшки — шашек достанет! — подтвердил с пола, морщась от боли, Андрей.
— Псы! Фанатики! Христопродавцы! — затопал Острожский. — Дмитрий ваш — самозванец, расстрига, ворюга! Войны, смуты алчет, он же все православие иезуитам продаст!
Корела поднялся уже на колени без помощи стянутых сзади ужищами рук, встретил взгляд леопарда Острожского взором непреодолимым, не видящим больше от света свирепого чувства.
— Я убью тебя, гад, за такие слова, — заявил очень тихо и четко.
Старик вздрогнул, заходил мимо пленных и слуг вдоль стола. Януш взвел на пистоле курки.
— Стой, не смей, — запретил Константин Константинович, — в погреб всех. Раз отказываются от угощения — лебедем больше не потчевать, медом не пичкать, а уж хлеба с водицей тем более не предлагать. Через день поить уксусом. Так ли законники поговорят!
Самборские страдания
Марианне едва ли не с самого детства, по традиции чешской вельможной семьи, все субретки[68] внушали, что прелесть ее — неземного (какого-то инопланетного) происхождения. Тем не менее младшую дочь воеводы, достигшую цвета, весьма удивил и встревожил внезапный вопрос: отчего на балах кавалеры земные не мнутся, как кони, вокруг; отчего не оспаривают драгоценное право пройти с ней в гавоте? То ли здесь удружила скандальная слава отца, то ли смертные рыцари впрямь не могли уловить шарм небесный, но они табунами носились за вздорно-курносыми и полногрудыми польками, а Марианна скучала в своих облаках.
Невысокая, щуплая, дочка самборского старосты сильно напоминала его общим видом лица. Кончик носа — змеиной головкой, малый ротик, поджатые тонкие губы. Подбородок широким углом и широкий, разумно мечтающий лоб. Лишь глаза Марианны, в действительности неземные, венисово-лунно-стальные, особенные, озаряли порою играющим светом эти блеклые черточки — самовластно, рискованно соединяли все линии.
На балах, сокрушавших пророчества льстивых субреток, сердце панны вдруг стало (без спроса ее) вырабатывать яд. Вместе с тем в юном сердце, лишенном горячих приманок (а с ними и бурь благотворных — лекарства от снеси), воспиталась заносчивость самая дикая, запеклась жажда неограниченной власти. И когда Марианна, приехавшая из Заложиц в Самбор по срочному зову отца, услышала о грозящей ей помолвке с московским царевичем, она испытала какое-то смешанное ощущение: в нем и радостный девичий трепет, и ужас при мысли о неотесанном претенденте ни в какое сравнение не шли с тем огромным, мистическим чувством объятий фортуны, пониманием чудной возможности стать исторической гордой персоной, царицей в бескрайней стране — там, где власть государей священна.
Как начнут виться, кланяться и пожирать Марианну глазами доселе капризные шляхтичи, как падут и не встанут вельможные московитяне в тяжелых, расшитых смарагдом и яхонтом шубах! А она уж посмотрит, кого поощрить неожиданной милостью, кого поднять на смех, кого умертвить.
Лишь бы Углицкий выиграл царство! Но отец и князья Вишневецкие зря не пригреют и мухи: знать, жених проберется к престолу, а уж там будет видно, кому из них править страной.
Отец, впрочем, уведомил дочь: пока принца ее не одобрит, не поддержит явно король, он, пан Ежи, не даст окончательного благословения. Он велел Марианне пока только слушать признания Углицкого, шевелить московита таинственным взглядом, недомолвками, емкими вздохами — в общем, действовать по обстановке. Но с другой стороны, когда выяснится благосклонность к Димитрию Зигмунда, чтобы иные вельможи с их чадами тоже не ринулись наперехват принца, всем теперь уже следует продемонстрировать страсть его к Марианне. Для начала условлено: он должен ждать в парке (у фонтанирующего элефанта)[69]; невзначай встретить там воеводину дочь, согнуть ногу — требовать руку и сердце. Дальше не меньше: важные шляхтичи и сенаторы, гости Мнишка, должны всюду видеть Марианну и Дмитрия вместе, умиляясь на пленное сердце царевича. Мнишек ставить подобные пьесы умел с безыскусственной легкостью, и актерский тандем в этот раз показался художнику сцены удачен, податлив, как глина.
«Любопытно, он так же спокоен, как я, или более? — уже угадывала, входя в роль, Марианна. — Попытается сразу обнять или только пожмет руку?»
Однако Углицкий в назначенный день не явился к фонтану — с самой рани уехал куда-то охотничать с братом избранницы. (Стась и Дмитрий последнее время беспечно дружили, младший Мнишек показывал гостю окрестные пущи, притоки Днестра — плоскогорье, где с детства травил зайцев.)
Самборский староста скрипнул зубами, обещал Марианне одернуть «великого князя» и жестко потолковать с сыном. Назавтра Стась был отослан во Львов разбирать дела староства, а Марианна чуть позже подсказанного отцом часа двинулась по тополиной аллее к фонтану.
Тополь помалу сменился акацией, округло стриженный глог расступился, и укрытое в зарослях венецианское зеркало вдруг явило выныривающих из-под воды, исторгающих гроздьями жемчуга воду слонов, а за ними — танцующий в солнечных отсветах гравий дорожки, подплывавшую в легком бурнусе и вьющемся полупрозрачном шарфе Марианну. Никаких принцев Углицких не наблюдалось: ни возле кромки фонтана, ни одаль, ни в серьезном миру, ни в подшучивающих зеркалах.
Марианна, не остановившись, прошла в другой конец сада, постояла, досадливо щелкая по ветвям тоненьким стеком… Повернула обратно. Слоны-элефанты так же праздно, безлико плескали водой, Дмитрий не появлялся.
Зашагала стремительно по боковой тройке, щеки горели, сучья глогов сцарапывали кружева, перекапывающий клумбу садовник оглянулся в испуге.
Когда Марианна опять оказалась возле группы слонов, на солнце уже набежали серые облачка, посвежел, понес колкие крапинки ветер, большой парк зазвучал. Воеводина дочка измученно села на кромку фонтана, дивилась: от ярости лютой будто влюбилась в Дмитрия. Неожиданно с неба навстречу нудному брызгу из хоботов посыпались зябкие капли. Марианна не чуяла разбушевавшимся чувством погоду, лишь когда дождь окреп, зарябил, заволок серым бреднем весь сад королевский, забившийся в нем, как одна водянистая, скользкая рыба, тогда Марианна очнулась, накинула полный дождя капюшон и по лужам попрыгала к дому.
На террасе давно ждал отец.
— О, Мари, ты одна и мокра? Где же Дмитрий?
— Да где-нибудь в замке, любуется на непогоду, — усмехнулась дочь, сбрасывая липший к платью кисейный бурнус.
— В его комнатах пусто, — нахмурился Мнишек, — и я только сейчас обошел весь дворец, ища вас: нигде Дмитрия нет. Может быть, он плутает в саду?
Дождь пресекся внезапно, как и начался. Блеснула на солнце омытая зелень; растенькались, развеселились пичуги; аллейные лужи мгновенно пожрал гравий, и увлеченные Мнишки, пан Ежи и дочь, дружно вышли на поиски принца.
В самой дальней, забытой, поросшей крапивой и вишней беседке Ян Бучинский и Дмитрий играли в шахматы. Рядом с ними мешался чернец Варлаам, запоминал, какая фигура как ходит, и подсказывал, куда ходить игрокам.
Оба друга явились в Самбор вскоре вслед за царевичем. Сектанта Бучинского Мнишки сразу приняли хорошо — сестра пана Ежи была замужем за высокопоставленным арианином, вельможей Стадницким. Варлаама сперва чуть не вытолкали за ворота, но Отрепьев приказал допустить к себе страдника (много ведал мерзавец о прошлом «царевича», с ним надо было поаккуратнее).
Марианна, войдя первой в беседку, подшвырнула легкий шахматный столик носком сапожка: столик схлопнулся, взлетевшие шахматы осыпали градом играющих.
— Шах-шарах! — сказал от неожиданности Варлаам, воздержавшись чудом от мата.
Некоторые фигуры вылетели за пределы беседки, и царевич, как бы ища их, пополз в кусты. Кичливый Бучинский вздернул нос перед бесцеремонной девицей:
— Панна, как смеете вы прерывать безнадежную партию принца!
— Значит, принц — шахматист! — играла та стеком. — Давно ли, помнится, «съедал» он Варлаамова короля и затем они резались до последней пешки?
— Так игра жутче, — объяснил Яцкий.
Подошедший пан Ежи достал из куста Дмитрия и поинтересовался его чувствами.
— Слон вот утерян теперь, — пожаловался царевич, пересыпая в руках найденные фигурки.
— Вы нам это уже доказали, Димитр. Оставьте… Не портите зрение. Вы же знаете, есть покрупнее слоны.
— Хватит, папа, — Марианна отбросила мокрые пряди со лба. — Отставной самодержец, князь Углицкий Дмитрий, извольте найти в себе мужество сделать признание. Вы решили ограбить отца?
Всех сковало одно замирание. Принц побледнел, просчитывая расстояние до ограды; Яцкий, не шевелясь, озирнулся; Ян Бучинский перенес тяжесть тела на левую ногу. Даже у самого воеводы, маэстро, слегка оттянулась губа.
— Вы решили ограбить отца? — продолжала Марианна, упившись эффектом Медузы Горгоны. — Вы хотите, коварный, отнять у него и последнюю дочку?
К щекам Углицкого возвратился румянец, выдохнул с облегчением — вдохнул тяжело, поняв: кража его — неподсудное дело, законное и предрешенное. Мнишек всхлипывал, тоже проникшись метафорой дочки, включился в игру.
— И вы просите коленопреклоненно, — Марианна щелкнула стеком по голени Углицкого, тот убрал голень наземь, — бесценной руки моей?
Дмитрий посмотрел на обрызганную венисами маленькую белую руку, на прервавшего хныканье Мнишка, на товарищей, на сырые пирамидальные тополя.
— Прошу.
— Не слышу. Громче!
— Прошу, сказал.
— Ах, дерзкий! Скольких женщин вы погубили?! — мстила принцу за его неуклюжее существование Марианна. — Неужели всегда промышляете вы обольщениями?
— А на что другое время хватит? — наконец разозлился и принц. — Даже в шахматы не научусь никак, — и присел на поваленный клетчатый столик.
Ex oriente lux[70]. Аудиенция
Клавдио Рангони, представитель папы римского в Кракове, чувствовал себя очень легко и уютно, путешествуя по галереям внутреннего дворика королевского замка. Здесь все напоминало родную Италию. И трехъярусная гирлянда галерей, окаймлявшая дворик, шедевр Бартоломео Береччи, и карнизы, увитые декоративным плющом, даже чайки, срывающиеся в парение над невидимой Вислой с башни «Куриная Лапка». Береччи возвел настоящее palazzo in fortezza[71], словно укрепил на польской скале сколок с далеких берегов Адриатики. Нижние этажи архитектор мягко поддержал полукруглыми арками, а колонны третьего, самого просторного и высокого яруса неожиданно вытянул тонкими, дабы колонны смогли достичь крыши, которую следовало им подпирать. Так вся тяжесть постройки стала вдруг легче воздуха, и облокачивающиеся на галерейные перильца польские короли смотрелись капитанами воздухоплавающего корабля, странствующего по облакам.
Королю Зигмунду Августу, спутнику Клавдио Рангони, в тиши своих мраморных мачт уже давно не давала покоя мысль о том, что корабль его на гребне какой-то чудесной волны, и Зигмунд снова и снова затевал с панским нунцием разговор о несметных сокровищах Ватикана, определенного пожертвования из коих хватило бы на снаряжение победоносного плавания.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что Зигмунд III говорит безо всякого воодушевления, но Рангони была хорошо известна капризная манера его величества изъясняться, почти не раскрывая рта, и священник старательно напрягал слух, дабы выявить тайны порывистых чувств, прочно скрытых под маской изысканной вялости.
Вообще физиономия Зигмунда III была непроста. Идеальный овал лица, крючковатый породистый нос и глаза, полуприкрытые тонкими веками, подчеркивали брезгливую флегму, тогда как округлые брови в сочетании с закрученными кверху пышными усами и полупрозрачной бородкой оттеняли эту флегму выражением светлой иронии.
В это утро король щеголял в васильковом испанском костюме, на белом фоне крахмальной фрезы лицо его казалось теплее обыкновенного.
— Воевода Мнишек и князья Вишневецкие убеждены, что, как только Димитрий, природный король россиян, перейдет даже с малою силой границу и заявит желание встать во главе государства, москали, доведенные до сумасшествия голодом и тиранией Бориса, как один, упадут ему в ноги, приветствуя как избавителя.
Рангони внимательно слушал, бесшумно двигая четки.
— И если Димитрий сейчас примет условия, на которых будет предоставлена ему наша помощь, военный блок с Московией по восхождении этого юноши на престол нам обеспечен. Таким образом, Швеция легко будет освобождена и инфлянты успокоены.
Усмешка неуловимо скользнула по суховатым устам легата, но король Зигмунд III даже сквозь полуприкрытые веки различил ее смысл.
— Intelligenti pauca, pater optime[72], — заметил король суше, — но войной с Карлом преследуются не только мои династические интересы. Я стараюсь вернуть шведских еретиков-лютеран под святой престол!
Нунций склонил в знак признательности голову в мягкой скуфейке:
— Всему католическому клиру и папе Клименту известно богоугодное усердие вашего величества в деле распространения исповедания праведного. Но что касается экспедиции Димитрия Московского, папа настроен в отношении этой идеи скептически… Он еще раздражен шумной склокой с португальскими самозванцами.
— Но можно ли сравнивать с Португалией Русь, ваше преосвященство? Из-за удаленности и религиозной обособленности этого края в случае провала операции авторитет папы ничуть не пострадает, в случае же успеха освоение русской страны принесет массу выгод всему христианскому миру. Вы же сами поведали мне, что Димитрий готов отряхнуть свою схизму и принять католичество! В Московском ханстве, где власть короля абсолютна, самодержец-католик легко заставит последовать собственному примеру всех своих подданных.
— Да, ваше величество, собеседования лучших ксендзов ордена бернардинов, Франца Помаского и Каспара Савицкого, с московским гостем дали приятные результаты. Но пока не следует преувеличивать их значение, — вздохнул нунций, — молодой человек парировал выпады наших догматиков звонко и бойко, наиболее жаркие споры разгорелись вокруг расхождений в правах ordines inferiores[73] в иерархии нашей и русской церквей, а также совершения таинств святой евхаристии. Причем замечено было, что принц не столь предан своей схизме греков, сколько всяческим ересям, в особенности арианской, коей, видимо, постарались его заразить гощинские социниане…
— Но к концу разговора, — Зигмунд III поправил топорщившийся из-за перилец стебель плюща, прикрепил к общей ткани растения, — мы знаем, Дмитрий стал умолкать, соглашаться с Каспаром Савицким и даже признался, что удовлетворен совершенно.
— Он смолк как-то внезапно… — Рангони, раздумывая, остановил четки, — то ли московит утомился от долгого диспута, то ли… что наиболее вероятно, уступать постепенно, вызывая к себе аппетит Ватикана, — его сокровенная цель, и результат спора московскому князю был известен заранее.
— Вы хотите сказать, московит не был искренен и откровенен душевно с аббатами? Но ведь это для нас…
— Для нас это в высшей степени нелюбопытно, ваше величество, — помог Рангони, — но боюсь, Дмитрий этот затеял двойную игру. Московляне, в огромном количестве стекшиеся к нему, безотлучно его окружают, но Дмитрий желает вести все беседы со слугами папы в строжайшем секрете от своей свиты схизматиков. По-своему он, разумеется, прав — все князья земли Русской издревле придерживались византийской религии, умам соратников принца трудно сразу проникнуться благостью иноязычных молитв. Но с другой стороны, если Дмитрий и в Кракове, среди костелов и мраморных изваяний святых, робеет говорить о католичестве altissima voce[74], захочет ли он вообще продолжить этот разговор в покоренной Москве, среди икон и оглушительных колоколен?
— Не извольте беспокоиться и робеть сами, ваше преосвященство, — улыбнулся лениво король, — воевода сандомирский и его дочь плетут прочные сети под крупную рыбу. Переведите здесь принца в латинство хоть тайно, а в Москве Мнишки довершат дело.
— Перекрестить даже тайно — задача… — нунций снова пустил четки, — бернардинцы подкрались к царевичу в доме краковского воеводы Жебридовского. Вельможному пану удалось, остановив свиту юноши в приемной зале, пройти с ним в одну из внутренних комнат… Однако, судя по всему, окружение Дмитрия начинает что-то подозревать, все неохотнее отпускает его на частные аудиенции, делает первые шаги в овладении мастерством шпионажа. Приближенный православный духовник принца, некто Варлаам, обойдя с другой стороны дом Миколая Жебридовского, влез на клен против окон покоя, где велись прения с Дмитрием, и если бы волею провидения под ним не обломился сук, планы собрания могли быть расстроены.
— Не излишня ли ваша осторожность, преосвященный отец? — повел бровью король. — Те люди, что стекаются к принцу, — суть изгои Москвы, а не самое Москва. Стоит ли придавать такое значение их мнению? На мой взгляд, следует сразу поставить гостя перед выбором. Severus sit clericorum sermo[75].
— Близится Пасха, ваше величество. Дмитрию так или иначе придется сделать свой выбор: принять ли Святое Причастие из рук русского или католического священника.
— Но как сможет он мимо своих опекунов проскользнуть в костел?
— О, на этот счет у Жебридовского есть prorsus admirabile[76] соображения…
Собеседники вступили в резко вычерченную солнцем западную галерею, король умиротворенно закрыл глаза — он был вне себя. Ватикан, наделявший еще дикого Батория внушительными суммами для войн с Москвой, перед Зигмундом, воспитанником ордена Иисусова, закрыл кредиты.
Если папа хотя бы признал громогласно Димитрия истинным князем Руси — уже дело: сейм вынужден был бы признать двадцатилетнее перемирие, заключенное с Годуновым, недействительным. А так наглый коронный гетман Замойский и дружки его, прочие гетманы, забывшие бранный дух рыцарства и разнежившиеся в родовых гнездах, в ответ на королевский призыв только шлют сонные письма, кивая на Тявзинский мир. Пока сейм не одобрит войны, полководцев-вельмож не поднять, не поставить устойчиво во главе войска, а пока этим монстрам Замойским, Жолкевским, Ходкевичам холодят души ратные трубы — и сейм ничего не решит. Круг замкнулся. Бог, Святейший престол, шляхта, Речь Посполитая — все препятствовало замыслам августейшего флегматика.
Но Зигмунд III, как низложенный шведский король и солдат «Иисусовой роты», давно привык смотреть на мир как на одно досадное препятствие. Стремясь осложнить отношения с Годуновым, он отдал приказ арестовать дьяка Власьева, правую руку Бориса, возвращавшегося через польские владения из Копенгагена в Москву. В тот же день король назначил первую аудиенцию «русскому принцу».
Войдя в Посольский зал вавельского замка, Отрепьев шатнулся. Огромный, опускающийся в направлении тронного стульчика потолок был покрыт сетью равносторонних резных углублений (кессонов), и из каждой кессоны смотрела испуганно отрубленная голова. Перед вытканным на гобелене мохнатым орлом, в когтях лавровый венок предержащим, на троне сидел небольшой человечек в алом плотном костюме, тряпичной короне с бубенчиками и необычайно мрачным лицом.
— Мужайтесь, друг мой, — шепнул пан Ежи, плечом останавливая попятившегося царевича, — этот малый на троне еще не король. Станьчик — шут королевский. Совсем несмешной. А головы — не настоящие. Резчик Тауэрбах вылощил дерево воском, вот и кажутся тепленькими. Еще король Владислав, раздраженный строптивостью шляхты, приказал выточить головы видных вельмож в боязливом, комическом виде и забить в потолок.
Стеклянная дверь, выходящая на галерею внутреннего дворика, приоткрылась, и в зале появился король. Отрепьев сразу же определил его по широкой цепи на груди из золотых крупных звеньев-орлов и жернову белой испанской фрезы, какой он не видел еще ни у одного из поляков. Следом за Зигмундом в зал с галереи сошел уже знакомый Григорию нунций Рангони, весь в продуманных шелковых складках сутаны, с «улыбкой» четок в руках.
Зигмунд легким кивком принял ловкий, надежно разученный с Мнишком поклон принца, польский, не слишком вольный, не слишком покорный. Подошел ближе, нераскрывающимся своим оком подробно ощупывая физиономию искателя царства, словно ища заветную бородавку.
— Ita, pater optime[77]… Итак, чем же могу быть полезен, милостивый государь… или ваше высочество… За кого пан себя почитает-то?
— Высочайшим пройдохой, какого не видел свет! — подсказал шут, сделав стойку на тронных перильцах.
Отрепьев, приготовлявшийся отвечать ясно и храбро, от брезгливой надменности короля и фамильярной прозорливости паяца сразу споткнулся. Ему показалось, что и Зигмунд сквозь тонкие веки видит его насквозь.
В разговор вмиг включился пан Ежи. Затараторил часто и сладко о значении наследной монархической власти и образа государя-избавителя для русской общественной мысли, также о становлении характера и религиозных исканиях юного Дмитрия, обещавшего стать выдающимся (или известным) царем. Король начал одобрительно кивать Мнишку, при этом изредка посматривая на московитянина как на подарочную, со вкусом подобранную вещь.
Отрепьев только покручивал головой, любовался на росписи архитравов да мраморные завитки волют, напоминающие раковины тех лишних ушей Вавеля, от которых остерегал его Мнишек.
Но вскоре пан Ежи снова его потревожил: попросил для вящей убедительности показать королю крест «Боже, храни наследующего». Григорий расстегнул ворот, выставил свой талисман. Зигмунд и Станьчик, привставший на троне, прочли алмазную надпись.
— Aegumentum omni denudatum opnamento[78], — улыбнулся Рангони.
— Крест работы датского мастера, — глубокомысленно отметил Станьчик.
— Исключительно, optime, добже, — одобрил король, не вслушиваясь в шутовской комментарий, — я решил выделить вам на содержание, сиятельный князь, четыре тысячи флоринов в счет доходов с экономии Самбора, — король тонко подмигнул Мнишку, давно просвиставшему денежки, и, согнав Станьчика с трона легким щелчком, внезапно присел, а принц Отрепьев остался стоять. — За эту экстренную финансовую помощь и дальнейшее содействие (вплоть до военной поддержки с целью возвращения похищенного у вас государства) я надеюсь в качестве компенсации по восхождении вашей светлости на престол присовокупить к своим владениям спорные земли северские, несправедливо удерживаемые Борисом в отторжении от прочих моих малоросских земель.
Мнишек придавил Отрепьеву пятку, и тот отвечал, невольно переняв тон растянутых речей короля:
— Я был бы несказанно рад уступить вашему величеству несправедливые земли северские, но не имею этой счастливой возможности, так как земли сии поспешил обещать воеводе сандомирскому и старосте львовскому Мнишку.
Королевский овал еще больше вытянулся.
— Ежи, братец, как это понять?!
Мнишек стыдливо поджал губки, развел брыжами на рукавах.
— Так. Выйдите все. Разумеется, кроме вас, преосвященный отец. Обождите в приемной, любезный принц. Я позову.
Отрепьев и его небольшая литовская свита с Мнишком во главе заспешили, покинули зал. «Под головами» остался лишь координационный совет: король, нунций и Станьчик.
— Ну-с, каков пан воевода, ваше преосвященство?
— Ах, ваше величество, нужно ли волноваться? Северская Малороссия велика — Мнишек всю не проглотит. Подумать только: Чернигов, Глухов, Путивль…
— Астрахань, Самарканд, Багдад… — дурил паяц.
— Станьчик прав, — подхватил священник, — есть земли и за Украиной.
Когда визитеры вновь вступили в Посольский зал, Зигмунд объявил, что уступит сановнику половину Северщины с тем условием, что Корона примет еще один дар — край Смоленска.
— Так-так-так, — потер руки раскрасневшийся Мнишек, чувство смиренной угодливости перед августейшей особой боролось в нем с возмущенной корыстью, — принц, друзья — все в приемную, быстро! Обождите минуточку, ваше величество: мы сейчас подойдем.
И самборский староста увлек «Дмитрия» на свое совещание.
— Vanitas vanitatum![79] — вздохнул нунций.
Когда аудиенция возобновилась, вельможа, с согласия царевича, сам кротко соглашался вычеркнуть половину городов Малороссии из подписанных ранее принцем кондиций, если только королю по сердцу намерение Дмитрия разделить и Смоленщину пополам между его величеством и покорнейшим слугой Короны воеводой Мнишком.
Панский нунций сумел примирить благородных торговцев на этом разумном раскладе.
— Только, как понимаете, славный мой рыцарь, — заключил Зигмунд, вяло потрепав по плечу Мнишка, — с этой минуты вся ответственность за успех экспедиции нашего доброго принца ложится на вас.
Пан Ежи щелкнул каблуками со всей лихостью, какую позволяла ему тучная фигура.
— Да, совсем забыл, — вспомнил король, исправляя черновик договора, — разгромив врагов своей Московии Годуновых, вы, сиятельный принц, должны будете уж и мне пособить добыть шведский престол.
— Ах, князь Дмитрий, я убежден, несмотря на молодость лет, блистательный полководец! — затрещал Мнишек, торопясь затушевать свое царапанье с королем. — Это юный великий стратег, настоящий русский богатырь, бескорыстный… и, как он мне признавался, сам мечтает повести полки соотечественников на Стокгольм.
Sancta Barbara
В два последние дня Страстной недели вельможные шляхтичи, действительные члены краковского братства Милосердия, обыкновенно надевали поверх своих ярких кафтанцев холщовые рубища и, горланя по всем улицам города, собирали милостыню и подношения. Хотело ли этим братство сказать, что в течение года так старательно тратилось на неимущих, что теперь самому уже впору садиться на паперть, или это был жест христианской морали, нисхождения до единения с бедным, но равным пред Богом себе человеком, — братство это едва ли само четко знало. Но уж так повелось.
И семнадцатого апреля, в Страстную субботу, во дворец краковского воеводы Миколая Жебридовского вошел, оставив в парке перед крыльцом православную свиту, разодетый, оправленный в золото и бриллианты царевич, а с черного хода, чуть позже, скользнули в серых полотнах с пустыми переметными сумами двое нищих бродяг.
В этом маскараде и состояло prorsus admirabile соображение воеводы Жебридовского, которое упоминал Клавдио Рангони, говоря с королем о причащении Дмитрия. Принадлежащий к братству Милосердия Жебридовский и «царевич», переодетые нищими, двинулись главным — королевским — шляхом Кракова к костелу Святой Варвары. Как только они отошли на безопасное расстояние от дома, где осталась свита Григория, краковский воевода расправил усы, запел римские вирши. Многие его узнавали, мастеровые, басонщики, шляхтичи с глубоким поклоном опускали в его грубый мешок монеты разного веса. Но в суму Отрепьева накидали все-таки куда больше, хотя его мало кто знал. Да и мудрено было признать «светлейшего принца» в диком существе, изображенном Григорием. Принц-нищий рычал, трясся в неведомой лихорадке, закатывал страшно зрачки на ту сторону глаз.
На площади главного рынка передохнули, у Сукенниц (колонных торговых рядов) выпили горячего крупника — медовой водки с пряностями. Покачнувшимся Краковом двинулись дальше.
У дверей приходского костела Святой Варвары бродяжек уже поджидал облаченный Савицкий. Миколай Жебридовский прошел на хоры — прослушать органный псалом; а отец Каспар отвел царевича в отдельное помещение, на исповедь.
— Помни, сын мой, — наставнически произнес бернардинец, — в этот радостный день, светлый праздник Господень, ты обязан, отринув суету мира сего, нестерпимые страсти, тщеславные путы и лакомые вожделения, покаянием и своевременным полным отчетом о судьбах своих перед Богом очистить свой дух и предстать агнцем светлым Святому Причастию.
Если бы такой сердечный наказ Отрепьев услышал от того человека с бубенчиками, что кувыркался на вавельском троне, он, наверно, уже не сумел бы играть. Но присмотревшийся к рясам едва ли не с детства, Григорий только умно вздохнул и спрятал «суетную» усмешку за поднесенной к губам католической книгой.
Каспар Савицкий записал по уходе царевича в своем дневнике иезуита: «Московит на духу сообщил мне, что совсем не почитал, а лишь боялся отца своего, Иоанна Васильевича, который, имея нрав странный и грозный, некогда посохом убил его старшего брата.
Также Дмитрий признал, что ужасно тоскует по матери, от которой давно не имеет вестей. Я заметил царевичу, что жестокосердие царя Иоанна суть издержки эллино-российского исповедания. Тогда Дмитрий, уже не желая идти по стопам людоеда-отца, отказался от схизмы и явственно пообещал перейти на днях в католицизм».
Выйдя из исповедальни Савицкого, Отрепьев покрутил перед алтарем головой. Над ним важно гудел орган, оживал светлыми зыбкими переливами.
На высоких хорах, усыпленный этим журчанием, дремал Миколай Жебридовский. Но Отрепьева, наоборот, раздражала органная музыка, ему казалось: это сама студеная Вселенная вливается по долгим трубам в костел, жеманная, пустая и жесткая. Он вышел из храма — на солнечном воздухе подождать, пока Жебридовский наслушается. Присел на белокирпичную основу церковной ограды, положил на колени, расправил суму, закатил зраки. На слух по звяканью определял, какая монета шлепается в кошель: вот злотый жолнера, вот флорин вельможи, вот грош бедняка. А вот ни на что не похожий, глухой, веский звук, — неужели московский алтын?
Григорий хотел глянуть вниз, убедиться в значении монеты, но почуял: швырнувший алтын все стоит, не уходит и смотрит на нищего. «Чего пьяному чучелу надобно?» — ожидал, возмущаясь, Григорий, не выдержал: вернув зрачки на орбиты, глянул на благодетеля и вскрикнул. Перед ним стоял его дядя, Отрепьев Смирной.
— Юшка?!
— Дядя Смирной?!
— Ах, горюшко! Вот до чего докатился! — Смирной чуть не плакал, озирая племянника, забыв все суровые наказы Москвы. — Кремль весь переполошил, сам на паперти отдыхает! А я-то, дурень, к королю и к сейму ломлюсь: где Григорий, назвавшийся Дмитрием? А они: мол, и слыхом, Смирной, не слыхали! Ну, топерь-то уж ясно: откель им слыхать!
— Слушай, дядя, — Григорий быстро зыркнул по сторонам, — как там деда Замятия и мать?
— Дед плохой. Что и говорить, внучек дал себя знать.
— А мама?
— В Галиче все. Вроде держится. Ничего еще ей не сказали.
— Землю-то не списали с нее как с дворянки-вдовы?
— Пока не отымают… Слушай, Юшка, давай собирайся. Едем, что ли, домой! Да сперва в корчму пойдем, или, как тут у них называют, шинок. Накормлю тебя, дурня, — чай, изголодался, рванину-то эту мы скинем с тебя; кафтан справим!
— Нет, езжай, дядя, один. А Борису-царю, пожирателю малых детей, передай: пускай колесуется и вешается.
— Ты в уме ли, щеночек?! — опешил Отрепьев Смирной. — С голодухи взбесился? Шагай маршем в корчму!
— Сказал: сам угощу тебя, дядя, потом, — Григорий рванул полотно на груди — блеснули алмазные пуговицы. — Жарь обратно, добром прошу. Не видишь, время у меня ограничено.
Смирной онемел и моргал — ослеплен яркой нижней одеждой племянника. Но вскоре борода его подобралась, брови сдвинулись, стрелец, пошарив за кушаком, вытянул тульскую пистолю.
— Я не спрашиваю: краденое на тебе или награбленное. Впереди дяди ступай в Москву! Ну! Сочту до трех — стрелю! Раз…
Тульская пистоля, внезапно выпорхнув из рук головы, ткнулась-завязла в ажурной ограде — Миколай Жебридовский покручивал саблей под носом Смирного, раскрасневшийся, заспанный.
— А! Еще убогий! — вскричал старший Отрепьев, увидев рубище краковского воеводы. — Вас тут целая шайка разбойничает Христа ради!
Дядя Смирной не зря получил чин стрелецкого головы. Отпрыгнув в сторону, рванул он из ножен свой булатный палаш и плашмя что есть сил огрел им Жебридовского. Воевода осел мягко на мостовую.
Григорий ударился наутек. Смирной выдернул из прутьев пистолю, кинулся следом.
— Люди добрые! Католики! — взывал он к прохожим. — Хватай самозваного вора!
Но католики шарахались только, жались к стенам домов, не думая помочь великороссу.
— Черти съешь вас! — желал Смирной, стараясь настигнуть Григория. — Где ж у вас сторожа и объезжие головы?!
Из бокового проулка навстречу им вывернул конный отряд. Отряд окружал пустой дивный возок. Впереди скакал на гнедом жеребце Ян Бучинский, из-под руки чутко осматривал улицу.
— Вот он! — воскликнул радостно Ян, заметив мчащихся.
— Наконец-то… Скорей… Дядя догоняет… — лепетал Отрепьев, подбегая.
— Какой дядя?!
— Ну, я хотел сказать… этот… московский стрелец. Он подослан похитить меня Годуновым!
Бучинский махнул рукой. Всадники поскакали, грудина передового коня снесла с ног похитителя.
— Вора, вора держите, безмозглые ляхи, — взревел прижатый к земле навалившимися богатырями Смирной и вдруг осекся.
— Почеши языком кирпичи, обзетельник, — прозвучал над ним вятский, родной говорок, и Смирного влепили лицом в мостовую. Краем глаза он видел, как племянник садился в расписанный мягкий возок, снимал серое рубище; видел в крупных зеркальных колесах возка собирающиеся ноги толпы и распластанного на земле человека в помятом стрелецком кафтане. Спицы в шелковых чехольчиках дрогнули, закрутились, смяли изображение. Застукали по булыганам копытца.
— С дядей ласковей, детушки, — человек подневольный. До литовской границы подкиньте его да пустите без оружия и порток! — долетел до Смирного ликующий голос племянника.
Часть третья
ОТРЯД
Смелому всякая земля — отечество, как рыбам море.
Мартин Бер
Самбор — Львов
«Весь народ тамошний ожидает его с великой охотой; с прибытием его, сообщают с Украйны, имелась бы большая надежда овладеть государством без кровопролития, — сообщал Мнишек в Замостье коронному гетману. — Однако дабы поступить в этом случае осмотрительно, царевич не желал бы начинать дела без значительной помощи войска Короны. Димитрий возлагает сейчас все свое упование на милость вашу — так он наслышан о подвигах вашего мужества и полководчего дара, и лишь вас видит во главе тех полков, что повлекут хоругвь его в царство Московское».
«Ясновельможный. Поручаю милости вашей мою доброжелательность», — приписывал и Дмитрий римским шрифтом с ошибками.
Замойский отвечал с неохотою и обращался лишь к сенатору Мнишку, давая понять, что царевича Дмитрия для него (а скорее всего, и вообще) просто не существует.
«Кость падает иногда недурно, но бросать ее, когда дело идет о важных предприятиях, не советуют, — замечал пану гетман. — Это дело несет ясный вред государствам и нашим народам. Мне ж известно, в противовес доводам вашим, что Годунов правит разумно и всех врагов своих, явных и тайных, давно снял с ведущих постов (большинство посадил). Всюду в армии, как и палатах сената (Боярская дума), так и в низших его учреждениях верховодят Борисовы родственники или обязанные царю благодеяниями люди. К этому можно добавить, что (как ведомо мне из надежных источников) на Москве хорошо уже знают и чуют все шажки вашего hospodarczyka и, конечно, готовы к отпору.
Еще одно замечание: если бы вы, досточтимый пан Ежи, соблаговолили прочесть мой трактат „De Senatu Romano“, то едва ли обратились ко мне с этим письмом, так как знали бы — Замойский понимает несколько в юриспруденции. Вы считаете — стоит квартальным полкам только перенести знамя „Дмитрия“ за порубежье, знамя это мгновенно подхватят и доволокут до Кремля необъятные русские толпы. А если же, добрый мой воевода, того не случится, не будет ли визит наших полков истолкован как явственное нарушение договора? Не даст ли это право Борису (в случае непредвиденного перевеса сил в его пользу) жестко вторгнуться в Речь Посполитую, а ведь здесь ни одной подготовленной крепости (сколько времени наша граница с Московией настежь открыта по Тявзинскому соглашению, в обе стороны ходят товары и греческие семинаристы)».
«Уж мне-то известно, — божился Отрепьев в новом письме, — мне известно, каковы там Борисовы учреждения и как оне рознятся против здешних, оне не обратятся ему в пользу. Люди, лишь кажущие ему себя в преданности — вероятно, по причине большой стражи, приставленной к Москве Годуновыми, не знают, что со мной деется, в какой силе стою за границей…
Если ваша милость, гетман коронный, изволили не отвечать мне на давешнее послание по причине незнания всех моих царственных титулов, привожу их в конце нынешнего письма и молю вас прислать хоть какой-нибудь благоприятный ответ… Ведь я чистосердечно желаю Речи Посполитой всех благ, мне совсем нежелательно, чтобы она из-за дел моих частных подверглась опасности, потому того самого и от нея для себя ожидаю… С тем вторично поручаю милости вашей мою доброжелательность…»
«Димитрий — человек богобоязненный, — расхваливал гетману царевича в попутном письме Мнишек, — это человек, легко соглашающийся на то, что ему разумно указывают, склонный к заключению самых разнообразных договоров и трактатов, возлагающий надежду на Господа Бога, его величество короля и его сенат… Борис добивается союза с Карлом, с домами Бранденбургским, Датским и особенно Ракуским, — стращал сенатор Замойского, — подумайте, великий из гетманов, какой жуткий расклад вокруг нашей страны тогда будет раскинут, и не лучше ли нам самим взяться и потасовать. В пользу Дмитриева предприятия говорит все: благо Речи Посполитой, правота этого человека, наконец, и то, что необходим же конец злому тирану, который в ущерб естественным государям вступил на престол не открытыми дверьми, по потаенным ходом… Благоволите же споспешествовать этому предприятию и не полагаться на людей, которые обыкновенно тормозят дело на сейме. Время нам благоприятствует, ибо встревоженный своими деяниями Борис не посмел бы, вероятно, защищаться…»
Но Замойский отбил все атаки чернильных шеренг и даже пригрозил в случае самовольного выступления каких бы то ни было частей, привлеченных на сторону мнимого принца, принятием собственных мер по праву гетмана всех сил Короны. Зигмунд III, сохраняя в продолжение этого спора вид вдумчивого наблюдателя, убедился: поддержкой Замойского не заручиться — и не стал созывать срочный сейм. Зато Мнишку даны были негласные полномочия по вербовке и найму «оружного рыцарства» и иностранных солдат. Возглавить это наборное войско, по всей видимости, тоже предстояло ему.
С дрожью в сердце покидал воевода сандомирский, не участвовавший ни в одной боевой кампании, одетый майским цветением Краков… Но сердце Отрепьева, стосковавшегося по родине, радостно билось. Зигмунд подарил ему свой блестящий каталонский сюртук и огромную цепь из переплетших крылья золотых орлов с вылитым на срединном звене профилем короля. Просил надевать ее в ознаменование самых великих побед, чтобы Дмитрий всегда помнил крепко, кому он обязан триумфом. Нунций папский Рангони немного дал денег царевичу лично. Не за так, конечно, — пришлось написать тайком папе Клименту, поклясться — Русь подчинится Святому престолу.
Со сроками перевода Москвы в католичество торопил и Мнишек. По приезде в Самбор староста-воевода, вместо того чтобы, не тратя сухих светлых дней лета 1604 года, носиться всюду в поисках войска, уселся составлять для Дмитрия брачный контракт. Главный пункт составляла обязанность принца всех подданных перекрестить по-латыни в течение года. В крайнем случае — двух, но не позже. Придворный лис понимал: воспитанницу бернардинок — царицу и католика — тестя царя в диких зарослях чуждой религии могут подстерегать неприятности.
Далее шло перечисление земельных пожалований. Марианна при составлении оных еще раз явила свой чудный характер. Не желая вмешиваться в смоленско-украинские дела короля и отца, она потребовала у суженого Русский север, Новгородскую и Псковскую земли с людьми чиновными и духовными, всеми холопами и доходами в вековые удельные княжества. «А мне, великому государю, в тех обоих государствах, в Новгороде и во Пскове, ничем не владети и ни во что не вступаться…» — выводил под диктовку, краснея, Отрепьев. По случаю подписания сего удивления воевода-сенатор закатил грандиозный обед.
Григорий, сославшись на недомогание, хотел бежать на охоту — его не пустили.
— Что с тобою, Димитр? — сочувствовал наедине Ян Бучинский. — Жаль расстаться с лихой, холостяцкою жизнью?
— Да не то, Ян, не то…
— Поведзь, може, тебе неприглядна невеста?
— Да вообще неприглядно!
— Понимаю, Димитр, — вздыхал Ян, — когда всюду вокруг столько очаровательных полек, навязали какую-то чешку.
— Чушку, — поправлял Отрепьев, и друзья начинали давиться и фыркать, вмиг забыв все печали.
За банкетным столом Марианна и принц Дмитрий были посажены рядом. Напротив помолвленных сел известный художник Лука Килиан, приглашенный из Вроцлава Мнишком. Художник выпил, закусил и сразу взялся черкать угольком по салфетке — набрасывать царский портрет.
После провозглашения главных, кичливых и выспренних тостов обширное застолье разбилось на мелкие разноязыкие кучки. По левую руку от Дмитрия московские беглые дворяне на чем свет крыли царей всея Руси от Грозного до Годунова. По правую же руку от Марианны князья Вишневецкие набрасывались на пана Ежи, допытываясь, отчего он из Кракова не привез ни одного завалящего жолнера, тогда как они в Лубнах, на самых задворках Короны, уже слепили боевую хоругвь из «королевских» казаков и татар.
— Я сорвал банк на Вавеле, по цене превышающий войско, — оправдывался пан Ежи, — из Кракова я вам привез благословение Рима и одобрение Варшавы.
— Мы с московским царем на Суле третий год друг по дружке прицельно налим, ничьего одобрения не спрашиваем! — возразил князь Адам, грянув по столу хрустальной братиной[80] (фигурная дужка братины оборвалась, оставшись в пальцах Адама Александровича).
— А может, он папское благословение в карман положил? — сощурился князь Константин. — Может, он деловой человек, а князья ему на побегушках?
— Ах, как можно, панове! — прижимал кулачки к кружевам на груди воевода. — Коли на то пошло, я готов хоть сейчас доказать вам свое чистосердечие… Я готов вам представить свою боевую хоругвь!
— Хоть сейчас? — Вишневецкие переглянулись. — Изволь, пане.
— Судебные дела своих старосте, самборского и Львовского, я всегда провожу аккуратно и жестко, — Мнишек сделал знак зятьям сдвинуться ближе, чтоб никто из пирующих более не услыхал, — и в самборской тюрьме ныне масса безумных и ярых вояк. Это жолнеры, спьяну коловшие в драке товарищей, разоренные рыцари — те, что просрочили все векселя, да и просто разбойники, люди, издавна сбившиеся со стези христианской…
— Так хоругвь твоя, пан, из бандитов и пьяниц! — гаркнул князь Адам так, что все за столом повернулись к нему.
— Нужно дать этим людям возможность попасть на путь истинный, — продолжал тараторить вполголоса Мнишек. — Если выпустить их и, даруя прощение, указать на Россию — верьте слову, панове, — храбрей этих головорезов… ах, дзенкуе, храбрей этих пылких, раскаявшихся христиан в нашем войске не будет солдата!
— А что? — сказал князь Константин. — Может, прав пан сенатор? Надо глянуть, какие герои томятся в самборской тюрьме.
Лука Килиан вдохновенно терзал салфетку угольным карандашом, запретив шевелиться царевичу. Марианна не забывала ухаживать за женихом — как только живописец разрешал двигаться его челюстям, отправляла в рот суженому то говяжий глазок с перцем, то воздушный кусочек бисквита, то лучистую ложечку красной икры.
— Царек ты мой русский, — напевала она, — болванчик китайский… Ложечку за папу римского, ложечку за короля Сигизмунда…
Подошел Варлаам, плеща рейнским из кубка, упал рядом с Лукой Килианом на лавку.
— Непохож! — оценил он работу художника. — Не хватает какого-то колеру… Бородавку на лике совсем не видать!
Живописец отодвинулся от пьяного. Варлаам лег, блаженствуя, локтями на скатерть, переводил свои влажные искры с Дмитрия на Марианну.
— Голубки разлюбезные, Гриша и Маша…
— Я последний раз предупреждаю… — зашипел принц.
— Умоляю, сиятельный принц, не сдвигайте так брови, — сделал замечание Килиан. — Я пишу: как и прежде, расслабьте все мышцы лица.
— Вы опять перепутали все имена, старый инок, — смотрела пронзительно на чернеца Марианна.
— Отпустите худости, жемчуга вы мои! — качнулся Варлаам. — Зелено вино в бант язык заплело. Я хотел назвать: Марина и Митенька…
Варлаам наполнил кубки себе и Луке-живописцу. Художник, поморщившись, отложил кисть и выпил.
— Эх, мила-ай! — отшвырнув свою опорожненную чашу, хлопнул по колену Луку из Вроцлава Яцкий. — Знал бы ты, какого величайшего человека запечатлевашь. Знал бы, сколь с Григорием мы претерпели…
— Я же предупреждал!..
— Я просил вас не двигать губами, царевич. Пишу губы, — осерчал Килиан.
Тогда стол подпрыгнул. Варлаам, крякнув, перевалился назад — рухнул на пол (оказалось позднее, царевич пнул его в пах под столом). Вошедший в зал, окончив распоряжаться на кухне, Бучинский увел чернеца в сад.
«Что же это за человек? — думал живописец Килиан. — Почему его трудно, почти невозможно писать? Все пропорции физиономии мной уже соблюдены, все равно не похоже. Не могу ухватить эту дикую логику внутреннего построения черт лица, эту мертвую хватку угрюмства и света, эту легкую пропасть духовности, дно которой затмила балканосаянская тень!»
В полночь пирующие гости во главе с Мнишком решили ехать в тюрьму: вызволять заточенных героев.
Над Днестром ветерок-голомян погонял небольшие саврасые облачка, еще выше мерцали какие-то звезды. Мимо скачущих пьяных вельмож пролетали холодные разновеликие здания.
Разбойник Кшиштоф Шафранец, пробужденный отчаянным лаем охранных собак, подтянулся на прутьях железной решетки, увидел: тьма тюремного дворика расцвела факелами. Захлопали, заскрежетали повсюду древней ржавчиной двери камор. Гомон все нарастал, приближаясь. Шафранцу в первый раз жуть сжала сердце… Дверь его наконец тоже, взвизгнув, пропала — в темницу хлынул танцующий факельный свет. Рукой закрываясь от пламенных пятен, Шафранец различил посадившего его самборского старосту и еще много шатких, небрежно и пышно одетых людей.
— Вот отменный стрелок! — представил разбойника Мнишек.
— А! Шафранец! Гроза мазовской возвышенности! Где ты шляешься, парень? — потрепал разбойника по плечу Бучинский. — Разве не хочешь украсить собой гвардию русского принца?
Кшиштоф Шафранец, как все мошенники, обладавший способностью вмиг проницать ситуацию, тут же пал на одно колено перед юношей в белом кунтуше и вытянул перед собой, как присяжный меч, цепь:
— Я, как Робин из Локсли, украшу ваш славный поход, мой король Ричард Львиное Сердце!
Отрепьев мигнул стоявшему здесь же тюремщику. Тот, уже державший ключи наготове, живо отпер и отряхнул кандалы с помилованного.
— Вот с такими робятами, государь-батюшка, мы с тобой Русь покорим! — похохатывал рядом с Отрепьевым Яцкий, уже забывший о том, как едва не стал евнухом. — Такие лыцари-тигры, Гришаня, все московские башни повалят, всех кремлевских крыс перегрызут!
Шафранца, вышедшего из темницы, встретили ликующие возгласы ранее освобожденных. Рубиновые языки факелов, гоняя тени по оскаленным лицам преступников, делали их, и без того жутковатые, еще более странными.
Процессия двинулась далее по коридору тюрьмы.
— Вот оказия — в келье у Робина плетку забыл, — вдруг шагнул назад принц.
— Ща, надежа, давай посвечу! — Яцкий через порог озарил догорающей паклей пустую темницу. Нигде не было плети.
Ян Бучинский с Отрепьевым, враз навалившись, втолкнули дородного инока в камеру. За спиной его грянули дверью, Бучинский набросил ржавый плотный засов.
— Гей! Я вам пошучу! — загремел изнутри Варлаам. — Открывайте, уродцы! Меня лучше не белените!
— Посиди год-другой, авось хмель-то повыдует, — шепнул в створку Отрепьев, побежал догонять остальных. Ян Бучинский закликал тюремщика — объяснить, какие новому узнику на кандалы должно ставить замки.
— Цесаревич! Друг! — ревел с той стороны инок. — Я ведь понял теперь, как тебя называть!.. Век молить буду, выпустите старика, ради Христа… Ян! Григорий!.. Тьфу! Дмитрий!
На следующий день Отрепьев, Мнишек, князья Вишневецкие во главе роты разбойников и промотавшихся рыцарей выступили из Самбора во Львов. Там предстояло продолжить спешный набор «частного» войска.
В предместье Львова разномастную свиту царевича встретил ладный гусарский отряд. За плечами у каждого воина трепетало на выгнутых лыжинах коршуновое оперение, сияли легкие доспехи и каски. Впереди летучей конницы скакал щупленький всадник в подогнанном к росту колете с такими же слабыми крылышками.
Подлетев курцгалопом к царевичу, гусар-мальчик отсалютовал позолоченной саблей и вдруг обернулся смеющимся Стасем Мнишком.
Стась, давно один скучавший в провинции, получил из Кракова письмо от отца и сразу, не мешкая, приступил к формированию войска.
— Капитан Дворжецкий! — представил Стась царевичу, отцу и Вишневецким командира отряда. — Капитан — ветеран войн Батория, пожалован в рыцари самим Стефаном Первым.
Вельможи склонили почтительно головы.
— Что ж такого? — разгладил скромно усы капитан. — У меня половина эскадрона пулями клепана.
Дмитрий оставался во Львове более месяца, разослав глашатаев окрест. Постепенно стекался к нему боевой люд, но не так уж ретиво, как ждали. На коронного гетмана глядя, магнаты литовские не поддержали почин. Даже канцлер Сапега не смог здесь помочь, хоть сулил, навещая в Самборе царевича, пушек и сабель немало: опекаемый ратью своих воевод, Лев Сапега умыл руки. Князья Острожские отписали взволнованно Зигмунду, что к ним в руки попали послы с Дону к мнимому князю московскому; князья требовали у короля принять меры к поимке смутьяна, покуда не подъехали к нему донцы на пару с запорожцами и не учинили в Речи Посполитой потеху почище бунта Наливайки.
Но августейший флегматик всегда знал достаточно четко, чего сам хотел, к тому же он лично «прощупал» царевича и был убежден: этот новообращенный католик слишком мило воспитан, чтобы стать безрассудным вождем православных гуляк. Представив эти соображения Острожским, Зигмунд даже позволил себе возвысить державный свой глас и приказал им немедленно выпустить «неприкосновенных послов» и доставить ускоренно по назначению (к русскому принцу). Янушу и Константину Константиновичу пришлось подчиниться.
На полумертвых, изъеденных подвальными крысами казаков было невозможно смотреть. Люди Острожских примчали телегу со сваленными как попало послами под окна старостинского дома во Львове, а сами задали сказочного стрекача. Отрепьев на руках внес легкого, как былинку, Андрея Корелу во дворец Мнишка и уложил на тахту.
— Батюшка-государь, — пошевелил тот почерневшими губами, — вот и свиделись…
Григорий не мог говорить от вздымающих душу злых слез. За Корелой вносили новых страдальцев.
— Ой, куда их на бархат и лоск? — страдал Мнишек. — Прочь всех грязных из залы!
— Я сказал — в залу всех! — неожиданно рявкнул царевич, вскинув влажные молнии глаз на сенатора. С непривычки пан Ежи присел. — Быстро им пожевать что-нибудь легкого, — распоряжался Дмитрий, — да настойки оливок запить. Куда? — отшвырнул он слугу-гайдука, протянувшего атаману рассыпчатый сырник, сам взял блюдо, откусил крохотный ломтик и, помяв, положил Кореле в завалившийся рот.
Вид исхудалых казацких послов странно подействовал на львовское воинство. На другой же день к пану старосте пришли уполномоченные гусар и жолнеров Кшиштоф Шафранец и Самуэль Зборовский с вопросом о «лепшем держании» званого рыцарства (в смысле обеспечения всеми продуктами).
— Люди, в хатах которых мы расквартированы, — сказал Шафранец, — говорят, что им нечем нас больше кормить, требуют злотых за съеденное и пропитое. Принц снабжает нас щедро расписками, обещая с лихвой погасить их в Москве, но такие вещицы сейчас неплатежеспособны.
— Панове, — укоризненно покачал головой пан Ежи, — Львов — жирнейший цветущий поселок. Посмотрите, жидовские лавки скоро лопнут от яств. Уж я думал, кто-кто, а Шафранец в окружении этого великолепия никогда не умрет с голоду.
— Но я считал, в частном лагере русского принца мои приемы не действуют, — удивился разбойник.
— Они, глупенький, получили сейчас официальные санкции.
Шафранец и Зборовский вышли в задумчивости: может, и впрямь хотели здесь завязать. Начались грабежи и погромы. Обедневшие шляхтичи и казаки посполитого строя, составлявшие частное войско, безнаказанно вламывались в торговые лавки, в домишки тихих мещан и хватали все, что на них только смотрело. В округе Львова, навешав лещей пастухам, угоняли говяжьи стада к своему становищу.
Возмущенные местные жители кинулись к Дмитрию. Тот ответил обычным своим языком долговых векселей. Тогда львовяне завалили короля и коронного гетмана жалобами. Потрясая ворохом горестных грамот, Ян Замойский и его сановные единомышленники потребовали у Зигмунда распоряжения о роспуске этой неправильной армии.
Оробевший под натиском важного шляхетства Мнишек хотел уже сам распустить, отложив дело на год, войска; тем более лето уже перевалило зенит — сухое, лучшее время для ратного странствия было упущено, благородный отряд рисковал потонуть в осенней русской распутице, недоскакав до Москвы.
Однако «частное рыцарство», успевшее дружно сплотиться в гульбе и поисках для таковой всего насущного, и слышать уже не желало о том, чтобы снова рассеяться поодиночке и оставить без помощи милого принца. Косноязычный рыжий гигант Самуэль Зборовский заявил от лица всех солдат:
— Круг постановил: буде пане сенатор отменит поход — всем квартировать зиму во Львове, а пожарив последнюю куру, перебраться в Самбор.
Угроза полного опустошения собственных имений показалась пану Ежи куда серьезнее отдаленных окриков шляхты. Князья Вишневецкие вообще считали промедление в действиях, связанных с переворотами тронов, смертной дури подобным, но, с другой стороны, искушенные в ратных ремеслах, князья чувствовали недостаток и слабость собранных сил для ведения самой любезной войны. При таком несуразном раскладе мнение самого царевича Дмитрия становилось решающим, а на него достаточно было глянуть, не спрашивая: уже дымился, на лопату да в печь, — смерть ли, слава, скорее бы только домой.
Войско двинулось на восток в начале месяца серпеня. По краям шляха сжавшие первый сноп ржи украинские бабы сидели теперь на «зажине», пели вольные складни и пили с пряной закуской вино. Рыцари пробовали им подпевать, но Мнишек был недоволен:
— Один снопик связали — и празднуют. Втрое здесь увеличу налог.
— Пан сенатор, таков православный обычай, — заступался Адам Александрович, — «зажин» всегда отмечают.
— Отмечают. Но это какой-то бескрайний пикник, — ворчал львовский староста, упрямо видевший в легкости пиршества жниц выражение готовности к новым поборам.
Не отягощенное ни ломовыми пищалями, ни каперами войско в день проходило не более трех польских миль[81]. Застревало подолгу в зажиточных селах. С Ильина дня хохлы по пасекам чистили ульи, резали соты, рыцари (жолнеры, казаки и гусары) обжирались дурманящей патокой. Бирючи-глашатаи на сельских майданах трубили, трясли ярким стягом московским, выкликая охочих до рыцарской службы, но народ попадался какой-то пугливый и сытый.
Оклемавшиеся донские послы, с таким же знаменем и крепкой конной охраной, поскакали домой — поднимать и вести на подмогу царевичу Дон. Только атамана Корелу Дмитрий не пустил от себя, опасаясь уже рисковать доказавшим свою бесшабашность и преданность сердцем. Мнишек и Вишневецкие переглянулись тревожно при виде вступившего в тесную царскую свиту лихого донца. Корела в свою очередь живо разглядел, что в окружении Дмитрия вельможные литовчины и поляки имеют совсем иной вес, чем дворяне-изгои Москвы. Всюду следуя за государем, «свои» лишь собачатся между собой, мешая друг другу ластиться к «батюшке-принцу» и ляхам. Кореле стало неловко. А присутствие рядом с царевичем двух капелланов-латынцев даже насторожило Андрея, ему вспомнились гневные предупреждения Острожского.
Не умея юлить и высматривать, казак высказал прямо свои опасения Дмитрию. Но тот немедленно растолковал атаману, что, пока в его воинстве преобладают поляки, к ним должны прилагаться ксендзы. А поскольку «капланы сии» — слуги римского папы, то держать их вдали от особы своей, между острыми запахами и языками солдат не годится. Вот когда православных в отряде соберется поболее (например, Межаков приведет с Дону несколько тысяч друзей) — вот тогда можно будет позвать и родных византийских отцов.
Атаман несколько успокоился.
— Да по мне хоть и не заводи попов, — непонятно для самого себя буркнул он, — лишь бы ксендзов не было.
На Дону в то рисковое раннее время не строили еще совсем церквей. Но Корела боялся, что если научат его теперь креститься по-римскому слева направо, то придется снять восьмиконечный маленький крест, сохранивший тепло материнских ладоней и спасавший всегда атамана от бед, и отвернется навек от него степное доброе солнце, которое с детства — соборный алтарь для казака.
Глиняны
Как-то воины различили неподалеку от шляха скрытый в светлом березняке яркий рыдван. Из-за тонких стволов молодой рощи на походную колонну взглядывали амуры и фантастические птичьи хвосты, резанные по золоченому дереву каретицы. Иные пытливые рыцари хотели уже, подскакав, выяснить что-нибудь о здоровье и чине лесной важной особы, но опытный князь Адам отсоветовал: он вспомнил, что в таких бричках гуляют обычно по свету шпеги[82] испанского кардинала. Чуть где забрезжит война или тайная склока, они тут как тут. Шпеги — ехидные, дикие, всем известно: знакомства с ними лучше не заводить.
Рыцари послушались Адама Александровича, — не тревожа испанцев, проехали мимо, осторожно косились в сторону прячущегося возка. Но едва последний жолнер, проследовав, скрылся за поворотом пути, великолепный рыдван, качаясь на коленчатых пругах, выдрался из березняка и покатил вслед войскам.
В пределах Львовщины отряд двигался пестрой, нестройной колонной, без прапорцев и командиров. С выбором начальников не торопились, так как войско еще нагоняли бойцы-ветераны, один другого страшнее и опытнее. Лишь в Глинянах, крайнем, самом восточном имении Мнишка, воеводы решили созвать круг.
Посередине майдана установили широкий стол, накрыли алой парчой; на стол поставили лавку для высших людей войска, закутали лавку зеленым атласом и прибили к ней, как корабельную мачту, древко стяга Дмитрия (с черным на алом двуглавым и четырехкрылым орлом). На звук бубнов и сурен[83] подошел и возлег по майдану отряд.
Драбанты[84], одетые испанцами и гайдуками, подсадили на эти подмостки князей Вишневецких (Адама, Константина, Михайлу) и воеводу-старосту Ежи Мнишка; Дмитрий, так и не смогший привыкнуть к необходимости мелкой подмоги слуг, сам запрыгнул на сооружение.
Знать присела под флагом, прислушалась к шуму оружия и голосов, пошепталась. Мнишек, кашлянув, встал. Бубны и барабаны умолкли. Бряки сабель и ружей еще не могли присмирнеть.
— Панове гусары и аркебузиры! Товарищи реестровые казаки! — начал воевода-староста.
— Шибче! Громче шепчи! Не слыхать! — завопили из задних рядов.
— Говорю: много в наших отрядах прославленных витязей! — понатужился Мнишек, но его бархатный голос, приученный сладко наушничать, а не набатно звучать, вдруг взлетел до высокого скрипа (по образцу немазаных скоб и проваливающихся половиц). — Разделяйтесь на роты, взводы и подчасти, а начальствовать ими назначьте славнейших панов!
«Рыцарство» расхохоталось, дивясь воеводину писку. Константин Вишневецкий подменил тестя.
— Мы созвали вас, рыцари-братья, на раду! — крикнул он. — Вскоре путь наш пойдет по владениям недругов нашего дела, а после и за рубежи, в неизвестную Русь. Значит, время для большего ладу похода и удали боя — назначать воевод по войскам — от главнокомандующего до старшины!
— Дмитрия — гетманом!
— Адама Александровича! — оживился, заспорил майдан сам с собой.
— Вишневецких всех разом!
— Царевича! Он в свой край нас ведет, ему и стяг в руки!
— Молод! Мнишка, старосту!
— Стар! Давай Константина!
— Адама! Свой брат — не продаст!
— Капитана Дворжецкого!
— Дмитрия!
— Мнишка!
Константин Вишневецкий подал знак суренщику унять сумятицу, но сигнал потонул в плеске выкриков и препирательств. Тогда князь Константин взвел оба курка на пистоле и разом нажал их.
Воины инстинктивно взглянули в сторону выстрела, на миг убрав свой звук, и Константин тут же закрепил тишь своим словом.
— Панове! Мы нашим вельможным умишком раскинули так: Дмитрий — наш вдохновитель, наш стяг, то, панове, бесспорно. Но как военачальник неопытен, молод, горяч. Так ли я говорю? — Константин положил руку на плечо принца, тот, вытянув шашку, слегка покрутил ею и, зевнув, вложил в ножны. — К тому же по многим голосам вашим мы видим, что желалось бы войску иметь во главе соотечественника, шляхтича польской Короны, с которым бы стремя к стремени и воевать, и домой возвращаться, дабы каждому уверену быть в воеводе, как в отце. Такой рыцарь сидит среди нас, он и возрастом мудрости, и званием воеводы сандомирского к чину этому годен. И мы, князья Вишневецкие, и сам князь Дмитрий хотим видеть владетельную булаву в его цепких руках! К этому пану мирволит король! На подвиг богоугодной помоги московскому князю благословил пана нунций, то есть римский Святой престол! И все это, друзья, — пан сенатор, староста самборский и львовский Ежи Мнишек! Тот, кому вы обязаны тем, что жужжите сейчас дружным ульем на сходном кругу!
Князь Константин не сказал напрямую, что сам факт руководства войной Мнишком, баловнем короля, послужил бы надежной гарантией, что самодеятельная экспедиция в случае любого исхода избежит суда вального сейма; но по самому тону весомых, осторожно подобранных выкриков князя многие почуяли это второе, неявное дно, тот же, кто не почуял, принял все похвалы и восторги самборским старостой всерьез, и едва Константин Вишневецкий окончил речь, майдан начал скандировать: «Мни-ше-ка!»
Старшина литовских реестровых казаков Счастный, по обычаю, вручил избранному шестопер. Мнишек, по обычаю же, до трех раз отклонял тяжкий жезл, затем принял и сел на отдельный, готовый заранее стульчик. Воевода был очень доволен таким назначением, прошедшим согласно его желаниям, — в его понимании главнокомандование сводилось к большим привилегиям по захвату и распределению важных трофеев. Затем сход начал выборы прочих старшин. Войско построилось и сосчиталось при помощи грамотных гайдуков княжеской свиты. В правильных плотных рядах оказалось не так густо народу, сколько чудилось в вольно кишащей толпе. Всего-то две с половиной тысячи ратников (около шести сотен гусар, пяти — пехоты и полторы тысячи казаков реестровых и надворных, составляющих собственно дружины Вишневецких, Мнишка и некоторых других вельмож). Отряд разложили на два полка — избрали ветеранов Адама Дворжецкого и Адама Жулицкого полковниками. С повышением Дворжецкого освободился ноет гусарского ротмистра. Крылатые гусары составляли гордость «частного» воинства — здесь командира поставить следовало с большим бережением: и хотелось почтить первым сорвиголовой удальцов, да нельзя было их головами в грядущих боях рисковать понапрасну. Самуэль Зборовский, тоже сделавший и прицепивший себе соколиные крылья, подал здравую мысль:
— А пущай сын гетманский, Станислав, станет ротным. Мальчишка лихой: мал, еще не боится ни раны, ни смерти, а лозу сечет, как атаман! К тому же сенатор наш не пошлет небось сынку на явную гибель, под убойный огонь с русских стен, с ним и весь эскадрон проживет.
Гусары души не чаяли в маленьком пане, звонко позвавшем их послужить правому делу Димитрия и надевшем сразу гусарские легкие латы; соображение Зборовского пришлось как нельзя кстати, и Стась Мнишек под бряк и крик воодушевленного рыцарства был избран ротмистром.
— Панове… товарищи… — бормотал Стась, не смея поверить в себя и считая все шуткой для отдыха и расслабления, — я вас не подведу… Pater noster… Fiat voluntus tua[85].
Тогда товарищи сгребли своего командира многорукой охапкой и пустились качать, обернув лицом вниз, чтобы не растрепать его коршунских крылышек. Со стороны был полный вид, что едва оперившегося херувима с усердием запускают летать.
Мнишек-старший не имел ничего против выбора и назначения Стася (так еще более укреплялись родимые властные нити, связующие полководца и войско).
Князья Вишневецкие, ради общего блага уступив пану Ежи формальное единоначалие, для себя посчитали зазорным принять любую иную, низшую, должность, но при этом остались в совете ставки отряда. Корела также уклонился пока от старшинства и есаульства казачьего — ждал себе в подчинение тысячи с Тихого Дона.
Когда с рассветом полки разобрались и двинулись в путь, подскакавший из арьергарда к Мнишку гонец доложил: на хвосте рушения вновь кардинальский рыдван. Гетман задумался.
— Не пора ли пугнуть шпегов из фальконета[86]? — спросил полковник Дворжецкий.
— Будет международный скандал, — воспротивился по-прежнему князь Адам, — я манеры, обычаи знаю, безоружный подъеду, поговорю. Вы ступайте, я нагоню.
Приблизившись к резной рессорной карете, безоружный Адам Александрович тихо показал кулак кучеру; спрыгнув с коня, кинул ему поводья, молча рванул барочную дверцу кузова и сам сел в кузов.
— Перед всем рыцарством опозорить хочешь?
Дама во фламандских кружевах качнулась в другой угол кареты.
— Для того я испанский возок подарил, чтоб каталась за мной на войну?
— Ты не сказал…
— Ась?!
Женщина синими грозовыми глазами, как умела, жгла князя Адама:
— Ты не сказал, что сочиняешь войну! Как мышь, уполз из Бражни! Люди сказали!.. Что, мало шведских картечей, турецких ножей? Русской дубины еще не попробовал?
— Гризельда, будет!
— Адам, очнись! Кто нанял меч твой? — пылила супруга так, что на голове ее стала потрескивать куафюр «башня», свежая выдумка Маргариты Наваррской. — Наш кухарь или сенатор-лайдак? К твоей своячине съездила — сестрички Мнишки горюют: Димитрий папе под роспись полцарства отдал, что-то с этого выйдет?.. Сенатор, значит, за кровные земли пошел воевать. А ты-то, ты?! Опять родня твоей саблей, твоей грудью думает жар грести?
— Умолкни, знаешь сама — не в обычае у меня зря бумагу марать, числа, подписи эти, трактаты… Все, что возьму на аккорд с хода, — мое! Пусть Мнишек звук только против издаст — на манжеты пущу!
— Вишневецкий, послушай, прошу! — не умолкала княгиня Вишневецкая. — Наши имения ближе всех польских земель к азиятской границе! Едва Борис Годунов одолеет, обрушит орды России на край твой. А если Дмитрий начнет воевать так, как стряпал, — неотвратимо сие!
Адам Александрович дернул вбок головой, отбиваясь от доводов гибкого женского разума:
— Поздно, дрожжи взошли. В Лубнах в крайности отсидимся.
— В этом ты весь! — приблизила высохшие сумеречные очи жена. — В Лубнах он отсидится, а остальное гори огнем! Не обо мне, хоть бы о детях подумал, черт, всадник вечный!
— Что ты на меня сказала? — попробовал строжничать князь Адам.
— Вишневецкий, оставь эту игру поздорову, — не слушала Гризельда, — пусть без тебя все жулье, самозванца и гетмана повесят где-нибудь.
— Ты понимаешь, что предложила? — Князь Адам хлопнул на жену большими ресницами. — Езжай зараз до Бражни, сбирай, перевози в Лубну рухлядь свою.
Князь пнул точеную створку возка — вылезать.
— Вишневецкий! — Гризельда стиснула мужу больно запястье.
— А?!
Молчала, смотрела страшно как-то, ненасытимо. Адам Александрович сглотнул в горле.
— Ой…
— Да что?
— Не увижу боле тебя… — Головой упала ему на колени, прическа-«башня» уехала набекрень — среди газовых ленточек, проволок каркаса прически там и тут заиграла мерцанием седина. — Говорит кто-то, сердце мое говорит: не увижу!..
Князь Адам вырвал руку, выкатился из кареты, быстро сел на коня. Коротко махнул холопу, кучеру Гризельды, плетью, — гони назад!
Брат Костя, Мнишек, Дворжецкий, Бучинский, вся свита принца тревожливым нетерпеливым молчанием встретили князя. Не глядя ни на кого, Адам Александрович подскакал к Дмитрию, отозвал в сторону с марша.
— Что, много гишпанцев в рыдване? — спросил царевич покачивающегося грустно рядом в седле Вишневецкого, подумав: князь позабыл, как начать разговор.
— Там вся Испания, — буркнул Адам. — Царевич, если возьмешь Русь, латинство не выдумай насаждать. Не слушай шепоты Мнишка — католик хитер и туп. Запомни, скипетр московских царей удержит лишь православный.
— Тебе это кардиналисты сказали? — изумился Дмитрий, глянув вслед пыльному облачку — обозначению кареты.
— Я тебе говорю, дупло! Смотри, в бою вперед не рвись — ты государь, — продолжил наставления Адам Александрович, — но и в хвосте тебе плестись — нехорошо, тем паче в середину не толкайся, там, знай, всего опаснее. Дружину гайдуков я оставляю — зря не транжирь. Ну вот… — князь уместил литую пятерню на голове царевича, пошатал друга вкупе с конем. — Передавай своим латынцам: «Vale!»[87]
И, прежде чем Дмитрий успел поправиться в седле, князь вольной метью полетел прочь, против движения войска.
— Что он сказал? — не утерпел пан гетман, издали наблюдавший беседу, едва ошеломленный принц вернулся к компании.
— «Вале» сказал…
— Dixit![88] — перевел иезуит Лавицкий для Корелы, уже понимавшего некоторые слова.
Нагнав ажурный рыдван, Адам Александрович прыгнул на ходу в кузов, откопал в пуфах на сиденье жену, поднял и, гладя по кружевам, лентам, седеющим проволочкам, стал утешать, укоряя:
— Грезочка, эк же ты так промахнулась? Неужто видишь меня? Как же твое предсказание? Ну полно, полно, жартую, обое глупые мы, ну полно, едем домой.
Разведка Корелы
Наступил месяц вересень. По ночным небесам побрела, сияя блестками шубы, вокруг Стожара Медведица. Земные стожары[89] в овинах по сторонам киевского старого шляха валились от сжатых хлебов. Уже веяло плотной прозрачностью, и солдаты Дмитрия, отвлекшись с марша, спешили помочь управиться с урожаем в садах и на бахчах.
Не дойдя полумили до Киева, войско стало на отдых — прошли слухи, что к городу с севера вот-вот подойдут гайдуки князя Острожского, могла произойти стычка с ярым противником русского принца. И Димитрий, уже побывавший в когтях киевского воеводы, и Мнишек предпочитали, обойдя древние холмы и стены, Голосеевским лесом пройти на пристань в устье Почайны и без лишнего шума переправиться через Днепр.
После дневного припека вечер выдался мягкий и чуткий. В шелковой палатке царевича Ян Бучинский, два отца иезуита и Андрей Корела ели арбуз. Огромное, рассыпчато-закатное облако в малахитовой кожуре преподнесли принцу драбанты гетмана, разбившего рядом свой шатер. Бучинский резал на сочные тучки атласный подарок и рассказывал польские сказки. В частности, слушатели, упиваясь арбузом, узнали о споре доброго рыцаря Крака с вавельским чудищем. Когда-то в пещере под скалой-Вавелем жил ужасный дракон, он держал в страхе Польшу. Негодяй-дракон требовал каждую ночь несравненную деву, но под утро он так выбивался из сил, что съедал бедную, и нужна была новая девушка. Князь Крак сумел перехитрить зверя: раскачал на вершине скалы страшную глыбу и уронил ее на голову чудища. С тех пор город, возникший на месте славного боя, и назван в честь благородного витязя — Краков.
Иезуиты, жуя, кивали в лад Яну — они уже слышали эту легенду, а Корела и Дмитрий дивились древнейшей истории.
Но сказитель вдруг остановился — всем почудился гомон на улице, будто легонький, но выразительный в полном безветрии вихрь полетел по биваку. Ян Бучинский взял нож, но не стал уже резать арбуз.
Чьи-то суматошные шаги смолкли у шатра Мнишка, затем повели к Дмитриеву шатру. Полы завеси входа раскинулись, и в палатку вошли Вишневецкие и гетман Мнишек.
— Ах! Вельможные паны! — встал навстречу своей знати Дмитрий, заставляя себя безмятежно смотреть в напряженные лица вельмож. — Угадайте, князья, почему стольный город наш Краковом назван?
— Потому что там много ворон и они много кракают, — отвечал раздраженно пан Ежи, — но под Киевом, как оказалось, есть птицы, которые меньше звучат, больше делают!
— Сейчас вернулся наш конный дозор, — подтвердил Константин Вишневецкий, — то есть кони его принесли. Все солдаты избиты и поперек седел привязаны, все промазаны медом, посыпаны гарбузной коркой и семечками. Говорят, поступил с ними так незнакомый разъезд, что сказался дружиной Острожского, и велел передать тебе, принц, что заказаны нам и на Русь, и на Дон, и даже на Запорожье пути.
— Велика ли дружина Острожского?
— Наши забыли спросить. Гетман сейчас приказал увеличить посты.
— Да всех сил его, может, сонливый разъезд, — возмутился Корела, давно спрыгнувший с пуфа. — Воевода, а ну подымай полки, враз нагоним драконов по свежим следам, разнесем в пух и прах, помяни мое слово, корки дынь жрать заставим.
— Цемно[90], пан атаман, — леденисто ответствовал Мнишек, — ночью ратные сурны молчат, только воры и демоны рыщут.
— Налететь на засаду недолго, — разумно заметил князь Константин.
— Государь, повели — возьму сотню, — кинулся казак к своему царю, — поквитаюсь с ворами Острожскими! Неспроста обнаружились явным огурством, я уж чую их, что-то готовят, и нам медлить нельзя. Сотню дай, государь!
— Сотню — это ни рыба, ни ящерица, — раздумывал Константин, — да и в драку лезть рано. Острожские сами крови не ищут. Вишь, дозорных-то наших прислали живьем. Бить по войску, идущему за королевским сенатором, — не на сеймиках лаять, напасть вряд ли решатся. Но мне кажется, молодой человек, — кивнул князь на донца, — в чем-то прав. Ежи, дай ему сопровождение, пусть промнется, разведает шлях за буграми.
— Добже. Десять драбантов из роты Зборовского. Атаман, я молю вас грядущей короной царевича не завязывать бой.
«Зачем ехать тогда?» — хотел спросить казак, но вдруг понял, что пятиться поздно: можно будет подумать — он струсил, получив под начало такой слабоватый отряд.
— Храни Бог, Андрей, — обнял друга Дмитрий.
«Чтоб ты сгинул, чернявый татарин, во мгле», — пожелал гетман.
Корела поправил на груди орден гривны, на ремне — саблю и скользнул из шатра.
Выбрав вместо жолнеров Зборовского кого попроворнее из украинских казачков, он хотел еще проводниками (до места стыковки разъездов) взять дозорных позорников — кто способен еще передвигаться в седле. Как и предполагал Вишневецкий, разъезд отделался радужными синяками, теперь ругался и клялся чем свет стоит, но, увидев Корелу, не выказал сильной охоты ехать с ним в ту же темень на горе-отмщенье Острожскому.
— Ну и ладно, я сам за всех дураков отомщу, — приободрил себя атаман и пустил жеребца перебоем.
Сбежав с кургана, где белели палатки, чернели потушенные по приказу воеводы-старосты угольные пятна костров и вокруг них повсюду вполголоса хмуро судачили воины, рысак Корелы пустился, вдыхая всей грудью полуночный воздух, к днепровским горам. За ним едва поспевали кони взятых в разведку бойцов, а над ним пролетала, не трогаясь с места, Вселенная. Изумрудные звезды смотрели вниз с какой-то прозрачной и явственной, но ускользающей от понимания и рысака, и Корелы выразительной мыслью, — очевидно, смотрели они не на землю, а куда-нибудь мимо земли.
В перелеске разведчики взяли короче поводья, чтобы лошади их не запнулись за корни дерев, подымавшие шлях, и своих седоков не расшибли о темную почву. На того, под кем конь хоть слегка спотыкался, остальные смотрели уже как на смертника, — галицкие казачки подобрались сплошь суеверные.
Скоро лес поредел, на макушке холма впереди все увидели чью-то фигуру, махавшую им.
— Если ты чоловик, подойди, если черт — сгинь, — выкрикнул казачок, о котором ходила молва, что умеет общаться с нечистым и справлялся с ним тысячу раз.
Неизвестный не двинулся и не пропал, но приветливо покивал головой казачку-куму.
— Тебя просят, иди, — подтолкнул разведчика Корела.
Казак закрестился: «Святый и крепкий…» — спешившись, полез на холм, взял махальщика и с ним вернулся назад. Знакомый бес оказался роскошным подсолнухом, каждый казак вышелушил по горсти; саму голову, отломив, укрепил перед седельной лукой добытчик, и разъезд поспешил дальше.
С подсолнухом скакать стало веселее, потеплели, казалось, к скитальцам высокие звезды, и сама сокровенная мысль их уже проявлялась, даже горы и пропасти страшной земли показались вдруг складками бархата.
Но едва казаки обогнули Каневский холм, снова вздрогнули и натянули поводья. На всех разом пахнуло речным воздухом — в низине шел Днепр, полосато-белесый от звездных волн, важно, круто петляющий. Киев спал на каком-то холме во мгле слева, впереди же по берегу и, может быть, по воде хлопотливо витали капельные огонечки, и оттуда летел слабый плеск.
— Против блуждающих русалок я заклятий не знаю, — заявил казачок, победивший подсолнух.
— Да вы что, черти? Живо за мной, — разозлился Корела. — Там шалят рыбаки.
Но дети теплой Галиции, в брожении избыточных соков слагающей страшные сказки, уже поворачивали лошадей.
— Ладно, ждите меня за Каневским бугром, — приказал атаман чудакам и сам начал спускаться в лощину.
Упершись в плотные сучья терновника, Корела приколол к ним коня, пешим полез сквозь угодья кустов. Вскоре он обнаружил фазанью, чуть ощутимую тропку, ведущую, кажется, вниз, и идти стало несколько легче. Огоньки приближались, под ногами захлюпала вязкая от разнотравья водица, чапыж кончился, ласково защекотали по щекам донца шомполики камышей. Миновав осторожно, без плеска, этот мелкий залив, казак упал на песок.
Впереди лежало несколько перевернутых чаек[91] и легких долбанцов, а чуть дальше на волнах качался, темнел целый флот челноков, окружая широкий вместительный ботник с высоким бортом. В лодках сидели и стояли гребцы, некоторые держали в руках тусклые, догорающие факелы. На бот-нике масляно плавал в фонарной коробке огонь посильнее. Чтоб, подкравшись, узнать, о чем держат совет на судах, Корела начал тихонько толкать один долбанец к реке, захватив с кочек топкого моха, на случай, если бесхозное судно даст течь.
— Что ж, православные мои хуторяне, — вскоре услышал он неприятно знакомый голос, — допустим, здесь все корабли, что у вас есть, не считая гнили, списанной на песок… Сей же ночью суда ваши должны быть на том берегу — там проверит Василий Острожский! Понимаете вы, православные?! — говорил человек с борта струга, помахивая пистолей под фонарем.
— Каштелян ясный, — плачуще недоумевали лодочные хуторяне, — своим ходом назад нам потом не доплыть. Коли чайки нужны, пришли гридей, пусть все забирают.
— Мои люди без дела не рыщут. С устья Почайны флот сейчас угоняют. А ваше дело — тупое, не рассуждай, знай греби на ту сторону!
— А когда же назад?
— Когда рать самозванца от Киева вспять отойдет.
— Пощади, каштелян ясный! Може, войско царевича здесь зазимует. А у нас по овинам хлеба горят: молотить, веять — самая треба.
— Недоумки! Когда самозваные роты через Днепр переправятся, со станицами Дона и голью черниговской соединятся — вот тогда вам покажут и жатву, и веяние.
— Да мы бы чайки сховали и тут от царевича. Дела тайных засад и укрытий нам ведомы, или нешто мы не казаки?
— Вы холопы. Ваше дело холопье — левый берег Днепра. Между вас нет того казака, на чье слово хоть один шляхтич рискнул бы положиться.
— Тот казак здесь! — негаданно выкрикнул кто-то хрипато и звучно из задних рядов.
— Ну греби сюда, поглядим, кто ты таков! — махнул пистолей пан с ботника.
Меж рядов пошел валко меленький челн. Не имея весла, гребец ловко работал какой-то корягой и попутно отчерпывал сапогом воду. Вслед ему восхищенно смотрели со всех лодок — вольный возглас обрадовал каждого.
Подведя свое судно к высокому стругу, этот вызвавшийся казаком ухватился за смоляной борт.
Важный шляхтич приблизил к его лицу свой стеклянный фонарь и пистолю. Казак тоже пытливо взглянул на вельможу, и тут оба взревели.
— Младший князь!
— Посол с Дону!
— Пушку, Ян Константинович, спрячь. Может, ты не слыхал, эти штуки, бывает, палят, мы потом поквитаемся, — первым взял себя в руки настоящий казак. — А на слово мое, что Дмитрий завтра же на твой берег сойдет, можешь вполне положиться. — И, встав в рост в долбанце, обратился ко всем: — Хуторяне! Я — передовой войска Дмитрия! Все слыхали? Вам нечего делать на том берегу. Ждите с лодками здесь государя Москвы, молотите спокойно. Так ли я говорю, люди? Слава царевичу Дмитрию!
— Слава! Слава! — вскричал, развеселясь, народ в чайках. Рванулись к звездам мурмолки и шапки из войлока.
Януш Острожский, перегнувшись через борт, приставил пистолю к груди донца и нажал спусковой крюк. Плеснул огонь, ворох белого дыма пошел вверх, а Корела, руками крутнув, как ветряк крыльями, полетел в звездную воду.
Марианна
Три сестры засиделись допоздна на террасе, раскладывая пасьянс. Ароматный настой теплой ночи, из сада закравшись на хор, чуть дышал вокруг, обжигаясь, отдергивал темные лапки от крапинок пламени — ершистых стражей-хранителей нескончаемого домашнего вечера.
Отчасти виновником позднего бодрствования сестер был поручик Пшиемский, гонец короля к Мнишку. Под давлением важных сановников шляхты и жалоб львовян Зигмунд все же дал распоряжение о роспуске «частного воинства», но гонец, поскакавший с приказом, имел тайное веление не особенно рваться во Львов.
Поэтому поручик Пшиемский счел для себя лучшим отдохнуть, выполняя долг службы, в Самборе, в милом обществе дочерей воеводы сандомирского. Получая от отца письма, сестры показывали гонцу пометки мест отправления на конвертах: Львов, Глиняны, Изяслав, Радомышль, но гонец точно знал: торопиться пока еще некуда.
Поручик был, что на польском называется «зух», назначал каждый вечер в дальней беседке свидание Урсуле и Альжбете поочередно. Но прелестницы и без того не скучали, оставшись вместе в роскошном имении без опеки отправленных вдаль муженьков и отца. Ловко делали вид, что укромные зовы поручика к ним не относятся.
Пшиемский, однако же, не унывал и, полагая, что рано ли, поздно ли, не одной, так другой и взгрустнется, не снимал с приглянувшихся старших сестричек осаду, к превеликой тоске младшей.
Поручик Пшиемский помнил сотни своих ратных подвигов и мог трещать без умолку, знал бессчетное множество карточных игр и приемов пасьянса. Причем, когда сестры просили его погадать на судьбу своих ушедших в поход мужчин, при раскладе поручика каждый раз получалось одно: все погибнут.
— Ах, вы жулите! — хмурились сестры. — Как не совестно, пан Шимон. Не игрушки же это — гадание.
— Ясноглазые феи души моей, смилуйтесь! — округлял глаза Шимон. — Вот уж лучшего мага-гадателя вам не найти. Пуще метода карт мной изучены тщательно и хиромантия, и астрология. Если промельки клеток картона в руках настоящего мастера могут вызвать сомнение робких сердец, то, пожалуй, отложим, — одним движением Пшиемский смешал-подровнял колоду и отодвинул прочь, — но недвижным узорам и линиям собственных чутких ладоней у вас нет причин не доверять?
Пшиемский принял в свою руку пухлую ручку Урсулы с предельным почтением и тонко подчеркнутым чувственным трепетом.
— Ах! Вас ждет судьба необычайная. Трудная и восхитительная. Непростая. Посмотрите, как тесно сплелись эти черточки грусти и радости. Линия жизни мощная и ненадежная. Вы, милейшая, будете жить до ста двадцати лет, если вдруг не почиете раньше…
— Очертите по линиям нрав мой, — приказала Урсула, — угадаете — легче поверится в эти знамения.
— Так. Ну… нравится вам… э… хорошая музыка… танцы… Вы немного упрямы, не всегда полагаетесь на слово. — Поручик скользнул с руки взглядом по ладным формам шляхтянки, раздвигающим фижмы, — иногда не прочь вкусно поесть…
— Довольно, Шимон, теперь я убедилась в достоинствах вашей системы предвестий. Неужели и в астрологии вы столь тонкий жрец и магистр? — Покрасневшая пани Урсула спешила перевести с себя светлый взгляд мага-поручика на иной предмет.
— О, еще бы! — воодушевился Пшиемский. — Неподалеку от Жешува владею я деревенькой. Так чтоб попрактиковаться, ежегодно составляю всем холопам своим звездный путь. И сбывается! Ведь и женятся, и налоги платят в срок, указанный им в гороскопе.
— Как не стыдно, пан Шимон, своим редкостным даром так баловать пьяных крестьян? Чтобы мигом построили каждой из нас золотой гороскоп!
— С превеликим блаженством! Только пану шепните на ушко, под каким из счастливых созвездий, ослепительные шалуньи, вы рождены.
— Я — знак Льва, — сообщила Альжбета.
— Лапку, львица — крулева лесов, — наклонился к руке панны бравый поручик.
— А я — Рыбка, — представилась также Урсула.
— Плавничок, золотая игрунья!
— Ну а вы-то кто? — спросил в последнюю очередь Пшиемский у Марианны, изображавшей чтение в темном углу.
— Сумасшедшая я, что сижу тут и слушаю всякую чушь, — Марианна захлопнула книжку, смахнула с плеч теплую тюрлюрлю[92] и поднялась с кресел. — Дурой с вами стать можно. Иду спать. Всем желаю приятных пророческих снов.
— Не обращайте внимания, пане поручик, — попросила Альжбета, когда капризница закрыла за собой дверь. — Сестра сбежала — не хочет раскрыть, что она Скорпион.
— Все равно это очень заметно, — заметил поручик Пшиемский.
Войдя в свою комнату, Марианна почувствовала, что не хочет уже ни читать, ни спать. Ее слишком разволновало глупое потакание сестер шулеру. Или сестры, со скуки насмешничая, притворяются, будто не знают, что тому от них надобно?
Марианна приподняла ажурную раму окна, присела на подоконник. Над лесом за Днестром нарождался медленно большой крапчатый месяц. Мельчайшие световые пучки дальних звезд приходили из непредставимых пространств. Итальянец Бруно считал, что там тоже есть живность и умная жизнь. Итальянца за это сожгли на костре четыре года назад. А ведь он был прав! Марианне кажется: она сейчас уже может сама отличить в небесах населенные точки. Вон до той изумрудной как хотелось бы вольно поплыть сквозь эфир! Не умеет. А как там обняли бы, встретили — там узнали бы сразу: она неземная, она их сестра.
Ночь уже начала щекотать Марианну по голым рукам, но закрывать окно еще не хотелось. Поискала вокруг себя в темноте спальни шелковую накидку и припомнила: тюрлюрлю сброшена ею на спинку кресла на террасе. Конечно, гадающие давно отправились на покой, и Марианна может спокойно забрать ее.
Не засветив переносного подсвечника, полетела хорошо знакомыми коридорчиками обратно. Терраса действительно была погружена во тьму, полуночница быстро прошла к своему креслу и закутала плечи в шелк.
Вдруг из сада по мраморной лесенке шарахнулась чья-то тень.
Марианна притиснула кулачки на место упавшего сердца.
— Урсула, свет очей! — позвал шепот поручика Пшиемского.
Однако, подойдя ближе, Пшиемский узнал щуплую младшую дочь Мнишка.
— Марианна?!. Я ждал вас, прелестная! — воскликнул он разочарованно.
— Меня?! — отходила медленно та от испуга. — Вы же крикнули четко: Урсула…
— Ну и что? Мгла застлала мне очи и укрыла желанный ваш стан.
— Перестаньте, поручик! — разгневалась девушка. — Мне прекрасно известно: обеих сестер моих вы забросали записками-зовами на рандеву…
— Ох, прелестная, — перевел дух поручик, — это только затем, чтоб из вашей души выжать капельку ревности к сестрам и раздуть искру страсти к несчастному жолнеру.
— И вы ради высокого чувства готовы столь низко блудить, развращая себя и моих несвободных сестер?
— На этот счет не извольте: до утра с Урсулой мы говорили бы только о вас.
Марианне как будто ржавыми ножницами кто-то кромсал душу. Мозг работал свободно и ясно, но ничем уже не помогал душе…
— Замолчите. Желаю приятных бесед. Я ушла.
— Ох, постойте! — взмолился поручик Пшиемский. — Я с таким нетерпением ждал только вас. С той поры, как я первый раз в жизни увидел вас на карнавале в честь свадьбы Замойского, я забыл сон. Когда же узнал, что моя лада стала невестой того величайшего русского, первый раз в своей жизни, суровой и бурной, я плакал. Да, я плакал от радости за бесподобный венец вашей гордой звезды, но… при этом не мог потушить костра страсти в груди — он бушует и просится к вам, как и прежде!
Какие-то отчаянные, детские слезы прорывались к глазам Марианны, злобно мучаясь в горле.
— Возьми меня… — всхлипнул чей-то, не ее, голос.
Поручик Пшиемский предстал вплоть и потянул с ее плечей тюрлюрлю.
— Возьми меня отсюда, милый Пшиемский… Забери… Увези. — Марианна не видела уже перед собой ничего, кроме темных слез в своих круглых ресницах.
Поручик приостановился и поправил заново ткань на безумной.
— Увези… Поедем вместе в деревню, где коров пасут по гороскопам… Не хочу я ни Пскова, ни Новгорода, ни бояр, ни медведей… Я хочу вечно слушать тебя…
— Так-так-так, — схватил Пшиемский Марианну крепко за плечи, смотрел сильно в глаза в темноте, а может, и не смотрел — так, таращился. — Тебе что, свет очей, полагается Балтия? Новгород? Псков? Ну какая деревня? Смотри: прендзе, быстренько замуж — развод, все владения на севере станут твои и мои, наши! Ланы новгород-псковские втрое шире земель воеводы Ружинского! Воевода берет с лана за послабление панщины пять талярей, по карбовцу червонному с мельницы. Если это хозяйство прикинуть-расставить по Ловати, Волхову… плюс налог на морские пути, плюс белужина и осетрина студеных озер…
Пан поручик запутался, подскочил, опрокинув курульное креслице, к столику. Зажег спешно все свечи на бронзовых завитых ногах. Свет горячечных острых клочков неприятно смешался с космическим кротким сиянием. Пшиемский застучал бешено мелом по лоску стола, губы вторили всем вычислениям, зрачки мерцали истинной страстью.
Марианна, забыв плакать, в ужасе пятилась к двери, но поручик тогда лишь очнулся и поднял от расчетов бедовую голову, когда щелкнул вдали замок.
…На рассвете у кромки Днепра киевляне варили уху. Здесь же над костерком высыхали штаны и кафтан атамана Корелы. Короткие ичиги входами лежали к огню, словно принадлежали истлевшему в нем человеку. Тем не менее сам атаман сидел рядом, укрывшись чьей-то сухой латаной свиткой. Перед ним на песке тускло посвечивал расплавленный орден гривны — направлял лучи вогнутый и размозженный рисунок чеканки.
— Януш стрелил, — рассказывал Кореле о его чудесном спасении седоволосый мужичок, помешивая уху в котелке, — мы уж думали, друг, тебе амба, ан — барахтаешься. Пулька аккурат в медаль стукнула.
— Это, дед, я и сам понимаю, — подергивал зябко плечами донец, — дальше как?
— Дальше — выловили мы тебя с Опанасом. Януш — в крик. А тут твои удальцы подоспели — услыхали, видать, хлоп пистольный да пошли сами из фузей с берега бить. В общем, кто поглупей и смиренней, те с Острожским уплыли, а все посмекалистее по прибрежным кустам расплескались, за ухабу сховали тебя, вот и сейчас с атаманом Димитрия рядом сидят!
— Сколько лодок осталось? — спросил казак, пробуя с поднесенной стариком липовой ложки уху.
Стряпник стал загибать пальцы вольной левой руки, озираясь.
— Ты совсем не солил, что ли, дед?
— Соли нету, спасибо скажи, хоть котел захватили. — Дед показал несколько раз донцу растопыренную корзлую пятерню.
— Маловато. Еще где челнов набрать можно? Паром есть?
— Паромы тоже Острожский угнал. А суда все тут собраны были.
— Уварилась уха — налетай! — свистнул Корела своим дозорным и киевлянам.
Затеснились, брыкаясь, выхваченные из сапог ложки, навар пришлось отправить по кругу — и в один миг котелок был исчерпан и вылизан.
— Ну, друзья! — приказал всем Корела, звучно кашлянув (будто от сытости). — Что глядите? Плоты надо делать!
Мужички-малороссы притихли, насупились, — может, лучше им было бы не вынимать казака из реки?
Но старик кулинар заявил, что он волка съел в ремесле изготовления тяжелых плотов, сразу взял себе роль заместителя атамана и начал живо распределять меж кумов и знакомых наряды: одним можжевеловые вицы[93] копать, другим — сосны рубить, третьим — обрабатывать и вязать бревна, четвертым — идти по ближайшим сельцам за подмогой.
Корела, потрогав свои вещи у костерка, тоже стал одеваться. Порты были еще влажноваты, но казак не хотел допустить, чтобы подошедшее войско Дмитрия посмеялось над голым.
— Выкидывай, куда цепляешь? — посоветовал старик, увидев, как донец снова прикалывает на кафтан размозженную гривну. — У монеты уже вида нет.
— Не скажи. Хорошо подрумянилась, — возразил, улыбнувшись, казак. — Иван Грозный, отец нашего батюшки, наградил одного волгаря-атамана за пленение ханства Сибирского тяжеленной броней, чтоб его охранить от татарских стрел. Так доспех тот героя на дно Иртыша утянул. А у Дмитрия рука легкая, одну чешуйку подвесил на грудь — без труда выручает.
— А нас царевич, коли перевоз соорудим, своей милостью не обойдет? — спросил кстати старик.
— Это точно, если войско его через Днепр живо переплывет, гуси-куры все с вами останутся.
Седой хохол поскреб бороду и отправился поторопить земляков.
Березовые рубежи
Годунов, созвав воевод, подчеркнул: по черкасской Литве ходит легкий отряд некоего самозванца, угрожая спокойствию южных московских границ. Спрашивается: проходимцы спасаются от Сигизмунда? пробиваются к вольному Дону? или целятся заскочить к нам?
Окольничий Петр Басманов, малознатный, младший чином, первым высказал соображения: куда бы войско злодея ни шло — на Дон, на Терек ли, — не худо царские рати, подстерегавшие нынешним летом татар в степи под Ливнами, теперь переместить к юго-западным рубежам, чтобы всыпали в случае надобности полку Григория на орехи.
Князь Федор Иванович Мстиславский, самый славный воитель, старейший летами и родом, воевавший немного и шведа, и Крым, огладил каурую пышную бороду, уточнил:
— Государь, ведь у нас с Речью мир?
— Так, Иваныч. Все сановники польские против войны.
— То-то к лету вор Гришка полков не собрал. Что доносят, орудий тяжелых все нет у него?
— Нет, не видели.
— То-то. А на юге у нас крены крепкие — Путивль, Новгород-Северский… Без осадных мортир с конька шашкой не взять. Но я думаю, Гришка не сунулся летось, ужо не подлезет. Для походного дела — неловкое время. Распутица…
Царю пришлась по душе рассудительность бывалого князя. Действительно, вряд ли Отрепьев отважится перейти рубежи (по крайней мере в этом году), едва ли польские его вдохновители, вопреки воле короля и коронного гетмана, без пушек, с малыми силами рискнут наскакать на Москву.
Эти соображения хорошо совпадали с намерением Бориса Федоровича распустить по имениям рать, истомившуюся на восточной границе. Дворяне, выборные и городовые, дети боярские, не дождавшись крымского хана, уже просились домой. Дать им новый наряд и опять на пустое стояние — значит вызвать в служилом дворянстве брожение, самому рыхлить почву для всякой крамолы.
— Добро, Федор Иваныч, — согласился со старшим воеводой-боярином Годунов, — своим словом ты в собственных мыслях меня укрепил. Выдавай полкам жалованье по разрядам, распускай славу русскую по деревням.
— Слушаю, государь! — расслабил грудь под бородой боярин. — Но коли обормот Дон подымет, — прибавил он, спохватившись выразить все же готовность, — на тот год придется повоевать.
— К донцам уже поскакал воевода Хрущев, — успокоил царь князя, — там его хорошо знают. Хрущев прежде расстриги потешит донских казаков рассказом о происхождении «царевича», кинет клич государевой службы…
— …и поганец на Дону будет встречен калачами булав и сольцой пуль! — закруглил весело царскую мысль догадливый князь-воевода.
Годунов стыло, но одобрительно улыбнулся, прочие ратоборцы угодливо подхохотали, и царь манием раззолоченного рукава отпустил бояр. Земно склонившись, полководцы неспешно покинули своды палаты.
Борис Федорович, взяв у стряпчего посох, уже хотел вставать с трона, как почуял, что посреди гридницы все еще кто-то стоит. Царь напрягся морщинами в хворях слабеющих глаз, различил насупленного Басманова.
— Худой сон, Петя, смотришь? — спросил ласково.
— Государь православный, — очнулся тот. — Не гневись, вели слово молвить.
— Давно велел.
— Жигимонт и ляхи, знаю, теперь почитают тебя, но, по-моему, в каждом народе всегда есть какая-то доля хороших и какая-то злобных людей.
— Сам дотяпал? На кого же, Федорыч, намекаешь — на своих, на Литву ли?
— На всех, говорю, — рубанул ребром ладони Басманов. — Не вели, государь, распускать войско! Скоро после не соберешь! Что им Дон подымать, коли Русь уж сама на дыбки встает. После неурожая трех лет, сам ведь знаешь, Русь — зверь. Что Отрепьеву осень и нети[94] орудий? Только пушки в грязи не завязнут! Царь-надежа, не по городкам-крепостям ждать крамольников надо — искать в поле и с первого шага по Русской земле прищемить!
Окольничий тяжело дышал, словно дрался уже впереди войска с отрядами Гришки.
— Полно, Федорыч, будет горячее дело — успеешь, — государь заслонил глаза дряхлыми веками, дав понять, что устал, а прием закончился.
«Молодой, лишь бы саблей махать, — думал Годунов о тридцатипятилетнем Басманове, — рановато я сделал окольничим стольника».
Из самой высокой башенки Остера, последнего замка литовского вверх по Десне, Дмитрий и Мнишек по очереди смотрели в подзорную трубу Мнишка на Русь. Отсюда видны были даже топорные затеси («рубежи») на березах, в лесных просветах вьющаяся русская сакма[95] и подымающиеся вдалеке неведомые дымки. Изредка по дороге из московской Черниговщины к замку (или же наоборот, из Литвы в Черниговщину) проходили налегке бодрые люди. В большинстве это были лазутчики остерского старосты Ратомского, принявшего сторону царевича и выяснявшего теперь силы и настрой порубежных российских украин. Лазутчики, пользуясь прозрачностью литовской границы, шагали открыто, проносили с собой и подметные грамоты Дмитрия; возвращались веселые, рассказывали, что грамоты эти вслух читают на всех площадях бурсаки, чернецы, грамотеи-мещане и даже стрельцы-самопальники (ведь служивые тоже порою умеют читать и весьма любопытны, а приказа рвать письма у них пока нет).
В отряде Дмитрия к концу сентября набралось уже до трех тысяч хохлов, назвавшихся вдруг казаками. Среди голытьбы, притекшей из Московии, выделялись выправкой и ладным снаряжением реестровые казаки (получающие изредка королевское жалованье), два года назад воевавшие бок о бок с поляками против шведов в Ливонии и теперь вновь скликаемые Мнишком именем короля. В турецких седлах колыхались тучные старшины, панове, владевшие целыми селами, с усищами и оселедцами не менее запорожских.
Но из самого Запорожья (как и с Тихого Дону) пока помощи не поступало.
— Ну и где Межаков, где твои десять тысяч? Ну где? Нету, — ежедневно тряс Дмитрий Корелу.
Атаман сам едва не запил от тревоги — не понимал, в чем там трудности.
Гонцы, посланные в Запорожье, воротившись, сказали, что город на Хортице пуст: по совету Годунова, приславшего пороху, все уплыли жечь берег турецкий и чистить Царьград.
Главнокомандующий Мнишек ныл, не зная, хватит ли войска и полагается ли наступать поздно осенью.
— Пока мужички наши жнут да молотят, — объяснял ему Дмитрий, — хоть Александр Македонский на олифанте подъезжай — ухом не шелохнут. А как клети набьют да жнивье перепашут — вот и самое время походу: у них руки для игрища освободятся. Деревням-то не все ли едино — зимой по льду стенка на стенку ходить или крушить государство?
Вишневецкие переглядывались многозначительно, кивая брат брату на московского царевича, — китайский болванчик ни с чего вырастал выдающимся деятелем. Или это родимые ветры несказанною свежестью веяли на человека из-за синих лесов?
— Русский юг почти не заселен мужиками, — возразил все же князь Константин, — перед нами одни гарнизоны пищальников и казаков в крепостях.
— На Руси все — мужички, вот увидите, все землю пашут, — смеялся царевич.
— Mon cher, конница наша увязнет в грязи, похохочешь ли? — возмутился воевода сандомирский светлому лицу принца.
— Ничего, не потонет. Журавлей отлетающих кто-нибудь видел? — обвел взглядом царевич вельмож. Те пожали плечами. — Вот. И значит, зима будет поздняя. А какую бесцветную белку Шафранец вчера подстрелил? Векша вылиняла до Покрова: говорю, погода в листопад будет чудесная.
Так и не дождавшись войска донцов, но в соответствии с идеей Отрепьева, дождавшись покровского «зазимья», когда остерские бабки накормили скотину последним «пожинальным» снопом, отряд под началом сенатора Мнишка с песней перешел русскую границу и взял направление к крепости Монастырев острог.
Дело вторжения было новое, жуткое, как все неиспробованное, и Мнишек приказал малоросскому шляхтичу пану Белешко идти к «русскому замку» с казачеством торной дорогой, а сам с «рыцарством» свернул какой-то травянистой колеей в темный лес, наступая «инкогнито» (то есть как бы его здесь и нет). С ним ушли в лес все польские роты, свита принца, кареты, обозы. Колея вскоре вся развалилась во мхах, продирались куда-то, аукаясь, за пышными татарскими шапками вековых сосен теряя ориентир светила. Летучие гусары младшего Мнишка, обычно резвые, еле двигались в хвосте обозных телег, перебирая крылами все ветки. Иной надумавший поскакать, зацепившись за сук, вмиг вылетал из седла.
Хотя лесная живность и дичь, заслышав ломящееся воинство, прижав уши, разбегалась и пряталась, иные жолнеры все же находили превосходные полусырые клочки курятины… Жолнеры, толкаясь, хватали кусок, сдвигали при этом какой-то колышек, и сверху на них падала тяжелая, выструганная из бревна плаха (русским охотникам с помощью таких приспособлений удавалось добыть зверьков без порчи ценных их шкур). Пан Ежи был вне себя — не успело войско войти в соприкосновение с неприятелем, а уже несло потери.
Ян Бунинский, Корела и Дмитрий, чтобы не слушать причитаний главнокомандующего и брань обозников, поскакали вперед, к первой роте Станислава Борши, — и не зря: авангард находил и тут же объедал самые вкусные ягоды.
Неожиданно рыцари выехали на пашню, точнее, лужайку, перелопаченную меж пнями дерев. По лужайке тянула плуг сивая кобылица, за ней шел по пояс голый, запарившийся человек, трепыхая вожжами. Плуг был странный — пахал прямо по пням. Подъехав ближе, Дмитрий и Ян разглядели, что однозубая соха движется под прямым углом к земле и потому не залезает под корни, а перепрыгивает через них.
— Мужичок! — обратился, смеясь, к оратаю Бучинский. — Чьих ты? Не проще ли выкорчевать коряги?
Землепашец покачнулся, остановив лошадь, с трудом оторвал взгляд от пашни.
— Я вам не мужичок! — заявил он подошедшему войску. — Сын боярский я. Одному эти пни разве вывернуть?
— Дзенкуе, пане! — извинился Бучинский. — Но если ты дворянин, разве нет у тебя мужиков и холопов?
— Каки холопе?! — бросил вожжи в сердцах сын боярский. — Было два — взапуски побежали в Москву бить челом, что согнал их с земли, и выписывать вольные!
— Что ж ты не поскакал их ловить? — удивился Дмитрий.
— А кто службу тащить будет? Я ж поверстан пищальником в крепости — ночью в наряд.
— Да, сурово. Ты прав, Димитр, у вас все землю роют, — подметил Бучинский.
— А вы кто? Богатырствуете? — опомнился пищальник от своих бед — вникнуть в благоденствие прибывших всадников.
— Мы — твой новый царь-батюшка, Дмитрий Иванович, — представил друга Бучинский, — идем спасать свои царства. Пойдем с нами?
Глаза и брови пищальника восторженно округлились, рот отворился, и сын боярский, как стоял, сполз медленно наземь, ткнулся в свежевывороченный чернозем лбом.
— Ну, как знаешь, — Дмитрий тронул поводья.
— Государь, я сейчас! — подскочил живо с пашни пищальник, не тратя более времени на церемонии, и стал отматывать с лошади обжи. — Вот уж радость! — кричал он, суетясь и вертя нечесаной бородой. — Заждались, надежа! Теперь смуте — предел! Вырос царь прирожденный!
Русский дворянин отнес плуг в тайник — дупло мшистого дуба, принес пищаль, сбрую и сноровисто заседлал своего скакуна. Царевич показал ему место рядом с собой, чтобы попутно расспрашивать о новых чаяниях русской жизни.
— Оклад большой тебе даден? — спросили у дворянина.
— Двадцать четвертей пустоши, зелье к пищали, вычесть государев налог, — жалился тот, — служи, паши и песни пой. Если кто побогаче, справно подати платит — тому льготы идут, обеление. А на нас Годунов махнул скипетром, детей боярских совсем с казаками сравнял. Годунов Русь изводит, привечает одних чародеев да немцев. Летний снег, стужа, неурожаи — его колдовство.
Отрепьеву, в юности изведавшему прелести мелкого дворянства, были хорошо понятны вздохи служилого человека.
— Бориске, шурину брата моего, покажу, как маленьких обижать, — пообещал он, — послужи мне, боярский сын, пособи порядок в стране навести, награжу не лесным перелогом — доброй пашней с превосходными бабами и мужиками.
Боярский сын заново кинулся кланяться, позабыв, что в седле, и нырнул с лошади. Перед ним едва успел придержать жеребца ротмистр Борша.
Дворянин повел войско какой-то только ему ведомой тропкой, все чаще попадались некорчеванные, но уже перепаханные на зиму взалежь полянки. Вскоре перед взорами путников отворилась большая ровная ложбина, предтеча степи, и запоздало работающие сернами по яри голые до пояса люди. Жнецы шли правильными рядами, на некоторых, наиболее зябких, вяжущих сзади снопы, были наброшены лазоревые кафтаны стрельцов-пограничников. Около ружей, составленных поверх двух-трех готовых снопов, ходил стрелец-часовой с пищалью, лениво поглядывая в сторону леса. Часовой, очевидно, сознавал всю тщету своего поручения, так как татары лесами не рыщут, и потому, завидев вооруженную кавалькаду, выехавшую на опушку, так удивился, что выстрелил и уронил самопал. Впрочем, признав в первом ряду неведомых витязей одного местного на сивой кобылке, караульщик несколько успокоился и даже поднял оружие.
Эта стрелецкая часть, по-видимому, с момента возникновения обрабатывала государевы десятины. Возить из северного Нечерноземья хлеб для служилых людей в южные уезды было делом накладным. Порознь дети боярские и привлекаемые к охране южных границ казаки не могли быстро «переварить» выданные им клочки «дикого поля». Дабы снабдить города в степи собственными зерновыми, Годунов завел там государеву пашню и служивых — стрельцов, казаков и мельчайших дворян, — наградил новой повинностью. Причем, чтобы малолюдные порубежные крепости во время полевых трудов совсем не пропали для дела службы, гарнизоны городов более удаленных и мощных обязались помогать своим слабым соседям покорить необъятные пустоши. Так, сидельцы Монастырева острога весной только взрывали зябь, к основной запашке и севу подъезжала рать из Чернигова, стрелецкие черниговские сотни также осенью жали, а монастыревоострожцам оставалась лишь не требующая большого поспешания молотьба. В годы похолодания и неурожаев в Средней России южная государева десятина спасла от голодной смерти все служилое порубежье и даже поддержала казацкое Поволжье и московских крестьян. Однако дети боярские, разоренные кутерьмой возобновления Юрьева дня, вдвойне негодовали, что их привлекают к работам на «барщине Годунова», истолковав эту меру как признание и закрепление буквой закона их нищего звания. Стрельцы и служилые казаки смотрели на эти вещи проще, но особого удовольствия тоже не выражали: прежде им так упорно крестьянствовать не приходилось. Но что вскорости стало бесить всех крестьян-пограничников — безграничный простор, открытый типом такого хозяйства предприимчивости воевод. Из широкого общего амбара тащить стало куда спокойней и легче. Пищальники слали в Москву челобитные, прося у царя опалы на головы военачальников, но то ли челобитные не достигали столицы, то ли дальше погранкрепостей услать прохиндеев царь просто не мог. Возможно, изъеденный хворью, он мог думать уже лишь о том, как от трона добраться в постель.
Поэтому, когда из лесу выскакал вдруг осененный знаменами Москвы и султанами Польши новый царь, молодой, как московские первые княжи — и оружный и конный, полный свежей грозою и свежею милостью, осадил жеребца совсем близко, доступен умному слову, тихой просьбе и жалобе, — стрельцы, вместо того чтобы кинуться к пирамидам пищалей и отбросить агрессора мощным огнем, окружили нестройной, усталой, сияющей влагой горячих испарин толпой долгожданного, вознося славы Господу и величания святым.
— Детушки! — остановил разнобой заявлений Дмитрий. — Все знаю! Постою за вас, кроткие, духом нищие, карманом слабые!
— При вашей ли силушке полевыми чирками махать! — поддержал Ян Бучинский. — Поработайте булатами, постойте за батюшку!
— Блаженны вы, жаждущие, ибо утешитесь! Блаженны плачущие, ибо высохнете! — продолжал, вдохновляясь, царевич, с невыразимым наслаждением глядя в родные, изможденные лица, необъяснимо чувствуя вокруг русские, глубоко замирающие сердца. — Вы, ваш пот — соль земли. Ваши очи — свет мира! А зажегши свечу, ведь не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме… Так идите за мной высоко, на самый пик великой русской горы — да светит свет ваш над всей Поднебесной!
Рев потрясенных стрельцов огласил содрогнувшуюся снопами десятину. Заметалось по стенкам литовского ельника эхо.
Отрепьев, выхватив саблю, еще что-то диктуя, поскакал на просвет.
Между тем атаман Белешко, подойдя на выстрел к Монастыреву острогу, выслал вперед казака. Издалека завидев неведомое войско, часовые в крепости уже трубили сбор, однако гонец беспрепятственно допущен был к крепостным стенам и на конце копья передал пограничникам «цесаревичево письмо». В продолжение чтения оного воевода Лодыгин, честя расстригу и вора последними словами, пытался несколько раз вырвать грамоту из рук подчиненных, но, невзирая на отчаянные его усилия, обращение Дмитрия было заслушано целиком, причем где-то к концу слушания воеводу Лодыгина уже держали, а по прочтении связали и вывесили за крепостной стеной в знак особого рвения перед «своим государем».
Впрочем, при всем усердии Монастырев острог мгновенно сдаться «надеже» не смог. На радостях «государь» с основным войском, заблудившись в лесах, попал в болото, откуда сумел выкарабкаться на крепкую дорогу и попасть в крепость лишь через несколько дней. За это время к его появлению монастыревоострожцы успели хорошо подготовиться.
Жены и матери пограничников, выстроившись от рва к валу, ликовали до слез: «Восходит наше красное солнышко! Ворочается к нам свет Дмитрий Иванович!» Их мужчины в парадных кафтанах с кистями палили из всех ружей, но вверх, а также из трех тяжелых поджарых пищалей, имеющихся на бревенчатых стенах, в разноцветные дали осеннего леса.
Под колесо экипажа царевича швырнули связанного Лодыгина.
— Казни его, государь! — вскричали притащившие воеводу стрельцы, упав рядом с ним на колени. — По тебе из пушек бить нам велел! Прими в дар окаянного!
Воевода Мнишек махнул было жолнерам из свиты — уволочь русского сановника и как-нибудь избавить от него мир, но Дмитрий вдруг остановил расправу.
Ранее, находясь сам в московской толпе, Отрепьев не замечал раболепства своего народа, — как все вокруг, он смотрел на царя. И только сам став царем, он поневоле встретился взглядом с песьими глазами быстрых людей, от лица племени приносящих властителю жертвы. Никогда ранее — ни варясь на восторженных празднествах, ни в крамольных монашеских сходках — не замечал он так отчетливо и близко этой славной душевной черты, над которой и царствовать стыдно.
— Обожди, пан староста, — вполголоса одернул он Мнишка, — ты начальствуешь над полевой ратью, а казнить или миловать граждан Руси один я волен!
— Миловать, mon cher, не рекомендую, — фыркнул пан Ежи, — вы же видите, здешний народ и солдаты стоят за смертную казнь.
— Что ты знаешь про здешний народ?
— Четко требует уничтожать воеводу!
— Врешь. Народ мой не злой и не четкий — он добрый! — возвысил голос Дмитрий и сошел с экипажа.
— Люди русские! — уже кричал он, пройдя мимо двух расторопных стрельцов, державших за шиворот бывшего военачальника. — Я не знаю совсем воеводу Лодыгина! Может быть, неплохой человек? Как вы скажете, монастыревцы, так будет — жизнь боярина в ваших руках!
Население маленькой крепости, все сбившееся на пятачке от ворот до ближних тесных построек, замерло завороженно.
— На березу собаку! — радостно захохотали стрельцы, приволокшие боярина.
— Так, так, батюшка, всю муку с государевой житницы в свой овин переместил! На своем подворье с утра до ночи нас, боярских детей, напрягает! — поддержали их несколько злобных голов из толпы, но основной народ продолжал с удовольствием созерцать государя, весь хороший и вялый.
Воевода Лодыгин уже обратил к небу бороду, повисал на руках палачей, постепенно светлея.
— Вы подумайте, православные, — пошел в толпу Дмитрий, — ну что видел Лодыгин в Боярской думе Кремля, — воровство окаянного Борьки, из моей слабой детской ручонки укравшего детство и трон! Что ж мог лучшего сделать боярин Лодыгин, если царь вел себя как разбойник? Лодыгин решил: чем важнее сановник, тем крупнее хищения должен он брать на себя. Но когда над Лодыгиным встанет законный, естественный царь, воевода сам станет законником! Может быть, уже стал?! — развернулся царевич в толпе и бегом побежал к воеводе. — Ну, Лодыгин? Раскаялся ты? Народ ждет!
Боярин с неохотой опускался из горнего мира на землю, — лицо вновь потемнело, стало слабым, пустым.
— Отпусти покаянию… Не признал, каюсь… Здравствуй, Дмитрий Иванович, — полушептал он, сбиваясь. Заработавшее не в лад, размашисто сердце не давало ему выговорить.
— Не передо мной, Лодыгин, перед русским народом покайся!
— Прости… русский народ… — забубнил воевода, зябко зыркая по сторонам, но от последних рядов уже шла, вырастала, добрела густая звуковая волна:
— Хрен ли в нем?! Пусть еще поживет! — Волна была дружественно-теплой, прозрачной.
— Государь православный не сердится, что же мы барчука замытарили? Теперь портки ему не отстираем, бабы! — волна была ласковой, женственной.
— Пошто казнить? Неуж мы с Дмитрием Иванычем вошь-воеводишку на место не приберем? — Волна дивилась собственной мощи и благонамеренности.
Лодыгин, еще сомневаясь в спасении, широко разинутым ртом озирал людей, которых прежде он тихо презирал, обворовывая, и которых теперь будет ненавидеть за величие духа, простившего зло.
— Что, железный сенатор, чей народ ближе к Богу? — пошутил Дмитрий, снова садясь в мягкий экипаж рядом с Мнишком. — На каком польском сейме ты припомнишь подобное единодушие?
На другой день авангард Белешко и Борши подступил к южным воротам укреплений Чернигова. Ворота как по волшебству растворились, и выборные старейшины посада протянули бойцам на ржаном каравае в муравленой баночке соль.
Одуревая от торжествующих кликов, вступили всадники в древнее славянское городище. Домонгольские и новые храмы охлаждали свинцовыми кровлями полыхание октябрьских садов, трепетавших от ветра, летящего из-за Десны, из-за плотных дремучих дубрав с соловьями-разбойниками; вытоптанные тропы-улицы города уже застилали деревянными сходнями, опасаясь грядущей распутицы.
Ротмистр Борша, протянув руку к перевалившейся через забор яркой ветви, сорвал подобное кулаку Самуэля Зборовского позднее яблоко.
— Что за сорт? Штрюцель? — спросил он выборного мужика, шедшего рядом.
— Сам ты штрюцель. Налив, — отвечал выборный и, махнув рукой в сторону горки, увенчанной Спасским собором, напомнил: — Воевода князь Татев Иван со стрельцами там заперся в старом кремле. Не забудьте, смотрите, у нас его.
— Ротмистр, гетман, слыхали? — прикрикнул Бучинский, всюду бравший теперь роль наместника Дмитрия во вновь осваиваемых областях. — В ритме польки очистите замок!
Ротмистр Борша козырнул, Белешко свистнул, тряхнув бунчуком, и веселая лава, подняв плотное облако пыли, понеслась и исчезла в клубах яблоневых разгоравшихся рощ.
Ян Бучинский зашел на торговую площадь против Пятницкой церковки. Следовало позаботиться о снабжении воинства необходимым. Ряды чесаного русского льна, трепаной конопли, дегтя и еловой серы наместник миновал, едва всматриваясь. Долго нюхал говяжье соленое мясо, удивляясь, какой худосочный базар.
— Разве ноне базар? — подтвердил купец, сидевший на бочке с треской. — В лихолетье морскую рыбешку сквозь всю Русь вез с Архангельска прямо на юг. А теперь и здесь народ обнищал — не берет семгу, хоть треской его по лбу бей, не берет, разоритель-бедняга.
— Вестимо, как не нищать, — отозвался сосед купца, охотник, сидевший с местной пушниной, — Годунов довел Русь до июльских морозов, теперь в счет наших теплых украин ей на рваный зипун латки шьет! Худым ртом хлеб черниговский тянет! Покупай, лях, меха, — обратился он к Яну, — зимой будет «та-та» на Руси.
— И почем твои кошки? — поинтересовался Бучинский.
— Кошек нет. Песцы — по пять алтын за хвост. Куницы — ефимок серебряный. Два рубля — бобр черненый. Соболь — рубль за пяток, глянь на соболя — с глазками и коготками — так московские барыни носят.
Бучинский начал обкладываться ценными шкурками, продевая их под портупею. Своим жолнерам он также мигнул, чтоб забирали у купчины треску и соленую семгу.
— Треска — семь гривен за бочку! — суетился обрадованный делец. — Но семга, не взыщите, служивые, по четыре рублика, перемыта, повялена. В кадке, гляди, сколько рыбин крутых!..
— Ишь ты, годовое жалованье казака, — усмехались солдаты. Бучинский, вытянув из-за пазухи связку долговых вексельных заготовок и сухой карандашик, сложил-вычел, сломав карандаш, расчеркнулся и протянул купцам вексель. Те изумленно смотрели на новые деньги.
— Подойдете в Москве — разочтемся, — объяснил Ян и двинулся по рядам дальше.
— Лях вельможный! — возопили очнувшиеся продавцы. — Медью, оловом хоть расплатись, не пускай с сумой по миру, Польша!
Торговец рыбой, зацепившись за обруч бочонка, тянул его у жолнера назад. Пока у солдата были заняты руки, охотник сорвал с него каску и хлестнул ею Яна Бучинского по голове. Наместник полетел, круша разный товар, под какой-то прилавок.
В тот же миг небосвод над Черниговом лопнул. Обжигающий пороховой ветер дунул от гребня детинца[96], и вслед за тем раздался радостный свист, ровный, умильно-протяжный. Свист усиливался, тупел, ускоряясь, словно тот, кто свистел, враз выдыхал весь необъятными легкими собранный воздух, и вдруг черная молния тяжко ударила в опущенную наземь торгующимися кадушку. Белый взрыв разметал, опрокинул ряды; семги, белки, растрепанные осетры и песцы полетели куда-то все вместе над Пятницкой церковью.
С горы во весь дух скакали и пехом бежали жолнеры и казаки. Белешко и Борша, несомые общим потоком, хлестали вокруг себя плетками, но не могли унять бегство.
— Мышеловка! — повторяли иные, у которых одна душа ушла в пятки, оставив мысли дрожать в голове. — Нас нарочно впустили посадские! Подвели под прицельный огонь! Бей мещан!
Минуя базар, воины и кони скользили в лужах дегтя и масла, хватали грязные окорока, сворачивали на ходу пряжи и ткани.
Бучинский с трудом выкарабкался из-под прилавка, подскочил, маша клинком, к ротмистру:
— Пся крев! Ты дал отступление?
— Желторотые трусят! — рыкнул Борша, поправляя уже обласканную селитрой каску. — А крепость — дрянь! Во рву березы, но брать нужно сейчас, а то ядрами выжгут посад — не подступишься.
— Храброе воинство частное, стой! За робость принц Димитр будет увольнять без пощады! — Наместник бросился к торговцам карлуком[97], лихорадочно собиравшим в тележку товар, и, пригрозив им пистолью, начал бить чугунки с рыбьим клеем по всему диаметру площади.
Бомбардировка посада тем временем стихла, клей и крепкие увещевания Бучинского удержали на площади все-таки очень приличный отряд. Пробежав по ближайшим домам, солдаты приволокли с полсотни длинных хозяйственных лестниц; Бучинский сказал краткую, но безупречную речь, Борша разделил отряд на штурмовиков и стрелков прикрытия, которым долженствовало, рассыпавшись за прилегавшими к крепости плетнями, клетями, мазанками, сбивать со стен пушкарей. Наместник и ротмистр, сев в седла, показуя пример, по краям взяли вместе садово-осадную лестницу и поскакали к валу детинца во главе колонны штурмовиков.
Но защитники крепости, видимо, тоже успели переменить тактику. Ни ружейного, ни арматного выстрела не прозвучало с дубовых рубленых стен, когда колонна вступила на прицельно простреливавшуюся площадку. Несколько пушкарей, в полный рост стоя на деревянном баляснике, потрясали тлеющими запалами и что-то кричали. Ротмистр Борша тоже махнул клинком: взревели польские сурны, жолнеры из-за поленниц и яблонь дали залп в пушкарей, те попрыгали за парапет, на свою галерею. Но пищали и пушки на стенах не отвечали по-прежнему.
Ян Бучинский и Борша перекинули лестницу через нестрашный, шевелящийся пестрым кустарником ров, пробежали, приставили лестницу к башне. Ян легко, несмотря на хороший доспех, побежал по поленцам ступенек, но навстречу ему поскакало стремглав, кувыркаясь по лестнице, пущенное сверху короткое обхватистое бревно и смело Яна снова на землю.
Бучинский, съехав по траве вала ко рву, еще долго валялся, болтая ногами, — не от боли и не от смятения — от радости, потому что примчавшееся с башни бревно тоже жило и дергалось. Это был перетянутый крепкой пенькой фитилей воевода князь Татев.
— Не серчайте, братки! — еще кричали с дубовых балясин. — Мы своих прирожденных воров повязали! Мы с царем! Мы с законным царем!
Ослушник
Воевода Петр Басманов, шедший с небольшим, наспех собранным пищальным отрядом на помощь Чернигову, в начале ноября услышав о сдаче города и переходе воевод во главе с Татевым на сторону самозванца, остановился в Новгород-Северском.
На глазах воеводы сгущались тучи над югом России, в них таилась, терпела еще, наливаясь всей мощью злорадства, небывалая молния. Мужики в поселениях, через которые проезжал Басманов, даже не выходили на улицу, зыркали из-под калиток, разве только не лаяли, подобно посаженным на цепь волкам. Только совсем несмышленая мальчишня, скача на хворостинах за войском, кричала, весело толкая стрельцов:
— Ужо будет вам, государевым ослушникам!
В душе Басманова, несмотря на общее чувство досады и гнета, сияло все же какое-то черное удовольствие от того, что именно он, а не Годунов оказался прав.
Лик Бориса Федоровича был зеленее обычного, когда, снова созвав воевод, он объявил им принесенное гонцом князя Татева известие о падении крепости Монастырев острог на порубежье и вторжении Гришки-расстриги в Московскую Русь.
— Кто бы мог подумать… — съязвил тогда вполголоса Басманов.
— Ты что, Петенька, шепчешь? — услышал царь. — Никак, серчаешь опять на мое скудомыслие? Помню, ты упреждал об опаске, я чуток заупрямился, да ведь ты, обуянный гордынею, не настоял. Теперь вижу: Петр наш — сильный стратег. Впредь его стану слушаться.
Родовитые мрачно прослушали похвалу уму худородного.
Басманову было немедленно выделено четыре сотни стрельцов московского гарнизона и предложено мчаться на юг, в помощь Татеву. Там ему предстояло, сковав силы Отрепьева, держаться до подхода основных ратей дворянского ополчения, кои поручалось вновь собрать и возглавить князьям-воеводам постарше.
Перед Басмановым, на полпути к месту узнавшим об участи черниговской крепости, возник законный вопрос: куда двинуть свои сотни? Какая из крепостей у расстриги на очереди? Басманов рассудил просто: Путивль, главная южная крепость, казакам и гусарам Отрепьева — орешек не по зубам, из числа прочих крепостей Новгород-Северская отличалась обширным посадом — подходящим горючим для бунта и, кроме того, как бы предвосхищала исконно московскую Брянщину. Отряд Басманова вступил в Новгород-Северский.
Новый воевода первым делом заставил посадских от мала до велика расширять и чистить ров вокруг холма крепости. При этом Басманов позаботился о том, чтобы как можно более увеличить пропасть между подчиненным ему человеком с ружьем и человеком без ружья. Пищаль-никам и казакам Новгород-Северского по приезде он незамедлительно выдал по серебряной гривне из кованого сундука, привезенного им из Москвы, — гостинцы от Годунова. Затем он освободил своих воинов от всех казенных работ, и когда посадские надрывались во рву, ратники Басманова посвистывали рядом, карауля ворота и стены кремля, и восхищались небывалым командиром. Терпение посадских лопнуло, когда молодой воевода по окончании вала и рва приказал им приступать к сооружению нового пояса оборонительных укреплений. Кто-то в сердцах нагнулся к земле и, распрямившись, запустил в голову Басманова камнем. Петру Федоровичу того и надобно было: по гудку часового стрельцы, пищальники и казаки ринулись на мужиков и, работая шашками и бердышами, загнали «бунтовщиков» в кремлевский крепкий острог под засов. Затем Басманов распорядился перевезти в крепость муку и прочие ценности из посадских амбаров и, как только это было исполнено, велел выжечь вокруг кремля до Успенского собора весь торговый бревенчатый тесный посад, чтобы не подарить атакующим ратям расстриги блестящих укрытий. Одновременно с этими мерами воевода, наделенный царем особыми полномочиями, затребовал из ближних городов Брянска, Белева, Трубчевска, Кром отрядить «сколь кому мочно ратного люда» в крепость Новгород-Северского.
Иными словами, Петр Басманов с немалою пользой использовал время, любезно предоставленное ему Мнишком. Главнокомандующий «частным рушением» откровенно робел идти в глубь государства Московского. Его тянуло поближе к лесистым границам Руси — так староста самборский неожиданно предложил на военном совете двигаться вдоль порубежий, гранью Дикого поля на восток к Белгороду и, заняв степной город, там ожидать подкреплений донских казаков.
— Скажи, гетман, ты что, с кожуры начинаешь есть сочный арбуз? — не соглашался царевич.
— А кто подавал на отсечение голову, если московские бояре сами не высыпят семечками под ноги нашим коням? — искривлял углы губ воевода сандомирский. — Кто шептал, что едва мой отряд обнаружит себя, Борис будет мгновенно низложен с поста и задушен своими вельможами?
Военный совет длился несколько дней. Боевые полковники и ротмистры во главе с пылким Мнишком-младшим упорно осаждали главнокомандующего, требуя незамедлительного выступления на Москву. За ними стояло все «частное рыцарство», догадывающееся о несметных сокровищницах самодержавного царства и о том, какова пограничная зимняя степь.
В одном мнение многих опытных воинов точно совпало с мыслями Мнишка: неприступный Путивль почему-то их не привлекал. По правую руку оставив кремль на холмах Сейма, отряд двинулся к Новгород-Северскому.
Ян Бучинский с двумя сотнями казаков снова помчался вперед. Арианин стремился скорей заслужить войсковое хорошее звание и разведать товары.
Едва казацкие кони, пугливо пофыркивая, вступили на вымытую огнем землю, когда-то поддерживавшую новгородский посад, по которой теперь только ветер гонялся за пеплом, — стены крепости выдохнули голубые дымки, и поля вокруг передового полка зашатались под градом снарядных ударов.
— Скорей к крепости — ядра нас там не достанут, — закричал Ян. — Важно перемахнуть пушкарям обращение Дмитрия!
Но едва всадникам Бучинского удалось преодолеть площадь, занятую под орудийный обстрел, как их встретили дружные залпы ручных пищалей. Потеряв треть отряда, арианин-наместник отлетел назад в степь.
Услыхав о коротком знакомстве своих передовых частей с молодцами Басманова, Мнишек два дня томил армию в поле, никак не решаясь на действия. На третий день войско вдруг само двинулось и облегло крепость, за ним с обозом приплелся и главнокомандующий.
Отрепьев сам (с помощью жолнеров Дворжецкого) под огнем расставил первые пушки, заимствованные с черниговских стен.
— Государь, не мешай, отойди в шатер Мнишка на польскую милю! — волновались Корела и князья Вишневецкие. — Не ровен час — убьют!
— Которая голова идет короноваться, та ядром не накроется, — убежденно смеялся царевич.
Канонир сильными щипцами выхватил из железной бадьи с огнем прозрачное от нутряного алого света двенадцатифунтовое ядро, катнул в пушку. Поймал главную башню над валом и дульную мушку прицелом; едва успел отнять ресницы — Отрепьев совал уже жаркий фитиль.
— Господи, перенеси, — напутствовал первый снаряд пушкарь. Короткая армата так кашлянула, что у всех близстоящих затмило рассудок и слух. Ядро, вылетев, стало вдруг забирать вправо и бултыхнулось в седую Десну, река фыркнула паром.
Крепость вся затряслась от восторженного хохота осажденных. У мортиры был сбит поперечный прицел.
— Разверни пушку дулом на роту Зборовского, — прокричал канониру царевич, — тогда точно в Новгород попадем!
Отрепьев с удовольствием слушал приятный посвист снарядов, не понимая, отчего вокруг него люди сжимаются и приседают, когда со стен прилетают неметкие мячики, вспушая кое-где землю. Но Басманов вскоре повел огонь точнее, и прямо в руки царевичу кувыркнулась оторванная нога пораженного в десяти шагах от него канонира.
Царевич упал, лихорадочно втиснувшись в глиняную межу, и выронил сознание.
Когда душа и рассудок отыскали Отрепьева, он почувствовал, что возлежит на сафьяновых пуфах у шатра Мнишка, и увидел вдали неурядицу жолнеров и спешенных казаков, бегущих как муравьи — с вязаными облаками мха и хвороста — к крепости. Ротмистры и есаулы вдохновляли бойцов взмахами сабель и бунчуков. Оглушительно схлопывались литавры, закидывались медные горны, стараясь заглушить как-нибудь рев орудий Басманова, пугающий штурмовые колонны.
Перебравшись по фашиннику[98] через ров, самые удалые зажигали хворост под бревенчатыми стенами. Но отсыревший в первые оттепели ноября кремль никак не занимался; проворно опрокинув вниз несколько чанов воды, защитники крепости совсем истребили неяркое приметное пламя. Многие лестницы «частного» войска оказались вдруг коротки для невысоких сравнительно стен; лестницу, доставшую бойницы, стрельцы, едва первый жолнер показывал прикрывающий шлем плоский щит, — навалившись, бердышами пускали по часовой стрелке, дальше лестница-стрелка, спеша, летела сама, по всей длине трепеща и осыпаясь глянцевитыми гроздьями рыцарства.
Первый нешуточный штурм захлебнулся. Мнишек истерично стучал кулачками в доспехи соратников, требовал незамедлительного отступления лесами к границе. Военачальники хмурились, пощипывали паленые усы, не зная, что отвечать. На совете восемнадцатого ноября вечером решено было потихоньку собирать войско в обратный путь. Но закатные лучи, мягко скользящие по остывающим холмам Украины, успели озарить в этот вечер мелкой грунцой приближавшихся к лагерю всадников. За всадниками бежал, еле дыша, в одном белье худощавый глубокий старик; протянутая от одного из седел веревка схватывала его роскошную белую бороду прочным узлом и помогала некрепкому стариковскому бегу. Страдальцем оказался воевода Путивля окольничий Салтыков, а всадники — руководителями путивльского восстания, детьми боярскими и казаками.
Каменная крепость на обрывистых береговых валах Сейма, барыня всея украинской Северщины, сама била челом «государю естественному».
Всю ночь малокалиберные орудия Мнишка палили, не щадя ядер, по Новгороду. В шатрах и возле шатров над кострами стыковались заздравные кубки. Из осажденного кремля не поддержали веселье — Басманов почувствовал: ему теперь следует беречь огневой запас.
Вслед Путивлю «государя истинного» к декабрю признали ближние русские волости: Рыльская, Курская, Комарицкая, Кромы. Всюду народ, и служилый, и мирный, вязал воевод и волок их к Отрепьеву, и Отрепьев всегда, как и в Монастыревом остроге, прощал их и ставил на новую службу.
Никто не предполагал, что богатенькие комаричи в первых рядах присягнут «цесаревичу», — «дворцовые» мужички, труждающиеся на нужды кремлевских палат, выглядели посолиднее прочих. Но везде находились поводы для недовольства. В счет плодородного юга Борис стремился пособить оголодавшим в течение трех бедственных лет центру и северу. Неурожайные воронки, образовавшиеся в одних областях, будили течи убытка в иных, полнокровных уездах.
Из Путивля под Новгород-Северский были привезены ломовые чудовищные пушки. За неделю обстрела разбили и выжгли все башни до вала, но отряд воеводы Басманова и не думал сдавать изуродованный косогор.
Коренастый и плотный Басманов, темнобородый и мохнатобровый, дневал и ночевал на валу со своими пищальниками, сам проверял прицелы, ел с гарнизоном из одного котла, тут же урывками спал, закутавшись с головой в волчий зипун, приставив пятки к горячей казенной части арматы. Воевода не упускал случая подбодрить ратоборцев; в минуты затишья и погребения погибших он повторял зычно, что уже торопится несметное ополчение под началом князя Мстиславского, окаянный вор будет сурово наказан, а все выжившие и устоявшие новогородцы щедро награждены. И защитники крепости верили своему полководцу, с часа прибытия на берег Десны им доказавшему понимание ратного люда. Видя посреди самого жаркого боя железный стан Басманова, спокойно расхаживавшего под ядрами между мортир, пищальники сами вырастали и крепли в душе, а мысленно убеждались в грядущей победе, думая, что у Годунова все полководцы такие же.
Однако полчищ Мстиславского все не было видно. Чтобы выиграть время и жизни бойцов, Басманов завязал с Отрепьевым переговоры. Осажденные выговорили себе двухнедельное «размышление» — для того будто, чтобы подробно и точно, не оглушаясь гулом лишней стрельбы, разработать условия сдачи своих укреплений.
Крылья шляхты
Два месяца по осенним размытым стезям собиралось дворянское ополчение. Иных пришлось выдворять из зимних усадеб силой, гнать батогами на службу; но лишь после того, как Годунов приказал списывать с озорников земли, в Брянске сосредоточилась должная рать. Князь Федор Иванович Мстиславский с дьяками произвел смотр войск: «кованое» дворянство, в заиндевелых зерцалах[99] и батарлыках[100] сидевшее на малорослых, но крепких татарских лошадках, а также ратники-слуги, поставляемые дворянином по два-три (в зависимости от величины имения), одетые кто в кольчужку, кто (по бедности) в войлочную стеганку и ватный колпак, посаженные на крестьянских меринов-тяжеловозов, — сей древнейший, почтенный род войска разделен был на три полка: Большой, Левой и Правой рук. Отдельный полк составил «огненный люд», стрельцы и обедневшие дети боярские, не способные более приобретать себе тяжкое вооружение и выставлять ватных бойцов от сохи, а посему переведенные на облегченную огнестрельную службу. Иные, не в силах содержать и пищаль, пришедшие совсем по-разбойному, заткнув обкусанную саблю за пояс и вырезав несколько стрел для самодельного лука, писались сразу в Засадный полк. Набралось в ополчении двадцать пять тысяч бойцов без «посошных» оружных слуг и обозных людей, а с «по-сошными» — и все пятьдесят тысяч.
Войско прибыло в край осажденного Новгорода на Спиридона-солнцеворота.
Накануне в ставке Отрепьева гремел очередной пир. В самых дальних от крепости, жарко натопленных избах (лучших остатках выжженного посада) чествовали челобитников покорившегося Севска. Вождей восстания и привезенных ими связанных воевод за то, что припозднились сдаваться, одним духом заставили каждого выпить по штрафному ведру медовухи. Но воеводы попались, как на подбор, храбрые, стойкие, только крякнули, переменили цвет лиц и спросили еще.
Вельможи, драбанты, приглашенные полковники, ротмистры и плененные воеводы успокоились одной шаткой, рычащей и пересвистывающейся грудой лишь к рассвету. Как раз проснулся и открыл глаза ротмистр Стась Мнишек — его никак не могли обучить пьянству, мальчишка засыпал после первого же бокала, а в пять утра, к усмирению общей гульбы, уже был на ногах.
Выдернув из-под полковников, сваленных мимо скамеек, свою портупею и шапку, Стась хотел уже выбраться прочь из избы от утробных и бражных паров. Но жалкий стон знакомого голоса остановил его. Перешагнув неопределенные меховые фигуры, Стась приблизился к телу царевича.
— Ксения… Пустите ее ко мне… — лепетал во сне Дмитрий, морщась и возя головой по животу неподвижного Бучинского. Прозрачная пьяная слезинка ползла по щеке государя.
«Какая Ксения? А где же Марианна? — нахмурился молодой Мнишек. — Бедная моя сестра!» Стась осторожно перекатил Дмитрия на другой бок, чтоб повернуть лицом к Марианне, и плавно по-католически перекрестил.
По свежей улице, светлой от снега, ротмистр пошел веселее. Кое-где в проемах наспех сколоченных низких землянок бодрились небольшие сторожевые костры и шевелились развешанные портки рыцарей, черные дымы вели к темно-вишневому небу. Чтобы не скучать в предутренних сумерках, Стась решил проведать тыловые северо-западные посты. Пока седлал рысака, пока ехал, окрест просветлело, выросло солнце за мутной заиндевелой слюдой облаков.
Караульные оказались на месте — мирно посапывали под четырьмя овчинами возле неживых угольков. Спешившись и взобравшись на холм, где дремал дозор, гусарский ротмистр хотел уже поднимать его совесть пинками, но вдруг оцепенел и сам сел в снег. Все пространство холмов и ложбин меж рекой и лесами, открывшееся с места поста, было густо обложено воинством. Тусклой рассыпанной дробью посвечивали шишаки и мисюрки[101] ратников, двигались поросли ник и ходили под ветром квадратные несгибаемые хоругви. В готовое войско вливались все новые отряды, строились, приглушенно хлопоча, рядом со старыми.
Стась, ползая по сугробам около часовых, каждому перекрывал окольчуженной варежкой воздух, чтоб проснулись без шума, и показывал им полки Москвы. Затем, вслед за гусаром, очнувшиеся караульщики соскользнули с бугра к лошадям в тихий кустарник и, скакнув в седла, ринулись во весь мах по тревоге к царевичу.
Поднятое набатными барабанами «частное рыцарство» выстроилось напротив рати Мстиславского тылом к выжженной крепости. Басманов немедленно сделал вылазку, обрушился на осадные укрепления и обоз Мнишка. Для борьбы с ним пришлось выделить часть казаков. Но отступившие за вал сидельцы успели уволочь за собой связку крупных мортир.
Мстиславский, однако же, не поняв подсказки Басманова, не использовал сумятицу в тылу самозванца для успеха атаки и три дня осовело смотрел на противника. Может быть, ждал откуда-то еще подкреплений, а может, памятуя недавние «битвы» с татарами, думал, что супостат постоит-постоит да и нырнет в свою степь. Отряд царевича между тем успел оправиться от столбняка при виде русских полков. На сейме в шатре Мнишка снова взяли верх сторонники решительных действий.
— Да будь их хоть тридцать тысенц против наших пятнадцати! — закрутил усы стреляный воробей Дворжецкий (подобные цифры говорились для двух несведущих в воинских делах капелланов, переписывающихся с панским нунцием, на деле «рушение» принца не насчитывало и восьми «тысенц»). — Кого видим мы перед собой? — спросил полковник Дворжецкий. — Половина Борисовой рати вместо броней одета в тряпье, держит ради потехи дреколье земляными руками. И захотят ли еще мужички стрелять по государю естественному? Стоит только ударить покрепче, колосс глиняный рухнет, половина сбежит, половина попросится в армию принца.
В день назначенного наступления Стась со своей ротой был отослан отцом на правый фланг. Зная, что главный удар и славнейшая рубка намечались военным советом на левом, молодой Мнишек, выполнив хитрый маневр, проскакал за обозом и встал все-таки слева, рядом с радостными реестровыми казаками и второй гусарской ротой капитана Домарацкого. С восходом небо очистилось, засияло, как море-аквамарин, — сверху, видимо, тоже хотели посмотреть битву. Сердце Стася отчетливо, коротко билось, но он чувствовал: лицо ясно, задорно, как требуется, и гусары глядят на него с удовольствием; он еще раз проверил подпругу, шлем, зарядил пистолет и попробовал, ходит ли в ножнах турецкая сабля.
Сзади трижды прокашлялась медная коронада[102], стоявшая подле избы-ставки Мнишка и Вишневецких. После третьего выстрела по всему фронту войск взвились горны и бубны, «ур-ур, ура, ра!» — грянули набатные барабаны.
— Крылья шляхты, за мной, молодцы! — взревел капитан Домарацкий.
— Молодцы! — повторил Стась и дал такие хорошие шпоры коню, что гнедой подлетел и закрутил в воздухе передними копытами.
Полк правой руки под началом Димитрия Шуйского ужаснулся крылатым гусарам. Стальная конная лава, бурливо вспенивающаяся оперением, сквозящая ясными брызгами сабель, набегала стремительно, подлинно страшно.
Правый полк дрогнул. Посошные слуги в бумажных шеломах и стеганках стали жаться за латные спины господ. Но господа, за пятнадцать лет прочного мира отвыкшие умирать в поле, наоборот, выталкивали за щиты слуг, и озноб этот кончился тем, что полк Шуйского, так и не взвесив булатами тяжести польских клинков, десяти сажен не подождав Мнишка и Домарацкого, кинулся наутек.
Стась парил на вышине блаженства. Вмиг потерянный страх перед злобным отпором врага, стлань коней в белой сахарной пыли, восхищенная гордость — как лихо он, юный, но безукоризненный рыцарь, ведет битву! — наполняли его существо высшим ритмом покоя и светом прощенья Христова.
Русские, спасаясь, пригибались к самым холкам тяжеловозов, пробовали укрыть головы кожаными щитами. Стась гнал их, выпуская из стеганок вату клинком, но всерьез по живым не секла рука.
— Стасик, бей в хвост Большого полка! — прокричал капитан Домарацкий над ухом и пропал, резко поворотив вправо коня.
Стась огляделся: повсюду сновали гусары, падали ватники. Чтобы определиться, он поскакал вверх по ровному скату большого холма и вдруг сквозь ледяные кораллы кустарника на перевале различил золоченый махровый шатер и над ним шаткий флюгер московского знамени. Стась пронзительно свистнул. Заслышав командный мальчишеский знак своего ротмистра, подчиненные конники понеслись следом. У шатра на огромном кауром коне восседал воевода российского войска князь Мстиславский и из-под руки озирал поле бранное. Увидев крылья прорвавшихся к ставке гусар, Мстиславский побагровел, потянул кладенец из муравленных жемчугом ножен. Оказалось, меч прочно примерз за военное время к литому чехлу и уже не мог выйти на волю.
Воеводина свита частью сорвала шлемы с голов, вскинула пустые руки, сдаваясь, частью выступила против гусар — защищать воеводу, рубиться. Мощный, в жарких чешуйках лат ратник размахнулся на Стася свинцовой игольчатой палицей, но, внезапно узнав в атакующем витязе мальчика-ангела с крыльями, только перекрестился, мотая меж лбом и плечами подвязанным к кисти пудовым шаром, и тоже спрыгнул с коня. Гусары вмиг разметали боярскую свиту Мстиславского. Шафранец, подскочив первым к русскому князю, черканул саблей — добрый вычурный шлем отразил удар, лишь сапфиры и аквамарины посыпались. Мстиславский вывалился из седла, но тут же сел, как ванька-встанька, в снегу. Шафранец снова начал молотить его наискось саблей, — драгоценный шлем все не слетал.
Стась, подскакав к высокому главному кумачу-стягу, вскинул клинок. По неживой славе москалей, как по учебной лозе, рубить было легко и приятно. Широкое древко подалось с первого маха, косо срезанное повлекло наземь стяг. «Слава Дмитрию! Рыцарству шляхетному!» — крикнул Стась. «Слава! Слава!» — подхватили гусары, гарцуя вокруг шатра. «Сла-а-в-а-а!» — вздохнуло далеко все войско.
— Вяжи генерала! — приказал подоспевший капитан Домарацкий Шафранцу, руками сдиравшему с князя Мстиславского ценный шлем.
Домарацкий обнял Мнишка-младшего, разломил основу жесткого стяга и, отделив ткань трофейного знамени, набросил Стаею на плечи. Но капитан неожиданно перестал улыбаться.
— Когда кончатся чертовы москали?! — рыкнул он, глядя сквозь крылья лат мальчика.
Резервный стрелецкий полк русских вышел на соседний крутой холм из засадного ельника, быстро расставил опорные вилки пищалей и латунные легкие пушечки: и не успели гусары еще раз «слава» сказать, открыл страшный прицельный огонь. Мстиславский, ощутив свежие силы, не стал даваться вяжущей его Польше, схватил свой кладенец, так и не покидавший ножен, прямо ножнами начал бить польских гусар.
— Дьявол с ним! Пристрелите! Уходим! — закричал Домарацкий. Шафранец выпалил из пистоли по князю, но тот, прочно окованный панцирем, только икнул. Московские стрельцы уже пересекали ложбину, помахивая мощными бердышами.
— Гей! — крутился на раненом жеребце среди гибнущей кавалерии Домарацкий. — Пся ли в стратеге этом?! Уносите мальчишку, ребята! Головой мне ответите, я задержу москалей!
Всего мягкого, Стася завернули плотнее в русское, обрызганное холодной землей и красными комьями снега знамя, подоткнули ткань всюду, где шла кровь, под легкий доспех; ротмистра принял поперек луки владелец самого крепкого скакуна, и поредевший гусарский отряд полетел в отступление.
Капитан Домарацкий и горстка оставшихся с ним удальцов, несколько минут отстреливаясь из-за шатра, удерживали нападавших, а затем, окруженные, сложили оружие. Вырученный Мстиславский какое-то время разбегающимися очами смотрел на своих, плавающими пальцами перебирал берендейки стрельцов, потом полностью отключился.
Войска Отрепьева и Годунова, откатившись враг от врага, приходили в себя. Иезуитам на их вопрос о потерях с той и другой стороны было предложено направить папе реляцию о несомненной победе Дмитрия, потерявшего около сотни гусар и жолнеров, тогда как русских истреблено до четырех тысяч богатырей. Хотя последнюю цифру сановный гетман пан Мнишек сам примерно придумал, — выбитый из седла и слегший без языка воевода Мстиславский, глубоко потрясенный гусарским налетом, приказал речью жестов скорее убрать его с войском от Новгорода.
Тем не менее главные силы Москвы пострадали лишь нравственно. Воротившиеся из бесшабашной атаки гусары кляли принца и гетмана, что не поддержали почин их казачьим ударом в Большой полк, подвели «цвет рушения» и упустили явный случай разбить рать Мстиславского «с головы до седла». Главнокомандующий хотел оправдаться неопытностью в военном деле, но только сильнее озлобил летучих солдат.
Ротмистр Мнишек, перенесенный в теплую ставку отца угасать, редко дышал с хрипотцой, звал то мать и сестер, то докладывал принцу о взятии в плен Годунова. В минуты просветления Стась говорил с царевичем о Марианне.
— Ты действительно любишь сестру? Правда станет она королевой?
— Почему сомневаешься, брат? — отвечал Дмитрий, приглаживая горячие растрепанные волосы на челе Стася.
— Сначала я сомневался, но когда узнал, что в дар Мари вы приносите лучшие земли отчизны, то почувствовал: вы влюблены.
Дмитрий сжал нижнюю губу зубами, заалел, вспомнив рядом с израненным стыд.
— А затем я услышал, как вы позвали во сне…
— Человек во сне отстает умственно.
— Поклянись, князь Димитрий, в Москве ты обвенчаешься с бедной моей сестрой, тогда я умру легче.
— Ты понравишься, или повешу всех медиков армии рядом с твоим отцом!
— Поклянись, Димитр: она такая несчастная…
Отрепьев поклялся, чтобы чем-нибудь восстановить умирающего.
«Частное рыцарство» требовало жалованье и премию за геройский бой. Ян Бучинский сложил в саадак остаток русской казны, сбереженной для Дмитрия дьяками града Путивля, и, гуляя меж войском, тайком вручал призы самым достойным (большей частью — гусарам, участникам схватки). Прочее рушение, как бы не понимая, занималось своими делами, но едва Бучинский, выдав последний алтын, поворотил коня к ставке, отряд взвыл большинством голосов казаков и пехотных жолнеров. Вслед за Яном, пустившимся в полную меть, разом ринулось все возмущенное рыцарство, окружило штабные дома, вызывая царевича с гетманами.
— Я пустой! Мы еще не в московских хоромах, Панове! — выкрикнул появившийся на крыльце Дмитрий так смешливо и злобно, что жолнеры поверили.
Войско двинулось грабить свой частный обоз. Перекидывая вороха лат, оружия, свежемороженого продовольствия, добрые самборские разбойники выбирали для себя рождественские подарки. Напрасно царевич и военачальники, выглядывая из-под секир свиты сытых драбантов, воспрещали, грозили, а затем умоляли задуматься рыцарей. Расшвыряв драбантов, кто-то жуткий, дышащий медом сорвал с принца бобровую теплую ферязь[103] под предлогом, что принц все равно сядет на кол и, конечно, испортит ладный кафтан на колу.
Ясным утром второго дня нового года основная часть рыцарства, не попрощавшись, ускакала домой. Молчаливо, невкусно в тот день обедали у главнокомандующего полковники рассыпающихся полков. А когда воевода сандомирский поднял кубок за скорый и неоспоримый успех дела Дмитрия, все взглянули на гетмана подозрительно. И точно, посмаковав кубок, Мнишек вынул из-за обшлага мехового костюма мелко сложенный, желтый истертый пакет с королевским орлом, опечаленно сообщил о полученном срочном призыве в Варшаву на прения сейма. Без сомнения, гетман Короны и иные вельможные шляхтичи там поставят вопрос о немедленном выводе польских сил из экспедиции Дмитрия, даже о наказании всех соучастников «частной помоги», но он, пан воевода-сенатор, будет защищать знамя отряда и добьется значительного подкрепления.
С гетманом в Польшу ушли также вспомнивший долг быть на сейме пехотный полковник Жулицкий, много ротмистров и еще около восьмисот солдат. Мнишек хотел принцу под заклад оставить пропадавшего сына, но Дмитрий сам настоял на отправке Стася домой — с тем, чтобы в землях культурной Короны нашли ему лучших врачей и чтобы больше не чувствовать вечной вины перед участью друга.
Кремлевская принцесса
…Отроковица чудного домышления, зельною красотой лепа: лицом бела аки снег зимой, ягодицы как маков цвет, очи имея черны велики, власы черны велики — аки трубы о плечах распущаше; червлена губами, бровми союзна, телом изобильна, млечной белостию облиянна, во всех делах чредима.
Хроника Сергея Кубасова
Косматый персидский кот, подарок шаха Аббаса, вытянувшись по столу, не знал, что ему есть, — закидываясь головой налево, нюхал печенье, переваливаясь вправо, откусывал пряника. Царевна окунала костяной редкий гребень в кота — перс одобрительно перебирал когтями.
— Аксютка, вцепится! Свет ясный, посторожись, — пугались познавшие уже неровный нрав бесерменского зверя ближние боярышни, но царевна, вздыхая с улыбкой, только пуще томила и нежила перса.
Младшие чины (девицы-постельницы), суча шелка с коробов, размещенных на лавках светлицы, тонкой серебряной канителью повели грустный, лестный царевне напев.
Старшая боярыня, крайчая[105] Трубецкая, бережно принимала с бархатной скатерти вокруг кота тарелочки с яствами, сбитенные блюдечки, передавала остатки чуть тронутой трапезы стольницам.
— Пошто, лебедушка, синичкой клюешь? Пошто печалишь нас, княгинь-рабынь достойнейших? — приговаривала крайчая, покачивала крупной, писанной и вохрой, и белилами головой, кикой, отделанной жемчугом: на серьгах чутко звякали дутые капельки.
Княгиня Трубецкая, освободив на столе место, начала расставлять вместо кушаний мелкие баночки, коробки, яркие склянки с кистями, извлекая их из кипарисного ящичка, принесенного из своего теремка. Трубецкая при этом уже приняла плутовской вид открытия лакомой тайны.
— Сие сурма грецкая, серная, — вскрывала одну баночку крайчая, перс на столе зажмуривался, морща сплюснутый нос. — Не пожалей сурьмы — на брови прыгнут соболи. А вот состав — стальная сажа на гуляфной водке с розовой водой, — снижала шепот Трубецкая, сворачивая новый колпачок, — владимирских офеней[106] сотворение, в иных краях неслыханная вещь — самые глазыньки покроет, до блеску зачернит, самые зеночки.
Уж создадим, умастим Ксюшу паче павы заморской, а там, глядишь, государь-батюшка под стать такой и павлина за морем сыщет, — мурлыкала крайчая, с узкой пластинки внимательно сматывая прозрачный шелк. — А вот кукуйский, вовсе редкий товар — чулочки тохоньки, ух, по бочкам-то ишь вязеи-стрелочки, немецко дело…
Трубецкая и казначея Волконская, развязав на царевне снизу золотой, расшитый лалами[107] сарафан, тут же стали примерять Ксюшу к чулкам «немецко дело».
Поющие над пряжей младшие постельницы, краешками глаз следя за примеркой, вдруг загрустили, разбились по голосам, упоминая в своей песне былые белые прелести Ксюши.
— Какой вам месяц круглый?! Какой лебедь? — обрывала недовольно распев казначея Волконская. — Истощала царевна, как журавель, не ест, не пьет, что ни день, знай худеет сидит, знай худеет. Разе сие царственная нога? — Княгиня хлопала звучной полной ладонью. — Так, лучина какая-то.
Старухе Волконской всегда дозволялась ее крикливая правота — льгота за доброту духа, породу и возраст — царевна действительно таяла. Детские годы Ксюши прошли вне застенок царских светлиц — тогда отец служил только боярином; но в расцвете девичества пришлось сесть в блистающую темницу. Даже во внутреннюю церковь Кремля царевна сходила по резной галерейке, отовсюду закрытой, и выстаивала богослужение на своем месте, задернутом легкой тафтой. В особой светелке обедала с мамой-царицей, множеством знатных прислужниц, но редкий мужчина делил с ними трапезу — отец пировал со своими боярами или чужими послами, редко подымался в Ксюшин теремок, а последнее время с отцом пропадал по делам царства и брат. Лишь на великие праздники мужской пол выборочно допускался к руке дочери царя — и то самые почтенные (читай, семейные, дряхлые) князья-бояре или митрополиты.
Хороводы, бешеные игры в траве или снегу, качели, прятки, катание с ледяных гор — все простые забавы, причуды и радости остались для Ксюши далеко в детстве. Пришедшее, как ужас, девичество дочке высокого боярина еще возможно перетерпеть, но юность заживо накрытых царственным титлом суровее.
Борис Годунов, став государем, сам вскоре заметил (как и старуха Волконская) быстрое таянье Ксении.
Домашнего лекаря царской семьи Генриха Шредера привели в затемненную плотными ставнями опочивальню и дозволили через кисейный покров сосчитать жилобой[108] руки слабеющей девы. Затем Шредер долго собачился в сенях с княгиней Волконской, упирал: царевне необходима подвижность, игра духа, крови и мышц, старуха же Волконская полагала: чтобы понравиться, есть лишь один способ — бессрочно лечь на печь. Ненадолго слезая, выпивать водочки и снова славно раскидываться на печи. Еще Волконская очень советовала почитать с утра и на ночь божественное. Борис в соответствии с собственным вкусом и приличием времени распорядился советами старухи и немецкого специалиста. Так как путь на проветриваемую улицу, коего настойчиво требовал Шредер, был царской дочке заказан, Борис Федорович приказал водрузить подвижные качели в самой обширной палате на женской половине дворца. Также, опасаясь споить или уморить печью дочь, царь принял лишь часть сурового учения Волконской — нижайше просил патриарха дать почитать на время лучшие ветхие книги, глубоко убранные в закромах монастырей.
На огромных домашних качелях Ксению начали укачивать до тошноты. Свечи на медных шандалах по сторонам кругового полета свивались в огневых ослепительных змей, и царевна бессильно спадала с качели на сильные руки постельниц, без остановки запускающих порученный их попечению тяжелый снаряд — расписную скамью на цепях.
До звенящего звука в ушах слушала псалмы, тропари и конархи, зачитываемые по любезно предоставленным патриархом тяжким томам в жуках чеканных застежек: забывалась, запутав персты в теплом меху иранского зверя, первым уснувшего.
За каменным кремлевским забором кипела Москва, но к царевне приходил только глухой, очаровывающий невнятностью гул деятельной улицы; над зубцами, красными сердечками бойниц, сквозь сборную слюду оконца можно было увидеть божий небесный простор, шишаки колоколен, дивные капли церквей, но все, что ниже великолепия, на самой земле без травы, — самое милое, смешно манящее — суета, толкотня, люди, — все скрыто для Ксюши за гордой стеной. Раз в году над зубцами шарахнется отблеск пожара сосновой столицы, в великий праздник взлетят шапки, стяги — и вновь покой, купола, странные облака. В мягком глухом возке выедешь на богомолие… припав к краешку занавески, смотришь, смотришь на свет — ни лиц, ни станов: только горбы павших ниц по сторонам пути. Лишь ночью в поле (к заутреням обителей подъезжали, как правило, затемно, дабы сумрак и сон всех миров скрыл царевну от лишних, пусть постных, очей) упросишь старших боярынь, спешат с тихого рысака стольника охранения, придержат ясное в темноте посеребренное стремя — лети, ласточка, отводи душу, пока месяц силен и широк, а восток неразличим. И взлетишь — над ковром росного жемчуга, над слоисто сквозящей туманной тафтой, над озерами, вспыхивающими неземным светом вольных созвездий. Ожерелия ив и ракит недвижно льются в заводи. А там словно дышат, цветут сны русалок и редких птиц. И весь пояс дремлющих вод грозно вздрагивает в такт взмахам гривы коня, что несет Ксению по Подмосковью, будто навстречу блаженному и безрассудному ветру язычества и молодому свечению ранних, нигде не записанных слов Христа.
Но заповедник воли невелик. Еще до света встречена в обители, проведена в благоуханную келейку, самые стены которой, казалось, лучатся радушием точных запретов — Ксения снова склонялась, сжималась душой перед иконным окладом. Каялась даже не в срыве, побеге души в ноля звездных озер, а в самой чуткости сердца к этим озерным свободам.
«…Чадо, чти мнишеский чин и в монастыри с милостынею и кормлею приходи…» — монастырский певчий учит по книге.
— О чем наладил! — шепчет, шумно крестясь рядом с Ксенией, мама Мария, царица. — Мало даров подвезли. Все: теперь не как раньше ему — печаль-смута в казне и кругом.
«…Священнический чин и иноческий почитай: те бо суть Божии слуги, теми очищаемся от грехов, те имеют дерзновенье молиться Господу о гресех наших, и Бога милостива сотворят…» — вторит монаху по возвращении с богомолья и свой крестный дьяк, разложив на домашнем налойце коробы-книги: минеи и часословы.
Пока крестный священник конархал, кот спал, укрепившись на выступе финской печи, и лишь когда дьяк тихонько шуршал, переворачивая бережно страницу, перс широко отворял свои морские глаза и устремлял на предмет, звучащий сходно с ослабленным великокняжьей едой древнейшим зовом игры и охоты.
Изумрудные очи кота, неприметно и странно сливаясь в скучающем полусознании Ксении с чтением о дерзновениях иноков, вдруг воскрешали далекий, вскользь прикоснувшийся некогда к сердцу царевны, забавный такой образ.
Зимнее водокрещение, теплый возок, солнце, хоругви, берег зевак — и вдруг рядом в белых узорах оконца скользит и роняет на лед яркий коврик отбившийся от патриаршеской свиты монах. Вот широко поскользнувшись, монах летит и неожиданно ловко, легко, только слабо качнув возок Ксении, припадает к морозной слюде.
Черты лица в обрамье снеговых лучей были размыты и затенены, но юный взгляд сиял таким восторгом, такой блаженной жаждой жертвенного Промысла, что Ксения не удивилась, различив, как, оттянув подвижника-монаха от ее возка, страдальца стали бить.
Потом, уже из оконца высокой светлицы видя не раз, как окруженный черным причтом патриарх пересекал кремлевский двор то в направлении палат отца, то площади соборов, Ксюша во мгле однообразных облачений всегда угадывала юношу-монашка, так обомлевшего и пострадавшего из-за нее на иорданском льду. В рясной толпе его узнать, впрочем, больших трудов не представляло — пока причт шел Кремлем, подвижник, не жалея шеи, сам крутил головой, улавливая отблески мозаики палат царской семьи (чаще — светелок царевны). Чернец, однако, вскоре исчез из патриаршей свиты, Ксюша сцарапала несколько бисерин с рукава, вытирая парчой влажный туман, заменивший на стеклышках маленьких окон волшебную белую роспись — образ студеного русского рая. Ведь теперь, когда стекла оттаяли, любопытный чернец, может быть, и приметил бы Ксюшу в окошке — и ему легче, охотнее стало бы молиться о ней. Но монах канул из причта владыки — добит где-нибудь кучерами? Возведен в архипастыри и получил свой укромный спокойный причт? Ни прозванья, ни имени — канул забавник чернец. Через год-полтора в полях Польши явился под именем князя из Углича беглый монах, лютый враг отца, завязалась на юге война… Даже случайно, нечаянно Ксюша не соединила прозвание Отрепьева с тем лучезарным юнцом-чернецом, ею вдохновленным на подвиги и быстро покинувшим Кремль.
«И где он теперь, бедный, ровня-родня моя? — грустно гадала царевна. — И я ведь тоже как схимница, с разницей, что насурьмят, нарумянят, сиди, и умыться нельзя».
Волконская все подавала из ларчика склянки-новинки, сережки литые и дутые… Ксения увенчала перса алмазным накосником, оплела ясными бусами, лучи лалов оправила в жаркий мех, — перс все сносил, медленно, словно густым вязким сбитнем вскипая, и лишь когда розовой сажей на пеннике по носу перса был сделан мазок, зверь вспрянул всем негодованием древнего духа и защемил кисть Ксюши, вклинившись ярой резной пастью…
Перс, напрягая все хищные мышцы вокруг усов, жал и давил один захваченный мертво участок. В сурмленых ресницах царевны задрожала роса. «Ой-ой-ой-ой, ки-са…» — запела слабенько, тонко, по-мышьи.
Набежали боярышни, крайчая и казначея, постельницы, взяли котика под белые лапы, разомкнули клыки веретенцами, унесли покусителя, кинули в темный глухой придел и, не слушая криков его оправдания, перекрестили и заперли, не предоставив ни семги, ни молока.
Воротившись в светлицу, стали гладить, жалеть Ксюшу, дуть на острые ямки в ладошках, целовать покрасневшие пальчики. А царевна (кто ж этих царевен поймет) обняла вдруг, насколько хватило объятий, сердечных придворных подруг, тут же всех оттолкнула и, не думая их пожалеть и утешиться, съехав на пол с парчовой скамьи, потекла в три ручья, опуская в ладонях лицо на колени.
О чем так убивалась царевна, на что жалилась, негодовала беспомощно — на дурака-кота, на неживую под грузом величия юность, на плеск холодный и шелест веками отточенных плотных придворных ласк? На птичью ли душу свою, не умеющую ни царски рычать в полудреме, ни просто стыть горделивым кирпичиком здания высшей Москвы, но с детства вечно некстати мечтавшую только о чем-то понятном, греховном — то бегать, а то летать?
Отрепьев в январе
С оставшимися силами нечего было и думать продолжать осаду славного Новгород-Северского. Теперь даже следовало опасаться близости выжженной крепости. Басманов не мог не знать об ослаблении и распрях войска Отрепьева и, конечно, готовил набег. Утешало лишь то, что, считая одних поляков, у царевича задержались теперь самые крепкие ухари: Дворжецкий, Борша, Шафранец — литая компания. Остались с принцем и святые отцы, потрудились немало, проповедуя воинству волю Господню — напрячься и донести до престола хоругви Дмитрия. Пример и слова капелланов выжгли мысли о бегстве из сердец многих рыцарей, Отрепьев даже зауважал иезуитов.
Отступив от невзятого Новгорода, небольшое сплоченное войско направилось к сильным каменным стенам Путивля — городу предстояло стать ядром, центром средоточения Южной России, противовесом опальной Москве. Однако, не пройдя и польской мили, отряд вдруг повстречал такое же небольшое, но плотное войско. Полковник Дворжецкий уже приказал выкинуть флажки построения к бою, когда Корела, очами стенного орла впившись в дальних, высоко взбрасывающих копытца над снегом коней, вдруг забурлил, загикал по-тетеревиному, закрутил скакуном, хохоча: «Наконец! Государь, мои! Государь, в плети всех! Пешеходы, собаки турецкие!»
Донские сотни вели атаманы Иван Межаков и Посник Лунев. Они рассказали, что головной атаман Тихого Дона Смага Чертенский, человек осторожный и плавный, до зимы выжидал, чьи мечи перевесят, Бориса ли, Дмитрия, и, лишь услышав, что южные русские крепости одна за другой отворяются перед царевичем, сам рискнул отрядить в помощь молодцу часть войска.
Святки выдались теплые, ясные. Придорожные рощицы нарядил иней, всю Украину опоясали чудные санные шляхи, и вскоре Дмитрию встретилась куда более крупная рать. На сей раз сам царевич признал добрых давних знакомцев. Впереди шумного, пестрого рыцарства гарцевал на кровном аргамаке наездник в замотанном вокруг папахи изумрудном полотенце, собольей свитке и лазоревых, нарочно мазанных дегтем, шелковых шароварах.
— Евангелик Герасим! — замахал Дмитрий наезднику.
— Ходили земли турецкие от нехристей чистить, — объяснил свою величественную чалму запорожец.
— От каких нехристей? От турок, что ли?
— Ну да, — не понял смеха Герасим, — а воротились в Сечь, кажуть нам: знатно воюешь! Так же он без нас, думаем, всю-то Москву подметет!
— И кошевой с вами?
— Дуже старый бобер осердився, — подмигнул казак. — «Не пущу вместе з ляхами за короленка вмирати и полно!» С Годуновым, мол, Сичь заключила союз. А мы кажем: «Що ты, батьку, сдурнел — во вси щели на остров ползут таки скверни — то мир, то союз! Погулять пойти, право же, страшно!» Зараз мы ноги, руки ему повязалы, бросили с острова во тьму внешнюю, — Евангелик, по обычаю, сбился на тему Писания (Отрепьев так понял, что кошевого пустили по волнам Днепра), — и там был плач великий и скрежет зубов. Нехай плавает, бисов союзник. Ибо много званых, а мало избранных.
С запорожцами и донцами войско Отрепьева снова приобрело вид внушительный. Забыв мысль об отходе к Путивлю, войско двинулось на Москву.
С ликованием встреченный в комарицкой волости, Дмитрий вступил в Севск. Зажиточные, но сильно взволнованные последними поборами Бориса в пользу неурожайных уездов, комаричи усаживали промерзших, но веселых вояк к своим жарким печам, угощали тончайшими блинчиками с крестьянским маслом.
— Пусть покушают, — говорили комаричи Дмитрию, — жиры воинству необходимы, но как примешь наследные царства, награди, смотри, нашу губу[109].
— Обелю лет на десять от дани, — обещал государь, добавляя, что участь всех царств в их руках.
Тогда мужички гуртом начали записываться в «Митриево ополчение», не доверяя дело такой справедливой гражданской войны дворянам и казакам. Ветеранам повелено было приучать новых воинов мало-помалу к оружию.
Никогда еще армия самозванца не смотрелась столь сильно. Но Мстиславский тем временем тоже оправился от ушибов клинками гусар и получил в подкрепление свежую рать под началом Василия Шуйского, старшего князя из рода. Воевода Шереметев, наступая с отдельным корпусом по Орловской дороге, осадил деревянные Кромы, первую вставшую на его пути из столицы мятежную крепость.
В Кромах сидел прощенный Дмитрием и заново назначенный воевода, выборный дворянин Акинфиев. Обласканный «истинным государем», Акинфиев не подумал сдаваться. Он знал, что выполненные из дуба десять лет назад стены довольно крепки, но главное — крепость потому и унесена на четыре версты от истоков Оки, на крутой холм, обложенный тайными тонями, что задумана как неприступная. Непосвященный Шереметев приказал расставить пушки в кустах вокруг вала и метать ядра. Едва ядра согрелись огнями, пушки — ядрами, корочка льда под сугробами хрустнула и поплыла, мортиры вместе с прислугой и всеми станками увело вглубь. Полководец озлобился, стал серьезно готовиться к штурму, понимал: если Кромы теперь не покроют его имени славой, то уж срам обеспечат пожизненно. Потянулись недели холодной свинцовой осады.
Эту малую крепость, подобную передовому штандарту восстающего русского юга, оценил и царевич. Он отправил на помощь Акинфиеву атамана Корелу с пятьюстами донцов. Корела, выбрав метельную ночь, проскакал по тылам Шереметева и вступил в крепость, захватив с собой недоеденные болотом орудия. Упрежденные заранее лазутчиками, кромские сидельцы без задержки открыли ворота казачеству и, с восторгом приняв привет Дмитрия, попросили на завтрак донских скакунов.
Двадцатого января князь Федор Мстиславский с восполненной ратью отважно подошел к Севску. Князь теперь сам не знал, сколько воинов в его распоряжении: иногда казалось ему, что уже набралось тысяч сто, а иногда — и все двести.
Отрепьеву тоже казались пятнадцать тысяч ополчившихся именем его крестьян, пограничников и казаков числом еще небывалым. Накануне битвы в лагере повстанцев ключами играло веселье. Расщедрившиеся комаричи выкатили заветные емкости с полугаром[110] и пенником и стоялым, прозрачным, как древний родник, медом.
— Музыкантов! Непременно музыкантов! — затопали, блаженствуя, запорожцы.
— Умовляй, горны, панове! Гуготице, проше! — поддержали поляки-военные.
— Гусляры, на круг! — расходились, мотая полами тулупов, комаричи.
Перед ставкой царевича тут же расчистился круг. Тонким смехом отстроила воздух волынка; птичье лето вернула свирель; зазвенели, сбивая ледок со струн, домры; ратные горны, литавры, набаты старались робко вплести басы свои в пряжу путаных звуковых фраз. Сначала музыка не удавалась — своенравные песни и ритмы толклись, спорили, злились. Но скоро марш, казачок, скомороший мотив и мазурка вдруг нащупали древо родства. Свыкшись ухом друг с другом, уступая, дразнясь, подыгрывая, вживляясь строем упрямой одеревеневшей души в чуждый, а потому лучший и удивительный строй перебора, музыканты открыли внезапное новое царство звучания.
Вихорь неисповедимого танца закружил все сердца — посполитые, русские, шляхетные и полевые. Замелькали чубы и усы, порысили коленца; зипуны и мисюрки, подбитые мехом, полетели на снег; кто-то шел на руках; кто-то сделал юлу на ноге в глубине круга; кто-то просто шагал так, что было заметно, каков человек.
Донец Иван Межаков в такт прихлопам и домрам начал придумывать даже слова к танцу:
— Ах, сукин сын, вор, комаринский мужик!
Текст понравился всем, в особенности самим комаричам, и пляс понесся с удвоенной скоростью.
Князь Дмитрий сидел на крылечке восьмивенцовой, снятой под ставку избы: царевич не выпивал перед боем, и его не тянуло ломаться в безумный круг. Но он чувствовал: радость святой музыки одевает его дух в живые лучистые ткани, сквозь которые принц вдруг увидел свою жизнь не суетной, тщетно-тревожной, увидел всю осененной большими крылами архангелов — нетленной и неуязвимой.
«Завтра сам поведу в бой полки! — понял царевич. — Заплачу московитам за Стася. Мой народ наречет меня Дмитрием Севским!»
Полковник Дворжецкий, после отъезда Мнишка именуемый гетманом, предложил диспозицию: гусары, как и в битве под Новгород-Северским, налетают на фланг русских войск. Дабы лихая атака не увлекла их, как прежде, в ловушку, конные донцы и запорожцы на себя примут, свяжут Большой полк; пушкари и стрелки, наиболее меткие из казаков, прикрывают тылы рыцарства.
Студеным облачным утром Севастьянова дня пушки заговорили с обеих сторон. Рыцари строились, перед смертною сечей произнося имена дам, хранимых сердцами:
— Вирай[111], панна Катажина!
— Пани Ядвига!
— Прости за все, княгиня Скальская!
Ядра шепеляво свистали, но не рвались и убивали мало. Это были сплошные первые воинские ядра и в полевых условиях пускались скорее не ради отнятия жизней, а для освежения чувств.
— Князь-принц, Мстиславский нам потакает — правое его крыло выдвигается! — подскакал к Дмитрию на вороном с залепленным снегом чеканным нагрудником гетман Дворжецкий. — Если вы еще не передумали лично возглавить бой, мы поступим так: я пойду вдоль ложбины ва-банк, а вы с шляхтою Белой Руси отрезайте Полк правой руки от деревни!
— Ура! Ксения! — выпалил Дмитрий, подъемля клинок.
Анатолийский скакун, получив приказ бывшего конюшего, пошел с места с растяжкою накрест выкидывать ноги. Сразу перепугавшись за своего царя, польское и белорусское рыцарство во все лопатки понеслось следом, но кровный жеребец Отрепьева зайчиком стлался по ровному крену ополья, по прихваченной индевью гибкой полыни, и уходил все дальше от строя своих солдат.
Поворачивающий в ложбину полк правой руки снова взяла оторопь. На тридцать сажен впереди польской лавины летел разубранный в меха при откидных рукавах, в яхонты и султаны, пригнувшись к холке такого же разубранного скакуна, смертоносный наездник.
— Кажись, гетман Короны Замойский? — ахнули ветераны последней Ливонской войны.
— Да то ж сам Дмитрий, царевич! — догадались иные.
— Царевич осердился! Царевич осердился! — покатилось по рядам московского войска, и опять ратоборцы российские, закричав на коней, порысили назад.
На склоне перед околицей сельца Добрыничи Мстиславским были оставлены, как почти не пригодные к битве, пешие бескольчужные пищальники и небольшой резерв вольнонаемных немецких стрелков с капитанами Вальтером фон Розеном и французом Жаком Маржаретом во главе. Пехотинцы-стрельцы просто не могли надеяться спастись бегством от вражеских конников; немцам важен был невозмутимый порядок — им и выпало драться. Розен и Маржарет скомандовали зарядить, примкнуть к опорам мушкеты и без приказа не сметь стрелять.
Отрепьев, разогнав анатолийца, подлетел едва ли не под самые стволы замершего оружия. В одно мгновение царевича обдало ледяным потом. Каждое из расставленных правильными рядами по всему склону ружей своим пакостным и нестерпимо чистым зраком упиралось в него. В этот миг он успел обозреть все мельчайшие черточки — некрашеные кожаные голицы, поддерживающие для равновесия вилки пищалей; холодные немецкие лица, чутко слившиеся с гравированными прикладами, и любимчика Годунова, Яшку Маржарета, с занесенной для команды рукой. В тот же миг Отрепьева достал и жар, отворил кровь сознанию действия, оглянулся царевич: свои догоняют, но еще далеко. Круто, бешено заломив шею коню, развернулся, взрыв лед, — поскакал вспять.
Почти все белорусские кавалеристы увидали, как Розен и Маржарет, два капитана на склоне, махнули руками. Залп двенадцати тысяч резервных стволов сотряс воздух и мерзлую местность; деревья ближних подлесков исчезли в белых столбах распушенного инея; спотыкаясь, покатились, давя шляхтичей оземь, раненые и убитые жеребцы; со склона мягко слетало пороховое синее облако, а впереди облака в три ноги анатолийца (четвертая слабо отдергивалась от земли) несся навстречу атакующим шляхтичам сам Дмитрий, с оскаленными, мертво сжатыми зубами и огромными нечеловеческими глазами на сером лице. Животный ужас удирающего предводителя вмиг передался отряду: хотя совсем немного прочно окованных латами рыцарей пострадало (считая тех, под кем были повалены лошади), «частное воинство», с маху осадив траверсом скакунов, побежало вслед за вождем.
Настал час князя Мстиславского. Услыхав залп немецкой и легкой русской пехоты, увидев издали бегство поляков, Полк правой руки постепенно приостановился, подумал и, собравшись с осанкой, сам внезапно пустился в погоню за быстрым царевичем.
— Gott im hilfe![112] — напутствовали пролетающий мимо с готовыми копьями правый полк пешие немцы.
— Кот и лев! — кое-как повторили московские конники, угадавшие в сем заклинании секрет успеха оружия крепкой Германии.
Большой полк радостно следил за битвой со своего холма, проводив взглядом поочередно правый полк и поляков сначала в одну сторону, затем — в другую.
Из самого дальнего сруба Добрыничей, приютившего ставку и свиту Мстиславского, пришел, как будто за смертью, приказ Федора Ивановича — идти всеми полками по следу бегущего Гришки.
Герасим Евангелик, оставленный начальствовать над казаками прикрытия, слушая пищальную канонаду, считал уже дело выигранным и крайне удивился, когда спасающееся неистовое рыцарство предстало перед обозом. Казаки Евангелика едва успели поставить обозные сани вдоль линии бегства и пропустить польских кавалеристов сквозь свой строй под защиту тринадцати пушек и несосчитанных ружей. Как только последний шляхетный конник промчался мимо стрелков, перед носом московской погони возы были сомкнуты и выработанная десятилетиями тактика запорожской кочевой обороны приведена в действие. Тактика состояла в простом разделении труда боя: один казак загонял пулю шомполом в ствол, второй осыпал полку порохом, третьему, удобно раскинувшемуся на санях, оставалось прицелить пищаль и нажать собачку, вслед за чем он уже получал новое подготовленное ружье. Таким образом пули шли на врага непрерывным потоком, сея панику и убирая жнивье жизней.
Огромное войско Мстиславского в ужасе остановилось и вновь отползло за соседние, взрытые до рыжины табунами, холмы. Но вскоре Мстиславский различил, что перед ним невеликая сила, и приказал окружить табор Дмитрия, заходя издали — всеми руками полков — со всех сторон.
Евангелик, разгадав маневр москалей, стал обставляться санями по кругу, и только тут (когда круг что-то вышел нетесный) ни Дмитрия, ни литвин-кавалеристов запорожец вдруг недосчитался в кругу. «Языки вавилонские! — взбесился Герасим. — Унеслись ведь и не оглянулись, хорьки, швырнули Сечь на потраву московскую!»
— Хлопцы, ляхи з литвою и Дмитрием сбегли, одни не отобьемся! Сидай на конь, по краю яра жги на прорыв!
К Евангелику подбежали безлошадные комаринские, вступившие давеча в войско, тоже солдаты прикрытия.
— Герасим Тарасович, нам погибать?
— Покайтесь — души спасете, — посоветовал казак из Писания, затягивая подпругу своего коня, но, вспомнив другую заповедь, все же смягчился: — На обозных меринов прыгайте парами, не хватит меринов — подсаживайтесь к казакам. Да смотрите: поскачем — держать наготове пистоли и сабли!
— У кого пистоли, у кого дубинки Христовы! — отвечали мужички, желая, видимо, польстить Евангелику; укрепили человеколюбивое свое оружие за кушаками и кинулись разбирать скакунов.
Прорывались тяжело, как сквозь шумную воду. Ратоборцев Москвы на сей раз не напугали обозные мерины, облепленные комаринскими мужиками.
Запорожцы рубились как львы, каждый — с тьмой; то ныряя в воронки крутящихся сабель, то взмывая на гребнях пресмыкающихся щитов, лавируя и пропадая, подвигались они к своей дальней днепровской стране.
Батька Герасим правой рукой сбривал врагов стамбульским ятаганом, а левой отбивал такт булавой с клепаными колючками, и если бы казак имел сейчас время цитировать Евангелие, то, наверно, сказал бы: левая рука его не знает, что делает правая.
— Принц Димитр! Возьми лепшего лошака, твой хромает, хрипит! — взывал, нагоняя царевича с двумя порожними заседланными скакунами, бегущими на привязи, Ян Бучинский — всегда запасливый, благоразумный.
Отрепьев словно одеревенел в седле. Лишь когда анатолиец стал пускать пузыри с мундштука и заплетать ноги, уводя свой скок набок, наездник вспомнил, что сидит тоже на живом и невечном. Пересаживаясь на свежего ногайского «лошака», царевич сам перевел дух. Вокруг приостановились и иные ближние рыцари, — вытягиваясь на цыпочках в стременах, всматривались в пролетевшие дали шляхтичи и дети боярские, чутко поводили заостренными крылышками гусары. Проскакали не менее десяти верст, и погони давно уже не было слышно.
— Никто не скачет по следу, — прохрипел, спрыгивая с коня, раненный в шейную мышцу полковник Дворжецкий. — Этот дурень Мстиславский стоит, как стоял, у деревни или…
— Или?.. — переглянулись спешившиеся бойцы. — А где запорожцы и комаринские?
В полной тишине прошуршала в вышине обступивших шлях сосен пушистая белка, ворох талого снега слетел на султан каски царевича.
— Так, в седла, в седла живей, — заволновался внезапно Бучинский. — Скакать будем до темноты, а там забежим в лес поглубже и переночуем.
— Куда скакать-то? — спросил сурово Дворжецкий.
Все посмотрели на Дмитрия. Стояла снежная студеная тишина.
— В Путивль, — сказал глухо царевич, отряхнув белую опушку с султана и пряча лицо.
Только горсточке запорожцев удалось выйти из окружения. До темноты воины Мстиславского ловили рассеянное в поисках спасения по округе рыцарство и крестьянство. С гиканьем, хохотом брали гусар, под которыми были застрелены лошади: вид людей с крыльями, бегающих по снежному полю, высоко взбрасывая коленки, веселил самого угрюмого московита.
Славные трофеи, пятнадцать знамен и штандартов, подобранные за Дмитрием, и всех пленных поляков князь Федор Иванович повелел с барабанным боем вести в Москву.
— А как быть со своими? — спросили молодшие воеводы у князя.
— Со своими? — не понял сначала Мстиславский.
— Говорим: среди пленных врагов много нашенских, русских людей, — пояснили ему, — крепостные, казенные пахари, дети боярские, казачки… Слать всех тоже в Москву?
— Велика ворам честь! — фыркнул важный Мстиславский, неописанно гордый победой над ротой польского войска — образцового войска Европы, бившего Грозного. — Буду цацкаться я со своими?! — возвел пальцы в перстнях к потолку Федор Иванович. — Развесьте всех своих, как одного, на березах по-над колеей из Добрыничей в Севск!
По поводу дальнейших действий московских полков мнения молодших, но своенравных воевод неожиданно поделились и образовали два непримиримых и неравновесных лагеря. Начальствующий над Сторожевым полком Иван Годунов, а также иноземцы Розен и Маржарет доказывали, что необходимо со всем поспешанием идти по следам убежавшего Гришки и, найдя, уничтожить злодея. Но большинство русских военачальников полагало уже дело сделанным и готовилось в отпуск, домой. С ними было согласно все войско. Непривиданный зимний поход застудил и озлобил поместных дворян. Поодиночке и сотнями, не спросясь воевод, ратоборцы российские потянулись в свои отпуска.
«Служба этих солдат соответствует жалованью (от четырех с половиной до двенадцати рублей, выплачивается за шесть-семь лет сразу), — помечал в своем журнале, пока суд да дело, капитан Жак Маржарет, в кружевах лежа на раскаленной печи и поглощая сквозь соломинку подсоленный толоконный напиток, — итак, служба множества всадников, не знающих духа, порядка и дисциплины, состоит скорее в том, чтобы временами образовать количество, нежели в чем-то другом».
Герасим Евангелик, с горстью друзей выскользнувший из пасти Мстиславского, нагнал Дмитрия в Рыльске. Но царевич, как чувствовал что-то, не торопился обнять испещренных клинками, избитых нулями всадников. Перед самым носом подъехавших к воротам крепости запорожцев обрушилась дубовая, обитая железом решетка.
— Царевич, щучий сын, выходи на Божий суд! — не выдержал, грянул палицей в воротную арматуру батька Герасим. — Из-за тебя, убожество, и католиков мерзких твоих сколько славы казацкой на снег легло!
Но Дмитрий все не выходил; запорожцам со стен объяснили рыляне-пищальники: при попытке взлома крепости казаками им, пищальникам, велено сразу стрелять.
— Фарисей! Иуда! Книжник! — честил царевича Евангелик последними словами Писания. — Чтоб ты своими бородавками изошел! Чтоб тебя маленьким зарезали, бегун, враг рода человеческого!
— Запорожцы сами предатели! — покрикивал, выглядывая между зубцами стены, Ян Бучинский, чтобы не создавалось неправильного представления у рылян. — Это запорожцы первыми побежали, а мы, гусары, пошли их искать, хотели уговорить вернуться.
Наконец гарнизон дал залп предупреждения в воздух, и Евангелик, поняв, что отомстить за друзей «фарисею» пока не удастся, стегнул измученного скакуна, пустился в южную даль.
— Нахлебаетесь со своим Дмитрием, — пообещал он напоследок стрельцам в рыльских бойницах. — Римский наместник он, прокуратор такой.
«Разве ты государь? — заговорил кто-то изнутри Отрепьева, может совесть. — То смелеешь, то трусишь, боярский хам! В Гоще, Кракове был всем наукам учен, а ноне снова двух лычек латыни не свяжешь. А разве так вот мечтал брать престол? Весь путь устлан костями соратников и неповинных врагов: Русь не верит тебе, служит старцу Борису! Приключений еще недостаточно? Забудь гордые мысли, забудь Ксению, сказку русского лета Вселенной — в морозных санях. Скройся в тихий какой-нибудь академический Гедельберг или Падую, наймись в кучеры кабриолетов. Будешь возить опрятных, вежливых нехристей среди чудес их Возрождения, а цесаревичем московским называться — разве только по большим праздникам, на маскарадах и уличных плясках».
Так расправлялся с Отрепьевым его ангел-хранитель. Лишь оказавшись за прочными белобулыжными стенами над высотным валом Путивля, Григорий обрел снова способность внимать его голосу.
В сретенскую оттепель царевич объявил о закрытии всех боевых действий, связанном с острой необходимостью продолжить курс своего обучения в Польше или иных просвещенных местечках Европы. К этому времени Путивля достигли жуткие слухи о расправах Мстиславского в Комарицкой волости. Редкие спасшиеся крестьяне от ужаса бодро и складно рассказывали, как воевода велит своим витязям вешать на дерева за ноги жителей угощавшего Дмитрия края (будь то старенькие или малые) и выполнять, используя живые цели, упражнения лучной стрельбы до тех пор, пока цели не станут холодными, мертвыми. Перебежчики не могли рассказать только, каким смертным испугом объят сам узревший размах «воровства» воевода Мстиславский, потому что не знали: ему померещилось уже пламя первой крестьянской войны на Руси.
— Государь, не оставь нас на лютые муки! — возопили, расплакались путивляне, завидев сборы царевича. — Поедят нас удавы Борисовы!
— Чего вам-то бояться в такой цитадели? Не открывайте никому, вот и все, — пробовал отшутиться Дмитрий. — Для кремля вашего и государя не нужно, сделайте себе вече или Речь Посполитую, стойте вольней!
— А ежели рати Москвы нас измором брать станут? — приподнялся с колен сын боярский Юрий Беззубцев, вождь мятежного города.
— Ну, тогда не попишешь, — пожал плечами Отрепьев. — Сдавайтесь только не князю Мстиславскому, а самому Годунову, он хотя и тиран, но не полоумный же — свой народ с корнем рвать, и вообще человек больной, мягкий, — неожиданно вспомнил царевич.
— Нет, мы не так хотим, — сказал Сулеш Булгаков, кореш Беззубцева. — Мы лучше не пустим тебя никуда, а коли рати Борисовы одолевать начнут, твоей головой ему выплатим вины свои.
Против этого умного вывода возражать не пришлось. Беззубцев, поднеся к усам гнутую сурну, дал гудок. Недалеко возник чугунный яростный скрежет и хлоп — там опустили крепостные ворота.
Отрепьев взялся за дело с удвоенным рвением. Во все ближайшие и дальние крепости и поселения каждый день направлялись из южной крамольной столицы гонцы-глашатаи с «прелестными» письмами. Заходя на церковные сельские службы, гонцы останавливали дьяконов, читавших анафему окаянному Гришке Отрепьеву, указывали петь то же вору Борьке Годунову, а государю истинному Димитрию Ивановичу — многая лета.
«Димитрий Иванович» скоро смекнул: для завоевания воли народного большинства мало провозгласить себя Дмитрием, необходимо еще доказать, что ты — не Отрепьев. Царевич, вспомнив уроки тригонометрии в Гоще, решил доказывать «от противного». То есть сыскать не настоящего, но не менее противного, чем описан в московских обличениях, Гришку и развозить за собой по стране, представляя народу как нечто к собственным делам некасаемое.
Вновь понеслись по запурженным северским шляхам гонцы, окликая безвестных, согретых морозцем бродяжек, выбирая расстригу Отрепьева. Повезло быстро: в Путивль пред государевы очи был привезен малый лет сорока, худой, долгий как жердь, с вострым носом, козлиной бородкой и светом марта в глазах.
— Не бойся, худ человек, — ободрил царевич добытого, — ты и впрямь Гришка Отрепьев-расстрига?
— Да, я распоп Отрепьев, — отвечал, честно сияя синью очей, человек, — не Григорий я только, ребята, а Леонид.
Самозванец с удивлением смотрел на дальний побег древа своей родословной, столь несхожий со всеми известными ему коренастыми репчатолицыми предками.
— Галичских Отрепьевых знаешь? — спросил раздумно.
— He-а. Это ты-то из Галича? — спросил в ответ любопытный бродяга, распустив полы прохладного, латаного зипуна.
— Не дури, не дури — я из Углича, — спохватился царевич.
«Я настоящий должен быть, наверно, годков на десять этого помладше… — прикинул возраст скитальца, — ну, да ладно, потянет пока».
Перед расстригой Леонидом явилась хорошая чарка с двойным «княжеским» пенником, и едва тот, прикрыв глаза и с наслаждением морщась, как кислую воду, выпил вино, в чарку посыпались монеты.
— А как ты, Ленька, в монашестве звался, Григорием? — спросил снова Дмитрий, жестом повелев остановить сладкозвучный поток.
Леонид открыл уже рот возразить, но вдруг заметил привздетые брови царевича, кошелек, переставший трястись в руках важного стряпчего секретаря — нечто сообразил, весь расплылся одним выражением российской избыточной хитрости и ясно, радостно захохотал.
Ледяной лабиринт
Вскоре после снятия осады с Новгород-Северского Петр Басманов был вызван в Москву. Царь навстречу герою подал санный свой поезд, и с великим почетом Басманов проследовал в нем через снежные слободы до кремлевских палат. В палатах царь наградил воеводу бесценным фиалом[113], златой утятницей, доброй землей (атласный поезд тоже, конечно, остался за ним). Царь посвятил полководца в бояре и чуть ли не приковал к трону. Место астрологов и прорицателей в упованиях государя занял полунемой воин, и с минуты приезда Басманова уже ни одного боевого указа Годунов не издал без совета с ним.
— Пошто он, латы без головы, распускает войска?! — жаловался Борис Федорович Басманову на князя Мстиславского.
— Он считает, что всех победил, — подливал масла новый боярин, сам раздосадованный сообщениями из действующих на юге полков.
— Пусть мне только приедет в Москву, воздам славу! — слабо тряс Годунов посохом. — Рыльск, Чернигов, Курск — все украйные земли в руках самозванца, Шереметев под Кромами третий месяц живет, с круч Путивля расстрига смеется — а мои возвращаются праздновать! Неужели они норовят Гришке?
Басманов видел один выход в этой войне: собрать снова в кулак армию (полки Мстиславского, Шуйского и Шереметева) и осадить Путивль. Царь спорил с ним, предлагая начать с Кром и так последовательно, с севера на юг, отбирать у Отрепьева крепости.
— Кто ж наступает гадюке на хвост, когда ядовитая голова свободна? — возражал раздраженно Басманов.
— Оно так, только сам посуди, Петр, воевать крупный кремль, оставляя в тылу воровские уезды, — безумство. Брянские, орловские мужички не лентяи: отбивают обозы с мукой, огневым зельем, ядрами — без питания сгубим рать.
— Государь православный! — сверкнул из мохнатого подлобья глазами Басманов. — Не одним хлебом с ядрами жив русский воин. Пока я защищал Новгород, понял: ратник наш — ангел: голод, стужу снесет, на край света с секирой пойдет, если высушить его хорошо и зажечь ярким словом!
— Верю, Федорыч, — вздохнул Годунов, — будь ты первым начальством над войском — Путивль пал бы. Но покуда там князь куролесит, рисковать не приходится.
— Так сыми Мстиславского из воевод… — сгоряча подсказал Басманов.
— И кого назначь? Тебя? Беспородного сына опричника? Тогда и Григория ждать не надо. Думные бояре меня сами удавят, — едко улыбнулся царь. — Не дуйся, Федорыч, — сказал совсем тихо, положив новому меньшому боярину влажную ладонь на плечо. — Бог даст, я встану на ноги к лету, сам поведу на Путивль полки, тебя возьму во товарищи, а до тех пор не пущу воевать, не проси, — еще Мстиславский найдет тебе где-нибудь смерть.
На самом деле Годунов знал о неуязвимом здоровье прочного Басманова, но расхворавшийся, мнительный, в каждом столичном боярине он видел уже заговорщика и потому человека, стальной рукой истребившего мятежный посад в Новгороде (единственной защищенной крепости юга), удерживал теперь подле себя, думая, что Басманов столь же круто и быстро в случае надобности сметет хоромы крамольных московских бояр.
Князю Мстиславскому был дан приказ отступить, соединиться с корпусом Шереметева и вместе брать Кромы. Чтобы остановить бегство мелких дворян из полков, Борис послал в ратный лагерь боярина Кашина с ларцом жалованья и правом наделять героев имениями возле самих Кром.
Кашин, добравшись до места, уже не застал крепости. Скользя по оледенелой тропинке, Передовой полк вслед за вторым своим воеводой Михайлой Салтыковым лез на ужасный глиняный холм; остальное огромное войско князей Мстиславского, Шуйского и боярина Шереметева, не умещаясь на узкой полоске сухого подступа к Кромам, страшась коварных болот, паслось в версте от войны. Опаленный бугор, на котором стояли некогда городок и дубовый кремль, стрелял, пуская дымы, как древний рассвирепевший Везувий, и полк Салтыкова, редея, тая от жара, не выдерживал, скатывался назад.
Ломовые мортиры Мстиславского, бившие неделями из одной твердой точки под крепостью вверх, снесли и выжгли Кромы до основания. Но Корела хорошо помнил уроки Басманова, строго доказавшего возможность с честью оборонять даже исчезнувший город. Когда от крепости осталась одна земляная сыпь, донец вручил друзьям-казакам и кромчанам лопаты. Гарнизон закрепился на гребне, затем вырыл себе и жилье глубоко под землей, опустив туда всю уцелевшую необходимую утварь. Никакие арматы сии помещения уже не тревожили, казаки отсиживались в них во время бомбардировки, а едва Салтыков шел на штурм, занимали свои боевые места на валу. Под землей размещались соленья, мука, печи, выложенные из битого кирпича, ржали кони и бегали поросята. Под землей тлели перед Спасителем свечи и отправлял службы кромский бесстрашный священник. Под землей жил спокойный и крепкий народ, не желающий повторить участь плененных Мстиславским под Севском.
Непоседа Корела во время бездействия не находил своим мыслям и рукам казаков места. Пробовал на язык земляной пол под шерстяными попонами и зыбкие от смоляных факелов стенки — всюду чудился алюминий. Велел обжечь — палаты закаменели. С этой минуты кромские сидельцы не знали отдыха. Круша землицу лопатами и протазанами, передавая в коробах и бадьях, обжигая длинными факелами по кругу, сплели по плану атамана литой египетский лабиринт.
Нечеловеческим усилием передовой полк сохранил разум. Колдовски возникая в одних кустах возле подножия Кром, казаки налетали как осы, жалили царское войско и, подобно мышам, исчезали в других кустах. Салтыков, самый умный, наказал всем искать тайный ход. Вскоре приметили дюжину, но завалить землей заново не удалось — днем с перевала лавиной катился свинец, а ночью около нор было тягостно, жутко. Тогда второй воевода полка Салтыков предложил первому, Дмитрию Шуйскому: самим по глиняным коридорам ворваться в крепость и тепленькими перекрошить казаков. Первый воевода горячо обнял второго и, благословляя, доверил полностью доброе дело ему.
Ратники Салтыкова, вьюжной ночью отвалив один из заветных кустов, крестясь и замирая, стали втискиваться в ледяной коридор. Путь неожиданно разветвился на три хода, Михайла Глебович разделил отряд. Сам во главе средней колонны двинулся прямо, как думалось, кратчайшим лазом к лагерю бунтовщиков, но вскоре ход этот поворотил вбок, начал шириться и опускаться. Шли, вбирая головы в плечи, сняв гребнистые каски, вытянув перед собой пистоли и факелы. То и дело по сторонам троны попадались пустые темные пятна — мельчайшие ветвления. Постепенно нетерпение охватывало ратоборцев, Салтыков побежал, за ним — все воины, задние хлопотливо подгоняли, толкали передних. Дикий вопль Салтыкова и передовых, вмиг поглощенный кривым коридором, не смог достичь большинства, — бойцы продолжали мчаться, пинаясь. Второй воевода упал с рассеченным лицом на торчащий осколок копья грудью; сверху и по бокам, рыкая и каркая, посыпались остальные. Укатившиеся факелы осветили стальное убранство троны — густо растущие в глине шины сломанных бердышей, копий, сабель; факелы, застрявшие в этих зубах хода, зажгли падающих бойцов.
Опомнившиеся, удержавшие бег задние кое-как сбили с армяков товарищей пламя, из-под груды плачущих тел вызволили воеводу.
Боярин оказался жив и свиреп, маков цвет капал с вскрытой щеки — прихватили ему кушаком, — побежал назад, бешено лаясь. Нырнул в боковой лаз: живым ли, мертвым решил, видно, дорваться до шеи Корелы. Но повел теперь осторожнее, тише. Ратники чутко обследовали рытые грани и вскоре заслышали впереди гул. Салтыков приказал ближним передать за поворот назад факелы и приготовить оружие. Ждали сначала в полной тьме, но вот совсем рядом мазнул глину пурпурный блик, и вслед за ним вынырнули горячие витени[114] идущих повстанцев. «Пали!» — Михайла Глебович и его бойцы выстрелили, целясь чуть ниже воровских светочей, и ринулись, не умея размахнуться в тесноте шашками, спотыкаясь за раненых, вслед убегавшим здоровым. «Не отставать! — задыхаясь, требовал Салтыков. — Они нас выведут к самому логову!» Но из мглы впереди закричали: «Ой, простите! Сдаемся! Да здравствует Дмитрий Иванович!» — «Ах, вы опять за свое?! — возмутился второй воевода. — Кричите: „Да здравствует Борис!“ и ведите в вашу берлогу!»
— Да это, никак, Михайла Глебыч! — возрадовались невидимые беглецы. — Михайла Глебович, дальше некуда тебя вести — здесь тупик! Михайла Глебович, это свои — сотник Чуднов со стрельцами!
Тут Салтыков и сам признал голос своего сотника, отправленного при входе в лабиринт по боковой ветви.
Сотник Чуднов тоже погубил часть отряда, забежав в оборудованный лезвиями коридор, часть утопил в подземной ледяной речке и часть истребил ему Салтыков.
Факелы уже догорали, и на подземном военном совете решено было пробиваться обратно, на божий свет. Но заплутавшие в чаще обвалов, вод, тупиков и стальных терний ратники только с рассветом на ощупь вышли на волю, взяв направление по звуку заговоривших тяжелых пищалей Мстиславского. Влюбленно впитывали снеговой белый мир сквозь багряную рябь маленькими глазами. Студено кашляя, крыли донских колдунов, сочинивших для них страх и гибель.
В действительности же отряду Салтыкова весьма повезло, так как кромчане не ведали в эту ночь о посещении московитов. Мятежный лагерь, выставив часовых на метельном валу, мирно спал: атаман Корела простыл где-то, дремал в жару, и вылазки из крепости на неделю были отменены.
Еще одно пострижение. Братья
Тринадцатого апреля Годунову приснился злой сон. Приснился молодой Грозный, но уже с плешинкой, с линялой редкой бородкой. Грозный угрожал ему ногтем, указательным пальцем, смеялся мелко: «Бориска!»
Борис Федорович не стал слушать дальше, побежал. Ударяясь в тяжелые, кованные львами двери, вырывался из сна. Очнулся в жарких перинах, обтекших руки и ноги и остановивших кровь. Привстал, раздул ноздри — сердце задвигалось. Перед образом празднуемого давеча мученика сумеречно теплился каганец, в резном внутреннем ставне белела полоска — поди, третий уж час, и в сенях ждет уже крестный дьяк с иконой нонешнего святого (кажется, Василия-светлого). Перекрестился холодной ватной рукой, поехал с перины. Дойдя до окна, расцепил ставни — глянуть на солнышко: коли на Василия светило в кругах — быть урожайному году. За прозрачными новгородскими стеклами, новинкой опочивальни, ни солнца, ни неба — одно белесое, рыхлое облако. Но круги сиреневые катились, то ли по облаку перед глазами Бориса, то ли в глазах. Да ну их, русские эти приметы, срамота, дурь. Над Москвой давесь, в ясную ночь, пронеслась огневая комета, так ведунья Дарьица растолковала: Змей кому-нибудь деньги понес. То ли дело ливонский астролог: счертил след волосатой звезды на прозрачный холст, приложил к гороскопу царя и сказал через толмача точно — государю Москвы как никогда требуется осторожность, но и решительность не повредит.
Услыхав, что царь проснулся и ходит, крестный дьяк вошел с образом в яхонтах и серебряной чашей святой воды. Борис Федорович, придерживаясь за печную финифть-мураву, встал на колени, начал мерно, обычно, как во всякое утро, креститься и кланяться:
— Господи, помилуй, помилуй мя, Господи, сохрани грешного от злого действия…
Почему же привиделся остерегающий Иоанн? Надо было послушать, что скажет, погодить просыпаться… — может статься, хочет предупредить об опаске? Или так помогает губить неродного преемника сатане? Еще не поздно, быть может, постичь смысл видения. Воздетый ноготь, поворот головы, сумасшедшая умная искра в очах давно сгинувшего государя, — знакомо, однажды в точности видено прежде. Не часто Грозный поучал, осаживал своего ловкого крайчего Бориса Годунова, больше сам спрашивал, слушал, хвалил да мотал на дрянной ус, но, когда (всего раз или два) учил, именно такое было у него выражение. Что же вещал он тогда, проповедовал? Что-то яркое, необъяснимое. Ах, ну вот же: «…Умом скор, изобилен Бориска, за то и терплю, но извилист, слаб носом — вечно хочешь, чтобы и мужички были сыты, и бояре целы; норовишь по Христову завету жить? А ты запомни: здесь у нас не монастырь и не райский сад! Под нами царство! Понимаешь ты, ца-арство! Ца-а-а-арство!» — тихо повторял Иоанн, выгнув перед Борисом крюковатый перст водяного, повторял это вкусное слово с таким ненавистным упором, точно именно в звуке названия заключалась живая уродская суть. Так сказав, тогда глянул пронзительно, жалобно на Годунова и отворотился, махнув рукой.
Нетерпеливая, темная Русь, хищные знатные, мазурики дьяки, мрачный, пьяный простой народ.
Государь прежний, развеселый и лютый, — поздно вспомнил, постиг царь безродный Борис твой простой упрек. Вспомни раньше — пропал бы для царства небесного, — выращивая волкодавов, ублажая чернь водкой и кровью боярской, всю землю снова загнал бы в один тугой плотный хомут царской воли, мысли русских людей сковал в одно отупение бдения, — поди, тогда легкокрылая горстка поляков не полетела бы запросто в пасть кровожадной восточной страны. Впрочем, не только запальчивых ляхов — ни медиков-немцев, ни купцов-англичан не видать бы этакой скифской Руси и не поставить на Москве университета, не утешиться Борисовой душе. С университетом, конечно, и сейчас не слава богу, но надо же когда-нибудь начинать.
Борис Федорович вздрогнул, зябко поежился — духовник, окропив иконы, начал брызгать святой водой на царя. Годунов хлопнул в ладоши — вбежали постельничие, проворно и кротко принялись облачать. Послал к Марии и детям спросить, хорошо ль почивали, звать в домашнюю церковь к заутрене.
Федя вошел, уже убранный в пышную ферязь, — после утреннего богослужения пойдет вместе с отцом принимать поклоны думных бояр. Борис Федорович всюду усаживал подле себя и царевича. Доктор Шредер, приглашенный из Любека и, кстати, обучавший латыни Федора Борисовича, был весьма недоволен той малостью времени, остававшейся для его занятий от «сидений с бояры», приемов послов, обедов и служб православия, молил Бориса смягчить для наследника неукоснительный церемониал, снять с плеч его часть груза родительского покровительства. Шредер доказывал: только на самостоятельной воле молодой ум окрепнет и воля духа привьется к нему. Но больной царь, поглощавший избыток сил юности Феди, а без него голодавший, отвечал ученому обыкновенно: «Господин мой Генрих, один сын — как ни одного сына. Разве мочно на миг мне расстаться с ним? Хочешь, в Думе учи и секи его, на пиру рядом с блюдом его садись, только не отымай!»
— Батюшка, опять не спалось? — спросил, внимательно осмотрев отца, вошедший в часовенку Федя.
— Грозный снился, манил когтем — что-то хотел рассказать, — вяло открыл государь.
— Как манил? Манил к себе?! — перепугался царевич.
Годунов обмер. Вот о чем не подумал сам. Корифей прозвенел стальной вилочкой — мальчий хор робко принял запевную высь.
Подошел под «Спасителя в силах», ниже — пламенеющие шестикрылые ангелы молниями сбивали химер, змей с козлиными ногами и львиными мордами.
«Господи, ужели это предуведомление? Но пошто не серафим, не какой-никакой праведник (пусть тот же Федор Иванович блаженный) явлен по душу мою? Ужели в рай не пробиться, не сподобиться отдохновения вечного? Ужели по пути с исчадием адским? Чем же мог провиниться так я пред тобой, Милосердный? Которую скрижаль уж так переступил?
Не делай кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им. Не служил, не сотворял никакого кумира, кроме блага Москвы. Почитай отца, мать свою. Почитал, в навий день, радуницу на могилки ходил с угощениями. Что еще? Не убий. Боже, южные волости, присягнув Гришке-расстриге, винят в страшном злодействе меня. В столице — шепоты, прения, но ты, Господи, знаешь ведь — я ни при чем! Дмитрий истинный сам, заигравшись, в падучей ножом сонную вену проткнул. Объясни, просвети их, Исусе, подари умы успокоением. Для чего ж я тогда мог желать упокоить царевича? Чтобы взять престол? Но ведь как не упомнят, тогда царь Феодор, ровесник мой, здрав был и крепок, каждый божий рассвет для разминки вбегал на Ивановскую колокольню да трезвонил до упаду в колокола. Со дня гибели Дмитрия протрезвонил еще восемь лет, ну кабы еще пожил — уж какое мне царство? Да при Федоре в силе стояли Романовы, Шуйские, крови древние, ближние Древу царей, в междуцарствие каждый из них мог перехватить скипетр, яви больше гордыни и ловкости. Стань вот старший Романов царем — сейчас его обвинили б в детоубийстве. Тогда никто не мог точно предвидеть, кто в случае кончины ребенка наследует Федору, но сейчас-то, понятно, чернь знает: злодеем был ставший царем».
Неожиданно Годунов поймал себя на том, что говорит уже не с Всевышним, а с кем-то более смирным, понятливым и драгоценным и смотрит прямо в зеркальное выпуклое кадильце над алтарем. Вздохнул мелко, осенился новым крестом, виновато возвел глаза к образу Божьему… Что Битяговские? Я не приказывал им ничего. Да, мой дьяк надзирал за царевичем в Угличе. Правда — был вместе с сыном растерзан в день, когда погиб Дмитрий, взбешенной толпой. Но толпу-то привел на его усадьбу дядька Дмитрия, мертво пьяный Нагой. Битяговский, пугливый старик, разве смел он? Слал плаксивые тайные письма из Углича в Кремль: мол, младенец Димитрий отличен в отца, Иоанна Васильевича, жестокосердием — со младенцы-товарищи лепит куклы из снега, назначает им имена первых русских бояр и князей и, мечтая, как станет царем, отсекает какой кукле ногу, другой — руку, а иную пронзит насквозь. Снеговому тебе, Борис Федорович, в ряду первых убрал по частям голову. Нехорошие письма дьяк слал. Их Борис показал как-то в Думе боярам. Шуйский, ездивший с розыском в Углич и установивший «падучее самоубойство» царевича, тоже слышал извет Битяговского. Тоже в нервом ряду снежных баб стоял… Но я не указывал, я не указывал. Битяговский сам знал — его, злого тюремщика в угличской ссылке, весельчак отрок, с возрастом заполучив бразды, вспомнит и не пощадит!.. Но ведь я не указывал! Я не кровавый царь! Обретя Мономахову шапку, обещал всенародно пять лет не подписывать ни одного приговора и сдержал, сдержал клятву. А на шестой год? — продолжал невольно, чтоб выдержать взгляд Вседержителя, Годунов, — а на шестой мой брат Сеня набил застенки и тайные лунки своего ведомства болтунами московскими, пытает, ищет лазутчиков Гришки. На имени моем сия кровь или только «во имя», ты один знаешь, Господи! Понимаешь ты, царство! царство! Хлестнут по левой, попробуй подставь только правую — уже в лоб булавой. Где тот ласковый русский народ, плачущий на Новодевичьем поле? Ушел сквозь жесткую пятерню лет, развеян по ветру нового века, на месте необозримых людских нив, низко склонявшихся, звавших Бориса на царство, успел взойти сорняк глухого гордого племени, протягивающий за государем жала-шипы и огневые языки-листья.
Всего семь лет назад рыдали: «Пожалей! Властвуй над нами!» Трижды московские волны, стеня, завывая, прибивали патриарший хоругви и чудотворные иконы к монастырю, где затворился Борис с сестрой, вдовой Феодора, принявшей «ангельский чин». Дважды Борис отклонял холодно скипетр и царство, на третий зов сошел на монастырскую паперть и, дабы самому дальнему люду был виден ответ, обернул тканым платком шею, дернул вверх — скорей удавится, нежели примет державу. Жест так понравился гражданам, что их слезоточивая песнь длилась до тех пор, пока «свой» повелитель не внял мольбам… Пошто, пошто оставил тогда монастырь и сестру, пошто царица Ирина не уговорила спесивого брата уйти за собой из безумного мира.
«Я звала тебя, брат! — прозвенело за куполом легкой апрельской капелью. — Я тебе говорила, чтоб царить, надо либо быть Грозным на пыточном страшном дворе, либо Федей моим на высокой Ивановой колокольне. А ты, брат, изнеможешь, измучаешь разум и сердце. Чтоб облечь плотью русской все думы твои, не ты нужен, а Камень, апостол Петр, огненный воин. Для чего же вполсилы, вполгреха начинать? Лучше схимись, не поздно»…
«Не поздно — это тогда или даже теперь?» — хотел поднять сразу отяжелевшие яблоки глаз к сестре, поднялись только до серафимов. Пошел к ним — как-нибудь опереться на молнии. Но золоченые плети в руках у крылатых юнцов, разлившись, затрепетав, смялись в тканый платок, забытый в сестриной келье; ангелы начали быстро заматывать жаркий платок вокруг шеи царя, затягивать изо всех сил. Красная мгла ослепила, в висках отверзлись шумно воронки, сорванное мощным отливом с пристанища сердце ныряло, путалось, черпало кровь. Плитки лещадного пола часовни, крутясь, приблизились, грянулись прямо в Бориса.
— Лекаря Шредера! Батюшке нехорошо! — потерялись вдали голоса Ксюши и Феди.
— Боренька! Боря! — приняли виски руки царицы Марии. Царю чуть полегчало во влаге холодных рук.
— Святые дары… причастите… — зашептал, торопясь, Борис Федорович. — Я в монахи… успейте постричь…
Едва щука хвостом раскачала льды Кромки и ближней Оки, реки вновь заковало великое похолодание. Московский лагерь под крепостью спасался пьянством и драками. Били посошных мужичков, недавно присланных для орудийной обслуги из Устюга Великого, считалось — это они принесли стужу.
Узнав от столичного гонца о пострижении и кончине Бориса, ни слова не сказав войску, князья Мстиславский и Шуйский нырнули в лихие пушные возки, понеслись в Москву узнать, куда теперь дуют ветры в кремлевских палатах. Недалеко от Орла, в слепую метель, воеводам привиделся за темными белыми клочьями санный поезд покойного государя — набежал, шарахнулся мимо. Думали поворотить назад, от страха сели в один возок, но хлебнули из фляг романеи[115] и двинулись дальше. В Орле узнали — это к Кромам проследовали свеженазначенный головной военачальник князь Катырев-Ростовский да помощник его Петр Басманов в подарочных царских санях.
Бояре Катырев-Ростовский, Басманов и с ними новгородский митрополит Исидор срочно привели полки под Кромами к присяге новому, нареченному Вселенским собором, государю «всея Руси» — Феодору Борисовичу, «тако же государыне великой княгине Марии Григорьевне Годуновой».
Басманов, не допускавший, что существует возможность в течение четырех месяцев брать и не взять горелый глиняный холм, привез с собой надежных ратников тайного ведомства (разведчиков Семена Годунова). Умные разведчики растаяли, пропали в полках и, снова возникнув, поведали о повсеместном секретном цветении мятежа, затараторили, шепотком объявляя имена изменников.
Бояре Щербатые, Ляпуновы, Измайловы, малознатные дети боярские, городовое дворянство, рязанцы, туляне… Князья Голицыны — просто печально: сии Гедеминовичи сидели некогда выше Мстиславского, со временем оттеснены дальше вниз Трубецкими и Шуйскими, теперь, как видно, хотят, передавшись расстриге, возвыситься вновь. Вождь заговорщиков, Вася Голицын, Басманову по крови матерей — брат.
Петр Басманов пригласил брата в свой шатер.
— Петя, как там родные, как цены в Москве? — спросил тот, глядя прямо в лицо. — Чем вы царя отравили — кислотой или солью?
Басманов сморгнул, опустил глаза.
— Ошибаешься, брат, — постарался ответить спокойно, — немец-лекарь сказал: паралич, кровяной и беложильный[116] удар.
— Кондрашка по-нашему, — усмехнулся Голицын. — Федьку, щенка его, надо тогда отравить.
— Ты сам змею, что ли, съел? — крепился Басманов. — Послушай, чувствуется — по войску нечисто. Брат, пособи обнаружить мятеж…
Вскинул глаза на Василия — тот так же прямо, нагло смотрел.
— Помогу, моргай только пореже, зри смелее в глаза мятежу.
У Басманова камень скатился с души.
— Брат, спаси тебя Бог, — уже не отводил взгляда, — поелику сам сдался — без цепей поезжай в Москву, новый царь извинит. Запиши только мне имена…
— Петька, пес-рыцарь! — вдруг захохотал Вася. — Знаю, знаю: цепь собачью свою никому не отдашь! Сладко кости грызть перед крыльцом Годуновых?
Басманов ухватил родню за воротной запах шубы, прижал к срединному, вкопанному среди ковров в землю клину — шатер заходил ходуном. Но Василий, успевая дышать, еще быстрей смеялся и разговаривал:
— Дивились осенью: ради каких щедрот Петька-окольничий в черкасском Новгороде околевает? Ведь кабы ты на Украине царевича не остановил, давно бы на Москве сидел наш государь истинный!
— Вася, послушай, пока не убил: это Отрепьев, я знаю!
— А давесь роспись-то, роспись разрядов с Москвы пришла, — затрясся в приступе нового смеха Голицын, не слушая. — Ондрюшка Телятевский, зять Семки Годунова, поставлен во два места выше тебя, читал, да? Твой-от дед при Грозном дважды больши был деда Ондреева, а ноне ты в холопы зятьку Семкину йдешь! Ай да награда за псовую службу!
— Да, это обидно, — отчасти согласился Басманов, еще раз с хрустом провезя падающего Голицына по столбу. — А честней проситься самому холопом к беглому чернецу, бить хвостом перед обманщиком?!
— Петр, оглянись, Отрепьев найден, — несколько успокоился Голицын, — нарочно найден Дмитрием и выставлен в Путивле ради вот таких неверующих, подходи-смотри на чародея-расстригу — ему ни до чего дела нет!
Басманов выпустил ворот Василия, округлил меховые наивные брови.
— Вот так, Петро. Ты погляди еще, помысли, кто из нас вор и мятежник, — подсказывал Вася, обихаживая себя слабенькими княжескими руками, проверяя сохранность здоровья и платья.
— Одно знаю я, брат, — тяжело скрестил на груди руки Петр Федорович, — я целовал крест Борису и умирал за него, присягнул сыну его, умру и за Федора. В этой крепости промысла — благословение России, а мне, страднику, — ратная честь.
— Ишь какой! Сталь, булат, булыган! — восхитился Василий. — Дайте пушку да за холмом польскую шашку — и засветился уже, полководец! У меня вот в душе нет таких песен — я не герой. Не трус, какой месяц нулями трусь, но скажу просто — и не герой. Да, не глянется мне убивать людей, не доставляет блаженства. Нет, ежели в аршине над головой свистнет ядро — ничего. А ниже, знаешь, не то. И ведь таких, как я, братка, больше, чем вас, рубак, ой, больше-е — все почти. Не понимаем вот мы, для чего полною ратью, презрев хлопоты жизни и дом, в снегопад, мороз следует гибнуть под русским холмом от дождя русских пуль? Паче не различаем пока в наших мытарствах благословения России. Но если хочешь сказать, что ты умный и волю Господню прочел, не слушай князя и брата — вяжи!
Вася выставил вперед сомкнутые маленькие кулаки, но Петр Федорович притих и слушал, не зная, умный ли он.
Ночью Кромы внезапно накрыло небо южного воздуха. Неприметно, немедленно с неба на крепость и лагерь сошло тепло. В шатры, землянки потянулись вешние речки, ласкаясь к отдыхающим ратникам. Пробуждаясь от острой щекотки, достающей сквозь шкуры и войлок, видя вокруг вместо настилов льда волны талых запруд, московские бойцы в низинах, не дожидаясь приказа, с завидной воинской ловкостью сворачивали рухлядь в палатки и поселялись на возвышенности. Ища спасения от половодья, войско размылось на несколько верст. Басманов увидел, что это лишь на руку Васиным собратьям. Крамольные тульские, рязанские полки ненароком заняли теперь особые высоты. Показалось: и ветры вселенские норовят бунту, умно подсказывают наклонившиеся небеса: подумай, Петро. Воля Басманова оцепенела. Под непроглядными жаркими тучами в темном шатре, слушая гомон невидимых мутных ручьев, сидел, вспоминал: много ль принявшему царство Феодору лет? Пятнадцать альбо шестнадцать? Попытался себя увидеть в эти пятнадцать лет — смог вспомнить лишь в пять. Всегда, едва улавливал случайной мыслью детство, то возвращал один и тот же год. И тот же день в этом году…
Утром пятигодовалый Петруша сначала вился на кухне вокруг стряпух, взвивал им подолы кленовой игрушечной сабелькой.
— Ой, озорник, ух, завоеватель! — перемигивались тонко стряпухи. — Ладно — мы старые будем, когда он в силу войдет.
Весь остальной дом с утра стоял пуст. Мать с бабкой, видно, отправились в храм или в город гулять (порой боярыни сопровождали прислугу до рынка, чтобы самим выбрать ткань понаряднее или что-то к столу). Отец пропал еще месяц назад, и вскоре следом за ним исчез дед. Пете сказали: царь их послал на татар, но, вслушиваясь в частый говорок матери перед иконами: «Господи, прости, выпусти неповинных, вразуми и прости царя-батюшку, Господи», — малый Басманов дивился: кого так жалеет мать, а вдруг потворствует пленным татарам? Приходил с заднего крыльца князь Вяземский, старинный друг отца, любимец царский, сообщал глухо: оговорили соколов, оговорили… Вскоре перестал заходить, много погодя узнал Басманов — князь сам оговорил себя на пыточном станке.
Но в это утро малой еще храбро размахивал шашечкой.
— Вот присный волок[117], — вознегодовали-таки поварихи, — глаз чаешь выткнуть кому-нибудь? На вот блинок и шасть отсель.
Побродив по всем горницам, тонко пахнущим всеми родными и грустной тоской по ним, Басманов решил двинуться сам на базар и там встретить мать. Накинул свой армячок и вышел во двор. По улице мимо ограды двора как раз проходил грохот и шум.
Сторож усадьбы старик Пул стыл, приникнув к щели в частоколе и обратившись весь в ужас того, что увидел в щели. Догадавшись: если пойти мимо Пула к воротам, то старик заметит его и не пустит в уличный шум, — Петр разогнался за спиной сторожа на качелях, перелетел, как на крыльях, забор и ушел в желтый сугроб. Выкопавшись, едва остался цел — сквозь переулок тесно несся народ. «Гойда! Гойда! — гоня народ плетьми, кричали всадники в ярких кафтанцах, унизанных жемчугом, с метлами и головами псов при седлах, с какими выезжали прежде дед и отец. — Не бойсь, не бойсь! Все на базар! Царь вам утеху кажет — больших врагов сказнит, а вас пока помилует!» Гремели, схлопываясь, медью тулумбасы[118] на крестцах опричных коней.
Петр сотворил маленькую молитву и во весь дух побежал с толпой. «Мамка уже там! — вспомнил он. — Если что важное пропущу, потом расскажет». «Малёк, задавят, подь-ка!» — нагнулся в седле статный незнакомый опричник, подхватил под мышки Петю и усадил перед собой на арчак[119].
Торговая площадь уже не могла шелохнуться, пресытясь русским народом, только посередине, откуда убраны были лавки, виднелось более вольное место, удерживаемое цепью стрельцов. Там омывал черный чан прозрачный алый костер, чан испускал могучий столб пара. Вокруг него теснились рубленые «глаголы»[120] — Петр узнал и прочел уже изученные с дедом по азбуке буквы.
Опричник опустил его с седла к глазастой детворе, освоившей балясины чьей-то резной избы, а сам поскакал назад — на поиски остатков спрятавшегося и прозябающего в темноте народа. Мальчики на балясинах начали приближать к Басманову суровые лица, проверяя его дух и удобство случая снять с барчука армячок.
— У меня мамка рядом, а отец с дедом взяли Казань! — сказал Петя ребятам и провел кленовой сабелькой им по носам.
— Сейчас привели еще триста лазутчиков польского короля, — тогда уже с уважением молвили ему, — царь много самых калек пощадил, на остальных, сказал, суд правоту наверстает.
— Так что ж вы тут, как гости, притулились? — отчитал детей Басманов. — Айда поближе к огню.
— Народу прорва, Христос с тобой! — оробели малые.
— Слабо?! — Басманов соскользнул с заледенелых перил крыльца. Плотным лесом встали вокруг большие. Тогда он присел на четвереньки и где вьюном, где тараном пробился в чаще сапог и лыковой роще лаптей, определяясь по направлению всех ступней. Взрослые не честили и не втаптывали в землю дерзко ползущего отрока, прочно завороженные зрелищем, и Басманов нежданно достиг первого ряда.
И то, что близко увидел, звонко оттиснулось в памяти сердца навек. Чуть не упал от злого запаха бойни, полой чьего-то охабня сжал нос, только глаза не сумел закрыть, сами расхлопнулись и, не мигая, учились русскому правосудию.
Преступникам, уже изломанным где-то и едва державшимся, опричные дьяки гордо зачитывали их вины. Кто оказывался лазутчиком литовского короля, кто — шведского, кто-то потворствовал Крыму, многие работали на все разведки одновременно. При прочтении очередной вины дьяк ударял подсудимого в ухо, тот подлетал к дымной плахе и помещал под топор голову. Некоторых вешали за ногу и разделяли, как туши; иные, крича на колу, молили Бога хранить царя.
Сам царь (Петя совсем не узнал его, хоть дед показывал внуку Ивана IV на торжестве пещного действа) сидел нынче на возвышении в кресле и тряс вылезающей бородой. Царь хохотал, лучась деснами, загнув к губам ястребиный варяжский нос и закатив к небу зраки. Возле Ивана сутулился в тигровой шкуре громоздкий псовоподобный Малюта, что-то шептал царю, водя перстом по деталям различных мучений разведчиков, и царь принимался забвенно трястись и визжать пуще.
Все ближние опричники Ивана (даже те, которые не руководили казнью, а только теснились вокруг государева кресла искрящейся праздной толпой) были пьяны и расхристанны, в лицах свободно плутал позыв первых людей к злу. Только один придворный не был хмелен (Басманов сразу его отличил), один он зяб и, ежась, попрыгивал; над ним смеялись опричники. Молодой стольник не отвечал на насмешки, предвзято спокойно похлопывал варегами по бокам, лишь бледность скул на морозе выдавала его да длинные монгольские глаза тщетно старались отвлечься, уйти от крови и казни.
Петр тогда не по-детски успел удивиться: как обычный, трезвый и нестрашный человек попал, как свой, в вихрь опьяненных лютой службой? Впоследствии, взрослея, он не раз вновь узнавал об этом у себя, на свет лучей зрелого опыта рассматривая странную породу памяти детства. Чудилось: такой человек и был нужен тронувшемуся товариществу палачей, чтобы изредка напоминать и вовремя указывать некий ветхозаветный предел, заступив за который и Грозный рискует быть мигом раздавленным очнувшейся грудью народного гнева.
Метнув взгляд с разумного стольника снова на крик и боль, Петя уже хотел всеми силами выбираться назад, пешим бежать домой и там, забившись под мамину прялку, заплакать так, как уже пятилетнему недопустимо и стыдно. И тут один из казнимых, висящий на вдетых в петли руках под «глаголом» короткий старик, вдруг поразил его сходством с родным дедом, не так давно обучавшим Басманова азбуке. Дед, перстами водящий по букве, и старик, подвешенный за руки к ней, — одно и то же лицо! Дедка Алеша, уехавший в Крым! За ним — отец, дальше — князь Вяземский!
Палач-опричник, тяжким ковшом зачерпнув воду из ледяного котла, облил раздетого дедку Алешу. Затем палач осторожно взял кипятку из парящего над костром черного чана и окатил подсудимого новой по смыслу водой. Затем — опять ледяной, снова — дымящей. Кожа пошла с дедушки, как чешуя с угря, пойманного как-то для внука в Нечистых прудах. Царь завизжал от восторга, округлив в редких ресничках зрачки.
Петя Басманов не помнил больше, не различал, где Москва, кто преступники, кто правый суд, нырнув меж сапог опричника оцепления, он помчался к Ивану IV, с ходу готовя кленовую сабельку, помня со слов поварих: его сабля годна хоть на то, чтобы выткнуть глаза. Но чьи-то спешные лапы настигли Басманова, взяли в железные клешни, легко отогнув назад за волосы голову, предъявили царю.
— Это ж Басмановых цуцик. Федоры[121] сын, — подсказал Ивану Малюта, обладавший медвежьей чиновничьей памятью.
— А! То-то, гляжу, он с мечом на меня пошел, — уяснил Иоанн. — Вот племя! Расколоть на дрова для котла цуцика!
Все опричники прыснули и потому не могли в то же мгновенье исполнить указ — это спасло жизнь Басманову. Трезвый стольник, который все мерз, успел подойти скорым шагом к царю и пошептать что-то. Иван очумело скользнул взглядом по сжавшемуся под холодным туманом океану людей, по всплескам щепотей крестных знамений.
— Милую, — крикнул обиженно, — отпустите малого Басманова! Я вижу — он не предатель. Просто великий боец.
Скуратов заурчал недовольно.
— А что ты хочешь? — объяснил Малюте царь. — У меня самого сын растет: нужно оставить ему на разживу кого-нибудь.
Зябкий стольник взял Басманова на руки и унес далеко от суда.
Говорили, играли словами во тьме ручьи, наперебой спешили вниз, в Оку, — помогать вешней воскресшей реке губить рыхлые льдины. В темном шатре воевода боярин Петр Басманов думал о той жизни, какой жизнь в действительности прожита, и о той, какой она представляется брату Василию. Так, князь Голицын находил жертвенное упорство брата Петра, явленное при обороне русского юга от войска царевича, следствием обычного чванства великого стратега, а также узости стесненного забралом кругозора. Вася Голицын не знал, что защищенный братом дряхлый Борис когда-то, в бытность молодым стольником Грозного, вынес зареванного осиротевшего Петю Басманова из-под сплошного суда жарких времен. Мог ли Петр Федорович теперь не оборонить жизнь этого человека? Однако не ведал князь Вася и тыла доблести дальнего по родству брата. Никогда не вникая, кем приходились Борису его сын и жена, Басманов понимал ясно и вечно, что эти люди — ветвь врага рода человеческого, Малютины внук и дочь. По смерти Годунова воевода, смиря сердце, целовал крест преемникам царства — царю-отроку Феде и Марии, маме-правительнице. Но не могло, не знало сердце, как забыть оскал престольных судей, — охрипло тридцать лет назад от птичьего крика бьющихся над кострами родных.
Первый раз в жизни Басманов не чуял хорошего трепета перед боями — враждовал с долгом, с призванием. Напрасно Вася назвал его истовым и беззаветным рубакой — в понимании московской государственности Петр Федорович шел дальше многих острых писателей новой Руси. Сын убиенных государем не спешил доверять песням о назначении Богом Ивана первым царем всероссийским, уважал больше былины о прежних вольных князьях; признавая в уме благо единовластия, род Грозного он с малых лет проклинал душой. Сражаясь с ляхами под Новгород-Северским, Басманов втайне полагал, что избивает свинцом настоящего Дмитрия; напротив, поддаваясь теперь умным уговорам Василия и старому своему чувству к древу Малюты, хотел надеяться: если уступит, то лишь уступит Отрепьеву, а не царевичу крови, которого нет.
«В конце концов, если разбить его, — предположил воевода, — то он опять удерет и будет вновь неизвестно, кто ж он. А коль приблизиться к удальцу дружески, нам сие станет яснее; если ж и впрямь это цуцик Ивашкин пророс, — заключил страшно Басманов, — я и без войска его прижму!»
Переворот
Ваня Голицын, родной Васин брат, в последних числах мая прискакал из-под Кром в Путивль и, четырех шагов не доходя царевича, упал под тяжестью принесенного государства. Долго, больно бил челом оземь от лица всех «раскаянных витязей». Задирая к Дмитрию русую бороду, рассказал кое-как об успехе «восстания праведного» в стане московских полков.
Стан ополчения весь разломился на два лагеря — князь головной воевода Катырев-Ростовский, князь Телятевский, боярин Кашин во главе крепеньких нижегородских, владимирских и псковских бойцов остались твердо на стороне Годуновых, решили даже сразиться с мятежной второй половиною стана, но полководческий гений Басманова восторжествовал: все важнейшие точки пространства войны: кручи — для звучности пушек, ложбины — ради разгона коней, наплавной мост через Крому — чтобы только врагам приходилось тонуть, — оказались в его руках. Князь Катырев, узнав своего незаменимого помощника в рядах бунтовщиков, мудро опомнился, очистил поле намеченного сражения и быстро побежал. Отряды Басманова (туляки и рязанцы, Голицыны, Ляпуновы, Измайловы), сами страшась проливать кровь сограждан, неслись следом, жгли, бодрили бегущих знакомцев плетьми: «Ходи, ходи веселей, а перелиняешь, так не попадайся!» Отступающие начинали уже огрызаться, когда Корела, вынесший из подземелья Кром для соединения с Басмановым все скопленное в душах донцов, нарушил смысл христолюбивой погони. Казаки с таким нечеловеческим свистом, проскакав по наплавному мосту и нагнув пики, пошли наперерез Катыреву, что головной воевода не мог успокоиться, до самой Москвы. Ратники, жители замосковных северных городов, даже не остановились в столице — три дня шли через Москву домой нестройными, вялыми толпами, на спрос бояр и горожан не зная, что отвечать.
Польские советники никак не рекомендовали Дмитрию приближать к себе части Басманова, кажется признавшие царевича, но по-прежнему сильные, страшные. Покаянное радушие русского лагеря, уже сознавшего мощь своей воли, могло теперь в любой миг стать ловушкой отряду Отрепьева, перейдя в иное общее чувство. Приблизившись к Кромам, царевич встал на расстоянии польской мили от русских войск, выслал перед собой «добрый» указ: всем проживающим ниже Москвы жаловал отпуск, месяц покоя и отдыха. Рязанские, тульские полки возликовали и исчезли как дым. Тогда, уже не опасаясь подвоха, Отрепьев допустил к руке Басманова, Голицыных, Шереметева и еще двести московских бояр и дворян. Остро ощупывал взглядом разнолепье закутанных в брови, бороды лиц — не мешало сразу раскусить каждого. Ласково изучал Михайлу Глебовича Салтыкова: не придави он четыре года назад легкой рукой барина Юшки, Бориса Черкасского, — не дрожал бы сейчас на коленях перед беглым монахом, а монах не ходил бы царем.
Скоро Отрепьев пожалел о хитроумном роспуске опасного войска. Стрельцы дворцовой гвардии, оставшиеся в распоряжении Годуновых, встретили хоругви царевича под Серпуховом и пресекли все попытки поляков переправиться через Оку. Корела, с благословения иезуитов и гетмана Дворжецкого, помчался с сотней донцов на самых машистых рысаках в каширскую сторону, переплыл Оку ночью и пошел дальше, помня задачу: перерезать все хлебные и пороховые пути, питающие упорных дворцовых стрельцов. Чтобы по волости Москвы не приняли казаков за разбойников, Отрепьев придал им известных дворян Наума Плещеева и малорослого, отчаянного Гаврилу Пушкина с «государевым прелестным письмом». Не в силах выжидать вражий обоз возле одной наезженной колеи, Корела начал чертить круги по заокским просторам. Здесь плотнее и глуше, чем на Орловщине, Тульщине, расстилались, влажно чернели распаханные под ярь угодья, — лишь прозрачные правильные полоски урезанных рощ ласкали глаз шевелением вешних листочков. По земле Нечерноземья шли цепью сеятели, равномерно летело сухое зерно из больших горстей; следом двигались бабы и лошади, везя сохи с отвальными досками, а за ними уже шли грачи, сбирая вскрытых червей и несъеденный бороздой хлебный остаток.
— Сейте, сейте — неприятелям нашим овсы только не подвозите, — покрикивали с верхов на крестьян донцы.
— Сейчас, отвезли, — в шутку отвечали суровые крестьяне. — Самим пить и жрать нечего! — и, переводя лукошко с зернами за спину, опирались на острые колья.
— Едьте на ярославский шлях, мальчики! — приветливо посылали казаков молодки и озорные, растущие в землю старухи. — Кажись, оттуда возы ходют — там мужичье смирней здешнего.
На подбеге к селу Красному казакам действительно встретился ладный ржаной караван.
— Заворачивай! — заорал на съежившийся обозный наряд Плещеев. — Окских стрельцов кормить?!
— Господь с вами! — боялись сытые мягкие мужички в телегах. — Мы — ярославский казенный припас для Китайгородских пекарен Москвы, людишки добрые, мелкие…
— Сворачивай тем более, мелочь! — размахнулся кулаками Наум Плещеев.
— Умка, стой! — схватил соратника за рукав Пушкин. — Так у вас что — пропуска в самое сердце Москвы? — быстро переспросил он обозников и с каким-то безумием озарения посмотрел на Корелу.
Атаман понял без слов. Благополучно пройдя через тройное кольцо укреплений столицы, через ворота Земляного, Белого и Китай-городов, усиленно оберегаемые караулами, мучной обоз въехал прямо на Красную площадь.
— Куда валишь, деревня? — загомонили три друга-стрельца, охрана Спасских ворот, подбежали — рукоятками бердышей задать ума заплутавшим кормильцам-селянам.
Пока суд да дело да смех мгновенной толпы созерцателей, с одного воза мешки с мукой кувыркнулись на мостовую — из срединного маленького мешка вырвался Пушкин, с «государевым прелестным письмом» помчался к Лобному месту.
— Указ царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси, царств Казанского и Астраханского… — взбежав на круглое древнее возвышение, начал жарко читать Пушкин.
Привилегированные постовые-стрельцы кинулись сквозь толпу — имать крамольника, но любознательный русский народ сразу взял у стрельцов бердыши и пищали и направил оружие против них. На Лобное место также взошел в мучной бороде и белой ферязи гордый Наум Плещеев.
— Мы, христианский государь, идем на православный престол прародителей наших, хотяху государство наше получить без кроворазлития…
Также вышедшие из многих мешков донцы Корелы, с ними рой московского люда, через освобожденные башенные врата поспешили в недра Кремля. Корела в первую голову отыскал пыточный двор и подвальные тюрьмы, вызволил узников-однополчан. Худые, немытые, в сгнивших исподних рубахах поляки во главе с капитаном Домарацким и осужденные разговорчивые заговорщики-москвичи, зайдя на Лобное место, над прибывающим морем народа явились полуживым обличением дома тиранов.
— А нас, великого государя, Господь милосердный от их злодейских умыслов укрыл, и ныне мы, уж как сядем на царства, в великой льготе свои городы, селы, слободы и улусы учредить повелим…
Лихие столичные нищие давно ждали вторжения Дмитрия или встречного бунта, изготовившись для грабежа; зажиточные, тоже чуя грозовой ветер с юга, поглубже прятали сбережения, надсадно сами всюду жалились бедным, как чисто вымел карманы последний год, подмигивали на терема и палаты правителей. После сраму посошного войска под Кромами всем вдруг стало яснее, что Дмитрий больше не Гришка, а, пожалуй, подлинно будущий царь. По соседству с двором его слабых врагов Годуновых стало жить еще неуютнее. Отождествив тяжесть нового века со звуком имени земской династии, москвичи ей желали теперь всех невзгод и полной свободы падения. Поэтому Плещеев, Корела и Пушкин послужили для серого и ломкого до поры, но уже высушенно дымящегося хвороста стольных мещан теми случайными неминуемыми искрами, от которых сей материал восстает единым великаном пламени.
Московская голь ринулась грабить дворы Годуновых и ближних, родственных трону бояр. Задвигался тяжело страшный колокол Ивана Великого, затанцевали сорок сороков вокруг. Напрасно большие люди Мстиславский и Шуйские, пробиваясь к Лобному месту, повторяли пропавшими голосами ветшалые слова о расстриге и воре. Зря царица Мария, спрятав детей за алтарь дальней молельни, кружила в опустевших переходах Кремля, куда-то слала гонцов, искала судорожно опоры, — через все окна и крыльца влетела во дворец улица, опрокинула, расколупала по яхонту иранской работы престол, увязала, комкая, все златотканые занавесы, с царицы оборвала ожерелья — от пожилой бабы Москве пока ничего больше не было нужно.
Остававшиеся на стенах Белого и Китай-городов стрельцы, обозрев с высоты стихию, сами, недолго мысля, примкнули к ней. Переворот прошел на радость бескровно, но вскоре выяснилось, что восставшие несут небывалые потери: в винных казенных и княжеских погребах спивалось насмерть в течение суток не менее ста человек. Горстями черпали из кадей очищенный полугар, шапками — красный виноградный рейнвейн, сапогами — сладкую романею.
Напуганная размахом народного движения, Дума спешно направила в Тулу, куда отступил из-под Серпухова царевич, безобидных и старых, но древних породой князей Воротынского и Трубецкого бить челом, умолять о прощении и звать в Москву, дабы скорее уселся на царство и успокоил чернь властной рукой. Отрепьев долго моргал в такт поклонам посланников; Бучинский, Дворжецкий и Басманов очнулись чуть раньше и, не в силах сразу представить, как это Корела и Пушкин без выстрела взяли престол и Москву, заявили, что не торопятся в мышеловку. На разведку в кланяющуюся столицу из стана Дмитрия выехал Василий Голицын, с ним — прочно повязанные с царевичем, взятые еще в Путивле и прощенные «с повышением» воевода Мосальский и дьяк Сутупов, люди сведущие в лукавой науке низких поклонов. Сему наряду предписывалось уловить сам дух державного города. Отличив истинно добрых, смиренных бояр и взяв их подручными, переимать «тайной гордостью дмящасю и распыхахуся на государя крамолу».
— Да из Годуновых, глядите, чтобы никто не ушел, — наказывал, проводив до коней своих наместников, Дмитрий, — всех придержите мне, без исключения.
«А то слухи вон уже рыщут, — думал царевич, глядя с холма вслед удаляющимся собутыльникам, то и дело оборачивающимся, чтобы еще раз помахать пушными шапками своему государю, — слухи ходят: заместо Бориса помер двойник, а Борис будто сбежал то ли в Англию, то ли к татарам… Тут глаз да глаз… Но я велел оставшихся попридержать, — значит, и Ксению посторожат, я ведь велел без исключения…»
Отрепьев смущенно и доблестно улыбнулся, закинул руки за голову — и так стоял и предчувствовал: когда снова помашет Сутупов, это будет примета, что Ксюша помнит и ждет. Но окольчуженный дьяк более не оглянулся, скакал, тупо уставившись между ушей скакуна; зато татарский дворянин, сын опричника батыр Шерефединов, завизжав, вскинул и закружил на копье малахай.
Отечные, в синих яблоках лица похмельных встречающих толп, терема с отвалившимися ставенными губами, высаженными дверьми и выколотыми пузырями-окнами; целые зоркие глаза одетых почему-то худо и ровно бояр — все казалось подозрительным прибывшим в столицу наместникам.
По одному приглашая князей в Думу, взъярив голос, спрашивали в сенях:
— Кто провожал Бориску в Англию? Слал стрельцов на Оку? Кто изобрел ловушку на государя? Любишь дыбу? Отвечай, кто?
Боярство плакало, ежилось, но у него был подготовлен единый ответ. Годуновы, злодеи враги Годуновы, даже если где-то действовало княжество с боярством, виновен, в сущности, тот, кто всю российскую знать застращал.
Дьяк Сутупов, впервые учуявший власть над великим числом именитых людей, недавно плевавших на дьяка, теперь сам шевелил кисло губами, выдвигал медленно челюсть вперед, цедил, перекосясь, заломив редкие бровки:
— С-с-с-сведаем, с-с-сведаем, у Годуновых и спросим… На своих станках пытошных грех не беседовать…
Василий Голицын приказал вскрыть в Архангельском храме гробницу Борисову. Чудовища богатыри Молчанов и Шерефединов выволокли, нещадно стуча по ступеням и шаря по паперти, из полумрака усыпального собора на свет беломраморный саркофаг. Ни Голицын, ни князь Мосальский, не видавшие от прошлого года Бориса-царя, в потемневших спокойных чертах мертвеца не узнали прежнего болезного, мнительно-напряженного самодержца, — действительно, видимо, выкопали они двойника. Только Арслан Шерефединов, обнаружив, что непомутневшие кольца с сапфирами и эсонитами не сходят ни с одного пальца покойного, отгадал — все-таки это Годунов. Воспользовавшись узким кинжалом, даром Батыя своему предку, Арслан получил сапфиры вместе с перстами. Приведенные на опознание мертвого живые князья и бояре более ради своей безопасности, чем для порядка или уплаты долгов, попхали тоже ногами ссохшееся тело в шелковой ризе. Наконец Голицын распорядился убрать с Соборной площади останки беззащитного инока. Бориса зарыли вне стен бедного кладбища Варсонофиева монастыря.
Корифеи московские поняли — следователи Дмитрия не шутят. В тот же вечер в их честь на Боровицком холме был дан пир. Когда думные князья убедились, что наместники добреют, добрав, — начали подбираться с вопросами: а разве плохо они угощали гостей, разве не заперли всех Годуновых в старом их тереме, разве не пхали тленного Бориса?
Дьяк Сутупов, самый тверезый, налегая на княжьи похлебки, охотился на рябчиков — гонял в лапше и каштанах вырезанную соколом ложку, но даже у Сутупова сокол все время тонул, ныряя из жирной горсти. Только поймав себе курицу, всеми зубами укусив, дьяк смог ответить спокойно:
— А потому что кого-нибудь надо казнить. А то Димитрий Иванович пока только миловал. Вот, а теперь надо казнить, — гневно чавкал Сутупов. — А то что же это будет за страна, за государство хреновое! — разжевывал дьяк перед князьями твердые сокровенные убеждения.
— Богдан Иванович, кровиночка наша, — лебезил князь Кривоборский, евший уже с одного блюда с Сутуповым, — да хошь, своими руками кутенка Борискина, Фетку, удавим — царька в отца беззаконного! Семя Годуновых в муку изотрем, лишь бы сторожевые львы батюшки нашего боле в нас не сумлевались.
— Не, не велено. Надо царя обождать, — усомнился Сутупов.
— Э, слушай, Багдан-джан! — влез батыр Шерефединов. — Бачка-гасударь обрадуется! Эта ж нэ кровная месть. И я пайду душить! Бачка скажет — кунаки, детушки!
И Арслан сжал в коротких, пылающих камешками пальцах чеканный кубок-потир, шейка потира размялась как глиняная — бронзовый кубок поник, уронил удалую, хрустальным медом омытую чашку.
Узнав о перевороте, дворцовые сидельцы под Серпуховом присягнули все-таки Дмитрию и, волнуясь за московские свои подворья, отпросились домой. На Семик, праздник расцветшей растительности, невеликое пестрое войско царевича переправилось через Оку — день стоял жаркий, Дмитрий нагишом первый вошел в ясную воду: взялся на спор переплыть реку.
— Гай Юлий, римский будущий цесарь, одолевает свой Рубикон! — провозглашал Ян Бучинский, стоя в подстраховывающем челноке.
— Кого рубить? — не поняли братья Ляпуновы, подвозившие пищали к парому.
Отрепьев, сделав из гибкого тела круг, круто катнулся вглубь, только крепкие пятки, ударив, смешали границу сред — в брызгах пропали. Работающие и начальствующие на переправе — в челноках, стругах и на плотах — замерли, вытянув шеи, подсчитывая восхищенно мгновения.
Прошла, наверно, минута — Дмитрий не появлялся. Бучинский, вдруг бешено заругавшись, раздавая «лещи» воинам в лодке, велел куда-то грести. Сам, свесившись с носа, словно выпивал взором Оку. Берег как задохнулся: Ляпуновы, перекрестясь, начали заряжать потихоньку арматы… И тут государь вынырнул — коричневый мячик заплясал вдалеке, — видимо, на середине реки. Не слыша страшного рева и праздника на берегу (вошла в уши вода), Отрепьев лег на спину. Крутя плечами поочередно, неспешно плыл, рассматривая нерукотворные облака.
Хорошо было так плыть, учиться небу и солнцу, как в теплом детстве, когда кажется: в любую сторону ступай — и покоришь русский мир. Хорошо смотреть из воды прямо вверх, в синеву юга лет, представлять, что вокруг голубая, вспомнившаяся Яну Италия. Или: померанцевые рощи, смоквы и оливы — уже вдали, сзади, где легионы, кентурии Дмитрия только садятся в триремы, впереди же — Рим, русский Рим, Третий. Четвертому не бывать.
— Го-су-дарь! Го-су-дарь! — болезновал за Отрепьева дальний оставшийся берег.
— И раз, и раз! Ну, Димитр, еще десять сажен! — ликовал Ян в обгоняющем пловца челноке.
Пошатываясь, царевич вышел на левый берег, присел на валун. Рядом поднялся с песка человек, брякнула на поясе сабелька.
— Кто таков? — глянул Отрепьев забывшими все цвета от прямых лучей солнца крапинками-зрачками.
— Да из наряда наместников, только с Москвы. Осипов я Володимир…
— А, Володя… Сейчас из Москвы? Что там?
Гонец нагнулся к арчаку и влажному чалдару, только что снятым с мыльного коня, выхватил запеченную в сургуче трубочку грамоты.
— Ян, возьми, почитай — я сырой, — попросил Дмитрий, принимая у друга одежды.
«Здравствуй на тьму лет великий царь земель Владимирской, Московской, Угорской, Новгородской, Бабаевской, Тотьмской…»
— Суть, суть гони, — перебил Дмитрий, обычно выслушивающий полностью свой державный титл. Принимая приветствия самых разных людей, государь каждый раз узнавал о составе подвластных земель что-то новое. Но сейчас говорила Москва, Отрепьев спешил ухватить новости.
— Так… «Стольный град с боляры, дьяки, игумны, гостиные сотни, стрельцы, всяк человечий чин и бесчинство подчинен твоей царственной воле — либо грозе, либо милости. Ондрюшка токмо Корела, донцкой отоман, с перва дни на Москве, изгнав всех от себя, сам впал в одно медово подземелие, без прерыва пиет и без слов гудит песнь, а теперь просит звать в подземелье к нему литовска князя Острожского и Михайлу Глебовича Салтыкова — он-де им передумал сказать, велика ли рать с Дону идет пособить Твоей Милости. Но ежели кто-то к донцу и приходит в подвал, Ондрюшка бьет того смертным убоем, изгоняет и вновь пиет».
— Ясно уже, — вновь перебил, резко фыркнув, Отрепьев, — ябедам Мосальскому да Сутупову против лучшего из генералов хотца меня назлить. Мечтайте, тыловые крысята, завистники. Дальше, Янек, суть, суть гони.
— Так… Экий ты торопец, Димитр, право… — искал Бучинский, распластав грамотку на прямых руках. — О, вот, смотри: «…народ плачет об отравившихся…» — это читать? «…Но ты узнай, государь, не в грибах дело: первые люди Руси, князья, дабы унять над собою такое последствие и заслужить малой службишкой вины перед царем прирожденным, тайком вошли в терем, где выли под стражею сведенный царь молодой аспид Федюшка, царица-мать его, ведьма, да Ксюшка-ведунья сестра. И те боляре московские, при крепкой помосчи батырей добрых, твоих дворян Молчанова да Шерефединова, истребили пенковыми петлями лютое племя сие. Стон облегченный пошел над православной землей!»
Вдали хохотнуло пространство. Ян недовольно глянул в сторону синего гребня, выдвигающегося из-за лесов, и стал читать быстрей:
— «А прочих родственных сим Годуновым бояры, которы собою добры и старательны ради твоей государевой милости, повезли по иным городам, тихо также сказнят их в глуши удавленно. Так, Годунова Семена, главу приказа сыскных и аптечных дел, уже казнил платком его в Переяславле-Залесском князь Приимков-Ростовский. Старшего из Годуновых Степана казнил своим кушаком вотчинный князь Ще…»
Бучинский остановился, так как сквозь свиток поползли темные легкие пятна — Дмитрий притронулся мокрыми пальцами к грамоте с той стороны. Смотрел, словно выколотыми, но пока неточно видящими ужас своего мрака глазами на Яна, вышептывал первые буквы какого-то имени или названия, Бучинскому показалось — государь манит откуда-то чуткую кошку.
Там, на краю земли, взлетала тьма, нежно трепетали, подобно всполохам войн из Откровений, июньские молнии. По Оке пошли крупные волны — на судах и плотах, переливаясь, приближались к песчаному брегу доспехи, внутри — бояре, гусары, немецкие аркебузиры и польские жолнеры, — все смирно слушали дальние окрики грома, высчитывали по международным единым приметам скорость подхода грозы, так что никто не заметил, как, крестясь и пятясь к коню, гонец Володя запнулся за свой арчак, а в пяди от гонца разорвал на груди белое платье, лег и стал зарываться в песок русский царь.
Часть четвертая
В МОСКВЕ
Первые радости
Суда с бойцами, орудиями и припасами мягко врезались в песчаный берег Оки. С плотов, стругов, задержанных отмелями, спрыгивали в теплую воду сильные люди без лат — незаметные бесчисленные труженики войны, легкие души, лишенные чванства крикливого чина или наследной славы ужасного пращура. Взваливая на закорки сложенные шатры, кади с порохом, баламутя коленями перед собою остаток реки, бедные спокойные воины спешили на сушу и, там освободившись от груза, в радости облегчения бежали за новой поклажей к судам.
Бояре и шляхтичи, благополучно преодолевшие водный рубеж, все вдруг, очнувшись от бездеятельного голубого пути, вспомнили о добрых своих голосах и нагайках, принялись с удовольствием торопить, путать жизнь переправы. Кони сразу же начали рвать удила, выворачивать на подводных камнях ноги, сгружаемые пушки — черпать дулами ил, а чугунные ядра — выпрыгивать из подмышек тягловых воинов…
— Шевелись, вражина сельская! — помогали криком латные ратники лапотным. — Огневое зелье юфтью[122] закидывай, — вишь, с востока какое прет!
— Стороной протянет — слышь, ветер сухой! — уверяли лапотники латников, приглядываясь к злой синеве на краю земли, вслушиваясь в отдаленные облачные колесницы.
— Молча, черти, трудитесь — тогда пронесет, — обрывал иной мистик-боярин. — Эва, эва как озаряет! — и невольно показывал плеткой туда, где небесные жаркие плети без звука секли по кайме лесов.
На песчаном пригорке недалеко от воды, не внимая ни сутолоке вокруг, ни подбирающейся темной синеве, стоял на коленях, молился один человек. Только что человек получил челобитный свиток от лица Москвы, из которого понял, что признан законным царем и что путь в святую столицу открыт. Но не слова благодарности Господу составляли молитву человека-царя, — постаревшее с юности, будто сразу на несколько долгих веков, сердце его едва жило во тьме беды и чуть теплило свой караульный лучик, надеющийся всегда неведомо на что, то есть достаточный, чтобы заставить всего человека не просто дрожать, а молиться.
В той грамоте, где Дмитрий Иоаннович, впервые Москвою не названный Гришкой, назначался царем, также упоминалось, что все Годуновы, долго не допускавшие Дмитрия на родословный престол, казнены тайком для доказательства полной покорности бояр своему государю — для покоя его. И теперь государь-победитель стоял на коленях в песке, вразнобой осеняясь крестами, латынскими, слева направо, русскими — наоборот, и слезно гневался на пробегающие небеса. Как не могли они предусмотреть? Ведь не в силах сам он, простой смертный царь, воплотиться повсюду — во главе частных войск и в московском, упавшем от страха рассудком и совестью, стане! Он только шел к центру отечества с полками, упразднял старое и, даря праздные звания лучшим друзьям, созидал новое царство свое, государство. Мог ли предугадать, не дойдя сотни верст до невнятной и в буйстве, и в обморочном замирании столицы, что все жернова и рычажки прежнего, будто бы рассыпавшегося пылью в тесных двориках московских царства, начнут вдруг судорожно действовать, выстраиваться победителю навстречу и в усердии своих отлаженных частей вмиг погубят ту, для которой и затеяно было все смятение родимой стороны.
Царь закрывал глаза. Сосредоточивая луч молитвы, позабывал креститься: просил у Бога небольшого чуда — упразднить явь. Чтобы открыл глаза — и боль осталась в темных заревах дремоты, вспять отлетела на скоропослушных крыльях вспугнутого сна.
Закадычный советник царя Ян Бучинский переминался вблизи, покручивая в руках недочитанный свиток, — даже Ян не был вхож в самое сердце Дмитрия и объяснял для себя его дрожь и кресты минутным отдыхом духа, заключавшим плеяду великих побед, купленных криком и нервами.
— Сутупов, Молчанов, скоты, — шептал в песок государь, — думные волки!.. Зарублю!.. Пол-Москвы на кол!
Тут же соображал: само осенение крестное требует жертвы всех помыслов мести и гнева в пользу прощения и милости, — вздрагивал, отползал в сторону и начинал заново — иное:
— Иисус, извини, я не то хотел, Вельзевул попутал! Вот клянусь всем твоим святым… Ни одной капли вражеской крови не вылью, христианскому телу царапины не нанесу! Только ты как-нибудь смилуйся, преобрази этот бред, Христе Боже… Да прости ж мне, червяку, поверь в меня и воскреси мою!..
Бучинский, заметив, что грозные выхрипы друга сменяются жалобным шепотком, решил: слабость проходит, приходит время потешить царя, дочитав грамоту, — разбудить его дух для славы и суеты окончательно.
— «…Из роду попранных неверных владык, — смешливо-вкрадчиво продолжал Ян, — до этих пор осталась только лишь змеевка-чаровница Ксения — Арслан ее пожалел и ослабил петлю…»
— Ян, убью! — взвился в песке Дмитрий, на миг забыв свой уговор с Христом.
— Так здесь написано, я-то при чем? Сам читай! — Бучинский прочел нечто в пробрызнувших нечистым огнем очах Дмитрия, кинул в него челобитной, а сам быстро сбежал с холмика, закружился песчинкой в потоке коней и телег.
Дмитрий подобрал почту и сам проследил, не дыша, не слыша рваных биений в висках, до того места, где смолк Ян.
«Жива… живая!» Бесшумная молния явила на миг при своем ясном излучистом русле поля, лес, стволы, иглы, листья — весь придвинувшийся горизонт. Миг опять утонул в полусвете, робком и весело-безвлажном в предощущении дождя.
Издали, с такой высотной дали, что эхо каждого удара, разрастаясь, успевало подавить звук нарождения следующего, понеслись по уступам вниз выроненные на небесной переправе архангельские стратегические ядра.
«Живая все-таки…» — Дмитрий не мог укротить колдовской дрожи тела. Каждая капля-кровинка его, четверть часа назад старчески отяжелевшая, теперь бешено торжествовала: каждую Стрибогова[123] стрела несла попутно всем и каждая в лад стреле звенела.
— Янек, подойди, не бойся, я отошел, — обнял царевич лучшего друга-драбанта. — Что ж ты, вепренок, всю грамоту враз не прочел?
— Так вязь там, если бы человеческий латинский шрифт… — оправдывался, недоумевая, Ян. — Свои письмена русские сами еле-еле по складам поют.
«…И ту ведунью замкнул Шерефединов в лучшей темнице дворца, — вникал Дмитрий в последние строки московского свитка, сидя в закрытой повозке (по юфти стукал уже редкий дождь). — Биет Арслашка, раб царский, челом твоей богоугодной особе — понеже Ксюшка та опаски собой не являет, то он и просит сию Годунову с живыми ее телесами оставить за ним… Понеже сам Шерефединов уже оженен по обычаю християн, то перешлет чаровницу в Казыев улус в дар гарему отца…»
Дмитрий хотел напополам разорвать пергамент — телячья гладкая кожа скрипнула, не поддалась. Водяной плотный ветер облек фуру, зашумело, защелкало, похолодало; ветром нагаек, веселых проклятий взвыли окрест войска.
В Москве стояла страшная сушь. Пыльные вихри ходили прямо по головам толп, запрудивших улички обочь широкой стези от Чертольских ворот Белого города до Сретенской, сквозной, башни Китая. По заборам, деревьям, конькам и навесам построек шевелящийся люд продолжался и вдаль, и ввысь, подходя к самым куполам храмов и маковкам колоколен. Казалось, народ от жары припадает ко влаге огромных синих и раззолоченных капель, жаждет впитать их, пока вышедшие из крестов капельки не поглотил солнцепек.
В действительности же народ стремился в высоту не ради утоленья куполами: чтобы не прозевать, но узрить сверху миг прихода нового царя. Змейка свободного пространства царского пути, отлично видимая с колоколен и кремлевских стен, окаймлялась путивльскими стрельцами.
Вторая линия защитной чешуи змеи играла панцирными брызгами и трепетала ястребиным оперением — конники Яна Запорского стояли, развернув коней по ожиданию царя. Беспокойно над войлочным «варварским» ульем крутились их полуантичные шлемы. Из-под самой макушки собора пытливый, оказавшийся выше всех смельчак различал, как иной гусар, не заряжая пистолю, брал на мушку его, смельчака, — под курком что-то кричал, улыбался совсем неразборчиво, и тогда озорник сам подбрасывал мурманку выше креста и в ответ хохотал от восторга и легкого страха.
Отрепьев скакал в тесном строю лучших князей Руси, загодя выехавших царевичу навстречу. По мнению польских советников, при таком порядке въезда достигались две важные выгоды: народ, во-первых, сразу видел единство нового властителя с людьми высшего русского яруса; во-вторых, блещущее из-под посеребренных бород изумрудом и яхонтом общество охраняло царевича от непредвиденного выстрела из толпы надежнее всякой брони, покуситель теперь рисковал уложить вместо наследника престола своего же вдохновителя.
Колокольные, устные приветствия ниц падающей Москвы слились в один медногортанный вечный крик. Отрепьев торопил, невольно теребя шпорами, коня. Хвалы и пожелания, радостно, рвано овевая, неслись мимо.
— …здоровья!
— Солнышко!
— …чудесным образом…
— …на всех путях!
Отвыкшие от шибкой ходы старшие князья краснели, трясясь в седлах, и, отставая, разрежали строй. Аргамак государя, злобно всхрапывая, уже наступал на подковы коням передового звена польской охраны (всадники оборачивались, набавляли рыси), когда впереди, над белесой, блеснувшей, как пыльный клинок, рекой явился, точно крупная настольная игрушка, ряд древних изящных бойниц, а еще ближе выгнулся белым камнем возведенный радением царя Бориса мост — тот самый, по которому въезжал когда-то в Кремль, спеша к невесте, бедный Гартик Ганс, принц датский. Мост, подступы к Кремлю воины стерегли теперь не в пример крепче, чем при въезде датского принца три года назад, но, как и тогда (перед вторжением на мост кота), вся мощь стражи сделалась бессильна перед умыслом природы.
Ужасный пылевой столб вышел из ворот Неглинской башни, ухарски перекрутился, вздохнул, потемнел и, как разумный, пошел по мосту, втиснувшись между зубцами. Всадники передового звена, прячась за конские шеи, судорожно укоротили поводья. Трубач успел поднести к губам сурну — в намерении придержать сигналом напиравшее с тыла великое шествие, но вместо воздуха он собрал в грудь уже только песок и разъяренно закашлял. Отрепьев, чтобы не быть в сумятице сдавленным в среде еще не изученных хитрых бояр, проскакал вперед через разваливающееся звено гусар и сам очутился в буране.
В серой бешеной ныли аргамак закричал, заплел ноги. Руки Отрепьева плавали «фертом», вырывая из конских зубов удила, но конь надеялся самоуправно преодолеть душное облако: прыгнул вперед, вспять, вбок — царевич боком ударился в каменный зуб моста и потерял в пыли сознание и чувство.
Но скоро ему померещился темный лес на берегу Монзы; выставив жалобно руки, он продирался куда-то следом за матерью и отцом, но мокрые ветви орешника все сильнее били по лицу, холодные брызги слепили. И мать, и живой отец уходили сквозь рощу все дальше, не слыша сыновьего крика… Лес сметался глуше, вдруг всем станом покачнулся, проплыл, и на место сумрачного полузабытья явился синий жар крепких небес: к солнцу вели острия-шатры башен кремлевских, соборные кресты…
Но мокрые кусты еще хлестали и брызгались, Отрепьев заморгал и приподнялся на локтях, на чьих-то подсобляющих ладонях. Духовный старец, где-то виданный прежде, в ярком сакосе и митре был пред ним. Старец макнул широкую бахромчатую кисть в горшок и еще раз, прямо в глаз Отрепьеву, метнул водой… В чистых дымках кадил за старцем виделся прекрасный, слабо выпевающий молебен строй. Увидев дальше круглый Лобный холм и сказку вечно расцветающих шатров храма Василия, цесаревич вполне внял сему месту и вспомнил, что сам обязал всю эту высшую церковь встретить и возвеличить его.
Архиепископ Арсений (Отрепьев припомнил и старца) опустил свою кисть и принял из рук ближнего священника огромную икону. Царевич, оттолкнув поддерживающих, снова присел на колени, немного утерся и приник губами к теплой доске, к оливковой руке Благого.
Сзади ударили литавры, взыграли боевые сурны, польский марш атаковал псалмы медлительной Московии — гусары заметили, что царь их снова бодр и резв, и воплотили ликованье в звуки. Лица поющих русских сильней вытянулись, раскрываясь ртами, напряглись полосами румянца, но одолеть хоровым распевом трели задиры Литвы не могли. Иные иереи потрясенно уже озирали новоповелителя: при богослужении вот взял и допустил мирскую свистопляску иноземцев?!. Отрепьев сам почуял скорбь святителей, не ускользнуло от него и то, что лик предвечный поднял на иконе, предостерегая, руку, хоть за него и так архиепископ подле ноет и осмысленно, и укоряюще.
— Янек, оставь, я оглохну! — выкрикнул царевич, но Бучинский, размахивающий самозабвенно саблей перед музыкантами, кроме литавр и труб, пока не слышал ничего.
Только Отрепьев подумал подняться с колен, чьи-то горячие сухие руки кинулись помогать — снова освоили царские локти. Отрепьев, встав, оглянулся — старинное, истово-испуганное личико дрожало за ним.
— Не помню кто?
— Бельский аз есмь, Богдан, — пропел старик боярин. — Давесь-то в шатре, как мя предстали, ты ж воспомнил, батюшка, мою брадишку. Я ж Вельский, твой няня. С глупых лет Митеньку в зыбке качал, через что впал в опалу Годунову.
Отрепьев вспомнил давешнее подмосковное знакомство с видными боярами — промельки вопросов… Плутует Бельский или впрямь решил, что повстречался с возмужавшим пасынком? Царевич глазами поискал вблизи путивльских друзей — как их мнение? Мосальский и Шерефединов, самые ближние, понятливо, живо отозвались. Василий Мосальский, вмиг прозрев в прищур очей царевича, быстро сам сыграл зрачками: мол, старик — паршивец, все как следует. Шерефединов же, отведавший недавно государевой нагайки, не смел поднять трепещущих ресниц, только, сорвав с головы пышный малахай, спешно стал обметать ураганную пыль с одеяния Дмитрия. Как бы опамятавшись, поскидав шапки, за ним последовали Вельский и Мосальский. Стали совать, протискивать свои собольи, лисьи колпаки иные. Белое платье царевича покрылось черными, втертыми в шелк полосами, прорехи, чуть намеченные бурей, поползли вширь.
Усилиями подданных был остановлен наконец молебен, приглушена немного полковая музыка, государь прошел переодеться в Кремль. Отвернув на угол бороды, примкнув к плечам хоругви, архиереи двинулись вослед — дослуживать в Успенском и Архангельском соборах. Бучинский с польской свитой сквозь Фроловские ворота проскакал вперед — принять по описанию палаты.
Завидев из-за ратной цепи удаляющееся торжество, народ московский застонал, налег на длинные топоры воинов — он ждал, оказывается, к себе царского слова.
— Чертища, как я в сем виде на Лобный помост взойду? — прикрывался полой чистой епанчи князя Воротынского Отрепьев, хотя ему тоже не терпелось провозгласить с возвышения приход на Москву страшного счастья — просто надвинувшееся половодье всяких благ. — Ладно уж, Бельский, пока ты — на помост, расскажи людям, как от Бориса меня в зыбке прятал… А ты, русский боярин, — дотянулся Отрепьев, стиснул пальцами круглую мышцу под воротом песцового Шерефединова, — ты веди, платья, палаты показывай… да, слышь, один теремок не забудь, — добавил полу-хрипом, полушепотом.
— Я помню, помню, бачка-государь, — присев, заламывая набок шею, будто с боли, уверял шепотом же Шерефединов — старался морщить как-нибудь по-русски, жалостно, широкое, как дутое изнутри, лицо. — Я помню… там… за Грановитой юртой сразу… малый деревянный крыша… большой сердитый кошка смотрит в окно…
Ксюша Годунова не примечала уже смены суток в общей тоске продвижения вечности. Запертая с постельничей девкой Сабуровой в разграбленном теремке, она лежала на жесткой скамье вверх лицом — без слезы, слова или надежды ужиться с оборотнем-миром. Не слыша укоризн боярышни-служанки, не понимая лакомого духа подносимых блюд, смотрела то на сумеречный потолок в крюках оборванных паникадил, то на смеющийся черный рисунок оконной решетки. Когда узорный оскал чугуна, обагряясь, тускнел, потом быстро тонул во мгле, — с летних небес два серебряных лучика никли к низложенной пленной царевне, точно вдали затепливали херувимы две свечи в память Феди и мамы, или родные несчастные сами, всем светом своим, окрепшим и умудренным в посмертной отраде, своей Ксюше уже подавали особый пресветлый знак. Этот знак, отправляясь из горних пространств полнозвучным и радостным, достигнув земли, оборачивался для внимающего щемящей страшной печалью, ибо сюда являлся истощенным, объятым и оглушенным пустынною тьмой, неприкаянным и бессловесным.
Земная русская вечность делала новый виток — звездочки-знаки истаивали в водянистом рассвете. Девка Сабурова, проснувшись, нависала над Ксюшей и, вздохнув тяжко, будто сама напролет не спала, опускала колени на коврик, начинала опрятно постукивать о половицу лбом — открывала молитву, а с ней и темничные новые сутки. После, припав к створке низенькой двери, долго бранилась с наружной охраной, визжал засов, гремели умные басы ландскнехтов, и вновь Сабурова легко касалась царевниных прохладных губ теплыми большими ложками, вмиг вызывающими — сквозь небытие — своими ароматами тонкую прелесть той жизни, окруженной дивным теплом трепета жизней родных, еще вчера вкушавших за одним столом дары Господни…
Однажды, когда царевна перестала уже различать всякую силу дымков над подносимыми ложками, вошедший в светлицу-камору дворянин Шерефединов, склонившись, разжал ей кинжальными ножнами рот и прилежно стал полнить пленницу разною разностью. Жидкие яства он сразу, только радуясь кашлю царевны, отправлял в глубину под гортань, что же потверже — короткими пальцами толкал под язык, рассылал вокруг десен, держал перед зубами. И так кое-чем накормил, обеспечив опять земное бесконечное существование.
На другой день невольница впервые приподнялась на лавке и, чтобы избежать ужасного насилия кормлением, немного поела сама и впервые чуть слышно поплакала. Шерефединов, в меру рассудка наблюдавший подопечную, на радостях принес в каморку пышного иранского кота, схваченного вестовыми Дмитрия на дворцовом темном чердаке, где тот с мая месяца скрывался от восставшего народа.
Заплакав человечьим голосом, зверь обнял бедную нашедшуюся госпожу и был тут же удален, не сделавший увеселения, а укрепивший хуже скорбь. Ксюша, страшась приказывать Шерефединову и не умея попросить убийцу родных, чтоб оставил ей перса, лишь завела пустынные глаза к разгромленному своду и так оставила до нового утра.
С тех нор как пленница начала изредка принимать яства, Шерефединов зачастил в ее темницу. Нередко он раздевал Ксюшу. Мерно урча, странствовал шероховатой ладонью по белым изгибам, притихшим движимым холмам, раздвигал ноги невольницы… Но каждый раз, вдруг заругавшись по-татарски с присвистом, сдвигал снова ноги и одевал: берег, хотел отцу на Рамазан сделать хороший подарок.
Однородная вечность летела, только в чугунных узорах окна дольше стыл белый свет, меньше задерживалась тьма. Девка Сабурова, по вопросам хозяйства имевшая доступ на двор, приносила оттуда ненужные Ксении новости. Самозванец в Серпухове… Стали отстраивать боярские подклети, сметенные майским народом, встречавшим казаков Корелы и Гаврилы Пушкина… Царевич под Коломной, цены в Москве вновь вздымаются… Дмитрий уже под Москвой.
В день въезда самодержца в город Сабурова уговорила немца охранения взять ее на кремлевскую стену с собой, посмотреть с высоты окаянного Дмитрия-Гришку. Обратно, в Ксюшину темницу, влетела разгоряченная, захватанная немцами, стрельцами.
— Ой, не поспела, не видала ничего! Народу — луг! Красна площадь — что цветной капусты поле! На Лобном месте твой, Аксиньюшка, дядька стоит — покойной мамы-то брат двоеродный Бельский. Людям кричит: мол, он царевича баюкал на груди, сейчас узнал его мгновенно, обману, значит, нет, и наплюйте на того, кто вам брехал про беглого монаха…
— Монаха…
Ксения, качнувшись в русых неплетеных волнах, села на лавочке. Далекий образ инока, с редкой силой подскользнувшегося, павшего перед ее возком, снова ясно воскресил простое утро детства — словно свет хорошего беспечного лица скользнул вблизи… Ах память, странная, случайная, что ты морочишь сердце? Из сотен лиц ты выбираешь самые далекие, крылатые, легко и безвозвратно пропорхавшие, и жить велишь надеждой и неверием во встречу. Вот скажи, как тот, кто без следа исчез в безветренные времена, может явиться в гости через семь затворов в страшную годину? Не чует он, что делается с Ксюшей, и не придет из-за семи своих святых лесов, размахивая, как мечом, крестом, вращая булавой кадило, освободить позабытую… Но нет — Ксения жестко уперла в кулачки легонький подбородок, — когда царевны погибают, инокам же тоже сообщается о них, так что не может он не знать… хотя бы не подумать… И оружием его, моей защитой, хоть молитва станет — от отшельничьей землянки в монастырской роще, при источнике святой воды…
— Ой, святы-батюшки-угодники, чур меня, чур! — метнулась от окна Сабурова. — Ой, с нами крестная сила! — по двору прокатился чудовищный топот и бранный лязг. Ксения, привстав на цыпочках, из-за накосника Сабуровой увидела только — один воин темничной стражи, сорвавшись с крыльца, протянулся на аспидных плитах, сверху на стражника плашмя упал его топор, и пока не было известно никому, насколько воин поврежден, он сам разумно замер и смотрел на мир из-под рифленой плоскости секиры.
В тот же короткий миг дверь в Ксюшину каморку распахнулась, тускло блеснув, парчовый занавес отдернулся, и перед Ксенией (Сабурова давно вползла под лавку) затрепетал так смело, явленно один из ее снов, что на какое-то время царевна поверила необъяснимой яви.
На пороге стоял тот самый далекий, канувший из патриаршего причта монах. Ксения разом узнала его: все то же безусое, хоть похудевшее лицо, пресветлые кудри, тот же прячется прыщик под носом. Все его платье полосато, серо от песка и ныли, надорвано в иных местах, на поясе кривой клинок. Как же ты, монах Ослябя[124], прорубился? За дверью — всюду — тяжкие и спешные шаги.
— Слушай, беги! — крикнула Ксения, впивая радостного схимника-заступника глазами. — Беги, теперь мне немного осталось — некого переживать… Спеши, ведь тебя схватят: здесь близко ходит сейчас это чудо, Отрепьев… Я вспоминать теперь буду, как ты приходил, время побежит быстро.
Инок шагнул к ней, качнулся круглый, незнаемый лик у него на груди, на червленой цепи.
— Государь-батячка, я карашо кармил! — вдруг сбоку, из-за плеча инока выглянул Шерефединов. — Еще вчера, государь, говорила как умная!
— Кто… государь? — слетело то ли с губ, может, с ресниц невольницы.
— Ну да, — разулыбался избавитель. — Проси теперь, краса, что любишь, и люби как хошь, я — государь!
— Дмитрий Иванович, дурында, наклоняйся в ноги Дмитрию Ивановичу! — защебетали, засвистали отовсюду стайки голосов — смешливых, истовых, дрожащих.
— Вот неправда. Всё это во сне, — сказала слабо царевна. — У меня сны такие. Там хорошие вдруг превращаются в страшных…
И ловко закрыла руками виски и глаза — на миг очнуться опять рядом со сказочным схимником, вошедшим и оттолкнувшим орду самозваных губителей царской земли.
Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на время сделался также главой государева сыска. Отдыхая от стройных и величавых доносов, боярин все возвращался к одной думке-закорюке, необходимости установить: как это горстке донских казаков удалось с ходу занять стольный, снабженный белой и красной стенами, с задобренной сытой охраной, огромнейший город? И не сокрылось ли за показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь, смеха лицедейства — и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит все тонкости славного штурма — оно ему по службе тоже надо, первому воеводе оружной Руси.
Басманов отправил рынд быстро выяснить, где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с почтением в гости их атаманов.
Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав ополоснуть водой, заново бросил на поиски.
Освеженные, будто прозревшие, воины промчались по пещеркам-уличкам Китая, вертя конями, ерзая на седлах, морщась и рыча, допрашивая встречных-поперечных, просыпались сквозь путаное сито Белого города и заблудились в правильной Немецкой слободе. Но понемногу рындам начало везти: в травянистых овражках, лиственных закоулках открывали пасущихся рысачков с коротко стриженной гривой, с подрезанным косо хвостом. Рядом с выгулом казацких лошадок чаще всего, притаенно или прямо, лубенел кабак. Там рындам удавалось обнаружить по-за штофами надолго спешившегося, тяжкого наездника. В одном из кабаков конь находился прямо в помещении, — склонив чубарую занузданную голову под лавку, перебирал губами кудри неподвижного хозяина. Порой сурово всхрапывая, гремя подковами среди катающихся полом оловянных кубков, конь никого не подпускал к родному казаку, но, разглядев людей Басманова, опрятных и хлопотливых, рысак вдруг рыданул, закивал и даже преклонил колена, тем подсобляя рындам погрузить хмельного поперек седла. Казак уже не имел знаков малейшей жизни, влажные черные кудри нездешней повиликой оплели его помолодевшее и безнадежное — под платок застиранный — лицо.
— Игнатий, атаман готов! — сказал соратнику молодой рында, наудачу послушав через газыри[125] черкески, пронизанной водочным духом, и не поймав теплого отзвука в тиши донца.
— Вези, брат, все одно к боярину, в приказ, — рассудил старший. — А то опять урюта не поверит, под розги нас даст.
Для проворства дела закрепив кое-как атамана поперек на рысака, врасплох погнали к Басманову. Но по дороге то ли ветерком донца обдуло, а может быть, мерные толчки крупа друга-конька пустили ему сердце, но только вскоре атаман стал подымать косматую степную голову, потом весь распрямился, хрустнув яростно суставами, и, изловчившись, сел в седле, с натугой хрипнул голос:
— Где ты, время?
Петр Федорович радостно приветил атамана, большие полководцы обнялись.
— Присаживайся, Андрей Тихоныч, рассказывай. Где пропадал, как брал с ребятами Москву великим дерзновением.
— Да ну, не помню, — сморщившись, махнул рукой Корела и присел на стулик посреди пустой, обмазанной по алебастру известью светлицы. — Соленого арбуза нет, боярин? Ах, москали не припасают? Хоть огуречного рассольцу поднесешь?
Басманов распорядился насчет ублажения гостя и снова спокойно напомнил Кореле вопрос.
— Вот заладил, — оторвался Андрей от зеленой живительной мути в раскрытой для него четверти. — Ты скажи лучше, где государь?
— Вообще-то, наперво здесь отвечают на мои вопросы, — между делом заметил Петр Федорович.
— Это где это здесь? — возмутился было Корела и тут ощутил, что сидит одиноко на стульчике в оштукатуренной горенке, а Басманов стоит перед ним под маленьким оконцем, рядом с узким пустынным столом. В оконце еще, впрочем, виделся дворик с отдельными, как бы монашьими кельями. В высоковатые их окна вмурованы часто пруты. — Эк же тебя метнуло, воевода, ну-ну… — протянул, сострадающе морщась, почти улыбаясь, Андрей.
— Сейчас царь в Янтарном зале, — ответил первым, не желая ссор, Басманов.
Петр Федорович вряд ли мог сам складно объяснить, как сразу и легко он, прямодушный и отчаянный боярин, занял высокий пост самого скрытного ведомства. Это легко могли бы объяснить поляки, полковники и капелланы да путивляне-думцы, советники Дмитрия. Ими все это долго рассчитывалось: слежение темных путей русской знати возможно было поручить, во-первых, только русскому (поляк даже на краешек боярской местнической лавки сесть не смел, ибо и вошедшие в Москву смутьяны не желали новой смуты на Руси); во-вторых, главу тайного сыска надлежало сыскать из бояр, приближенных, хотя бы недолго, к престолу, сиречь вникших в соотношения чванств при дворе, уже уловивших особенный строй игрищ кремлевских; в-третьих, неплохо, чтобы такой человек, хоть на первых порах, был любезен московским стрельцам и черному люду посадов (то есть ничем пока городу не насолил); и наконец, желалось бы иметь хоть некоторое основание для надежды, что сей облеченный высоким доверием витязь сам не начнет норовить тайным заговорам, потакать своим прежним дружкам, а теперешним недругам взошедшего царства.
Именно Петр Басманов, оцененный, приближенный к трону еще угасающим Годуновым, был замечателен великой ненавистью и единым страхом, которые он вызывал во всем синклите русского боярства. Родовитые ярились на него за худородство, не обиженное Божьими дарами и царскими милостями, а еще помнили в нем отпрыска хищного куста опричнины, понимали, чей он сын, чей внук. Но и среди малознатных, при Иоанне IV, в ярое время, выдвинувшихся везунов не был Басманов своим. Старики, умертвившие — по молодой службе — родню его и оставившие по недосмотру жить малого Петю, справедливо страшились теперь его терпкого гнева.
Итак, свита советников Дмитрия, пораженная высоким соответствием Басманова всем чертам «сокровенного ратника», немедленно передала воеводе, вслед за Стрелецким приказом, и другой, поукромнее, пост. Боярин сначала отнекивался, дышал, грозно вспушая усы, — но всеми таки убежденный, что лучшего зверя к тяжелой цепи у царева крыльца трудно пока найти, согласился принять должность временно. (За сие же время — Басманов знал, — держа в руках нити сыска, заимев доступ к Разрядным, Разбойным подшивным книжкам, он точно сможет сказать — сын ненавистного Грозного или безродный способный собрат перед ним на престоле Москвы.)
— …Не помню никакого штурма, — все вспоминал Корела, сидя посреди приказа перед кадкой с огурцами. — Рва, вала будто и не проходили… так, темнота какая-то… Потом вдруг сразу — свет дневной, Красная площадь, Пушкин забежал на возвышение, начал народу читать…
— Да, силен ты, атаман, пировать, — улыбнулся Басманов. — Все. Теперь, как тобой захвачен стольный город — загадка русской истории навек.
— Слушай, у Пушкина спроси. Может, он что помнит? — залюбопытствовал и атаман.
— Гаврилы нет на Москве, уехал землю глядеть, жалованную за подвиг государем. А воротится — можно попробовать поспрошать… Только напомни.
Корела твердо кивнул.
— После праздников-то своих к какому делу думаешь применяться? — задал еще вопрос Басманов.
— Вот шкурку малость подсушу, почищу, — провел Андрей рукой по диковатой бороде, сладкими каплями рейнского подернутой черкеске. — Явлюсь тогда к Дмитрию Ивановичу, поговорим про жизнь.
— Мое ведомство в острой нужде, — грустно признался Петр Федорович. — Нужда в храбрых, проверенных умницах. Айда ко мне в податные, Андрей?
Корела сразу фыркнул, начал озираться.
— Кого позвать? — И, не найдя более никого в горнице, стал увеличивать искусственно глаза. — Это Дона воину перебирать доносы? Вместо пистольных крюков давить на кадыки подпрестольных дураков?..
— Но кто-то должен… — возразил было и сокрушенно смолк Басманов. «О Боже, — вдруг подумал он, — да неужели я один такой?..»
— Да и кого ловить, Петр Федорович? Народ горой за Дмитрия, боярство замерло, чего ты здесь сидишь?
— Кого казнить, все замерло! — тяжко сорвался с места воевода, прошелся кругом кадки и донца. — А ведаешь, что клетки во дворе, — метнул рукою в сторону окна, — полны под края смутой? Там дворяне без прозваний, купцы без товаров, попы без приходов, стрельцы без полков… а на деле — все купленные бунтари-шептуны, подмастерья великой крамолы.
— Тю! — привстал, опершись на бадейку, Корела. — А кто ж мастера?.. Ну сыщи, кто же их подкупал, шептунов? Надо-то кошевых бунта!
— Так они подобру ведь не скажут. Неужели пытать безоружных страдальцев? — отразил напор казака щитом его же тонкой щепетильности Басманов и тут же, вмиг отбросив бестолковый щит, устало объявил: — Сыскано все уже. По слабым ниточкам, путаным звеньям прошел, немножко косточек мятежных покрошил под дыбу… И вот могу ответить утвердительно: выходят эти нитки с одного двора.
— Чей двор? — пытал заинтригованный Андрей.
— Ха! Послужил бы у меня в приказе — узнал, — ловко поддразнивал Басманов. — А так гадай-угадывай, волость удельная.
— Маленько подскажи, тайник с кистями, — попросил Корела.
— Да можно и побольше. Уж кому-кому, тебе полезно знать, какие лютые ехидны батюшку нашего подстерегают. Во все то время, пока Дмитрий шел к Москве, а ты с ребятами по винным погребам да по кружалам отмечал победу, с того ехидного двора посыльные сновали на базарах и очень не советовали распалившимся мещанам Гришу Отрепьева (да, брат, Отрепьева Гришу!) царем сгоряча привечать. На том дворе ехидна собрала первых людей столицы — зодчего Коня, целителя вольного Касьяна, Сережу-богомаза… И уговаривала их метнуть в посады клич: одумайтесь да возбегите-тка на стены Белокаменной — отпор до самой Польши вору! И ежели бы первые московские таланты приободрились да вышли к почитателям своим с красивым словом, так еще вопрос, царил бы нынче Дмитрий Иоаннович в Кремле и сладко ль бы в Сыскном приказе атаман Корела похмелялся?
— Так что за ехидна, не понял, змея или как ежик? — морщил лоб атаман.
— Пока не поступишь, всего не скажу, — издевался Басманов. — Птица княжьего роду. С въездом Дмитрия в город тать пока лег и притих… Ждет поры для удачи прыжка, нового темного времени…
— Воин, ты что? Враг до сих пор свободен?! — Корела даже потянулся за клинком. — А ну-ка отвечай — какого роду князь? Пошто тобою не взят, не прижат в тот срок же?..
Басманов выждал долгое, спокойное мгновение и прямо ответил:
— Я боюсь.
Непросто было Петру Федоровичу вымолвить эти слова, глядя в беспамятные, совершенно новые после запоя серебристые очи Андреевы (ведь такие глаза лишены и понятия страха за жизнь, которое могло бы основаться только на хорошей памяти о прошлом страхе жизни).
— Как это у тебя бывает, воевода? — В удивлении Корела опустил клинок обратно в ножны.
— Андрюша, ты не московит и вообще почти не русский, иных вещей тебе и объяснить нельзя, — вздохнул Басманов, морщась под тысячелетней тяжестью родных традиций.
— А ты начни с начала, — подсказал казак.
— Ну, Рюрик был сначала — первый князь Руси, затем — Владимир Мономах, Александр Невский… Потомков Невского, великого святого ратоборца, теперь осталось на Москве всего одно семейство. Так что, не будь Дмитрия в живых, старший сего овеянного славой рода имел бы право царствовать… Его-то терем и распространяет волны смуты…
— А я что говорю? Пора таких князей захоронить, они уже не знают, как прославиться!
— Без надежных подручных недолго на кол взыграть самому, только открой дело… А помощников еще поищешь. Если и кочевник с Дону уж кривится, так легко ли природному русскому свое живое древнейшее прошлое рушить? Он никак еще не вник: разнообразие и спор кремлей — это уже позавчера. Завтра же — слепящее блаженство всей страны, чудесно преломленное в единой голове царя и устремившееся вдаль по воле самодержца!
Увлекшийся Басманов говорил уже обыденным неясным русским языком, забыв, что для стенного атамана эта речь пока великоумная чужбина.
— А где Кучум, овса он получил? — Корела вдруг поднялся и оправился.
— Пошел, Андрюша? Значит, зря я распинался, — Басманов огорченно привалился к белой стенке, смазал ребром ладони по подоконнику. — Игнашка, гостя проводи к коню!
— Так не шепнешь на дорожку, Петр Федорыч, какой там Рюрикович хитрит? — обернулся на пороге казак. — Мстиславский али Трубецкой?
— Это Гедеминовичи, — сухо поправил невежду Басманов.
— Слышь, а царю сказал? Дмитрий знает?
Но воевода огладил усы, положил за кушак руки и не вымолвил ни слова, не двинулся больше, пока атаман, оценив головой прочность низенькой притолоки, не покинул служебной избы.
Тогда Басманов с размаха швырнул на стол стальной кулак, следом за ним упал сам, сгреб щепотью на темени остриженные под полутатарина кудри, мореный стол откликнулся весомым кратким эхом, напомнив все сразу распирающие старый дуб дела. Добрую половину сих дел, начатых при Годунове, давно надо было сжечь, но Басманов все медлил, не подымалась рука. Из верхнего слоя харатей, противней[126], книг Петр Федорович понял: нонешний царь и чернец Чудова монастыря Гришка Богданов Отрепьев — один человек. Сходство примет, составленных со слов родных, знакомых Гришки — галичан, монахов суздальских, московских, сличение литовских, русских мест и дат освобождало от всяких сомнений.
Нравственный традиционный ум Басманова изнемогал, тщась осознать свой путь, долг — в колотой, нескладной исторической мозаике, но неожиданное, молодое сердце воеводы дышало радостью, когда так думал: все же не сынок безумного тирана и не породистый придворный лис, а свой, бодрый собрат-самородок садится на великорусский престол!.. Хотелось посоветоваться с кем-то умудренным прочно, перевести дух, опершись на прозрачно-преданного, близкого. Но всюду скорые «кроткие» взоры бояр, дьяков, от меха шапок до сафьяна сапог покорившихся и все же не покоренных, либо кичливые по мелочи ляхи…
Со страшным скрежетом решетчатая рама окна вдруг пошла, чубарая конская голова всунулась в горницу. Басманов рванул бешено ящик с пистолями… Вовремя услышал хриповатый голос:
— Лады, Петр Федорович, мы с Кучумом прибыли к тебе на службу, — над конскими ушами показался всадник — атаман Андрей. — Мы так прикинули: у родовитого злодея в погребках, поди, не счесть сулеечек старинной выдержки? Где-то еще такое приведется?.. Нет, мы попробуем Дмитрия оборонить… — и казачок протянул воеводе надежную, слабо дрожащую руку, которую Басманов с чувством сжал.
Тогда донец пощекотал плеткой коня под науздным ремнем, и удивительный Кучум, в свою очередь, подал на пожатие продолговатое копыто — установил стаканчиком на подоконник.
Огромный конь был полон огня. Огонь светил в янтарных пузырьках глаз, дрожал, переливался под прозрачной шкурой в мускулах и сухожилиях, вырывался наружу алыми волнами гривы и хвоста. На хребет полыхающего жеребца попрыгали друг за другом Годуновы: отец, мать и братик царевны — все в хлопчатых нательных рубахах. Жеребец закинул странную, как у индейского удава, голову и безрассудно, радостно захохотал. Ударил белыми от полымя подковами в черную землю и полетел. Вот он — что пляшущий пожар терема невдалеке, вот уже костерок, зовущий из неведомой степи, вот зыбкая теплая свечка…
Вздрогнув, Ксюша открыла глаза: во мраке рядом действительно тлела свеча — прямо из сна, сквозь какое-то марево с привкусом валерианного ладана.
— Маменька… братец… — позвала Ксюша, после огнистых видений еще не овладев всей дневной памятью.
За шандалом со свечкой лизнул вышивку с жемчугом, мигнул на изумрудах ясный отблеск, качнулась бархатная тень: над локтями в парче, над столом поднялась человеческая голова.
— Их нет, они уж умерли… — сказал, подходя мягким шагом к царевниной лавочке, он — монах-оборотень, самозванец.
Ксения мигом опомнилась, вскинулась, удвигалась в ближний угол горенки, перебирая пятками по лавке. Оттуда — глядя страшно над коленками, обтянутыми сарафаном:
— Они не сами умерли, неправда. Ты задушил.
— Я был еще далече. Ваши же бояре расстарались, вот бы кого передушить. Только я дал обет — не умножать скорбь на Руси.
Открыв по голосу Отрепьева, что ей не следовало лжецаревича страшиться изначально, Ксения возненавидела оборотня-друга хуже строжайшего врага. Спрятала выбившуюся прядку за накосник.
— Скорбь, ты не подходи… А вправду ты — Отрепьев? Ты тот монах, что на крещение с ковриком перед моим возком упал? — еще сомневалась в возможностях своей девичьей памяти Ксения.
Инок-расстрига, весь дух которого сладостно вздрогнул, узнав, что для царевны его незабвенна их первая быстрая встреча, уже не мог лицемерить, проникновенно разыгрывать «истинного»… Озирнулся мельком в полутемной, орошенной пресладко и всеми оставленной горнице и тихо, трепетно признал:
— Да, это я… Я шел к тебе с тех самых пор, я взял, освободив от Годуновых, весь наш дикий край… Избавил от родительского ига твою заповедную юность…
Ксюше на миг показалось, что она смотрит какой-то давнишний полузабытый сон, как старина странный, как детство неисповедимый, но понятный.
— А ты спросил… О дикой родине не говорю — меня спросил, любо ли мне с тобой спасаться?
— Вот глупенькая, — удивился ласково Отрепьев, — ты ж за семью печатями сидела. Теперь только пришел и спрашиваю: ты не рада? что-нибудь неправильно?
Ксюша покачнула головой по темной шелковой стене. Издалека, в мечте, герои высоки и благородны, злодеи злобны и мудры — как полагается, но вот приблизился, заговорил такой злодей-герой — сразу стал ближе, меньше и придурковатее.
— Ксюш, мне же самому неловко, что не уследил и всех твоих смели. Совестная оплошка… Но в остальном… — Отрепьев бережно присел на лавку.
— Неуж ради меня затеял все… обман, войну? — Царевна, отведя ресницы, посмотрела мимо рыцаря, куда-то в темень.
Вопрос был тяжел, сложен для Отрепьева. Будь перед ним на месте девушки софист из Гощи, он развернул бы ответ теософемой многохитрого взаимодеяния своих потреб и страстных побуждений, но перед Ксенией он только быстро повторил подсказку вовремя шепнувшего чертенка — твердо кивнул:
— Ради тебя одной, знаешь, желанная…
— Я знаю, ты теперь учен кривить, — одним щелчком отправила черта на место Ксюша. — А и пусть так… пусть псы в собольих шубах не по твоему слову брата и мать извели, ты только шел… Сам мало вытоптал попутно?.. Спасал свое, а сколь насеял бед по деревням — подле нелепых битв? Легче тебе, что они — не мои? — не цари…
Отрепьев в желтоватом полусвете хотел понять глаза Ксении, но та говорила, совсем отворотив лицо, слабым высоким голосом (билась лиловая милая жилка на шее).
— Не счел, легшими душами в нолях, наклад от… нас с тобой-то? А как я приму… горем с позором пополам заплаченную… радость эту, ты подумал?
— Даже не думал, — изумленно ответил Отрепьев. — Я прикидывал так: перейду с гайдуками границу — Русь сдается без боя. Разве жилось кому-то при твоем отце? Малость не рассчитал, а потом на попятный идти поздно было — меня свои уже не отпускали: ты куда, говорят, сукин сын? Вместе кашу заварили, вместе и расхлебывать! — улыбнулся царевич, вспоминая тревоги минувшего.
Ксюша руками покрыла лицо: как немудрящ, различимо мелок, сыт и прост явился человек, кого она так долго почитала дальним светлым другом и в ком повстречала вчера явного подлунного врага.
— Царевна, всяко грешен, — тихонько, чутко придвигался враг. — Ну, не точи ты меня, не сердись. Знаю: меня уж и Бог простил, что в такой кутерьме уберег мою Ксюшу.
Одной рукой Отрепьев свою Ксюшу обнял за плечо, с тем чтобы перстами постепенно захватить нежную часть груди, вторую руку поместил на талии, переступая пальцами все ниже. Тут царевна и увидела: руки расстриги намного умней его слов. От этих рук, из беспечального упорствующего голоса, а не смысла речений Отрепьева в ее усталое издрогшееся тело излилось такое милое тепло, что Ксении пришлось призвать на выручку свою заступницу, святую благоверную княгиню Ксению Тверскую, чтобы тут же не отложить спор со своей лихой судьбой, склонившись в забытьи на грудь удалому лапе-самозванцу.
— Ты можешь взять меня, да тебе владеть недолго, — шепнула быстро Ксюша, встала стремительно, избавившись от затрепетавших оробело рук. Ушла к охваченному гарпиями черному окошку. — Верь, не стану жить возле поруганного счастья ложа…
— Как… Ты в уме ли, царевна? — привстал Отрепьев, покачнувшись, будто дальний окский берег снова пошел из-под ног. — Али в Писании не чла: смертельный грех и помышлять о произволе над жалованной Всевышним тебе со своего плеча плотью! Грех перед Богом, перед собственной одёванной душой!
— Меня простят… — Царевна потянула за нательную цепочку, поцеловала ладанку и крестик. — На что душе тело сие, раз оно, без спроса ее, будет, что враг, приятно тешиться страстью врага души?.. всея Руси блазнителя, врага… — прибавила, чуть помолчав.
Все обещание ее было дано внятно и тихо. Отрепьев, поверив, с умеренным стоном на время убрал руки: одну за спину, вторую за алмазную застежку на груди.
— Какой-то я народный лиходей, а всей страной поддержан, признан лучшим государем!
— Ты ворожил на имени усопшего давно, взбесил и послал в пропасть все стадо. Просто наказал за любознательность и расторопность люд наш… Какова же кара подготовлена для самого Творцом?
Ксюша перекрестилась в полутьме на внешние лампадки ликов площади соборов, словно спросила: отчего она все говорит и говорит с проклятым — корит, оспаривает, вопрошает, когда ей сидеть бы с накрепко сжатыми зубами или ногтями истерзать вражье лицо. То ли царевна намолчалась в своей келье с девкой Сабуровой да боярином Шерефединовым, а то ли что другое, сложное или простое что…
— Вспомни евангельскую притчу, — взворошив кудри, возражал на слово о своем подлоге и Отце Небесном самозванец. — У отца было два сына, он вызвал младшего и попросил его пойти и покормить свиней. Сын обругал старика, отказался, но, выйдя из дома, отправился в хлев и прибрал там и задал животным еды. А отец между тем звал и старшего и повторил со слезами ему просьбу. Именно старший согласился, уверил отца, что мгновенно задаст свиньям — строго исполнит его волю. А покинув дом, быстро прошел мимо хлева, сразу занялся делами корысти своей. Так спрашивается, кто из сыновей исполнил волю отца?.. И не так ли и мы с прежним царем перед Богом Отцом, словно лица сей притчи, будем не по словам судимы? Не так ли и Борис, мир праху батюшки твово, хоть и взошел по уложению Собора на престол, хоть клялся, что разделит с нищими последнюю рубашку, что сделал? Разве накормил, одел? Оголодил только и застудил страну! Не так ли я, начав с обмана… Но такой обман — ничто, пойми — это слова, два слова, имя-отчество, не более… Но с этого дела начнутся, истинные, важные… Разве я только задам корма? Я обновлю, очищу… Ужо воскрешу из Москвы и всю Россию!
— Так вот какой ты! — Повернувшись, Ксения прижалась к холодящим гарпиям спиной, в ее груди, теснясь, боролись улыбка негодования и смех превосходства. — Отец с малых лет в Думе царевой сидел, при Феодоре правил лет десять страной — все же волостям не угодил, не удался на царстве! А этот телепень пришел и все подымет! Держитесь, русские хребты!
— Нет-нет, я — милостью, никаких батогов, казней… — Столкнувшись взглядом с жестко смеркшимися вдруг глазами Ксении, тише добавил: — Марья Григорьевна и Федя не должны были погибнуть, ты же знаешь…
Ксюша ступила несколько шажков по горнице, села, пустив устало руки, перед утаявшей свечкой за стол.
— Ох, царь! Желает одного, рабы вершат иное… Туда же — «милостью»…
— И все же лучший самодержец тот, чьи подданные все решают сами, — мечтательно настаивал Отрепьев. — Другое дело, на Руси пока у самих получается страшновато… Здесь людей воспитать, что ли, надо сначала или откуда-нибудь пригласить… Славно владетелю Польши: всякий боярин, сиречь шляхтич, у него в собственном замке или на привилегированном хуторе — во всем-то он поступит сам по чести и по обычаю Христа… Но дайте срок — не одно только русское панство разумным, вольным сделаю, я дальше немцев и Литвы пойду — приподниму над темной пашней упования крестьян!
— Ба, да здесь всечестной избавитель, — заметила вдруг Ксюша. — А я-то все сижу и жду, кто ж меня освободит?
— О, лада моя, ты свободна с той минуты, как я переступил стены Москвы! — выкликнул жарко самозванец.
— Как хорошо, как жалко, раньше я не знала, — Ксения тут же поднялась, отвесила, с махом руки и кос, поясной скорый поклон. — Когда так, благодарствуйте, прощайте, свет обманный государь, — метнулась, почти побежала к дверям. Но обманный свет опередил, выбросил наискось руку под притолокой.
— Ксения… ты не поняла… — прервал дыхание и не вздохнул снова.
— Так я свободна?
— Ты куда?
— Сие как раз неважно. Я свободна?
— Да, но… там темень, казаки… ты как-то не подумав… ты не подумала еще, а надо подумать… — Отрепьев, раздышавшись, бережно, но цепко тянул Ксюшу обратно, в ее келью. — Может, тебе прислать чего-нибудь… там шапки, знаешь, у полковников литовских страусиные, трубки у польских ротмистров — потянешь, разум кругом идет… Ляхи смешные, знаешь, «пша, пша»… Янек Бучинский — вот мастак легенды сказывать, пришлю?
Ксения поместила перед свечой низанную позолотой круглую подушечку. Присев за стол, щекой прильнула к блесткам тонкой канители, так чтобы смотреть в начинавшийся где-то за гарпиями, над тихими, чем-то счастливыми еще лесами белый свет.
Ехидна и другие
В ранние утренники смутных времен вся Москва просыпалась с первым выкриком кочета, сразу, одним тихим толчком. Но тесовые улицы, торжища и заведения долго стояли под солнцем немы и пусты: горожане сквозь выточки ставень, из-за дворовых оград терпеливо высматривали на стезях отечества знаки новой неясной напасти. Отворяли ворота, ступали по делам наружу, только в полном убеждении, что нищие не рушат рыночные лавки, борясь против очередного царя, и что новый царь не обложил каждое место на торге неслыханным прежде, под стать своим великим замыслам, налогом, и не вошло с рассветом в город еще какое-нибудь свежескликнутое воинство — безденежное, но голодное и смелое. Тогда только, учувствовав в воздухе слобод некую особую опрятность мира, гончар зарывал в солому на телеге витые кубышки, кузнец собирал закаленные сошники, подковы и огнива, а пирожник ставил на грудь дымный лоток перепчей с горохом и грибом. Чуть погодя, вслед за умельцами-дельцами, на базар являлся с невеселым кошелем и покупатель. С ним город, окончательно прокашливаясь и прокрикиваясь, оживал.
Но до того — долгое светлое время — Москва, еще не шевелясь, смотрела и молчала. Одни заутренние голоса колоколов покрывали кособокие посады своими строгими кругами, зыблемыми мирно и ровно, да в перерывах звонов пробудившиеся петушки рассылали друг другу ленивые, как оправдания, вызовы. Редко теперь прихожанин ходил к ранней службе: под чудным гудом сам что-нибудь читал дома, «боясь» и маленькой иконы, зеленовато светящейся в красном углу. И петуха драться с красивым соседом прихожанин тоже больше не пускал; ни гуси, ни куры в смутное время так свободно не ходили.
Порою одинокий всадник по казенному вопросу проносился узким до отчаяния переулком по дощицам мостовой, грозно косясь на заборные углы и повороты. Степеннее шли над рассветной тишиной лишь большие кавалькады, но такие не часто случались. Разве что вот в Китай-городе каждое утро вырастал один тихоходный и мощный отряд.
Рождением своим сей регулярный отряд был обязан указу царевича. Войдя в Москву, выждав несколько дней, помыслив собственным и приближенными умами, Дмитрий пока направил быт палат в проторенное русло. Отвечая слезной просьбе всея Думы бояр допускать их, как в прежние милые лета, наутро к царевой деснице, Дмитрий мило смягчился — вновь присудил знати блюсти свой обряд.
Упрежденные указом с вечера, вельможи, большей частью проживавшие в Китае, съехались во втором по восходу часу в начале Мокринского переулка. Прежде было не так — каждый к Кремлю подъезжал со своей улицы: не отпускал последнюю дремоту, развалясь в прекрасной колымаге или меховых санях, даже и сквозь сон надменничая всей душою, похваляясь пред всем светом богатым своим храпом над раззолоченным задком возка. Ноне не то: самый пожилой и грузный вышел просто — конно, взяв с собой лучших, крепеньких, слуг.
Ждали знатнейших, елозили, робея, в мелких польских седлах. Хотя все предпочитали татарские, для такого дня у каждого почти нашлось и польское седло. Наконец прибыл старший князь Шуйский, и все боярство зачмокало на коников, благородная сотня пошла с нежным трезвоном: то серебряные дробинки катались в полых шарах наборной сбруи от удил до хвоста. По сторонам тропы рос и рысил навстречу темный частокол, за ним — целые городки княжьих, боярских усадеб, ометаемые вольными садами. Иные яблони беспечно выпускали за ограду свои ветви и в вышине здоровались с такими же, навстречу протянутыми через улицу трепетными лапами соседок. Бояре-путники невольно пригибались под такими арками. Осенью, при немочном царе, те же деревья плелись согбенно, устало плодонося, или зимой, при дрожащем царстве — то попрыгивали скорченно, то стлались неживы. А в мае вот, при государе молодом, летели ветви, нависая, широко, опасно, листики шептались легко и настороженно.
Те, впрочем, бояре, что передались Дмитрию еще под Кромами, смотрели вперед увереннее, те же, что драпанули от Кром в Москву и сдались только в Москве, ехали более бессмысленно. Эти последние теперь двигались впереди, стремясь первыми быть пред государевы очи. А те, первые, были не против — так им сзади легче присторожить от лихого подвоха сиих ненадежных, последних. Спереди всех ехал древний, сдавшийся только при самом конце, князь Василий Шуйский. Сегодня праздновался день его ангела, и князь Василий, по обычаю, вез государю маковый горячий каравай.
Минуя нежилой терем Басмановых с открытым резным гульбищем над повалушей[127], конники вздрогнули. С времени въезда царя этот двор пустовал — воевода Петр Федорович обретался в Кремле, перевел туда и челядь, и родных, но сейчас и в разинутых воротах ограды, и сбоку в Зажорном тупике мялись вооруженные ляхи верхом, спросонья недовольными под козырьками глазками встретившие едущих бояр. Едва знать с кроткой мелодией поводных цепок проследовала, гусарская колонна, выдвигаясь на Темлячную одним плечом, пошла следом.
— То — ничто. То нам — так, стража, — тихо приободряли друг дружку князья. — Слуги царевича-батюшки сами страшатся пока каверзных нас!
Уже виделась Лобная кочка на площади перед стеной, когда приметили за собою еще двух чутких караульщиков. Петр Басманов, в коротком кафтане внакидку — охабень в рисунке перьями, теребя орошенную бирюзой рукоять шашки, молча сидел на моргающем меринке. Рядом — чернявый казачок, на небольшом рысаке.
Нашептывая в бороды молитвы, подъехали бояре к башенным вратам Кремля. Там встретили их ротмистр Борша и меньшой Голицын с украинскими стрельцами, сказали оставить у входа в цареву обитель оружную челядь и здесь же сложить все до кинжала с себя.
— Неуж нам не ведомо? — улыбались бояре, передавая рабам свои игрушки в ножнах, так обложенных каменьями, что каждая вещь казалась одним сколком с былинной чудесной горы. — Только у вас в Польше и рабы, и рыцари при всех мечах заходят к королю. У нас это, запомни, в обычай не принято. Да, брат, у нас не так.
— Однако ж наши государи живут дольше, — небрежно отвечал Борша, взором разыскивая, не оставят ли вельможи при себе чего-нибудь?
Возле зданий Кормового, Сытного приказов пеших бояр и украинцев обогнало несколько жолнеров с легкими мушкетами.
— Пся крев, панове! — заорал вдруг на них Борша на польском. — Так-то вы храните принца! — и зашипел, опомнясь, косясь на бояр. — Я ж вас с вечера уставил под правым ганком[128]!
Жолнеры, забранясь на том же языке, прибавили шагу и вскоре во главе процессии достигли старого двора Ивана Грозного, облюбованного Дмитрием, побрезговавшим или посовестившимся Борисовых палат. Борше, первым забежавшему под шатер древней приемной для утренних бояр, блеснуло тусклое бельмо замка на скобах.
— Хоть, уходя, дворец замкнули, черти, — похвалил нехотя ротмистр часовых солдат. — Живей, Шафранец, отпирай!
— Уволь, пане, я-то при чем? — ответил старший караульный. — Это Дмитрий навесил замок.
— Как — Дмитрий? Когда? — Борша дал кулаком по витому столбику. — Где ж царевич теперь?
— Тебя надо пытать, мы-то спали.
— Застрелю поросят! Пойти спать с поста! — взревел шепотом Борша, чтоб не посвятить русских бояр во внутренние неурядицы царева войска польского.
— Да нас Дмитрий сам подремать отпустил! — вскричал Шафранец так, как может крикнуть только правый, которого нельзя казнить. — Он с вечера еще заместо нас замок поставил и куда-то вышел!
Борша, Голицын и московские князья испуганно переглянулись. Ротмистр, махнув через перила, побежал вкруг терема — с лицевой стороны узнавать, чья это блажь, что еще за рокировки с царем? Воротился скоро, какой-то спокойный и кислый, пояснил, отворачиваясь от тревожно пристывших бояр: уехал в Занеглименье на раннюю прогулку. Сейчас, кажется, будет.
И тут опытный Шуйский улыбнулся и открыл именинный пирог. Оборотившись по его дальнозоркому прищуру, все увидели Дмитрия. Царевич поспешал, перепинаясь, потирая клейкие неотдохнувшие глаза. Но шагал он не от Боровицких ворот, откуда все уже его ждали с прогулки, напротив: вдоль стен патриаршего дома пробирался со стороны ныне пустующих, грабленых летних хороминок — тех самых, в которых несла теперь Аксения Борисовна свой темный крест. Князья потупились, прикрылись брячинами век, взялись обследовать тиснение сафьяновых носков своих сапог и устроение мостовой под сапогами. Лишь самые рисковые вскользь переглянулись, вздохнули коротенько и печально…
За государем вился вечный его польский хвостик — Ян Бучинский, над царским плечиком нашептывал худое, непочетно пялясь на бояр. Дмитрий вынул на ходу, стал разбирать на обруче ключи.
Московские князья, приняв гордые столбунцы-шапки, нежно подломились где-то в общем поясе: стали на мостовой лагерем покатых шатров. Князь Шуйский тоже с натугой пригнулся с пирогом к камням.
Государь долго тискал, царапал ключами замок.
— Димитр, дай-ка я, встрень ты московское панство… — подсказывал, перекрывая сзади свет, Бучинский.
— Да подожди, Ян… Ты не знаешь тут который… сам сейчас… — все ковырялся Дмитрий возле кованых дверей.
Бояре, выпрямившись, все удачливее перемигивались: мол, и смех, и грех, вот-тыц, единодержец… А? Нет, ничего, — спохватясь, внезапно воздыхали — тужим вот: как батюшке-то не хватает своей русской придворной руки. То ли дело было — стольников-то, стряпчих… И немногие только заметили: невдалеке, на углу Аптечного, обсаженного елочкой и ясенем, приказа, остановились два знакомых чутких всадника — Басманов и казачий атаман, — даже в виду царских хором не сошли с седел, при входе в Кремль не отстегнули сабелек.
— Сейчас, панове… то есть эти… Сейчас, детушки мои, — кричал смурной неспавший Дмитрий, упорствуя на крыльце. — Не все успел в потребный вид привесть в наследном государстве… Ржавчины у вас всегда изрядно…
Наездники, стоявшие под ясенями, вдруг подали вперед коней — буланый меринок Басманова повлекся ухабистой рысью, но казак, откинув поводом назад голову своего чубарого, ткнув внизу пятками, четко уравновесил коня — поднял в легкий показной галоп. И копыта его рысака били звонче, и, подскакав к князьям, встал как выкованный, поспев раньше булана Басманова, чуть не взлетевшего по бархату дворцового крыльца. Басманов, спрыгнув с коня, встал на колени:
— Государь! Хоть и не вели слова молвить, только уж вели казнить!
— Здоров, Петр Федорович! — оглянулся царевич. — Нет, всё одно велю назвать сперва-то. Ну, ну, не сиди на земле. Кого порешить-то решил?..
— Молвить горько! — встал Басманов, тряхнул пыль с кафтанных цветов. — Самому страх совестно, батюшка, как скоро оправдал я свою службу. Ведь сыскал главного татя твово!
Вокруг будто похолодало и притихло.
— Ладно… Что ты прямо, воевода, с солнцем всполошился… При всей братии… мы потом поговорим, — тихо ступил царевич несколько шагов с крыльца.
— Государь, опосля поздно будет! — нарочито воскликнул Басманов. — Или вели меня казнить, или уж слово молвлю: сокрытую вражину отворю!
Бучинский выступил вперед, мигнув украинцам и жолнерам с мушкетами:
— Так, воевода. Назови, кого наметил. Кто крамоле голова?
Петр Федорович вдруг остановился с приотверстым сухим ртом. Что-то, оказывается, еще мешало: самой природой ставленный упругий заслон в горле не пускал на свет доносные конечные слова.
Тогда казачий атаман, тоже сошедший с коня, подошел прямо к Василию Шуйскому и руками поочередно с боков вдарил ему по ушам. Шуйский, торопя ноги, слетал направо-лево, — запнувшись, выронил калач и захмелел. Сдобный хлеб казак подкинул носком сапожка-ичиги к своему коню. Чубарый понюхал и осторожно вкусил. Атаман мягко подошел к нему.
Пожевав хлеб, Кучум вдруг заплел ноги и, подогнув передние колена, тихо лег — прижал тоскующую шею к мостовой.
Бояре остолбели белокаменно.
— Зрите ли, какими плюшками царь потчуется? — странно хохотнул Басманов. — Кони дохнут!
Корела, сам упав, налег на круп коня — обнял, лаская ему шею и холку, как будто утешая в смерти друга. Один Басманов знал — казак упрашивает полежать еще немного своего смышленого ученика.
Старик Шуйский накрепко был сжат опомнившейся стражей.
— Как так, Василий-ста? — подошел Дмитрий к выявленному крамольнику. — Ты ж клялся — полюбил меня?
Но князь стоял, ошеломленный происшествием, не собрав еще слоги в слова.
— Может быть, есть у тебя защитники или поручители? — с малой надеждой спросил Дмитрий.
— Есть, ась? — круто оборотился к вельможному ряду Басманов, поскакал цепким оком по глухим, мшисто-тонким обличьям бояр. Знатный строй, как один человек, откачнулся назад.
— Раз так, ступай за мной смелее, княже! — заключил Басманов. — Свет ты мой, Василий Иоаннович, с днем ангела тебя!
Кое-как возвестил начало первого послеобеденного часа дальний петух.
Отрепьев указал задернуть плотную парчу на окнах Набережной комнаты и, падая в глубины перин, выплеснул над ними добрым жестом — «с берега всем вон!». Пусть думают окольничие да постельничие — старшие бояре — государя их после великого обеда, по стародавнему закону, унес теплый сон. Так будет у них, у бояр, на душе потеплее-полегче. К чему знать им, что владетель их по полудням тайно не спит. Над тихой водой полдней, куда окунуто белое тело его, бодрствуют волны, расходятся, пересекаясь, круги… К чему служилому князю, сытому до неблагозвучия, зря вздрагивать и холодеть до срока? (Ведь что может быть страшней для подчиненной блудо-глупости, чем замерцавшая над ней во лбу властителя неведомая мысль?)
Но прежде чем поразмышлять в тишине о человечьих делах, хотелось, глаза полузакрыв, отдохнуть. Еще раз насладиться-ужаснуться своей царской высотой — жданной и страшенной. Только своей — как смерть. Пригубить — с неподвижного, одетого живою пеной жизней края — владычество свое и одиночество.
Государь, уже поныривающий в теплую сласть сна, вскинулся вдруг: что бишь? Ни людей, ни мыслей нет, но… Все их теребление здесь — пеленой на сердце… Одиночество? Нет его. И причем нет в помине. Ни услады, ни пропасти! Что за дела воровские?!
Пронизанная канительным золотом парча струилась поперек оконниц, но от себя не пускала и на вершок света. Лишь несколько солнечных лучиков — толщиной в волос — пересекало палату. Отрепьев вдруг сообразил, что эти лучики берут начало не в оконных занавесях, а идут они от боковых, обитых замшей стен. Живо снявшись с лежала, прошел по светящейся нити. Тронул точку-звездочку пальцем и повернул, не чая, набок шляпку ложного гвоздя. Луч распушился. Царь приник к его истоку, и тут же увидел затылок и часть спины Яна Бучинского в трех шагах перед собой. То был секретный «государев зрак», глядящий на Прихожую палату.
Перед Бучинским стояли лицом дьяк Сутупов, дворянин Шерефединов, сзади виднелся Мосальский и еще дергалось чье-то плечо, чье — «зрачок» уже не разбирал. Отрепьев приложило я и ухом к отверстию.
— Яня, не хошь рубинов, так прими хочь альмадин! — увещевал Бучинского Сутупов.
Отрепьев поморщился и прошел дальше по замшевой стенке — поискать в ней еще «лишних глаз» и «ушей». Скоро ему повезло: перебирая бронзовые гвоздики, прикрепляющие кожу, он свернул еще шляпку. Из-под нее скользнул такой же теплый лучик, обновил ход, выводящий царский глаз в Ответную залу.
Отцы Чижевский и Лавицкий в черных, подбитых пурпурным виссоном мантиях восседали там.
— Фратер наш, — говорил иезуит Лавицкий бородачу, в русской рясе сидевшему против него, — бы было хорошо, полезно вам… эм… — Взором привлекая к делу и товарища: —…Personaliter et pro publico bono…
— Надо бы и вам, для вас же, и за-ради блага общества московского, — переводил Чижевский, знающий чуть ли не весь русский язык, — признать верховную власть папы, а над ним и нашего Господа истинного перенять.
— Нет и нет, — подождав немного, весело отзывался бородач, — я православный.
Судя по его виду, отказывал ксендзам он окончательно, выговаривал весомо и привольно, но по-прежнему дружески и выжидающе на них помаргивал, не вставал и никуда не уходил.
— Этто оччень хорошо, что вы православны, — вновь зачинал терпеливый Лавицкий, — но куда лучше было бы, если бы вы приняли Бога истинного…
Московит вдруг ясно взглянул в глаза иезуиту, хуже умевшему по-русски.
— Наша народная proverbium[129] гласит, — рек поп. — Prima caritas ab ego![130] — и ласково огладил ворот родной рясы — пестрой от греческих крестиков под бородой.
Капелланы отворили рты, проглотив вдруг по юркому кусочку милой латыни, коей неожиданно почтил их pater-barbarus[131].
«Знай наших! Умник — владыко Игнатий!» — за стенкой умилился русский царь.
Сей бойкий иерей и впрямь третий день уже как состоял московским патриархом. Старого первосвятителя — Иова давно вывезли прочь из Кремля, простым монахом возвратили Старицкому дальнему монастырю — тому самому, в котором первый патриарх Руси начал некогда свой иноческий путь. Сам виноват — до последнего мига упрямился, Гришку уличал как одержимый… Отрепьев даже глянуть на былого благодетеля не захотел, знал — ни к чему все равно это. Не то чтобы уж как-то стыдно или страшно было, а так, ни к чему.
При виде царственного чернеца-писаки своего, как знать, вдруг по дури стал бы вспучивать глаза и поливать выношенного на своей груди дракона-самозванца столь неистово, что — черт знает — поселил бы сомнение и в приближенных плотно к Дмитрию сердцах. Иова увезли в Старицу, когда царевич переминался еще под Москвой.
Пришла нуждишка в новом патриархе. Иезуиты было встрепенулись: мол, владыко на Руси — изобретение Борисово, доселе митрополия Московская, кладя поклоны падающей Византии, не дерзала ставить над собой родных владык. А Дмитрий бился супротив Бориса, стало быть, и против всех его тиранств, не исключая православных патриархов. Да к тому же обещался королю и воеводе Мнишку перевесть Русь твердой поступью в католицизм, для этого ведь патриарх не надобен, а папы римского достаточно вполне.
Дмитрий посоветовался с другом арианином Бучинским, со знающими дьяками, боярами, думающими рядом верой-правдой со времени путивльского кремля, и так ответствовал ксендзам: вводить народы в сферы иных вер надо тихонечко, не торопя и не поря. Дмитрий сам царит на Москве без году неделя. И ту торжественную малость, коей жива была и под Годуновым церковь и народная душа, вдруг попрать — глупо. Напротив: патриарх, помимо общей пользы, коли поставить своего осмысленного человека, сможет со временем — примером и указом — спровадить Русь духовным маршем в Ватикан!.. Что же касательно большого поспешания, обещанного в харатейках Мнишку, так воевода сандомирский сам много чего обещался, а сам из-под южного Новгорода убежал.
Иезуиты вынуждены были придержать уносливых коней миссионерского азарта. Дмитрия же, наоборот, разохотил священский вопрос. Загорелось поставить владыку могучей учености, дабы ходил бодрым наставником, зрячим поводырем паствы всей.
Призвав на патриарший двор высших московских святителей, Дмитрий, Ян Бучинский и начитанный полуполковник Иваницкий стали испытывать в новейшей мудрости волнующихся иереев. На первый же предложенный царем вопрос ответом было жесткое усилие морщин и — следом — величественное молчание. Быстро перешепнувшись с помощниками, государь-экзаменатор милостиво разрешил ответчикам воспользоваться книгами. Расслабившись, отцы завздыхали свободнее, им подали на выбор коробы-тома из государственной библиотеки. Отрепьев знал: по выбранным из книги человеком положениям тоже можно судить о господстве разумения или дури в нем.
Многие сразу похватали милые, памятные по расписной обложке Азбуковники и завращали с ветром пестрые страницы.
— Я так и думал, — нашел ответ первым низенький архиепископ Тульский, — только своими словесами было боязно сказать. Вот кабы ты, мила надежа, нас из постной триоди али из Апостола спросил — мы б тебе отстучали, языками не преткнувшись… По нам — мирское суемудрие сим вызубренным на всю вечность знакам не чета.
Из памяти Отрепьева — обдутым уголком запыленного лубка — проглянула картинка: за обедней плачущий архиерей корит Бориса Годунова за призыв в Россию иноземных лекарей и офицеров.
— Следы апостолов, конечно, много выше теософий светских, — ответил примирительно, но с вкрадчивым нажимом туляку Отрепьев. Нечаянно он теперь облекал своей плотью нежные приемы старого царя. — Но, обожаемый отец, по следу их видать: апостолы ходили неучами по земле — в начале исчисления, давно очень… А нам с вами сегодня — аж в семнадцатом столетии! — перед нажившим горы ума миром бы не оплошать.
— Богомерзок пред Богом всяк любляяй геометрию, — сообщил дородный, в повитых мелким бесом косицах святитель, кажется не открывавший взятых книг.
— Никто и не понудит вас ни инженерией, ни геометрией, — чуть раздражился царь. — Я спрашиваю самые азы.
Тульский архиепископ, раскрыв свой Требник, наконец стал отвечать.
— Земля получила начало от вод, через все большее и большее сгущение. В ее середку помещен огонь, сиречь геенна — мучение, под водою — черный воздух, под воздухом — тартар-адис, тёмность смрадная…
— Не может быть… — Ян Бунинский забрал у епископа книгу и перечел об угрюмой Земле. Дмитрий обнял голову руками — печально помычал (но сам развеселился в тайной глубине: всего-то года два назад сам тешил в Гоще кафедру социниан страстями по «Индикополову», а теперь смеялся преспокойно над теми, кого Русь «от юности своея» чтит чудо-мудрецами).
Кудрявый протопоп, не признающий геометрии, зыркнул вполглаза в книжицу, придерживаемую в опущенной руке (книжка оказалась заложена его пальцем на какой-то красочной картинке), и огласил свое понятие Вселенной:
— Сей мир есть облиян вонданским морем, в нем же земля плавает, яко желток в яйце, но не может двинутися, понеже ни на чем стоит!
— Ну, спаси ее Бог! — Дмитрий поблагодарил протопопа и прошел было к очередному докладчику, как Бучинский, взявший на осмотр и это сочинение, воскликнул:
— А ведь добрая книга, великий Димитр. Глянь, просто святой отец рисунок не так понял.
Советник показал царю страницу с точной астрономической схемой: действительно, желтки плывут в «вонданских» расходящихся кругах.
Отрепьев обратил «Вселенную» лицом к священству:
— Прояснит ли кто сию парсуну мира?
Под непонятливым, жалобным взором царя духовные начали жмуриться и расступаться.
— Не знать о редких умах собственной отчизны, царь Димитр, им вовсе стыдно, — заметил вполголоса Бучинский. — Взгляни: главы кириллицей тиснуты и писал какой-то ваш Иван.
Тем временем еще ряд отвечающих, с шуршанием и царапаньем жемчужных трав на рукавах и полах, отступил, и экзаменаторы узрели кое-что сокрытое дотоле. Два самых дородных епископа за руки держали одного — менее плотного, но необъятно бородатого. Они его же бородой и книгой плотно зажимали ему рот. Заметив, что открыты, богатыри засмущались и ослобонили собрата.
— …И не какой-то Иван, а преподобный, — в тот же миг заговорил бородач, по видимости отвечая Бучинскому и как бы в пику ему заостряя ответ. — Преподобный болгарский экзарх Иоанн. А по незнанию вашему, великолепный пан, следует заключить, что не всегда милей увлечься собственным умом, нежели не пренебречь великим чужеземным.
Бучинский ошалело заморгал. Бородач крякнул и, не дав поляку времени распутать безделушку силлогизма, продолжал:
— А, в-третьих, ежели угодно государю моему беседовать о сей геоцентрической системе, проповеданной экзархом Иоанном, — кивнул он на страницу, заданную всем, — то нечего скорее соизволить…
И архиерей прочел короткий Птолемеев курс. На основании лунных фаз он доказал шарообразность Земли и по сродству придал ту же форму Луне, Солнцу и звездам, затем он сопоставил высоту приливных волн морей с высотой шара Луны над земным горизонтом, а закруглил свой ответ точным расчетом сквозной толщи шара Земли, получившейся около девяти тысяч верст.
Отрепьев нежно поедал священника очами.
— Архиепископ Игнатий, рязанский, — полушепотом напомнил Ян. — Еще когда под Серпуховом мы стояли, уже признать-поздравить приезжал…
Впрочем, Ян все же желал показать, что хоть Игнатий и великий человек, но до польской учености самого Яна даже ему как до светлого шара Луны, и заметил громче, кивнув над крестом рук на груди Игнатию:
— Склоняюсь низко, святый отче, перед полною света главою твоей, и, думается, государь простит тебе ничтожную неточность: что не Солнце катится кругом Земли, а, как учит новейший космолог Микола Коперник, как раз Земля обходит караулом Солнце!
— Коперник? — зафыркал Игнатий. — Знать, сородич твой, поляк? Небось такой же хвастун, как и ты?
— Помолчи уж немного, отец! — вспылил Бучинский. — Ну скажи: при чем здесь похвальба. Коперник доказал все строго! Ты и моргнуть не успеешь, по всея Европе прострется мысль его!
— И века не пройдет, — каверзно предположил Игнатий.
— Будет вам, — прервал ученый спор царь, подошел к Игнатию и расцеловал, оцарапавшись его бурлящей бородой. — Отколь родом ты, отче, такой золотой?
Святитель вздохнул:
— Ох, и рад бы подольститься, государь, соврать, что из твоей крепостной деревеньки, да нельзя… С острова Кипру мы, — слегка потупился Игнатий. — Но жил там недолго. Больше странствовал, лучами чувств щупал Богом подаренный мир. Одолевал языки благословенных и умных племен — иудейский и латинский, древнегреческий и древнерусский… На Руси при твоем брате, надежа, царе Федоре Рюрикове ставлен над епархией Рязанской…
— При Годунове-управителе он выдвинулся, — прошелестела сзади чья-то ябеда, — при Годунове!
Епископ Игнатий повел бровью, повторил мягче и тверже:
— При царе Феодоре Иоанновиче.
— Что ж, Священный собор, — обратился Отрепьев ко всем, — сам видишь, кого из тебя благодать разумения облюбовала. Знаю, знаю, все — достойные, подвигами благочестия все ломаные, но прошу и мне внять — не великий старец и слепец, каким был прежний Иов, нынче надобен. Мне надобен в отцы, а вам в учители зрячий вдаль человек! А посему… — возвысил голос государь.
Тут из строя духовенства выбился волнующийся молодой игумен.
— Государь православный, надежа, попытай и меня, — выкликнул он, — я тоже зрить здоров — версты не доезжая, в монастырском стаде всех бычков и телочек сочту!
— Если так, — посуровел царь, — глянь мне вдаль: какие звери ходят в Африке?
Отрепьев ясно помнил, как срезался сам на животном мире Индии — мактиторах и саламандрах, и приготовился хохотать сам.
Архимандрит сощурился изо всех сил и стал читать по «Индикополову», раскрытому тайно товарищем за спиной царя:
— По Африке идет… «единорог, таков есть утварью яко кобыла, имат един рог, иже есть четырех ступеней, есть светел и сечет, как меч. И вельми то животное грозно есть: всех противящихся ему истязает рогом своим…»
Архимандрит прервался — проморгаться и перевести дыхание — и сразу услыхал хихикающих умников.
— Нет, это ты, святой отец, пальцем в небо — а там одно поветрие побасенное! Нет в свете существ с передним благородным рогом! Им и не бывать и присно, и вовеки!..
Разумного царя кто-то уверенно потрогал склоненным челом за рукав — это епископ Игнатий был еще рядом, выпрямился, улыбался:
— А вот и есть, мила надежа-государь! Зверь носорог пасется в Африке — бычун! Правду мой брат молвил.
Бучинский и полуполковник Иваницкий подтвердили нехотя реальность зверя.
Архимандрит благодарно взглянул на Игнатия и приосанился.
— Хорошо, продолжай, еще кто там водится? — указал ему уже серьезно царь. — Да не заглядывай за плечи мне — там наш север, а не африканский юг. Не труди глазки, сокол, по чести и по памяти ответствуй.
Игумен порозовел, зажмурился уже для памяти:
— Тамо же есть… в воде глисты… сиречь черви, имеющие две руци, аки человеки… есть длиной в сажень и в локоть, толь сильны — елефанта поймая, влечет в воду и истлевает!
Отрепьев собрался захохотать, а Игнатий опять тронул его:
— И таковые на плаву. Это же аллигаторы.
— А у вас в Рязани и грибы с глазами есть? — не сдержался царь. Тише добавил — Игнатию только: — Што ты дури норовишь? Сам не желаешь в патриархи?
— Ох, желаю! — признался в бороду Игнатий. — Но вот я, батюшка, шепну тебе, только худом уж меня не вспоминай: всяк остросмыслый муж суть алхимист душ человеческих. То есть он ищет способов говно врагов в золотинки друзей обращать…
Минуло дня три с того утра, как Священным собором был избран патриархом Руси ахеянин Игнатий — и восхищение царя бесценной залежью познаний, и филигранной отточкой суждений нового владыки возросло самое меньшее втрое. Но вместе с восторгом прибывала и неясная тревога, несильная, но увлекающая, как костное нытье. Не успевшие преобразиться в друзей, недоброжелатели Игнатия царю рассказали, что грек страстно пьет.
— Нет, с этим все! — сразу ответил Игнатий на грустный вопрос Дмитрия. — В епископах попивал, греха не потаю, а ноне — нет и нет!.. Да чего лопал прежде? Знал: тутошние отцы выше епископа все одно эллину не дадут подняться! А sed alia tempora[132] теперь, совсем другая fata[133]!..
— Смотри, Игнат, — покачал царь головой, — опять не заскучай. Выше ведь патриарха я тебе дать росту тоже не смогу. Разве когда Европу покорю, на место папы римского?
— Не заскучаю, даже не тревожься, Мить, — успокаивал патриарх. — То я во мгле рязанской прозябал, а ныне ежесуточно вкушаю просвещенную беседу моего царя либо его свободных разумением ксендзов, полковников и капитанов!
Отрепьев подумал, что общение с польскими капитанами тоже не самый прямой путь к благочестию и трезвости, и намекнул о том Игнатию.
— Мы же бочек с пенником не разбиваем, — оправдался свободно Игнатий, — так, цедим фряжское или романское…
— Владыко, с легоньких винишек-то надежнее спьянишься богомерзки! — остерег знающе царь и вдруг различил, не зрением, а только чуть дрогнувшим чувством, за непроницаемой бородой грека улыбку спокойного, тонкого высокомерия.
— Мой корпус совсем одебил[134], государь, — брякнул грек на обрусевшем просторечии латыни, с интонацией оставившего все надежды лекаря. — Хмель же и расширит, и смягчит во человеце телесный сосуд, таков уж способ действия природы — в нем же несть греха.
«Как ловко выворачивается сей всезнайка, а я…» — хотел подумать государь, но только взял благословение, выходя от патриарха: махнул рукой.
Только в полутемной комнате, то ли поймавшей солнце за леску из чистого золота, то ли влекомой этой леской в высоту, в теплынный плен, государь увидел: один мерцающий, сходящийся под верх кубок ужасно похож на его архиерея… Но не понял, чем и как?
Да нет, досадная тревога была не в том, силен ли выпить новый патриарх… Но в чем же?
Отрепьев выбрал бархатные кисточки из петель ворота, вздохнул поглубже, наделяя воздухом и кровью медленно задумывающееся сердце. В груди немного прояснилось, мысли же совсем отошли, и над сердцем… проступил зачем-то лик приходского галичского дьячка — из бескрайнего и царственного края детства.
В конце ноября, когда Юшке Отрепьеву стало семь лет, призванный отцом в избу священник отслужил покровителю мысли, святому Науму, молебен и полил голову мальчика, как слабый саженец, прохладною водой. Вслед за священником в избу вошел и сам учитель, дьячок той же церкви. Отец поклонился ему, а мать, подводя сыночка Юрочку, запричитала, промокая кончиками ситцевого плата страшные — от ожидания сыну всех скорбей — глаза. Отец горячо попросил учителя за леность учащать побои Юрию и совсем передал ему ученика. Но дьячок сам улыбнулся Юшке ищуще и ласково. Юшка, забыв сразу об опаске и волнении, смело встал на колени, трижды, как мать с отцом велели, бесстучно лбом коснулся иола, потом учитель трижды же мазнул его небольно плеткой по спине. Так открылось «книжное научение». Учитель раскрыл азбуку и начал с «аза». Мать заголосила пуще, умоляя дьячка не уморить сына. Юшка, опять начиная робеть, заодно с матерью, протянул — котенком со строгой пчелой на хвосте — вслед за дьячком: «а-а-а-ззз», и по настоянию его отыскал еще три «аза» в той же книге. Тогда учитель погладил его по голове, встал и важно объявил, что первый урок кончился. На другой день Юшка так отчаянно и чутко ждал первого своего учителя со вторым уроком, что жажды этой, казалось, могло бы хватить на изучение всех ведомых земле азов — во все божий дни, вплоть до дня последнего.
Уже первого декабря Юшка понесся, не оглянувшись на заплаканную маму, в школу. Едва отдышась, сел там на краешек лавки, упер ногу в стену и, резко ее распрямив, смел с ученической скамьи раньше вошедших и рассевшихся ровесников. Быстро и крепко уселся к месту наставника ближе всех. Вошедший дьячок всех благословил и, занимая свой стол, подсадил на колени себе двух самых щупленьких учеников, выжитых со скамьи нагрянувшим Отрепьевым. В продолжение занятия преподаватель несколько раз легонько дул в светлые макушки маленьких, и золотая легкая волна прокатывалась у тех по головам, и вместе, наставник и все дети, тихо смеялись.
— …Обскажу-тка я вам, — говорил наставник средь занятия, — отчего зачалось Солнце красное, отчего зачались ветры буйные, отчего зачался у нас белый свет. — И обсказывал: — А Солнце наше красное — от лица Божьего, самого Христа царя небесного, млад светел месяц — от грудей его отца. А зори ясные — от ризы мамы Боговой, а ветры буйные — от Святаго Духа…
Дети молчали — по-разному заворожась, всё понимая.
После кремлевского тихого часа в палату с докладом вошел ближний «сенат». Услышав его мягкий шаг, царь быстро погасил на стенках потайные лучики и снял бесшумно сапоги.
— Вести из Сыскного дома, царь Димитр, — начал Бучинский, раздвигая парчовые занавеси. — Князь Василий признал все, что было угодно Басманову. Младшие братья его поломались, поспорили было на дыбе, но тоже винятся сейчас…
— Что ж Петр Федорович отчитаться сам не подошел? — перебил Отрепьев, ловя ногами сапоги. Сутупов-дьяк прыгнул на корточки, ловко проволок по царской ножке тимовое голенище, причем отвечая:
— Басманов завтра отчитается, отец мой. На своем подворье он… Отходит после пытки.
Отрепьев в удивлении скосился на моргающего виновато из-под клюквенного сапожка Сутупова: ох, надо бы возможно скорей разыскать замену главе сыска, сохранив за Басмановым только Стрелецкий приказ.
Полковник Дворжецкий, готовя свое, извлек тем временем из кошелька несколько небольших, но благородно блестящих предметов.
— Эти реликвии двора, сколько могу судить по гербовым насечкам, — пошел он почеканивать, как дошла до него очередь, — были предложены мне русским неброским человеком сегодня на торгу. Московит сразу же препровожден мною за холку в злобный дом…
— Разбойный приказ? — переспросил дьяк Сутупов.
— Дзенкуе, точно так. Судя также по закупкам моих жолнеров, гуляют по базарам и вещицы поважнее. Изумрудные кадила, а по виду русские уменьшенные храмы, лаковые лебеди-ковши, ковровы травы — тканые… Зная, очевидно, что мои поляки от государя получили за поход кое-какие суммы, московиты, грабившие по дворцам при низложении тиранов, и сбагривают всё моим…
Царь покрутил в руках поданные Дворжецким золоченые братинки с гербами на днищах — двуглавыми орлами в узорных кругах, в росе речного жемчуга и ягодах-лалах снаружи. Взял — чуть не уронил, сжал дрогнувшей щепоткой панагию из двухслойного агата с резаным распятием, знакомую до страха и хохота где-то в пустоте души. Он повернул камею панагии оборотной стороной, чего никак не мог, будучи чудовским дьяконом, и прочитал: «Царем Федором Иоанновичем и царицей Ириною возложена 26 януария 1589 лета на патриарха Руси перваго Иова, в день поставленья его».
Дьяк Власьев и служилый князь Рубец-Мосальский, советники из ближней Думы, кисло переглянулись за спиной Дворжецкого. Ухмылкой вознегодовал Бучинский: вот ядовитый чистоплюй, выбрал же время благородно доносить царю на его подданных и на свое же войско. Начни чистить сейчас по базарам, возвращать вещи в казну — только смутишь самых легких на подъем московлян, тех самых, чьими рьяными глотками и твердыми пинками трон Годуновых был наказан окончательно и ниц уронена перед царевичем Москва. Ну, сунул такой гневный мещанин в штаны кремлевскую братинку или наутилус, так ведь он животом за нового царя рисковал. К тому же не расчел в запале, что у нового крадет, — хватал-то у проклятых Годуновых. Да ладно, русская казна не захиреет, по высоким башням да глубоким погребкам, по тайникам соборов, добра долго не избыть… И то же, если проверять покупки у поляков. Можно рыцарство не в шутку огорчить.
— Замечу пану, обрушиться на виноватого легче всего, — заслонил Дмитрия от щепетильного воина первым Бучинский. — А поставьте так: какой цивильный властелин препятствует обогащению собственных граждан? Уже известно, чем состоятельней податной смерд, тем богаче и его хозяин.
— Я — жолнер, пане, а не эконом, — выпучил глаза Дворжецкий, — и никак не разберу, много ли разживется государство оттого, что у него крадут?!
— Сметливый и проворный человек, — отвечал полковнику Бучинский, при этом оборачиваясь поочередно ко всем, — каковы большинство людей простого звания, пустит сразу же злотые в дело, шире развернет свой торг, и государь, взыскуя подати с прохвоста, вернет потерю не один раз. А то какой-нибудь рубиновый черпак или брелок ползалы озаряет зря, ждет, когда владетель зайдет причаститься от него разок в году или отправит в честь каких-нибудь крестин дальнему брату-королю даром.
Советники погукивали по-совиному в согласии, но все не размыкал серебряные брови над чистотой глаз пан Дворжецкий, и царь, отложив камею Иова, начал прислушиваться к разговору.
— Да все большие состояния Европы имеют в основании разбой, — продолжил Ян. — Плавают отчаянные головы — татары по степям или пираты морем — пьют кумыс с грогом да побивают картечью своих и чужих. Так делают деньги. А потом пожилой флибустьер сходит без шума на берег, заводит вкусную таверну, мануфактуру в тысячу станков…
— Безусловно, оно так и есть, — поддержал с чувством служилый князь Рубец-Мосальский, тоже хранивший предания о своих пращурах — ночных кошмарах вотчинных князей. — Сын этого татя в наследном удовольствии уже не виноват, а внук и знать не будет… какой мотыгою делан виноград деда его.
— Как хорошо, плавно, Господи, как по Писанию! — умилялся тихо рядом дьяк Сутупов, знавший, что все аллегорические велеречия ведутся от книги об одной теплой стране. Наконец и взор Дворжецкого смиренно помутился. Блуждавший в стороне от прения старик, нянчивший некогда в люльке царевича, шарил ферязью по граням бархатных скамеек, мягко трогал витые шандальцы пальцами. Он эту палату помнил со времени Грозного, когда такие птицы, как Сутупов и Рубец-Мосальский, не говоря уже о борзых полячках, и ступить не смели на порог Великих Теремов. Конечно, молодая шуба чище державу метет, чаще шепчет государю дело. То все знает шубоносец древний, а все-таки положит свой веский рукав поперек.
— Время Божие, знамо, сором заровняет и худо убытка в прибыток добра обратит, — заговорил, будто сам для себя, Богдан Яковлевич Вельский (издали, но низкий голос оружничего, только пряча лишний гул в замшу стенок, шел ясно к каждому). — Но вот строил я пять лет тому прочь крепость цареву на казачьем рубеже, и казенные ленивцы мужички мне сперва сплавили из какого-то болота тленный лес. Само собой, я тот народ — под плети скоренько и заново в работу: одолевать ладные дерева. А времени-то, слышь ты, а коней-тяжеловозов жаль: я тот топляк сваями в берег и врой. Вижу, косогор тамошний и без опор твердо глядит, сверху наклал еще белого буту и на таковой подошве уже тын из отменного дуба вознес. А теперь, братцы думцы, спрошу вас: слыхивали вы, как разливается речка Ныр?
— Воображаем, пан оружничий, — нетерпеливо ответил Бучинский, — но не возьмем в толк, при чем здесь разливы Нила, коли ты городил острог на Северном Донце?
— Так вот, веришь ли, мой пан без чин, тая самая мысль и меня тогда утешила, — преувеличенно порадовался Вельский. — А русской весной — ну как обычно, нежданно-негаданно! — воды взыграло да закрутило ключами ручьи — все гнилые сваи зажевало, и мой бережок поехал вниз. Тут и верхние стрельницы зубы в стыках расценили — все, по бревнышку, скатились в воду — туда же, отколе плотами пришли. Коли пытолюбству вашему надобен делу венец — вот он, простой: дабы зряшностью трат не попасть на Борисов правеж, мне, беспортошному, пришлось своей копеечкой и личным мужичком до ума тот тын тянуть. Что ж, дотянул гоже, — между сутью заметил старик, — суть не в том. А вот хоть наперво и оплошал да потом поиздержался, но доказал себе примерно — на гнилой основе добрых стен уже не свесть.
— Пример пана — одно дерево, — заговорил наконец-то Бучинский, давно державший начеку язык. — От какого гнилья в основании общества остерегает пан зодчий? В нашем-то случае в фундамент поступили вещи из лучших каменьев и золота!
Богдан Бельский посмотрел на Яна с диким пониманием, как на дальнюю иноязыкую родню. Быстро повел глазом на царя. Но Дмитрий стоял к окну лицом, тело и лоб уперев в стрельчатый свод: его крутой отвлеченный затылок можно толковать, как кому угодно, никому не понять правильно.
— А завидую я вам, — молвил Дмитрий позднее, гуляя вдоль разубранных стен и сундуков Оружейного покоя в сопровождении Бучинского. — Каждый нашел по себе дело. Кто спорит о нравах, кто взбрасывает недруга на дыбу, кто на дыбе трещит… — все заняты. Один я…
— Твоя ли милость жалуется? — подхватил Ян, внимательно по ходу палаты выбирая оружие по себе. — Уж старый дворик Годуновых моего царя не занимает?
Облюбовав два легких клинка, Бучинский завращал их всячески в руках: всполохами выстлался огонь каменьев и речений из Корана на черненой стали.
— Янек, сам знаешь, ты мне как брат, — с душою выговорил государь. — Но этот старый дворик не твое свинячье дело.
— Бардзо дзенкуе, цесарь сердца моего, — с лету остановил сабли, словно врубив мертво в воздух: принял рыцарскую стойку обороны Ян. — Но цесарь еще попривыкнет к мысли, что каждый его частный шаг суть дело всех: от щенка последнего псаря до родовитых сук на вотчинных гербах…
Дмитрий махнул вяло перед собой булавой, посеребренной между золотых колючек.
— Малакуйтесь[135] у высочайших почивален. Мне скучней в них от того уже не станется.
— А наши новые друзья, поди, толкуют, что их царь ночами сладко утружден… — отступая перед булавою друга, из-за своих мечей продолжал ненавязчиво Ян.
Дмитрий хотел вдарить палицей об пол, но придержал ее — рынды сбегутся на звук.
— Сам!.. Помолчи. Знаешь, что я не насильник и дела мои в том теремке — неподвижные.
— Мне-то известен надежный обычай рыцаря-царя. — Быстро отшагнув назад, Ян как бы вышел из боя — расслабленно оперся на мечи. — Но наши новые друзья… Все эти полуживотные с бородами диких туров, ползающие зимой и летом в длинношерстных одеялах… Эти друзья едва ли в состоянии поверить, что молодой, в полном достоинстве мужчина, всегда имея над прелестницей всю власть, способен в то же время саму панну не иметь!
— И что делать? — косо ссутулился Дмитрий над тяжелеющей помалу булавой.
— Выходы есть, Димитр…
Солнечные лучики, пробравшиеся и в этот чертог, защекотали золотом усы Яна, не то мешая, не то радуясь всему, к чему он вел.
— …Свести бы хоть с местных палат. Хоть к Рубцу-Мосальскому на ближний двор. Уж пускай служилый греховодником слывет!
— Брось, князь, дед бездетный.
— Даже лучше! Молва перевернется: мол, царем обласкан преданный старик, жалована ему живая дочка!
— Скорее уж внучка. Снегурочка, — слабо улыбнулся Дмитрий.
Бучинский мягко подхохотал, но на вдохе унял смех — застать на выдохе улыбку царя, успеть перед другом — под небрежную еще, веселую походку царской мысли — катнуть свою дорожку.
— Итак, мы видим, как полезен ход Кшисей на клеть князя Рубца. Но можно пойти и сильней… О, как я понимаю моего пана души, все чувства заняты одною дамою! — Ян ловко попал — запустил с высоким шорохом клинок в оправленные крупным виниусом ножны и начал те ножны цеплять к своему поясу. — Тогда все остальное поневоле отзывает, как сам признаешь, пустой скукою. Но признай: сластолюбивые забавы хороши для мальчика, лениво подрастающего в отчем доме, и невместны великому мужу. Дела его грозной и сложной державы для него не могут быть скучны.
Дмитрий уныло кивнул и подвесил на стенку тяжелую палицу. Янек продолжил добрее:
— Мы видим, надобно хоть временно очнуться от дурмана. Трезво сказать — на Руси красавиц на век цесарев хватит, Кшися из них — лишь одна. И Кшися же — последний свет в бойнице всех этих племянников, сопливых соплеменников Бориса, ныне высланных. Вся их мечта — когда-нибудь опять привить к престолу древо Годуново. А через побег ее чрева — это ближе всего. — Бучинский, приостановись, всмотрелся и истолковал двинувшееся лицо Дмитрия к своей пользе. — Их надежды, понятно, тупик полный, но хлопот добавить могут. Вспомни уроки истории в Гоще. Логика веков учит нас не запускать ветвей опасного родства. Рано, поздно ли, такая ветка помешает, но пока она тонка, может быть разом срезана! Выброшена далеко с торной дороги!
Бучинский тяжело — за себя и за царя — перевел дух:
— Не лучше ли споспешествовать этому теперь, когда сам Шуйский под колючею шайкой Басманова? Уж бы к делу княжеского заговора и девушку подшить. Шуйские на колесе, я чаю, быстро примут ее в свою шайку. А там сам нагадай, чего ей — путь-дорога в сказочные льды, Снегурочке?.. Впрочем, коли великосердный цесарь сжалится, — будто под нос себе рассуждал Бучинский, гадая над остывшим лицом Дмитрия, присевшего на край распахнутого сундука в клещатой оковке, — коли захочет упасти бывшую свою странную симпатию от ужасов холода и одиночества, а пуще — оградить от престолоусобий свой край, так и это в его власти: строптивицу всегда можно нежно избавить от мук…
Дмитрий что-то поискал в сундуке, на котором сидел. Без слова встал, прошел ко второму сундуку. Отворил с сиплым визгом… Пошел к третьему.
— Кабы ведал государь души моей, как душе трудно, — уже заключал Ян, — грустно как об эдаком напоминать… А таково бремя большого друга и советчика.
Дмитрий отыскал-таки в ларцах нарядную пистолю. Покатал по дну ящика пульки, наловил покрупней. Сыпанул — из мешочка с вышитым брусничным листом (уже без жемчужин брусники, кем-то спешно собранных) — на полку пороху. Макнул затравку, свитую из канитель-нити — не для войны — для царственного любования, — в плошку под свечой и наживил на фитилек от свечки юркого радостного мотылька. И поднял пистолю на Яна Бучинского.
Ближний сподвижник еще улыбался — думая, что царь решил развлечь его, пугая. Но Дмитрий накрепко зажал курком затравку и наводил ствол все точнее — где-то промеж глаз живого Бучинского.
— Милостиво избавляю тебя, Ян, от земных мук и разрешаю от дружьего бремени, — выговорил Дмитрий так спокойно, как одержимый невозмутимостью.
Мотылек в оправе черных ниток вянущего на глазах запала все ближе подбирался к полке, а государь и не думал унять вольной его жизни или хоть отвести оружие от человека прочь. Улыбка Бучинского, захолонув, перешла в жуткий оскал. Не помня как, Ян кинулся вбок — к яркой стенке. Оттолкнувшись от колчанов и мечей — к другой. И так, звонным зигзагом, опрокидывая на ходу стоячие кирасы, сцарапывая с ковров вооружение, поскакал к дверям. Позади него с лязгом, с прогрохотом валились брони и щиты, русские боевые топоры и сбитые с ног западные латы, а Яну казалось, что изо всех пистолей и аркебуз зала бьет по нему государь.
Чудом выскочив в сени, Бучинский помчал по дворцу. Пнул двери Прихожей палаты и застыл, остановленный почти стальным духом смиренно насиженного помещения.
Навстречу царскому наперснику поднялось несколько меховых станов: Голицын, Сутупов, Молчанов и Шерефединов удивленно глядели ему в побелевшее лицо и на покачивающиеся не в лад на его поясе клинки — в остро блещущих ножнах.
— Соколик… благодетель Яня, — сказал, задышав тоже мельче, Сутупов, — ну как тамо-тка?
Ян, войдя в Прихожку окончательно, растер по лбу пар и присел на лавку:
— Нет… никак… Да я чуть не убит… Чтобы еще хоть раз! — Наперсник расстегнул ворот, полез за атлабас[136] рукой.
— Ты сказывал ли, что живот ее еще опасен? — спросил в тоске, не зная, как понять и обмануть неудачу, Сутупов. — А баял, что она — бесов послушница и ворожит, чтоб отманить от всех важнецких дел царя?
— Как об корону горох… — мотал вихрами поляк. Таки нашарил за потайной пазухой, вынул и протянул думным сенаторам камешек — розовый альмандин.
— А ты остерегал царя, — влез Шерефединов, — что кызбола[137] в Сарае суть тамыр есть — корень зла?
— Приберите обратно, — настойчиво протягивал Сутупову лучистый камешек Ян. — Я ничего не должен вам, и вы мне не должны… Мне сей предмет не надобен.
Дьяк Сутупов скользью глянул на засыпанные крупным клюквенником лалов и венисовой росой сабли на кушаке у Бучинского: и впрямь ляху не надобен маленький альмандин.
Бояре припотунились. Нельзя, нельзя держать близ молодого цесаря прелестницу бедняжку. Ополоснет огневой влагой зениц, натуго обвяжет телесами. А там памятозлобием своим и наведет государя на врагов- своих неотмщенных. На распорядителя смерти над маткой и братом — холодного думца Голицына, на согласного смотрителя Сутунова, на душителя-дьяка Шерефединова да на Молчанова-жильца, за ноги держачего.
Дмитрий все холодней день ото дня к прежним любимцам, так и веет студено из царской души. Час не ровен: принесет этот ветер приватный указ, погонит этот ветер в спину батогом в пермяцкие леса, сорвет с головы шапку-боярку, а то скинет и голову, катнет слабую в полую даль…
— Ну что ты, Яня, что ты? — чуть отклонил руку Бучинского с камнем Сутупов. — То ж не в обиду, не во мзду. Так, подарок, безделка на память. Спрячь скорее, не обижай…
Янек подумал, подергал атласными бровками и, приподняв плечи, как через силу, с подарком впуская за ворот неодолимую усталость, убрал альмандин.
Шерефединов сразу сел и ухватился руками за бритую голову:
— Уш кабы я был польский друг бачки-падиша, нашел бы, каким словом в него мысл вертать!
— Ну, каким словом?
— Я бы сказал: вспомни, как говорят досточтимые старики в наших Ногаях…
— Стой, ты же советуешь от лица польского друга, — перебили его.
— …Говорят старики в нашей Польше, — поправился Шерефединов, — они говорят: «Орысны айдхан сезлер дыгнемесе! Ахай олурсэн!»[138]
Царство в царстве. Казнь
В сыскном подполе разговор с князем Василием Шуйским вышел короткий. Князь под пол только заглянул — завидел три ненастные свечи, обмирающие от сырой тьмы, столбы — равномощные тени, кем-то отброшенные из-под земли, несложную ременную петлю под перекладиной и в черной смрадной луже затвердевшее бревно противовеса. Уперся Шуйский из последней мужской, оттого зверской силы скованными ногами в косяки узких дверей и на пытку не пошел. Заголосил благим блеянием, мол, повинюсь во всем правдиво и пространно. И здесь же, враз, сев на приступке крутой лесенки, на все вопросы сыскной сказки дал утвердительный ответ: все так и еще как! — умышлял, витийствовал, озоровал, каверзовал, склонял, ярился, привлекался…
Пока ярыжка успевал подсовывать под перо в твердой щепоти Шуйского то навесную чернильницу, то наветные листки, Басманов и Корела вышли подышать во двор.
У полинявшей задней стены здания Казанского приказа отцветал большой черемуховый куст. Корела и Басманов подошли к нему и опустили лица глубоко в подсохшие, но еще остро-ясные грозди.
Младшие братья Василия Шуйского поначалу отнеслись легче к допросу и пытке. И только когда прямые руки каждого, восходя сзади над головой, уркнули из плечевых суставов, а ноги как раз отнялись от земли и нежная старая кожа от паха до кадыка напряглась — одним непрочным, взрезаемым костями по морщинам-швам мешком, явили братья всю свою крамолу. По очереди вешанные князь от князя независимо на дыбе, определили они татя-подстрекателя: брат Митяй показал на Степана, а Степан — на брата Митрия.
Тюремный лекарь сразу же вдевал приспущенным вниз заговорщикам по месту правые руки, и тати, зажав бесноватыми пальцами перышко, отмечались каждый под своим доказом.
— Так что, один братишка надурил? А сам-то что ж, отстал? А ваш старшой где был, ошкуйник? — снимал допрос дальше Басманов с уравновешенных под перекладиной заново грузиком хомута на бревне, резанных кнутом князей.
— Что тут сделаешь, раз на мне нету вины? — хрипели одинаково князья запавшею гортанью. — Ну… еще есть на одном измена вся доподлинно — вроде смущал нас, пьяных… тот… ну, смоленский воевода, боярин с одна тысяча пяти сот восьми десятков и еще четыре лета от Христова Рождества… ну, старший князь Шуйский.
Подписались кое-как и под строкой, ловящей старшего на воровстве из-под венца престола.
Чтобы им лишний раз не приделывать руки, Басманов посоветовал:
— Расписывайтесь заодно и в собственной татьбе. Будто кривить не надоело?
— Припишите еще — Петр Тургенев, голова в дворянских сотнях, всюду состоял. А чтобы я — смиренник государев, это вряд ли… — сказал средний брат, отдуваясь, лежа на земле между столбов.
Басманов ощерился жестко: измышлял для Шуйских точный ложный страх, весь перекосившись душой.
— Да ежли вы сейчас же, демоны, не повинитесь, — вы-рычал он наконец, — мы ж ваших жен на нашу дыбу, раскорякой к палачу!
— Воля твоя, Петр Федорович, гложь старух, — кое-как вдвоем, но гордо молвили ответчики, — а из нас больше звука не вынешь… Это что же? Хочешь, чтобы древние князья своей рукой — и не кому-то, а себе же — бошки сняли? Никогда не может быть!.. И все это, чтоб ты свою породишку худую выпятил, да?! — спросили уже Шуйские: спрашивал старший брат, а меньший презрительно сплюнул — знатной кровью с высоты.
За спиной у Басманова грохнула дверь. Петр Федорович оглянулся, но уже завизжали снаружи ступеньки — Корела выходил на волю. Вскоре следом за товарищем поднялся и Басманов: казак стоял невдалеке, лицом к стене служб — в черемуховом кусте.
Вдоль всей широкой приказной стены пушился сквозь крапиву одуванчик — и надо бы свистнуть кого-нибудь выкосить сор, да всегда недосуг: труждаешься во славу государя либо так вот отдыхаешь от глухих трудов, оплыв душой. И то сказать, в иные времена «кто-нибудь этот» сам бы, поди, каждый закуток Кремля и прополол бы, и вымел. А нынче ему тоже не до травяных малых хлопот: может, бревна катает или в землю уходит с лопатой вблизи москворецких бойниц. Туда из служебных подклетей уйма люду согнана — на закладку молодому государю нового дворца. Ясно, в бывших Борькиных храминах Дмитрию зазорно. Старый же чертог Ивана Грозного, где временно остановился государь, и ветх, и ставился без должного капризного внимания царя Ивана — все прятавшегося, спасаясь от бояр, в какой-то подмосковной слободе.
Басманов подошел было к помощнику, но остановился в нескольких локтях, не касаясь светлого лица куста. Будто чья-то непонимаемая сила слабо, но действительно заграждала ему путь: точно воевода накопил и вынес из подвала сердцем и лицом столько клокочущей звериной доблести и страха, что, коснись он сейчас раскаленным, заведомо непримиримым и тупым сапогом своего носа до пенки куста — иссушит, испечет до срока нежный цвет. Пусть уж так, на расстоянии от воеводы, цвет еще порадуется…
«Нельзя, — Петр Федорович потер запястьем платье против сердца. — Мне нельзя так… Надо было вести до конца, безотдышно, внизу начатое».
— Любопытная пытошная арихметика, — звучно щелкнул воевода ногтем правой руки по скрученным грамотам за обшлагом левой. — На сегодня из трех привлеченных князей обличены ими же, взятыми вместе: одной подписью вина Степана, одной же — Митрия, а вот под каверзой Василия черкнулись сразу три руки.
Корела, вздрогнув в кусте, посмотрел на Басманова с болью, как на изрезаемое без милосердия подпругами брюхо коня.
— Оно и понятно, — не глядел на казака Басманов, — по первородству-то Василий метит гузном на престол… Вот только плохо, странно, что мои сокола, третий день на его усадьбе ковыряючись, улики путной не нашли… Заподозрительно даже. Надоть самим хоть дойти, что ли, туда. Глянуть, что да как…
Атаман вышел совсем из куста, кинул руки по швам:
— Петр Федорович, я не могу сегодня…
— Что так? А по боярским хмельным погребкам пройтись-то хотел? — улыбнулся Басманов, почуяв недоброе.
— Значит, перехотел, — резко положил донец вдруг руки за кушак. — Дуришь, Петр Федорович. Это же грабеж.
— Ой, — заморгал сразу Басманов, — кто ж это мне здесь попреки строит? Дай спрошу-тка: ты, станичник, для чего в степи турские караваны поджидал? К сараям Кафы струги вел — зачем? Саблями торговать аль лошадьми меняться?
Корела побледнел и поднял на Басманова похолодавшие глаза:
— Мы своим гулянием Русь сохраняли, как ни одной не снилось вашей крепости стоялой.
— Правильно, — приосадил сам себя воевода. — И не грабеж то, а война и к ней законная пожива. У нас сейчас — то же. И даже у нас еще хуже: обороняем самого царя! Не вонмешь этой ты простоты толком, а сразу клейма жечь — разбой, грабеж!
— Наверное, ты прав, Петр Федорович, — будто смирился донец. — Нет, не разбой такая простота, а хуже воровства.
Помолчали. Выходило так: чем честней старается Басманов стать на место казака, тем внезапнее с этого места соскальзывает и оказывается в каком-то незнакомом месте.
— На допросах меня боле нет, — уведомил Корела. — Сам на твоем станке за государя разодраться — всегда радый, но про эдакую муку я не знал…
Андрей, согнув кунчук под рукояткой, зачем-то обернул вокруг руки, повернулся и пошел вдоль здания приказов — невольно перешагивая одуванчики.
Зашагнув за угол и перестав теменем чувствовать осточертевшую душу Басманова, казак вдруг воротился душой к спору. Провел рифленым сгибом плети по своей, в круг стриженной, но подобно шапке одуванчика — молодцевато-слабой, распушенной одиноко голове…
Там, в ближайшей дали, южной глубине, поездов парчовых остановлено, сожжено персицких каравелл, облеплено казачьими баркасами — на щепки разъято — султановых шняв[139]… А роз сладких на побережьях трепещет. Чтобы казак не мял их, турок откупается от Дона золотом…
Но там люди хватают свой куш еще в пылу сшибки, радуясь на неприятеля — сильного и в смерти, и в лукавом бегстве. Там за коней, оружие, арах[140] и рухлядь казак сам, не привередничая, подъезжает каждый раз под тесаки и пули. Рядом за то же барахло свободно гибнут лучшие товарищи, а на обратном, медленном от веса дувана пути — уже укрепленный отряд татарвы настигает станичников по теплому следу.
В награду, в случае удачного исхода, казаку и коню его перепадет лишь самое необходимое. Главная добыча — в обиход Донского войска — и идет вся на закупку по Руси того-сего: винца, овса, хлеба, дроба, огневого зелья — всего, что сложно ухватить южнее. Да на гостинцы Москве в оправдание своего приволья.
Вся эта купность лихих обстоятельств (хотя вряд ли каким казаком или московским дьяком взято это в толк) как бы закрепляла за казаком прямой травной буквой степного закона кровное рыцарское право на все опасное добро по окоему Востока, дерзко облагораживала и возвышала разбой.
На диких сакмах часто казакам встречались белые, выскобленные всеми силами степей кости с оловянными крестиками подле шейных позвонков: ордынцы ослабшего русского не довели-таки в вечное рабство. Так донцы убеждались в правоте и надобе своей гулёной службы. Оловянные крестики вернее всякого соборного обряда благословляли вольницу — обнадеживали насчет смертного пути.
У ворот двора князя Василия Шуйского чиновник Петр Басманов спешился и поручил слуге коня. Не для почтения к вельможному преступнику вступил он на подворье его пеш — с оскомины к праздным переполохам да еще из азарту, жившего во всяком, чуть осмысленном начальстве: крадучись бесшумно, застать все на местах, как оно есть — в тихий расплох.
Басманов пошел от ворот к терему чистой, полого возрастающей тропой, составленной из аспидного камня в елочку. К этой главной дороге двора отовсюду сбегались, почти не оставляя меж собой травы, замощенные досками и земляные, тропки важностью поуже. По ним и мимо, вдоль и поперек тропы Басманова, знай похаживали холопского звания люди: кто — баба с корзиной сырого белья и пустым ведром, кто — мужик с полными вилами, кто — малявочка с удочкой.
Примечая и даже узнав шагающего воеводу, челядинцы лишь кое-как — на угол — кивали ему и, поморгав еще рассеянно, брались за прежнее занятие. (Не привычна дворня Шуйского ломать колпак, ниц шлепаться ни перед каким чином чужим.)
«А впрямь, чего им опасаться? — не знал и Басманов. — Коли их князь виноват, так и будет казнен. Они, простые русские, его мыслишкам не рука. Им будет даден новый господин».
Воевода даже залюбовался небыстрым большим шествием, равнявшимся с ним. Но быстро не смог угадать его смысл. Посреди ватаги выступала, как плыла, юная баба в полотняном летнике — простом да с кумачовыми накалками и шелковыми вставками. Даже издалека молодка ясно выписывалась в свите — поступью, неизъяснимой лепниной осанки и чином лица.
Басманов приостановился, дивясь подплывавшей: «Ах ты, нерусская березка, тонкое стило… Да не будь ты за мужем кабальным, ей-ей, сам бы присватался! Ох, так и пишет тросточкой лебяжьей!! Пишет летопись лета московского — надежды вселенской!»
Около белого, подрумяненного тонко — точно вечерним солнцем — личика «березки» покачивались и сережки-одинцы в охристых бусинах. Шелестящий, как под неким ветром, строй приближался. И сыскному воеводе открылись и ее глаза.
Неподходящие к стекольным серьгам и монистам, глаза были сапфирны, и хоть не очень глубоки, зато близки, что небеса без облаков. А ветра-то, теплого ветра в них, младенчески-надменного доверия…
Руки молодки скрещены расслабленно над поясом: серо посвечивали на запястьях обручи. Басманов принял обручи сначала за дешевые браслеты, но, поравнявшись с собранием, не веря очам, опознал столь знакомую сталь двух колец, соединенных грубо склепанной цепочкой.
— Отряд! На камне-е… стой! — приказал воевода, едва косо закланялись ему сопровождавшие закованную женщину. — Вы пошто красную женку полонили? С вашего двора все, кто нужны, взяты — сам князь да дворецкий с ворами, — и неча вам тут боле умничать, проворство выражать!
— Ой ты, мой батюшка! — покачнула высоким убрусом пожилая жена, замершая от арестантки слева, в душегрее, обрывающейся раньше пояса. — Да не пужайся, батюшка мило-о-ой! Не пужайся, высокий стрелок! Мы ж змеюку прихватили не по вашему большому делу — у нас своя на ей татьба, бабская лютая!
— Отравила постылого мужа? Али полюбовника непостоянного изрезала? — изумлялся воевода, жмурясь на чистое, опасное, таинственно-счастливое личико виновной.
— Кабы-ы! — вызвалась беседовать другая женщина — в телогрее на кожаных лямках, пышно топырчатой над сарафаном. (Эта одежда шла шире и ниже души и, значит, прозывалась телогреей.) — Сии грехи покамест у нея, молодухи, впереди! Сикуха подзаборная инако меня оскорбила!
— Ну, мужика, что ль, твоего совратила? — хмурился Басманов.
— Да кабы всего-то делов, разе б я ее на суд влекла? — дивилась баба. — Чай, у мерина мово в штанах не убыло бы! Нет, батюшка, каверза скверней!
Басманов обратился к обвиненной:
— В чем же грех твой, жено, молви. Перед тобою — голова всея сыскной службы, — приосанился и спохватился: — Голова, конечно, не опричная-собачья, а разборчивая. Ты меня не бойся.
Молодица потупила очи и чуть приоткрыла несмело еще припухшие от детства вишенки-уста…
Но ждать не могла, уже подхватила свое недосказанное телогрея справа:
— Вишь, расправной мой батюшка, в кои-то веки я ефимков наскребла да весь набор обворожения на Скородоме закупила! Было распрекрасное, не наше все! — Она развела персты подобием павлиньего хвоста. — Недолго ж мне выпало владеть чудесами. По нечайству — на миг! — оставила в господской уборной под оглядальцем! Хватилась — ан не тут-то было: уж приголубила заморскую вещицу эта лиска. Я же цельное дознание по всей усадьбе провела, пока ее, родненькую, доказала! — Провела телогрея хорошей ладонью по сборчатому рукаву воровки. — Поди, сам ведаешь, сыскной боярин, как это отвратно да срамотно дело-то. Вся и в помоях извалялась, и в золе изгваздалась — тако вонюче да непросто всё… Ведь плутовка мазалась сначала тоненько, пудрилась и озарялась румяницею укромно! Ажно все свободные холопы и даже иные женатики начали за ей башками кручивать! Думали: ейный свой окрас! Это ж теперь она перед судом столь красно расцветилась: теперь — завей-горе-веревочкой! И покраденное-то еще открывать нам не хотца, а стыд в открытую не жалко потерять!
Басманов, слушая сыскную бабу, уже сам приметил у охраны, видоков и послухов одну черту: хоть отряд тоже внимательно слушал, согласно покряхтывал и шапками в лад обворованной бабе кивал, но — будто приворотой тронутый — не мог отнять взор от молодки-воровки. Девицы и бабы с кровною досадой, их мужи и парни в светлом увлечении обозревали: над снежным полем собольи спинки — бровки, а уста — задорящие яркостью и живой посреди белых холмиков сластью рябинные плоды.
Тоже любуясь, Басманов поздравил всех:
— На доброго ловца и зверь нежный бежит!.. Что ж, головы выше моей у нашего судейства не найдете. Вам и в Съезжую избу теперь без надобы толкаться, — и спросил у самой щеголихи: — Пощебечи-ка мне, баловница-ласточка, правдиво ли тебя мытарит баба али прибрехала? Отпустить уж тебя без суда с честью и славой домой али, коли повинишься, во славу и честь Господа помиловать?
Синие тени ресниц прошли в заводях глаз женщины.
— Виновата… Рано еще отпускать… — чуть молвила она с удивлением, но наставительно-низким — кажется, в теплую глубь упиравшимся голосом.
— Да благодарствуй, поисковый батюшка! — встряла опять баба на помочах слева. — Не засори свою головушку во всяком хамстве. Мы ж и вершка твоей мыслишечки не стоим! Самый меньший приказ не по нам высок, и Съезжая сарайка — не про нас, пес нас дери! Не про нас все это рублено… Ведь у нас тут на дворе есть крылечко в четыре приступки — яко всякое дворовое удобство: ты только дай нам дотти до него. Там и весь наш суд. А судит-сидит ключница Вевея — это я-с есмь, но вся как надоть — с печаткой, с кнутом…
— Здесь что, как по малой нужде — с-с-суд? — заикнулся Басманов. — На конце «дэ» или «тэ»?!
Видоки насупились, послухи рассмеялись. Душегрея изготовилась, открывши рот, пошире развернуть ответ.
А виноватая красавица вдруг поклонилась воеводе — полными персями колыхнув под вольным летником, окунув кандалы между выступивших в льняной ткани колен. Восстала и, не торопясь, поплыла себе — мимо боярина, далее — по двору: на крылечко, на суд. За нею — как прикованное — двинулось и общество, кинув Басманова на аспидной дороге одного… Душегрея, впрочем, малость задержалась возле гостя — досказать то, что нельзя на людях:
— Не болезнуй, не тужи по ей, батюшка! Нешто оне с ей што содеят? Мужу бесчестную виру[141] присудят, а не выплатит — поставят дурня на правеж. А как супругу поучить — уж то будет в его, мужнином, сведении. Да и это ей-то, пестрой веточке, не в страх: Полилей-от при ей — невишной[142] бычок, мирный…
Последние слова баба договорила, уже кланяясь и отступая, и едва возок округлых и ребристых, что поленца, сообщений был раскидан, припустилась за своими.
Басманов какое-то время, еще не сходя с места, следил за преступницей, ведшей на суд общество послухов и видоков. Она ни разу более не обернулась на царева воеводу, неся на челе драгоценные сажу, вохру и сурьму, а на дланях — вериги славнейшей послушницы. Сегодня выдался ее престольный праздник, она ведает это — вглядывался Басманов, — чудесно, незримо замыкает двор ее таинственное иго. Ужо ввечеру завалинками старенькие бабушки и отходящие к их стану бабы до блеска выскоблят, анафематствуя, все ее белые косточки и тем старательнее примутся скоблить и замывать, чем упорнее станут помалкивать их мужички. А «невишной бычок», разняв, как новые, глаза, отрешенно улыбнется правежу и штрафу, а прибредя домой, и не вспомнит поискать на чердаке отцову плеть, даже не прочтет жене из ключницыной Библии, где говорится, что красть нехорошо.
Вся ватажка скрывалась уже за щербатым углом протыканного сухим мхом и покрывавшегося уже свежим лишаем амбара.
Басманов знал, что над любым народом где-то высоко есть его вдумчивые ангелы-хранители, а тут вдруг ему показалось, что он узнает, что как-то уже отличил и бесенка народа, сотронувшись с ним. На миг почудилось: можно схватить его за петлеватый хвост, выдернуть из-за мшистого угла и полухитрого-полунагого, приторочив к арчаку, свести в приказ.
Но это только так кажется иногда. Чуть только хотел воевода окружить амбар с бесами сыскной правильной мыслью, как облачко грезы, пройдя сквозь все рогатки его растопыренного разума, рассыпалось невдалеке…
Басманов покидал бровями, пошевелил бородой и пошел, дабы не застояться в бестолочи, по дорожке далее, к боярскому жилью. Впереди он скоро распознал под купиною яблони-китайки за тесовым столиком своих приказных. При них на столе и на скамейках располагалась всяка снедь, питье высилось в оплетенных емкостях. Над невысокой, наспех сложенной из камня домной вился дым, и рядом один приказной ласково укладывал на плаху молодого петушка. Басманов застал в полный расплох своих сыщиков — пирующими «наскоро» промеж трудов. Лишь солнечные бабочки забились на кафтане воеводы, вступившего в китайчато-сквозящую тень яблони, дрогнули сухо и ребята на местах. Старшой, приняв умело вид, что еще не видит воеводу, сразу пошел вдоль стола, поднося по ходу к уху и отрывисто простукивая донышки чарок, ковшей и стаканов. Второй приказной, уже что-то жующий, уяснил мигом почин старшего. Резко двинув широкое блюдо к себе, взялся надкусывать каждый пирог и вертеть в нем пальцем, взыскуя свежеиспеченную крамолу там. Третий, правда не найдя лучшего, принялся перебирать пышную стопу блинов на тарели, видимо предполагая, что измена может попросту лежать между блинами, спасенная там многоумием врагов.
Последним заметил Басманова ярыжка, унимавший душу в петушиных крыльях, товарищи даже не ткнули его: все равно его последующее деяние, ощип птицы, можно толковать как то же рвение в сыске.
Но Басманов долго толковать не стал: подошел к старшому приказному и начал безмолвно полнить его рот горячим печевом, хватая, что под руку попадет, со стола. Приказной, вытянув руки по швам, что было мочи отваливал и подымал нижнюю челюсть, но начальник без перерыва вминал и просовывал яство, так что ярыгины щеки, как кузнечные мехи напрягшись, быстро замерли.
Басманов, задерживая отвращение, пощупал сначала хомячную прочную щеку старшого — проверил сдобный щит. И вдруг, коротко выдохнув зло, правильно крутнув свой стан вперед, пробил по приказному. Тот сделал немного шагов назад и, дробя яблоневые тонкие сучья, сел на сыру землю и прислонился спиной к меловому стволу.
— Может, хоть так что-то поймешь, — отряхнув с кулака теплые крошки, ободрил служивого воевода и присел с краю на лавочку. — Итак, докладывай.
Басманов плеснул себе из четверти в ковшик на вершок прозрачной сыты и зажмурился, когда под усами затанцевала в ковше пущенная из пригоршни солнца золотая молодь. Пройдя с гудением мимо ветвей, круглый шмель прилепился на краешек сладкой макитры. Два брата-воробья, от восторга забывая бить коротенькими крыльями, нырнули между растущих навытяжку приказных и запрыгали по скатерти, цапая хрупкие печенья-ельцы.
Ярыжка, вставая, сплевывая блинные куски, будто макнутые в красное варенье, стал за ними выдавливать и долгий сказ — елико и чего на воровском дворе им со товарищи обсмотрено. Пошли тянучей вереницей: повалуши, клети, горницы, часовня, погреба, ледники, сенники, птичники, конюшни, мыльни, варни, житницы, хлевы, овины, риги, чердаки, омшаники… Перечень найденных смутных улик вышел короче, да и уликами-то можно их наречь, только втаща за уши в область все тех же безотказных чар и ворожбы. В княжеской спальне, за божницей, настаивался корень одолей-травы, да в леднике вскрыли пузырек заячьей крови — будто бы «для мочи помочь», да под тюфяком на галерее измусоленные еретические книжки с многими закладками заклятий: средство от преследования гусей, ворожба на удачную тяжбу в суде, правило, как отвести царский гнев, заговор от шелудей и от сглазу.
Но ежели присовокупить к списку зол все взятые в избушках дворни карты, гнусногласные свирели, черного котенка на дворе и двух козлят, черных же (с подпалинами, правда) в хлеву, — татебный перечень выглядеть будет уже более внушительно.
Басманов вполуха слушал про чудесные находки, но сама по себе бесконечная течь перечислявшихся глухих построек и открытых местностей, измотав, ошеломила его.
Ковш золотой сыты остался недопит, забыт. Басманов медленно, как во сне, обращал голову. Берясь за тишайшую ветвь, становился на лавку и озирал новым — как вымытым — оком усадьбу. Нет, не в черных котах, не в урчании кудесников являлась ему, мягко приподнимая фату и улыбаясь ужасно, крамола.
Вниз от китайки шел уклон. За рытым бархатом малинника и бугорками берсеня видно было, как холопы убирают с первых огуречных ростков рамы, крытые неровными кусочками слюды, вспыхивавшими и погасавшими на солнце. Другие огородники на грядах дергали, кидая на разостланные мешковины, под зиму саженный чеснок. Еще дальше человек крутил белой широкой метелкой в бадейке — на опушке яблочного сада, раскинувшегося былинным молодым леском.
Князь Шуйский желал живота на Москве — как в материнской вотчине, ни в чем животу не отказывая, имея под боком всяк плод земли благоуханным и крепким. Но многое и поступало издали: с Севера летела дичь, шла рыба — сигая косяками в погреба со льдом, взлетая в вяленом и ветреном видах на сушила. С украинского и астраханского юга катился арбуз, с фряжского запада — вина, приправы… На боярский двор свозилось и отборное зерно с пригородных угодий, здесь зерно проходило княжий пристрастный обзор, затем — ригу и мельницу. День-деньской гудели на своих местах, грели двор варни и хлебни, покрытые дерном в предостережение пожаров; здесь же дышали княжьи медосытни и пивоварни.
Все эти части домовитого угодья могли встретиться порознь и на менее знатном боярском дворе, но, наверное, только у Шуйского сошлось все вместе, и сам лад строений был раскатан круче, смотрелся как-то толстостенней и раздольнее, заполонив собой добрую сотню саженей столицы в длину и в ту же ширину. И вдосталь было на таком просторе самочинно своего. Когда Басманов оборачивался назад, видел над главными воротами, откуда он вошел, точеную торжественную башенку с цветами и оленями вокруг киота — не проще, кремлевских. Подле ворот стоял дубовый караульный сруб, на его крылечке сидели не то сторожа, не то таможенники. Эти чины, когда только очно, а когда и вручную, ощупывали исходящих и входящих.
Басманов зыркал влево — за скотным двором были слышны ремесленные мастерские — звонкая кузня, дымная кожевня, а направо — опрятные певчие домики прях и ткачих. Постепенно Басманов дошел и до базарной площади: за прилавками под легкими шатрами несосчитанная хлопня Шуйского по воскресным и праздничным дням торговала, рядясь между собой.
Обок торга сыскной воевода обнаружил и избушку правосудия. От нее уже шел множественный низкий гуд, расходясь не спеша и достигая далёко. Там, видно, начали дело красотки воровки, мучения очей народных. Басманов уж не стал заглядывать туда — ловить ускользнувшего давеча бесенка. Отметил только про себя, что оконца подклета под судной избой сжаты железным решетом, то есть подклет стал приусадебной тюрьмой.
«Вот так… — рот разевал, одновременно сцепляя в нем зубы, Басманов: он на каждом шагу узнавал беса татьбы поздоровее-попроще. — Своя темница, суд, торг внутренний, наружный, винокурение, таможня… Вот — крамола. Господарство в царстве! А основатель и цесарь сего — Васек Шуйский! Какие еще доказательства нужны, что он, хорь амбарный, в Мономахи метится? Слепил себе за тыном малое, но точное подобие державы и воссел, как Рим над Иерусалимом, — помалу упражняется…»
Страна Шуйского даже имела свой выход к морю — в виде широчайшего пруда: с обеих сторон частокол сходил мерно — пряслами — в воду и исчезал, еще колеблясь, в глубине. Удобный водный путь лежал в соседние зависимые княжества — владения Урусовых, Голицыных, Пожарских. При этом более половины морского, то есть озерного, берега было землей Шуйской.
Во все дни топча бледный песок и мостки, одолеваемые ряской, заполаскивали весело белье поморки-прачки, рулили в камышах гуси и утки, и черт-те где по островам ходили с бреднем обожженные мальчишки, отбрасывая с воды перед собой огромные цветы.
Войдя к царю, Басманов доложил о своем розыске — бил и упирал челом особенно на «царство в царстве» и на признания троих князей. Говорил Басманов путано и рвано, да ближние думцы поняли понятное: суть старого Шуйского излишне пожаротревожна, чтобы ему дозволить хоть чуток еще потлеть подспудно на земле.
— Но я вроде поклялся не трогать боярскую кровь? — загрустил Дмитрий. — С тем и на стол[143] великий заступал.
Тут Бучинский склонился к нему:
— Ясно, переступить слова нельзя, — Ян знал на тысячу вопросов тьму ответов, — перепорхнуть бы бессловесно… Великому престолу следует елико можно отойти от дела. Пусть боярский сейм один решит — удостоится изменник наконец казни?.. Или вольготы срамить край и впредь? Вот дали бук[144], сейм с ужасу закажет казнь! Особенно если боярам придать наблюдателями таких зухов, как братья Голицыны и грозный их кузен.
«Лях что делает! — замирал рядом Басманов. — Не успел в московские ворота проскакать, как насобачился здешними весами орудовать, разом счет наших сил и слабин произвел! Великий разведчик? И его вслед Шуйскому придется прихватить?.. Или мы любому ихнему видны до донца?.. Нет, дуб я: и видеть не надо. Поди, донышки-то одинаковые…»
Басманов не знал, как недалеко он от мыслей царя. Дмитрий сидел, закрыв крылья носа руками. Уже признав, что Шуйский обречен, царь видел в мечте друга Яна неожиданно убитым тяжкой перекладиной, на которую был Яном приглашен последний тать.
Тридцатого июня рано утром Василия Шуйского причастили и дозволили встретиться с братьями. По обычаю, перед дорогой с земли, братья все расцеловались, остающиеся младшие попросили прощения у старшего, поневоле оставляющего их, а старший — у младших:
— Прощайте, любые мои! Ежели в чем согрубил вам али показал на вас Басманову — прощайте!
— Прощай, братка, и ты нас, — не утирали слезы Митрий и Степан, — ведь и мы налгали с пытки на тебя… А ты бы хочь брал нас в пример, — запоздало посоветовал Степан, — хочь бы на себе вины не признавал? Отскрипел бы на дыбках свой час, зато, глядишь, и оберегся бы погибели-то?
Василий аж улыбнулся наивности меньших братов — с трудом осадив прочерневшие вислые щеки назад. Но проговорил несообразно улыбке:
— Да как же было мне не каяться, коли взаправду виноват? Все мы, ребята, крепко виноваты перед государем и приимем справедливо кару — по законам сурового нашего, смутного времени.
У младших, Степы и Митяя, малость отворились рты. Стоявшие за спиной у осужденного — Голицын, Басманов, приказные — тоже поежились. Иные как-то утомились, иные неприметно обвели себя крестом, скорей переводя ответ за конец старца с себя на допущение Божье.
Влекомый на Пожар, князь воздымал «паки и паки руцы» — страстно умолял живого Бога хоть за гробом извинить безумие свое, пошедшее «супроти прирожденного наследника и христианнейшего государя!».
— Ибо лишь Ты, Всеблагий и Всемудрый!.. У ми в сердце прочтишь!.. Яко алчу послужить уже всей верой и всей правдой!!. Естественнейшему царю!!! — вопил Шуйский тем надсаднее и звонче, чем дальше ощеряющийся сталью поезд уносил душу его посолон[145]. — А сколь пользы цезаречку бы доставил, кабы помиловал теперь от лютой кары, якую десятижды заслужил!!!
От таких терзательных речей даже известный глум Васька Голицын примолк, заегозил, как не в своем седле, а потом и сказал:
— А может, зря мы все это? Ишь, залился, со смыслом кается старик. И эту золотую голову, точно кочан капустный, ссечь?! Москву насторожим — и только… — Голицын чуть кивнул назад, откуда шла по пятам колонны, нарастала, шероховато дыша за биением накр[146], человеческая трудная волна.
— Спохватился, родной, — буркнул двоюродному брату Петр Басманов, тоже едущий с медным и грубым лицом — как собравшись на казнь. — Соборные князья приговорили, отменять не нам.
— А царь?.. — встрепенулся Голицын.
— А што вам царь-то, вервие сученое?! Хошь — прямо, хошь — направо перевей, — защитил царя Басманов. Прибавил отчужденнее: — Да все одно — в Сокольники чуть свет-заря сегодня зарядился на охоту, он сейчас далеко.
Отъезжая в Сокольники, Дмитрий завернул на двор служилого князя Мосальского.
Ксюша стегала растянутую в пяльцах густую привозную ткань — зендень. Поначалу бралась за шитье, только чтобы уйти от докучной опеки Сабуровой и иных попечительниц, насылаемых то ли все тем же царем, то ли владетелем терема — служилым князем.
Отгородилась от них пялечной рамой: вот, нашла для себя наконец забаву, что-то такое вышивает, — упаси Бог мешать!.. Но рука сделала несколько глупых стежков и увлеклась вдруг, воскрешая полузабытый безветренный орнамент, переливая сухой струйкой нити свою тугу-печаль в просторный, мучительно и вольно гнущийся узор.
И так хорошо, терпеливо забылась, душою следуя за быстрой иглой, что, даже опомнясь вдруг в своем плену и горе, радовалась: как ей нынче славно забывается в кружении шитья.
— Как почивала, государыня моя? — вкрался незваный привет на порог.
«Государыня» легко и внимательно низала иголкой. Отрепьев не знал, шагать в комнату или уже можно откланяться — до благоприятного дня.
Оконная завесь качнулась. Теплый ветерок внес в башенку надсенья дальний звук литавр и колыхание широкой улицы, сравнимое с ветром, полощущим твердую ткань, или другим ветром — ходящим в груди человека, по которому порою и не лекарь без труда скажет: спокоен человек или тревожен, здоров или опасно хвор.
Оторвавшись на миг от шитья, Ксения посмотрела на волнующуюся кисею, потом и на Отрепьева:
— Казнят снова кого? «Без ведома» царя Гороха.
Царь чуть заметно пошатнулся.
— Не зна… — подошел сам глянуть и задернул поглуше окно. — Чай, на охоту меня вышли проводить какие-то зевальщики.
— Да непохоже, — лукаво вслушивалась Ксюша, — литавры так зовут на битву или…
— Правильно. Ведь я ж на медведя иду — чем не бой? Пущай глядит Москва, тверда ли рука у ее царя! Каков он статью и ухваткой?.. Но тоже — все может быть… — царь кстати загадал с теплой грустинкой. — Худой исход то есть возможен… Вот — на случай заглянул проститься.
Ксюша, вернувшись к шитью, пожелала:
— Прощай. Ни пуха ни пера… медведю.
Девчоночий смешок плеснул, просыпался мелкими бусинками рядом. Отрепьев, своротив губу, пнул дверь — Людка Сабурова едва успела отскочить — замерла в сенях с неунимаемым весельем на устах, но уже ужасом округленными глазами.
Пушной, тоже круглоокий, ком вывалился из рук Сабуровой и, подпрыгнув на полу, стал чистым зверем. Зверь раздался пышно в гриве, выгнул спину колесом, прижал уши и противно закричал на царя.
Отрепьев дрогнул, но — хмуро, богатыристо, поведя неровными плечами, боком выдавился в дверь.
На усадьбе вокруг царя сразу загомонили, свистнули плетки, грянули подковы. За клыкастым чьим-то тыном заметались псы…
Отрепьев скоро прибавил коню рыси — за шумом отряда еще настигал его хохот сенной девки, сливался с негодующим шушуканьем окрест пути. Отрепьев хотел вырваться быстрей на волю из частоколов опасной Москвы.
С того часа, как он — только в мысли — обрек голову князя Василия, весь город сперся и враз переменился к нему. Даже если бы за каждым колом городьбы село по Шуйскому, эти углы и ставшие стальными тени ветхих стен не затаили бы меньшей угрозы чуждому царенку.
Нелепый ледок пробрался Отрепьеву под летнюю рубаху. Рука требовала крупного эфеса под собой. Челюсть сводило широко по окоему, и секла лицо — тонкая ли досадливая паутина, или чья живая тень?..
Что? Что это подступало? — даже спрашивал себя в седле. Попробовал немного придержать коня, но хотение — прочь из Москвы — гнало перед собой надобность что-то понять, и Отрепьев снова понуждал коня, давя ногами за подпругами, почти бросая повод.
— Ишь поскакал, безбородая лягва, — заговорила Сабурова, войдя в горницу надсенья, — и ходит, и ходит, разбойничек, ух, соблазн всея Руси! Только свел животинку с ума, — катнула полом шелковый клубок, успокаивая забежавшего под лавку зверя и полыхавшего двумя нерусскими деньгами из-под кистей покрывала.
— Смолкни-ка, Людка, не тебе его судить, — повелела раздумно царевна. — Несчастный, беспокойный человек…
У Людмилы от обиды выгнулись полные уста — и не смогли смолчать.
— Ой — несча-а-астный! Царство хапнул за один присест и не икнул! Вполне спокойный инок!
— Смешная дурочка, да разве царствовать — счастье у нас? Вот нашла счастье…
— А по-вашему — бедствие али нужда? — удивилась Сабурова. — Ну так давайте пожалеем мы его! Нас-то, самых счастливых, ему жалеть неча: мне давеча дверцей чуть лоб не раскрыл, да что — я-то неважная птица, с князей и повыше головушки метут… Ведь цимбалы-то не охотника сопровождают, — сильно понизила голос Людмила, — старшего из Шуйских отпевают. Вишь, кого уже…
Царевна больно укололась бронзовой иглой, но и не глянула на аметистовую капельку, быстро украсившую руку.
— Не сочиняешь ли? — все не хотела верить подтверждению нечаянной своей догадки. — Тебя-то кто оповестил?
— Да разбалакалась заутро с конюхом вон здешним, — пожала Сабурова плечами, — с Крепостновым, он меня все и пугал: мы, бает, с тобой, Люд, по полжизни сегодня теряем: не пускают со двора нас поглазеть, как последнего из Рюричан последних лет лишат.
Ксения резко встала, отметя вышивальную раму не жестом благочестивой девицы — швырком возмущенного отрока, если не мужика.
Фомка Крепостнов поил возле колодца из бадейки своего коня да приговаривал:
— Пей уж вдосталь, до дна и до вечера. Нонче мы отдыхаем — и царь, и слуга его, наш господин, все умчались, позабыли озадачить нас.
Около колодца Ксения умерила шаги — постаралась дышать ровней. Как бы не облюбовав еще сторону для своего гулянья, даже приостановилась, сорвала кустик клевера у водоотводной канавки. Подойдя, бросила клевер в бадейку коню. Провела мягко ладонью по теплой, бархатистой вые меринка и только тогда, тая дух, глянула на Фомку Крепостнова.
— Ладен мой горбунок, Аксения Борисовна? — разулыбался польщенный жилец. — Да ты не так его милуй. Вишь, он щекотливый у меня: как рассмеется да зачнет копытами кидать — враз не уймешь. Вот — вся нега его…
И Фомка несколько раз по-хозяйски, садко хлопнул по шее коня, так что меринок, твердо толкнувшись зубами о дно бадьи и почерпнув воды в ноздри, гневливо зафыркал: ну ездок-человек, и попить путем не даст.
— Послушай, Фомка… Просила я тебя когда о чем? — спросила, бледнея, царевна.
— Господь с тобой, Аксения Борисовна, твоей ли милости нашу гадость просить?! Да я и не разрешу, — испугался и отступил конюх. — Надо че — вели, сразу приказывай… Ну, конечно, лучше — дозволительного и непрекословного царю…
— Велю, велю, молчи, не продолжай, — тогда скороговоркой перебила Ксения. — Мигом ока наряжай коня!
«Слава-те, на вот-те», — покривился Фомка про себя, но вслух будто тоже заторопился:
— Чего проще, это мы вмах… А кудыждо седлаться-то? — будто на миг остановился, брови разняв, опростел лицом Фома. — В Бел-город, что ль, на рынок, али в Кремль? А может, не рыща зазря, мы тебе эту безделку и тут, в терему али в припасах у князя, найдем?.. Надоба-то в чем?
— Да безделушка сущая — нужен мне твой государь, — отвечала смиренно царевна. — Скачи, Фома, ради Христа! Вороти ко мне охотника, нагони на Москве еще — скажешь… я зову.
— Неужто уж соскучилась, голубушка? — изумясь, засмеялся Крепостнов. — Обожди, сердешная: потешится, отдохнет Дмитрий Иванович наш и возвернется, куды денется?
— Нет, я соскучилась! — настаивала Ксения. — Не умирай, Фома, седлай коня!
— Ну так раз так, — покорился Крепостнов. — Будет уркать-то, глот! — раздосадованно гаркнул он на меринка, за науз воздел его голову над бадьей. — Ишь надулся, татарский бурдюк, как службу сполнишь?
Фомка еще медлил. Взял бадью, плесканул в водосток:
— А коли царь-то не послушает, не повернет, Аксинь Борисовна? Может, он и признать не захочет меня?.. Да и не поверит царь! Чай, он уж на Сокольники настроился, а тут… пойми.
— Он повернет!
— А не передумаешь, не смилуешься, радость-госпожа? Рассуди — ведь у тебя полюбовная блажь, а меня в кнуты дадут, коли там что не так, не эдак…
Ксюша быстро свертела с пальца лучшее колечко — жаркий лал, протянула Фоме Крепостнову:
— Царь этот камень признает — поверит тебе. А сослужишь службу — перстень оставляй себе в награду, только не веди время, оттаивай, Фомушка, мороженое чудо!
Но жильца как подменили: вместе с уразумением неслыханной ярчайшей платы за работу Фома наконец проникся страшной важностью своей поездки: в его руках мелькнули — пахва, потник, бурое седло, соловый[147] конь, трехзмейная ногайка… — и не успел меринок хвостом во второй раз махнуть, как вынес Крепостнова за ворота.
Торжественное выражение для встречи чуда медленно сползло с лица Отрепьева, стремглав взлетевшего под свод надсенья, — обнажило смуту и досаду пуще прежних.
— Конечно, палата светла да щелями утла, — усмехнулся, поведя глазами окрест Ксении, и уже не возвращался взором к ней. — Зёва я, недосмотрел… Хотя чужой роток указом не задернешь. А раз уж узнала — так скажу: ты, милая, сама премудрая царева дочка, должна бы понимать. — Весь привалился к стенке. — Умысел Шуйских доказан. В какой земле непримиримых тристатов[148] щадят? А я гублю из них одного старого заводилу, шапка на нем давно дымит. Земля в Кремле уже под ним урчит — есть просит.
— А ты не тронь! Ведь видишь — недолгие лета ему летовать, — на своем твердо стояла и ходила кругом перед татем-царем, вся дрожа… — Разве ж такой в силах что сковать? Может, брякнул что неосторожно на заднем дворе. По стариковской привилее[149] — не кривить душой, взял да назвал самозванцем и Гришкой тебя… Так ведь то многим ведомая и простая, как… полено, правда! Ты-то знаешь! Об этом уже и собаки не лают. Только доносчикам нет перевода, они тебе что надо наплетут…
Отрепьев сел — страстная торопливость, с которой Ксения убеждала его спасти Шуйского, опережая княжью казнь, передалась и ему. Отрепьев теперь сам невольно торопился втолковать возлюбленной, что беречь князя как раз ни к чему.
Удары накр пропали за Чертольем…
Ксения зажмурила для мужества глаза, прибегая к последнему:
— Если крестного погубишь… ты лучше забудь, как меня зовут.
И Отрепьев зыркнул первый раз в ее лицо, припечатался к лавке.
«Вообще, что сказала-то, крестная сила? Если погубят, то… А если — всего-то делов — старикана прощу, уже и не смей забывать! — светлой легкой картечью влетело в Отрепьева, и прежнее знамя воспрянуло в нем. — Что этот хищный сморчок для нее? Повод, проба, причуда! Она же в первый раз со мной, как девка с парнем, говорит!»
Царь мягко встал:
— Ладушки. Лада меня уломала. Ан по-твоему быть.
Строя с трудом державный шаг, прошел по комнатке к окну. Персидский зверь, высунувшийся было из-под лавки, убрал назад предосторожную голову.
— Эй ты, кто там?! Фома! Не рассупонивай коня! Смотри! Лови! — Отрепьев метнул в слугу, кинувшегося под окно, своим дорожным колпаком — с опушкой из серебряного соболя и лучезарным орехом с пером впереди. — Мчи — маши им, ори — дорогу царскому гонцу! На Пожаре Басманову шайку покажешь: мол, Шуйскому льгота выходит, царь миловал. Дьяков, какие там есть, в Кремль гони и сам в оборот жми — сказаться: поспел али как?.. Стой! Фома, не поспеешь, хоть сам там на плаху ложись, постигаешь?
Окончив распоряжение, царь присел над персом на скамеечку и, уперев в клепку сабли подбородок, изготовился ждать.
— Не убьется? Успеет? — невольно спросила царевна, прислушиваясь к бешеному ходу всадника, покинувшего двор.
— Едва ли… Но может и то и другое успеть, — отозвался ободряюще монарх.
Стали ждать. Кисея на двустворчатых окнах висла без шевеления, но откуда-то веяло — с нижней ли сенницы? — простыми и сладкими травами. Внизу — ни петух не взыграет, ни пес не лайнет. На близкой усадьбе скрипел блоком с цепью колодезь — так нарочито медлительно, словно обстоятельно обсказывая всем свое и всем обещая такое же последовательное большое разочарование. Или он только возвращал погорячившиеся стрелки времени на их старое место?..
Ксения присела было вышивать — стежками цедить через зендень время, но работа не заладилась: потревоженный домовой вязал тишком узлы, нитка рвалась.
С площадки гульбища заглядывала в окно Сабурова, мерцал из тьмы под лавкой перс, немного выходил на свет и снова поворачивал в убежище.
«Невозможно быть, чтобы именно я был казнен! Потому как нельзя-то казнить именно меня! Нет, так дела не деются! Я стар летами, древен родом, всей Москвой чтим… Хоть как дядю мово, при молодом Годунове, по крайности бы — тихо монахом остричь, ну, отослать подале, а там через год — ну, через полгода — бесшумно прищемить. Вот же примерно как по хитроцарственной науке полагается управиться со мною! Ужели на престол и впрямь вскарабкались одни беспутные мальчишки, смешали все по неумению?»
Мозг Василия Ивановича Шуйского за шатающимися прутами передвижной клетки рассуждал отрывисто и чисто — почти собачий, чувственный, еще искал спасение хозяину в его роковой час.
«А вдруг насупротив: дело гораздо хитро? И тот, кому велено было подумать, подумал-таки? И все сие — погань-решетка, цимбалы, давленые улицы — только лукавое действо, глумливый один обман, чтобы меня пощадить принародно, вдруг жальливый указ зачитать и пуще приворожить к самозванцу дуреху Москву?! Да так и есть! Ведь инако статься и не может, я ж сам их к этому подвел. Как я держался верно под судом: сразу признал все, что им только втемяшилось; тут же от сердца покаялся. Потом: я почитаем Москвой, великолепен родом, я годами древ…» — снова и снова перебегал Шуйский мыслью все выгоды своего нынешнего положения и освежался мгновенно подувшей надеждой. Эта надежда — даже ясной верой — сладко царствовала в нем какой-то миг… Но лишь миг: от толчка неотесанной мостовой клетка с визгом скашивалась набок, князь хватался за кривые колья, и старое сердце его, зачастив болезненнодробно по тревоге, вдруг теряло упование…
Как страшно любопытство ровных лиц, преследующих княжеский последний поезд! Что зевакам сан, порода, правота — да любой чужой живот вообще! Не так ли и при Иоанне… Надо кричать! И дальше каяться, дурить, молиться, — надо же чем-то бирюков пробрать, чтоб у них лапы повисли и не сумели… Не должны, не смеют… Што ж это шея-то ноет и ноет? Аккурат меж позвонцов так и взламывает! Ах, мыщица от затылка распрягается!
— О Всеблагий, кару ярую я бесчестно выслужил, и пощадить меня нельзя! — воспел князь Шуйский так прекрасно, что поспешающие обок горожане вскинули в одном срочном порыве лица на его решетчатый рыдван, начали запинаться и сшибать друг друга. — О толпа честная! Об одном скорблю — ни разку не целовать мне боле разудалых ноженек царя!
«Изготовлюсь так: как голову обрубят, — неслось в голове Шуйского, — сразу хвать ее да опять точно приставить. Все удивятся и меня как чудо Божье сохранят. Тьфу, — одновременно думал он, — недоуменье сущее: глаза-то в голове останутся, как я слепыми-то ладошками — куда она закатилась — найду?»
Князь тряхнул головой, раньше времени гоня неумелую.
«Еще один кут-поворот — и Пожар. Да уж хоть бы узнать… Надеждой я обманулся или унынием прозрел?»
Среди пустыря, заросшего и зыблемого людом, малый холм продолжался невысоко вверх помостом, абы как сложенным из сосновых бревен — похожим на невенчанный плохой амбар. Разве что амбар венчала круглая колода с воткнутым в нее тяжелым топором. Туда вела с земли лестница — редкими ступенями. На нижней ступеньке посиживал в красной рубахе палач — тощий, но саженного роста, с покосившейся саженью в плечах, да стоял с ним рядом тоже большой, смирный священник.
Дьяк Сутупов первым спешился возле помоста, взбежал наверх и быстро, сбиваясь на лай, огласил приговор — точно сам опасаясь малым дольше задержаться близ пня плахи. Шуйского вывели из клетки и ссадили с телеги. Никакой дополнительной грамоты о пощаде князя на руках у дьяка не было, он уже вниз с лесенки сходил. К Шуйскому подошли священник с палачом и, заглянув ему в лицо, взяли с боков под руки — повлекли к помосту.
Ум Шуйского оставил все свои заботы, князь уже не знал ничего про немеющую голову, исчезала в плечах шея… Только сердце, избавленное от разумения, било куда-то все туже и ниже, приглушая ударом удар.
Этим безумием Шуйский и понял, как дорог ему пятачок с диким помостом, затопляемый невозмутимо-пытливыми, милыми лицами, — последний вымол[150] на краю земли. И высоченный палач с запавшими под костяное надбровье светлыми глазами позднего философа, и этот поп с усами стрелецкого доброго сотника, и бревна с глянцевыми пятнами смолы, неплотно, да прочно, с устатком вбитые друг в друга, и подсобная калитка плотников под лестницей. Весь низменный, верно и необъятно стеснившийся тут мир оказался страстно, недолюбленно любим и к себе же ревнуем отвергнутым вдруг князем — тот самый нищенски и воровски счастливый мир, которым с высоты живота брезговал князь вечно.
Священник в двух словах препоручил Всевышнему мятежника и осенил крестом, пожелав ему «Аминь». Князь, опешив, посмотрел на фигурку Человеческого Сына в перекрестье четырех путей. Князь впервые, наверно, за час вспомнил о нем и побоялся поцеловать.
— Уважь, зайди, хозяин. Чести просим, — пригласил тогда палач и опустил широкую ладонь на спину осужденного, легко направив его к лестнице.
Шуйского как будто разбудил такой обычайно-приветливый возглас.
— Выслушай, свет-батюшка, искуснейший головотяп, — шепотом обратился князь Василий к понимающему палачу. — У жди чуток — нуждишка круто прихватила.
— Ну здравствуйте, — кивнул безучастно палач. — Понять — еще бы! — можно, да уж где тут валандаться? Чай, вытерпишь до топора? Всего-то шаг шагнуть.
— Ох, родненький, не донесу. Избавь от сраму — принародного обделаюсь. Да вон и у суда спроси — нам полагается справлять последнее желание!
Подошедший и слышавший о нужде корифея измены Басманов поморщился, кивнул палачу. И тот, поддав плечом, открыл плотницкий ворот и Шуйского пустил под мост…
— Не знаете, по какой нужде он пошел? — подождав, уже спрашивал Басманов у священника и палача.
— Ладно, и так и по-другому уже долго. Хватит, — сказал палач и пнул на выдохе калитку, но чуть не опрокинулся с вынесенной ногой. Тогда он поднатужился опять плечом, рядом уперся в дверь Басманов, потом еще Васька Голицын: бревенчатый ворот стоял как закопанный.
Басманов обошел сбоку помост, приник к длинной щели и разглядел: калитка изнутри приперта четырьмя мощными кольями — на одном из них, для вящей прочности, сидел князь Шуйский.
Басманов тихо застонал — толкнулся в верхнее бревно лбом. Шуйский, услыхав его стук, живо вскочил и, подхватив с земли еще один из сваленных сюда городниками хлыстов, побежал с ним на поддержку боковой стены. Но распознав Басманова, как бы немного смутился и пролепетал:
— Кого позвать?
— Скажите милостиво, это не терем бояр Шуйских? — подпел Басманов, но тут же вползлобы посоветовал: — Дуру-то не валяй, Василий Иванович! Выйди сам подобру-поздорову. Смотри: эдакой смертью ты и смерть свою, и всю жизнь посрамишь без остатка.
— Ах, Петр Федорыч, Федорыч Петр… — затосковал, отвечая, старик. — Ведь ты малявчик спроть меня — ни михиря не понимаешь ни в жизни, ни в смерти! Я-то сам шестую гривну разменял, а только нонича цену житья счел. Я теперь одного мигновения глаз, капли из ручья часов, вам просто так, за здорово-помрешь, не отдам! А кабы ты сей цене был учен, дружок мой Петруша Басманов, уж отсчитал бы мне весь счет назад — хоть в долг! Ибо чужой живот — богатство, кое не получишь отымая, но токмо — щадя! Токмо — одалживая и кабаля!
— Ты бы вышел оттуда, Василий Иванович, — предложил Басманов, — и всем рассказывай.
— Ведаю теперь, как жить! Хоть от начала начну, а ты говоришь: помирай! — не слушал мятежник воеводу — громко мечтал, заставляя слушать, кого мог. — О-эх, начни я сызнова, разве бы такожде жил, куда лез бы? О нет, да… я остался бы под бородой и жирами дитем: просто всем на радость глядел бы окрест, дышал… может, понюхал бы что да в деснах растер! О внял бы ты, Басманов, как же любо мне все ваше естество! Вот сызмальства людям-то бы, Петя, в соподчинении возлюбленном ходить, а не сапы[151] рыть друг дружке! Не козни строить — из корысти малой, а гордыни прямо сатанинской!
Возле Басманова священник тоже припал к щели со своими наставлениями:
— Окстись и изыди вон, седовласое чадо! Припозднилось скучать о греховной земле! Тебе бы уже постеречься жупела геенского, поалкать о небесех!
— Уйди, святой отец! Отойди от греха как можно дальше! — взъярился вдруг Шуйский. — А то как садану жердиной через щель — самого в дорогу соберу! Сроду и стерегся, и стихи читал, хоть теперь, поп, ослобони! Не знаю ничегошеньки, что там у тебя на том невидимом свету, и видеть не хочу!
Голицын суетился с другой стороны помоста: он принес палачу его топор с требованием разбить калитку. Палач приосанился, став еще длиньше, и, сложив руки на животе, заявил — с пониманием, сколько это стоит:
— С деревом дела я не имею. Просто мое мастерство тоньче. Я умы у человеков обрубаю. Умственное у меня, как не поймешь ты, ремесло…
Голицын, заругавшись матерно, подшвырнул стрельца из стражи к топору. Страж, три раза смазав по бревну, покрылся влагой и ослаб. Расправный топор рассчитан был на один вольготный взмах богатыря — ни для чьей другой заботы.
У караульных стрельцов, как на грех, не оказалось с собой бердышей или дротиков, только — ради опасности торжества — посеребренные сабельки да способные пистоли.
— Глядите! — заметил и Шуйский. — Даже топор ваш и плаха моя против вас! Это знак! Басманов, отправляй нарочного к царю — знак был, старика надо помиловать!
Между тем Москва за кругом стрельцов, вначале не придавшая значения уходу осужденного под плаху, принявшая это, может, за какой-нибудь новейший судебный обряд, постепенно разгадала его смысл. Лениво запрокидывала шапки и тянула рты, следя за хлопотами воевод и царапаньем стрельцов вокруг помоста.
— Глянь, Кирша, во боярин-то засел! — уже вдохновлялись брехословы-смельчаки. — Скоро топерь не выйдет!
— А ты не так думал, Мокейша? Разе обеды боярские скоро выходят?!
От крикунов по жесткой целине толпы пролегли первые веселые бороздки.
— …Да не в том смысел, Кузьминишна: он же ишо не приступал — он терпит, выжидаит! А как стрельцы отважатся на приступ — вот тут он присядет в аккурат! Начисто неприятеля сметет!
— Энти-то, вишь, уговаривают, — никак, прельщают чем? Да куды! Он там — што атаман в станице, голыми клинками не возьмешь!
Смех, прыгающим звонким плугом все быстрей переворачивая, обновлял пустырь. Грозное дело, для которого людом покрылся пустырь, будто скрывалось пугливо из виду, пропадало на краю души людской…
Василий Голицын, чувствуя волны позора в чреслах от веселья наблюдателей, уже не скрывал бешенства. Подскочил к человеческому краю, крикнул, торопя кого-нибудь передавать ему топор или кайло.
Последние его слова поглотила разыгравшаяся ненасытно смеховая жадность зрителей.
Один с виду положительный мужик в первом ряду позвал Голицына:
— Уговор, барин, — пятиалтынный вперед!
Голицын судорожно поискал в калите и швырнул в посадского серебряной монетой. Тот чудом поймал, сам полез правой лапой куда-то за пояс и, размахнувшись, запустил в Голицына кривым ржавым ключом:
— Побежи ко мне домой: там прямо в сарайке и налево, как в корыто упадешь! Там под ветошкой и все оборудие стоит!
Подбежав, Голицын черканул кулаком, но добропослушный мужик ловко пригнулся, нырнул между соседями и сразу растерся в толпе.
Ржал народ честной. Если сперва внезапная спотычка действа потянула плуг веселья, то теперь уже сам смех легко направлял и подвигал дальше всеобщую бестолочь.
Весельчак Голицын без ума остановился с неразжатым кулаком, — кажется, впервые все вокруг него подрагивало, колыхалось, держась за бока, а он — нет. Всегда было наоборот… Кулачок Голицына, сроду не ярившегося, лишь насмешливо и благородно соблюдающего свой прибыток, быстро разжимался. Князь Голицын вдруг вспомнил, что забавник-прощелыга удержал-таки его монету, оглянулся на крепенький домик помоста с пустым пнем на крыше и сам неожиданно прыснул в обмякшую горсть… Дернул вбок бородой и глубоко вдруг закатился — до икоты.
— Э, пошто собрались-то, я забыл?! — кричал кто-то. — Привозили, што ль, какого-то разбойника?!
Скалились стрельцы, ковыряющие мост, поп перекрестил стыдливо тряское брюшко и извивающийся рот.
Одним броском палач сорвал с себя червовую рубаху, повязал на топор и, куда-то глядя вдаль над несечеными пустыми головами, ушел в толпу.
Только Басманов все упрямился, крепился.
— Князь, полно! — кричал он в сосновый проем. — Все одно же выведем, будет людей-то смешить!
— Ах, Петруша, веселить-то — не тяпать их! — в ответ учил Шуйский. — А вдруг я, кроме того, как потехой ободрил честных християн, ничего лучше для них во всю жизнь не соделал?! Для изгоревавшихся моих! Студившихся при лютом Годунове! Проплаканныих!.. Басманов! Чем брата пожрать — не полезней ли возрадоваться с ним? И не лепо ли бяшать, и ржать, и гоготать с братом купно?.. И главное, не время ли, Петр Федорович, нарочного к государю? Так, мол, и так, больно уж по дедушке Василию простой народ заходится… Дескать, сам-то он давно спознал свои ошибки, тужит жутко и вроде как для пощады дозрел?
Наконец Басманов тоже мученически улыбнулся — так, что на глаза вынес слезы. Голосом с угрозой, сквозь которую светило все же облегчение, посулил Шуйскому:
— Хорошо, попробую что-нибудь сделать для тебя. Можешь вылезать покойно.
— Ты делай, Петюнь, делай, — пропищал в деревянный проем лиходей. — А я как угляжу, что свежий пергамент везут, сразу и выпорхну.
Отнявшись от бревен, Басманов заспешил к коню.
— Чтобы к моему приезду выцепили этого! — погрозил он кулаком с нагайкой стражникам. — И держать старого плотно, но рубить — погодить!
Воевода толкнул жеребца плетью и шире взвил плеть: великая толпа кипуче раздалась — словно живое море выпускало человека из свирепого Египта на раздолье Израиля. Пошла, очищая пустырь до земли, неширокая волна — на Фроловские ворота.
В бегущий дальше коридор Басманов двинул было коня, но снова принял повод. С другого конца коридора навстречу ему поскакал другой всадник — на блистающей морскими хлопьями, из крайних сил бросающей копытца лошади. Сам всадник, высоко — на прямых ногах — стоя на стременах, что-то кричал и водил в воздухе… вроде бы соболем с узким, летящим пером.
Пенный конь кое-как пробежал мимо верхового Басманова и, разворачиваясь, заплел ноги возле помоста. Соловый меринок перевернулся через голову, а седок с подлетевших стремян — как ныряльщик или даже голубь над ковчегом — воспарил над срубом с плоской палубой, повалил чурбан плахи и целокупно с ним, ослабившим удар, глухо гремя, покатился по бревнам.
Вся площадная Москва, а под конец и сам царь узнали, что обреченный спасен.
Душа человеческого ожидания — та же певчая птица, покрытая ловчим мешком. Так же сдавлена, стемнена и в тоске безуспешно частит короткими крылышками воображения. Но едва покров проклеван или по чьей-то доброте открыт — это пришла упованная весть, — птица тут же взмывает, полощется ветром еще безоглядней, становится одним необъяснимым звуком.
Вот и с приходом известия о выручке Шуйского башенная комнатка, где томились Отрепьев и Ксюша, взошла к певчему солнцу успокоения.
Отрепьев, улыбающийся, ясный, нагнулся, вытянул из-под скамьи персидского кота, и кот на сей раз без тревоги пошел к нему на руки и на колени.
— Успел Фома, а что я говорил? У меня, если сказано… — с удовольствием заметил самозванец. — Ну, о чем поешь, Баюн-Мяун, заморский зверь ученый? А давай, как в сказке про царевну Несмеяну, отолью тебе, кот, цепь из чистого золота, поразвесим — и вперед… Ксюш, как думаешь, этот ученый по златой цепи пройдет?
— Он-то, может, и пройдет… — недоговорила с невидимой улыбкой.
Отрепьев не сразу, но понял, ссадил на пол перса, решил поговорить о другом:
— Одно не пойму: что так за князя-то вступилась? Кажется, даже Борис Федорович с Шуйскими лаялся все только, враждовал?
— Не все только, они и ругались, и ладили, — ответила Ксения. — Когда я маленькой была, князь Василий часто к нам в старый терем заходил. Он тогда статный был еще такой, веселый, всегда мне что-то приносил. И знаешь, няньки долго вспоминали, сама я не помню, — как свечереет, он один убаюкать меня и усыпить как-то мог.
— Ну, нас с Басмановым не убаюкает, пусть и не пробует, — кивнул Отрепьев — он понемногу уже огибал раму с распяленной тканью. — Но когда я дивлюсь на паненку мою — на сербалинку[152] с шипами, мнится — попадаю в сладкий сон…
Молвив так медлительно и нежно, Отрепьев Ксению взял за плечи и, быстро прицелясь устами, склонился над ней.
Но уста их не взяли друг друга: «сербалинка» — как ждала — прянула станом назад, выхватывая из шитья булавку, и закусила ее зубками, шипом вперед.
Влюбленному пришлось поджать — убирать подобру-поздорову дерзнувшие губы.
— Ты же сама сегодня… — снова царевич улыбался озадаченно, потягчел на язык. — Сама сегодня учудила… то есть учредила: старика казним — и вся любовь, по имени уже не назовешь… а ежели отменим…
— То? — ткнула бронзовой занозой в нижний угол пялки, возвела на удальца из-под рефейных[153] нитей теплые больные отблески. — Может, и купчая уже подписана?
Розовое зарево ополоснуло виски, щеки Отрепьева, а весь он потемнел ненастно. Стоя, он загромоздил всю башенку и сам изнутри беспомощно загромождался слепой тучей своей чужеродности всему, что дорого ему и мило здесь.
Стоять под такой погодой нелегко, и Отрепьев побежал. С размаха отбросил перед собой низкую, оправленную в медные бекасы дверь: девка Сабурова, не найдя на сей раз времени отпрыгнуть, с красным тавром во лбу помчалась по ступеням вниз…
— Фомка, где ты, свистун толоконный?! Аргамака моего подай! — Миг погодя несся уже со двора от лютой досады мужающий голос царя и вдруг перешел на ор: — Да ты что? Обмихирел, Крепостнов? Я тебе для того свой убор поручил, чтоб ты себе его на вшивую башку цеплял?! Как это ты смел?! Так ведь царем и ходит, клоп! Вот скверна еще!..
Слышался садкий звук ударов, слабый, — Фомкиного оправдания.
— Что ты допонял не так?! — все уже перекрывал один забвенный вскрик Отрепьева. — Еще ручонками, враг, укрывается! Ну-ко лапищи по швам!.. Стой! А ну лапу обратно покажь! Это ж царевнино кольцо с рубином… Ах ты, вор, хороняка косая! Не сходит, да?! Давай мизинец под топор! Все стянет, на что глаз ни уронит! — Опять звуки битья. — Под батоги пойдешь, в задворники — говна кремлевские чистить до скончанья животов!
Прихожая палата пела, ульем елозила в поджидании царя. Словно выбившиеся отдельно крылышки работных пчел топорщились, бродили шапки-столбунцы бояр в волнистом воздухе.
Узкий тебризский половик, ведущий по гладкому дубу от сеней к престольной комнате, разделял рубежом на два плотных лагеря Думу. Совещающиеся единомышленники жались — от пограничного половика одаль — ближе к глухим узорам стен, к уступам двух печей, уходящих в свод сотами-изразцами. Стоящие близ чистой «царевой» полосы почти не говорили — мялись осторожно, но туманное смятение соединяло всех.
Забывая придать взору толк, «порубежные» вели очми по густописи свода: там, раскидывая крылья по-орлиному, парили огромные синие бабочки и, сшибаясь, бились крыльями за сладкую блистающую пыль.
Весть о прощении Шуйского, всех поразив, упала секирой на одних, а других обдала освежающей манной. Все князья Сицкие, Катыревы-Ростовские, Щетинниковы, Волк-Приимковы и Стародубские вдруг разогнулись духом, разогнались мысленно. Привычно — как во время оно — забурлили по-тетеревиному между собой. А вскую[154] бы и нет? — коли с такого маститого зверья, как Шуйские, шкуры не рвут — младшим горлаткам подавно дрожать не стать. Тертое большинство старой Думы не припоминало, чтобы владетельство царей когда смягчалось от уверенности в своей силе — да таковой глупой полной уверенности и ни у какой власти, пока в молодом да здоровом рассудке, вообще не может быть. Значит, у грозного «потомка Иоанна» где-то засквозила слабина.
У всех стоящих по другую грань половика, ярых, без году неделя преуспевших, плохородных Ляпуновых, Грамотиных, Воейковых, Мосальских, давеча отстаивавших гибель Шуйскому, сейчас было прохладно на душе. Они также покуда не знали причины снисхождения к изменнику, но если по ту сторону неведение это строило терема надежд и упований, здесь оно только крепче вкапывало рогатки опасения. А надо бы — хоть через силу — улыбаться, равнять по стоячим воротникам затылки, и самим небрежно обласкать «тех»: «вот, дескать, порадуйтесь, да не шибко — торжество в вашу улицу сегодня с нашего-де промыслу допущено. Так что никто не в накладе: под полой порфиры государевой, чай, мы себя самих не объюрим!»
Но не нашлось, не оказалось в калите ни затеи, ни улыбки — одна корзлая наледь, колючая лють. Дмитрий опять запропастился где-то со своим польским коблом, а без царя и спросить некого: на кого без исполнения оставлен приговор? Ведь не из-за скоморошины же на Пожаре такая казнь пропала… А с чего? И казалось — «те», вдохновенно квохчущие у противной стенки, давно посвящены во всю истину, и, глядя на них, позывает тоже сбиваться в укромные, неугомонные кучки, только выдавая тем неведомых себя…
Царь появился как всегда — вдруг и невесть откуда. Взбежал по ворсистым ступенькам, отбиваясь на ходу локтями и ладошами от назойливой поддержки многих рук, первыми встретивших… Думные мужи, старые и новые, налево от дорожки и направо, быстро поклонились в пояс: земно перед царем давно уж не ложились — пока прострешься, пока встанешь, пробежит мимо, прескорый! Потом догоняй!
Князь Волковысский, уже не дерзая касаться повелите-лева рукава, только водил вокруг Дмитрия — как волхв вокруг чудесного костра — перстами и пел:
— О светозарный и родной, возблагодарены еси, что пожалел нашего спятившего тщетно князеньку! Упас от растерзания своими добрыми зверьми! («Добрые звери» слева, задохнувшись, подались вперед.)
— О воздадим, боляры русские, хвалу пресправедливому могутному великодержцу!
Тут Волковысский неприметно покивал одной ладонью вниз, и все стоявшие направо от ковра, спеша, валя один другого, все же порушились на тесный пол, перегородив царскую дорогу. Стук лбов и колен затопили хвалы…
— Да токмо слышно, государь, что, — прокричал внезапно громче всех князь Реполовский, и древние роды одним хамком сглотнули славословия, начали подыматься в рост, — погонят князька Ваську на Белоозеро — в заток, навек. Норовить хотим твоему великосердию и, дабы в зачатке не смерклось оно, сразу рекем: лучше бы ты доказнил тут Ваську площадно, понеже в железах в том скорбном краю — старик Васька, дряхл, рыхл, и году мучищи не вытянет…
Для левого полукольца бояр это было уж слишком. На тебризскую дорожку вышагнули служильцы Вельский и Рубец.
— Видано ли дело — с перва слова цесарю перечить? Да еще кривить! — взвил Вельский бабский альт. — И не воротись, свет Удача Никитич, от моих седин, а устыдися их! Знаешь сам — сравнительно со мной Васятка Шуйской молоденек: он ишо в городки воевал, когда мы с его дядей, при Мучителе, от польского Батырия во Пскове заперлись… Уж тут все позабыли, сколь мне и годов! Аз всего-то второй месяц, как из места пуста, с-под самого Нижнего Новгороду ворочен, — ништо! Уж там в заволжских сибирях густых — за непокорство самозванцу Годунову — уж вот пропада-ал! А нонче? Яр и прям! Посылай, Дмитрий Иванович, хоть в мытную службу, хоть в катную, не на белый Север, так на белый Юг — безропотно проследую, вечный царев слуга и негодяй строптивый! И не ждите, не стану на рыхлые лета кивать да болячки выпячивать перед моим государем!
— Так ить, — протолкнулся вперед князь Хилков, — бы иному молодцу твое здоровьишко, Богдан Иаковлич! А опальный Василек тотчас повянет!
— То-то завял! — крикнул слева Воейков. — Как под плаху ворвался, каковские бревны ворочал — помост изнутри замыкал!
— Дозволь невместный вопль извергнуть, цесарь-свет! — правее выступил боярин Казарин-Дубровский, бывший на Пожаре. — Когда указ о миловании на Пожар пришел и Шуйский его выслушал, он те самые хлысты откатить как усердствовал, а не сумел — все одно высекать пришлось ход-то.
— Да ну? — удивился царь новому слову о казни.
— Ну! А так часто случается, — подтвердил князь. — Как страсть подступит — наш знатный человек весь крепнет, что ли? Раз, когда Москва горела, я супругу на руках вмиг из хором вымчал, а потом сколь раз нарочно пробовал женищу вздымать, но не мог.
— А мы от шведов раз бегем на Кольском полуострове, — влез молодой князь Щенятев, неясно с какой стороны. — Уж и мы до нашей крепостицы дочесали, и они нас, почитай, нагнали! Я ка-а-ак прыг: копьем толкнулся и через забор к своим перелетел! Потом понять не мог…
— Вот мы и подаем совет, — воротил разговор на свой круг думный князь Пронский, — ослабленного с казни человека на холодное озеро не посылать, а поселить хоть чуток ближе к родной полосе, да хоть в какую есть слободку Ярославля али Галича?
Государь не узнавал своих бояр. Один за одним, без понуждения, ступали они вперед. Говорили чеканно, раскованно.
— А пошто селить в Галичи?! — справа спрашивал напрочь прежде глухой Волк-Приимков. — Единой пользы ради — воеводой в Новгород послать!
Не будь властитель грустно озадачен лженаложницей, заставил бы себя поразмышлять царем. Но тут он разорвался просто, вскрылся со всей силой пересиливаемой пустоты — сказал душевным полушепотом, но многие услышали:
— Мои милосердные… Што ж мелочитесь, боляры? По кусочкам складаете наново истукана своего, буй-кабана… Валяй прямо: коли сажать сродника, так уж на самый престол! А в Галич я подамся — к родовым местам поближе, так ли любите?
Ближние «думцы», разом зашумев, взмахнули тяжкими мерцающими рукавами, освобождая для царя в толпе собрания тебризский ход. Дьяк Власьев зачихал громоподобно, сгибаясь в три погибели, расталкивая ферязи сосредоточенным челом.
Воин-гений
У золотой решетки Среднего крыльца стояли и беседовали юный царев стольник, почти мальчик, в белом объяре[155], и Кшиштоф Шафранец, польский часовой. Розовощекий стольник внимательно исследовал, вертя в руках, пистоли и саблю гусара — работы краковских мастеров. Почтительно простукивал кирасы, прислоненные к решетке, и взвешивал их в руках.
Стольником был Миша Скопин, потомок удельного князя Скопы, пустившего свою ветвь от родового древа Шуйских.
— А эти лыжины в седле не мешают? — спросил он Шафранца, указывая на дуги крыльев, выкованные у лат за спиной. — Неуж с ними вольготно рубиться?
— Так. Свободно, — кивал с достоинством гусар. — Но не совсем.
— Хотя… Пожалуй, сгибы-то наверху защитят голову и шею от ударов саблей сзади? — прикидывал стольник.
— Того не знаю, я покуда к врагу не поворачивал тыл, — гордился, скалился поляк. — Пан все так дробно разбирает, точно надо перенять экипировку… Или уж собрался с нами воевать? Глядит, с какого боку бить?
— Да мне всякое оборужение нравится, — просто отвечал юнец. — И воевать я со всеми хочу.
— О, да ты, друже, зух! Такая речь по моему вкусу! — медно расхохотался Шафранец и хлопнул в плечо невысокого стольника так хорошо, что тот прошел назад шага два. Но юноша вернулся, изловчился и так сердечно пхнул Шафранца, что гусар заполоскал, как орел в буре, дланями и, перелетев свой кирас, рухнул на камни.
Рыча и смеясь в одно время, Шафранец вскочил — «ах, москальска пся крев, держись!» — потянул кривую сабельку: по ветру распылю!
И Скопин с удовольствием вынул саблю — ясно, чисто зазвенела сталь. Почуяв ответную твердую руку, поляк вдруг отступил, выпрямил клинок перед собой. Поняв, и русский подошел — быстро смерили стальные полосы: от плеча до плеча — поровну, меч Скопина был вершка на два длиннее, зато рука его «на так» же короче. Снова распрыгнулись, правую ногу вперед, и пошли свистать.
Кшиштоф Шафранец, гроза всей поемной Мазовии, удивленно вспотел. Розовощекий стольник дрался выше туземных похвал. Прыгал он еще немного мешковато, в осанке и движениях не было у него пока отточенности и щеголевато-правильного артистизма, как у Кшиштофа, но он не смаргивал, как все новички, когда неподалеку от своего носа в снопе искр отбивал удар; не бегал взглядом за клинком противника, глядел ровно и неотрывно Шафранцу в глаза и видел при этом всю сражающуюся его фигуру.
«Где малый успел приучиться к мечу? — в запале недоумевал Шафранец. — В этой-то свежей земле княжьих наветов и простонародных кулаков?.. Нет, уж, видно, родился ученым!»
Скопин скоро по одному блеску глаз поляка стал заранее определять, откуда тот черкнет клинком, и начал гусара теснить. Шафранцу, еще не отошедшему с вечернего похмелья, приходилось все туже, но о сдаче он и помышлять не смел, тем более на звон зарубы шел отовсюду кремлевский народ — стрельцы, немцы, челядинцы и свои, казаки и поляки. Заживо пасть в глазах товарищей ему, непревзойденному бражнику и забияке, не виделось человеческой возможности.
Уже прижатый к позолоченной решетке, поляк свободно улыбался — в мокрых ощетиненных усах. Наконец он ухитрился, изо всей остатней дури саданул по хребтинке клинка Скопина — в пол-локте от основания. Русский клинок концом врубился в решето ворот и с отвратительным взвизгом переломился.
— Хвала, Кшиштоф! Хвала! — возликовали, тряся саблями, гусары.
Шафранец, посадив обломок стольникова палаша на свои ножны, завращав их высоко над головой, побежал триумфальный круг. Стольник стоял — чуть не плакал, жаль было дедушкиного оружия. К нему стали подходить товарищи, знакомые: каждый, видя большую печаль, утешал, брал за плечи, таскал за откидные рукава, — видно, стольника в Кремле любили. Почувствовав такое общее участие, он вовсе прикусил косо губу, зашмыгал глубже…
— Пойдем, Миша, со мной: в Ружейке любой кончар[156] сам подберешь, — кто-то разгладил на нем отогнувшийся ворот.
Стольник быстро к тому обернулся. Петр Басманов, глава Стрелецкого приказа и государева сыска, стоял, смотрел тоже любя. Узнавшие воеводу зрители, даже челядинцы и поляки, сразу заскучали, стали расходиться по делам: привяжется лешак, потянет в сокровенную избу, замучает: «Камо да на кого? Да кто? С какого ветру налетел? Промысленно али бескорыстно?»
Но Басманов ни о чем не стал пытать, повел стольника Кремлем.
— Если бы палаш не изломался, дядя Петр!.. — проговорил, уняв сопли обиды, Михаил. — Я бы сделал ляха, восторжествовал!..
— Видел, видел, — одобрил Басманов. — Ты хорошо, Миша, делаешь, что зовешь меня по-старому — дядей Петром. Не сердишься, что дальних родичей твоих малость окоротил, скажи по чести?
— Сердился было, а теперь… как приговор на Галич заменили… — смутно пожал плечами Миша. — Отец говорит: вас с государем все чествовать только должны.
— Отец говорит? А сам как разочтешь? — нахмурился было Басманов, но, заметив цвет неловкости на Мишиных щеках, забрал назад вопрос. — Ну, не буду, не буду. Знаю, вижу тебя. И на спрос не приглашал, хотя братья-разбойники не очень далекая ваша родня. Но я всегда ведал, ты, Мишук Васильич, к сволочным делам не годен. Помню, как при озорстве Хлопка, когда еще Ванька, мой брат, гинул, ты булатно себя показал! Не такие бы проворные мальцы тогда — весь Скородом от вала и до вала лег бы граблен, выжжен… Я и царю про твое смельство сказывал, да ведь он тебя прежде отметил! «Что, — спрашивает, — в старой стольничей сотне за разумник смотрит ясными глазами?» Я ему: который? А сам уж думаю: ведь с ясными глазами-то один и есть!
— Другие, значит, с пасмурными? — не польстился такой похвалой стольник.
— Не понимаешь ты! Да может — к пользе! — засмеялся Басманов, обняв на ходу за плечо, плотнее сдавив и без того плотного Скопина-Шуйского. — Царь думает нашу кисельную Думу в способный сенат перелить — на европейский и польский манер. Там и твое, Михал Васильич, будет место. А на случай войны или там смуты тоже ведаю, в ком мне опору сыскать.
Скопин задохнулся от высотной радости, задержал ее в груди золотым воздухом, удивляющим гордость, и хотел еще вдыхать.
— Конечно, не вот прямо, — поправился Басманов, испугавшись, что мальчишку унесет ветром дареной ранней высоты. — Ты, Мишутка, новому царю пока ничем не заслужил. Но не горюй: как раз ищет героя одно дельце — не страх какое жуткое, но и не маленькое… Долго мы с Дмитрием Ивановичем думали, кого благословить.
— Я слушаю, дядя Петро, а войсковое ли дело?
— А коли слушаешь, так не сбивай, — присторожил Басманов. — Ох, не перехвалил ли я такую молодь, верно — спортил. Итак, — Петр Федорович подкинул брови, раздвинул нижнюю губу углами — как взнуздал себя сам, перешел к делу: — На Москву с Белозерского монастыря едет старица Марфа Нагая — мама нашего батюшки Дмитрия. Обычай почета велит ее встретить зане — это раз, а два: надобно крепко ее оберечь на подбеге к столице — недруги бы Дмитрия засады не промыслили какой. Сопроводить родительницу государя, Миша, — редкая тебе доверенность и честь.
— Да это их кровям собачьим — честь, — сказал вечером Мише отец, — что правнук самого Скопы по требам их себя потратит. Ты, Михаил, им в этом деле нужон — как рубин сорочьему гнезду. Прямо страсть как бабка Марфа без охраны пропадет. Если хочешь, я скажу, что за твоим посольством кроется. Только, чур, не ляпни за ковшом кому… Ведь ты ж хочешь начистоту?
— Слушай, шел бы ты, отец, а? Мне завтра до света вставать, — отозвался Миша, натягивая поглуше волчий вотол и раскрывая на тюфяке перед собой — под четырехсвечным шандалом — печатанный в Кракове, трепанный здесь том Плутарха.
— Тогда я сразу суть, — поторопился, снизив голос в своем терему, Скопин-старший. — Да затем встречь матушки так названного ими Дмитрия оне шлют родича супротивщиков своих, дабы зазрение в лукавом сговоре с Нагой отвесть! А на деле-то: давно Семка-постельничий наперед со звонкой торбой проскакал!
Отец чуть обождал, предоставляя сказанному оттиснуться в сыне. Мишины серые зрачки действительно замедлили бег строк польского Плутарха, переворачиваемая страница, вздрагивая, обмерла.
— Но все, возможно, и того темнее, — продолжал старший Скопин. — А ну как Марфуша в скиту да по старости лет запостилась, отсохла от хитрого мира? Знает ясно, что дите ее давно в могиле, и отказывается нашего названца признавать?! Тогда какой выход ему остается? По дороге сочинят ей гибель, а всю вину, уж по обычаю, свалят на Шуйских, только теперь обломят нашу ветвь. Для того сей вьюноша гораздо неразумный, — Скопин слабенько толкнул голову сына пятерней, — и подпущается, смекнул?!
— Тебя, бать, только слушай — ни погибнуть, ни поспать не дашь, — нарочно зевнул Миша. — Хотя куда уж дальше пропадать? По-твоему, давно в аду сидим — и повернуться, чтоб не обвариться, нельзя.
— Хахи глумные строишь! — закручинился отец. — А мой совет — не ехать! В этот частый лес! Больным сказался и до Ильина дня со двора не выглядывай.
Кожаный переплет вскрикнул, стиснутый в Мишиных перстах.
— Отец, что ты несешь? Разве бы мы чтили друг друга, в службе покривив?! Ты ж сам с мальства меня учил: мы— ратоборцы, кмети, легионы русские! Как всадник Вальтер фон Розен говорит: сульдаты.
Отец помолчал, припоминая.
— Другие были времена, Господни, ясные, когда я этому учил, — тоскуя, вздохнул он. — Вотще выучил-то — теперь трудно с тобой.
— А мне — с тобой.
Старший Скопин махнул окончательно рукой, огоньки свечей забились пойманными мотыльками.
— Так — раз так, перетакивать не будем. Хочешь — поезжай… Да уж держи зенички нараспашку, все примерно подмечай! Ты Марфу Федоровну должен помнить, тебе седьмой годок шел, когда мы в Ярославль ходили на стружках: из-за хлебосольства ее, по гостям стосковавшейся, в Угличе неделю проторчали.
Сын первый раз чему-то улыбнулся, опять пустил в книжку глаза.
— Примечай: напугана она теперь али отчаянна? Сомнительна аль бесстыдна? Грустная? Навеселе? Как молится, в часовенках — при всех — или одна? На совести-то ейной не цветет какая плесень? Можешь даже, уловя тишайший миг, поманить ее на сокровенность — поманеньку, — ох, так: Марфа свет Федоровна, и в кого пошел ваш сын?.. Усвой сию вязкую буквицу, прегибкий двузначный алфавит — будешь, дитятко, не македонские былинки по сту раз перемусоливать, — кивнул Скопин на возлюбленную книгу в руках сына, — будешь читывать, мой сын, доносную строку бегущей настоящей жизни каждочасно!
Наутро, в четвертом по восходу часу, Михаил Скопин-Шуйский с небольшим конным отрядом на рысях подходил к селу Тайнинскому. Небо кутали столетней масти облака. Иногда, от времени до времени, вскрапывал и успокаивался привереда дождик.
Скопин любил дальние поручения верхом, тяжесть кремлевских обедов терялась в них. Кроме того, в поездках стольник узнавал все стороны своего края, видел всюду поверстанный ратно народ. Если в престольном городе этот народ сильно ловчил, плутовал, то в небольшом отдалении он уже работал так упрямственно, сурово, навалом, будто с кем-то воевал. И это нравилось воинственному коннику Скопину. Следуя мимо сеятелей или косарей, он понимал себя ахейцем-полководцем, объезжающим пешие ряды фаланг. Скопину думалось, что и любой косарь, и жнец чувствует себя великим предводителем серпа, вождем косы, с высоты своей охватывающим стремительным, литым полукольцом малой армады и срезающим необозримую, но бессильную против него вражью рать. Скопин стеснялся вглядываться в лица бронзовых работников — он и так знал: человек, какой бы вещи ни коснулся, для начала дарит ей, как смертное рукопожатие, свое завоевательское чувство. Тот, кто успевает обратить вражду на свой же грех или — на безвыходной тропе воображения — напасть на безответные, отменно басурманские предметы, — тот воюет легче, злится меньше. Кто же не найдет копью упора, кроме ближних, чем-то похожих на свое, сердец, будет лютовать и в страшном утомлении, даже когда ангел-спаситель его им же будет убит.
Узнавал такое Скопин понемногу, но потом помногу забывал зараз. Соприкасался он обычно с арчаком и поводом, да и того от навыка не замечал почти, так что серчать ни на себя, ни на другого не любил. Ворога, правда, в вероятном супостате он любил и гнал его перед собою отрывающейся тенью, но пока и надобен-то был противник стольнику, как оживающей парсуне[157] тень оклада, — так только можно от всего мгновенно, чисто отличиться.
А сейчас Скопин в седле был сбит с толку. Парсуны старицы Марфы Федоровны, писанные давеча отцом, блистали перед ним одна живей другой. Вот Марфа, женщина с наволглыми округлыми зеницами, бросается к нему и заклинает вызволить ее, отвезти скорей в Литву. А то она сидит, носастая бабка, на каком-то сундучке — хитрюще подмаргивает Мише и прикладывает указательный неразгибающийся перст к губам.
«О, никак нет! Разве же это возможно, чтобы мать предала память сына? — снова дергал себя Скопин. — Ведь уж ей-то подлинно известно — здраво ее чадо или спит в земле. Так неужто летит издалека, ведая точно, что не сыну пособить, а вору имени его?!.
К примеру, подвели бы вдруг ко мне некую тетку. Отец бы привел, скажем, и заявил: она теперь моя супружница, величай и почитай ее как маму… Штоб я тогда с ним сделал? Да я бы его, блудного хозяина, отметелил, знаю как! К такой едреной матери бы отослал!»
У Миши от священного негодования воздух в сердце заложило. Но, пережив выдуманное, он успокоился и стал клевать в седле. Воротился остаток вчерашней усталости, не побежденной окончательно коротким сном. Дорога вздымалась полого и долго, стольник склонялся на луку седла, повод скользил из его рук, и молодой непонятливый конь тоже нырял головой, спутав шаг. Тут Миша вскидывался — снова видел в двух саженях впереди себя катящуюся на широких ободах, веющую занавесями персидских тканей колымагу. Еще в плену снов, будто высланных страницами Плутарха, колымага Мише виделась трофейной колесницей, выигранной у ликийцев в давешнем бою. Может быть, за этой мягко изливающейся тканью бережется от белых лучей аравийского солнца властитель двунадесяти языков перс Ксеркс…
— Николаич, что ты пятую версту жуешь? — совсем очнулся Скопин. Увидел опять, как его саадачный[158], старый витязь, в такт конским копытам точит что-то деснами, подворачивая под них для пущей работящей крепости жестокие усы.
— Так, один сухарик уминаю, — ответил саадачный Николаич. — Все одно деревня на носу копья, значит, и перевожу запасец-то.
— А прикинь: ну, как в Тайнинском сел неприятель? — широко зевал Миша. — Или он вовсе село пожег? Воевать надо без пуза, в походе чревоугодия бегать, свой сухарь, яко пряник, стеречь!
— Нешто война у нас?! — робко спросил молодой стрелец, еще не ездивший никуда со Скопиным.
Николаич только крякнул ему в ответ, что могло означать: «У нас уж пострашней!», сам обидчиво возразил господину:
— Михайло Васильич, было ба зашто чревоугодьем меня попрекать? Горбушка-то до чрева у меня чуть досягает: клыков-от нетути, так крошкой больше в десны сеется да под язык…
— Значит, твой грех — гортанобесие[159], он в сто раз грешней, — пугнул Николаича Скопин, разбиравшийся, как и все, впрочем, в церковном словаре.
Но стольник снова засыпал — икры и чресла не пружинили, раскачивалась голова.
Кто-то утопал, барахтаясь и извиваясь, в душистых аргивянских банях и данайской неистовой бабой кишащих садах, кто-то проводил свою крамолу меж тихих колонн и изваяний, а он — Александр свет Филиппович князь Македонский второй месяц, с малым числом родных фаланг, безотдышно гонялся по жгучим пескам за ордой Ксеркса. Он, Искандер Великий, мог Ксеркса настичь, но нельзя уже ни нападать внезапно, ни под кровом тьмы, нет права больше неосторожно опрокинуть его лобовым ударом, нельзя расположить войско на местности выгодней, чем у него, и уж никак нельзя обходить Ксеркса с флангов и с тыла, Боже упаси нарушить ему строй. Да! Ни под каким видом не бить первому и, уж конечно, не бить по слонам — слоны у него слабаки, шугань короткохвостая… Нельзя в сражении своим примером вдохновлять македонян… Все это уже было, было… Гордый Ксеркс должен сложить и не вынимать боле из-под Александровых ступней дамасский харалуг[160], а для того ему нужно понять наконец: Александр берет верх не волею случая, не потому вовсе, что является он неожиданно, или что его поддержали такие-то скалы и речки, или главный удар его пал именно туда, где у Ксеркса развалился строй, и эти двухсаженные доходяги понесли, заполошно трубя отступного… А потому, что Искандер суть высший полководец, нежели чем Ксеркс. (Лишь когда упрямец убедится в этом — возрыдает раз… и бросит безнадежную войну.) Но как же ему доказать сию истину? Как строить окончательную битву, как?! Крутилась древнейшая думка в юной полусонной голове, вновь ветрище с ливнем и песком играл македонянами, а они кидались на него, хрипящего от ярости, почти не щадя коней — жильно рвущихся навстречу миражам из страшного песка.
Вдруг Скопин проснулся. Годовалый лошак под ним твердо стоял ногами на траве, на бугорной высшей точке. Понизу впереди вилась речушка, и чувственный неровный ветерок наплывал теплом с ее лугов, утыканных стогами.
Огромные тени облаков скользили поймой, омрачая речные изгибы: как бы сквозь почву проступали движущиеся подразделения фаланг или кентурий в Московское царство из Аидова.
Одна излука реки, освободившись от внутренней тени, просияла чище золотой насечки на булате, и меч солнца ударил Скопина в лицо и грудь.
Уже совсем недалеко, на другом берегу озарилась деревня с простым храмом и белым погостом. К речке цепкими прямоугольниками выходили отряды моркови, капусты и репы, все лето безупречно ждущие обидчика. Стрелами стремился к солнцу лук. Как верхоконные колонны мялись под ветром высады малины и смородины. Над кровлями два колодезных журавля закинулись, как приведенные в готовность катапульты.
Прямо под горой, с которой глядел Скопин со стрельцами, коровье полчище переходило реку вброд. Пехотинец-пастух, епанчой повязавший штаны вокруг шеи, стоял по коленки в реке и кнутом высекал из нее крупные искры. Не все буренки верно шли, но пастух особенно не торопил их — которая стояла и пила, которая ждала самца или подругу; иная, жалуясь нутром, пятилась на прежний берег.
— Теперь, паря, засели, — молвил Николаич, отряхая сладкую мучку со штанин. — Привел же леший этот скот на переправу!
— Проснись, саадачный! — вскричал вдруг Миша. — Смеешь ли ты медлить?! Обойдут и растопчут нас боевые слоны, одолевши Евфрат!
Николаич нервно улыбнулся одним усом — опять, как снег, свалилось то, чего всегда ждал.
— Наше спасение в скорости! — выкрикнул отрывистым баском Скопин, чтобы вся полусотня услышала. — Ослобони подпруги! Удила долой! — И сам уже действовал. — Спешиваться на ходу в воду! Оружие над головой!
Скопин вколол кызылбашские стремена по бокам своего конька, на скаку принимая пистолю и пороховницу в шапку, шапку — в левую руку, слетел к реке. Стрельцы — иные впрямь вообразившие, что какая-то гадость стряслась, другие — уже познавшие причуды сего малого начальника, ринулись вослед. Разметав, вспенив прибрежную воду, Миша и Николаич первыми — как только кони их ухнули грудиной вниз, вытянув шеи над водой, — скользнули с седел, одной рукой удерживая гривы.
Молодой — хоть старше и здоровей Миши — стрелец ударился об воду и повалился назад, завязнув в стременах. Конь его в ужасе выставил высоко голову и шею над водой, а его круп опустился. Стрелец ухватился за повод, отчего поставил лошадь в реке на попа — влекомая назад всем седоком, та обмакнула его с шапкой в воду. Там пришлось бы ратоборцу худо, если бы проплывающий неподалеку соратник не вырвал у него свободной рукой повод и не увлек собравшееся утонуть животное с собой.
Самые бестолковые (или хитрейшие) стрельцы пролетели вдоль кромки воды, сделав крюк, и наскакали на реку впритык к коровам, едва уместившись на отмели брода. Телки шарахнулись, возопил благим матом пастух. Пошла свалка, с другого края переправы оступился, съехал на глубину бык и, уже прихлебывая в задранную пасть, призывал человека на помощь…
Скопин-Шуйский построил дрожащий, проволглый отряд под солнцем на занятом берегу и обратился к нему с теплой речью:
— Легионеры Московии! Вот вам следующий подвиг — с ходу взять сию заставу — Нововавилон! — саблей махнул в сторону деревни на пригорке. — Порядок приступа таков: идем о трех колонн, ты, Гай Истомий, поведешь первую, — кивнул Миша десятнику Истоме Галкину, — и ударишь на отряд лазутчиков, что пробирается по склону, — Скопин махнул на сухой овраг от изб до реки, в котором разбирались чьи-то куры. — Лазутчиков, сколько возможно, захвати… Ты, Хилон Петроний, со второй колонной пойдешь, — указано было десятнику Петьке Филонову, — на главную надежду вражью! — имелись в виду несколько овец и коз, остолбеневших на околице. — Пусть Николаич сразится с сильнейшим из числа их! Затем прежде того, как вступить в цитадель, вы соберете воинские ценности, — стольник посмотрел на огороды, — коими противник, яко с боем отступал, усеял поле бранное… Моя колонна мчит в догон тристата — пленяет лучшего в обозе повара и вручает ему нашу судьбу!
Всадники, изнемогая в обленивших и холодящих их тела сукнах, все ж с силой гыкали и перемигивались: мол, и чудит малютка, да с таким нигде не пропадешь.
Раздавшись натрое, понеслись точно по плану. Миша скакал по скотному прогону, когда толпа рассвирепевших мужиков в серых рубахах, с кольями и оглоблями в руках, встречь ему забежала в прогон. Увидев всадника в сияющем кафтане с брызгающими нагрудными кистями, деревенские остановились, временно сдержав колы. Тогда вперед, часто хрипя, выхромал пожилой в белой рубашке — очевидно, губной староста местный. Под бородой он зажимал мощный колун на прямой рукоятке, а руками спешно опоясывался багряным кушаком — поверх, видимо, только что надетой хорошей одежи. Потом староста лег прямо под копыта скопинского рысака. Миша, бросив поводья, едва успел прижаться к шее вздыбившегося коня — вернуть его наземь.
— Руби старого старосту, барин милостивый! — с угрозой крикнул стольнику лежачий чин, протянув над головой колун, неясно: подавая его Скопину или надежно защищаясь. — Но сперва разобъясни, чем провинились, вконец оскудевшие, мы перед царевым слугой, что грядет на ны не хуже крымского татарина?! Нами все дани не в срок, да уплочены! Сам хошь — податной лист за печатью читай! — Старик, приподняв зад, вытянул из штанов пергамент-харатью и насадил листок на угол предлагавшегося топора. — Руби сплеча, коли там что невпопад, а коли всюду складно — то, пожалуйста, душевно просим, прочь отсель. А то ить… Не так далеко тут Москва и царева управа!
— Встань, небоеспособный смерд! — сказал Миша. Отчаянный вид храмлющего старосты, бесстрашно защитившего односельчан, странно напомнив страдавшего тем же недугом отца, вывел его из забвения игры, вернул с ристалища. — Да встань, встань с земли, дедушка, ведь прострелит! — нагнулся с седла, подал старосте руку сам мокрый Скопин. — Давай подымайся, Тамерлан — железный хромец! Меня не касаются никаким даточным листом — с твоего удела спроса моего нет. Сей бесценный свиток хоть вложи, откуда доставал. Просто здесь учения. Орлы мои проходят навык мужества.
Староста, покряхтывая, встал на четвереньки.
— Да к лицу ли человеку такой навук? Твои стервятники потопчут больше, чем ухватят! — сказал он, разгибаясь. — А знают оне, легко ли живность выходить да зелень прорастить?!
— А легко ли сготовить да съесть? — передразнил Миша губного старосту, срывая через голову мокрый коч[161]. Из-под тугого кушака, за платьем следом, выпорхнула кожаная калита — Миша заметил, но не поймал, а лишь подправил ее гнутым носком сапога, чтобы летела к старику. — Поделишь между теми, для кого наша потеха — потеря. Да укажи скорей ребятам, где живут у вас стряпухи вытные.
Староста с необычайным в его лета проворством поймал с кратким звяком кошель, развязал лесочку и обомлел. Вокруг него затеснились мужики с оглоблями, через плечо, из-под руки, с карачек — отколь только возможно, загибая в кошель взоры.
— …Барин мил… да благодетель… Вот тут недалече… Сынка мово кровля с собакой… Сноха моя, — по слогу, судорожно собирал старик дар речи, бережно взял Мишиного коника за недоуздок, — сноха моя…
Мужиков с кольями — как не бывало: каждый побег счесть свой убыток от ратных учений, а за неимением такого — самому легко его произвести.
— Приезжайте, как только чуток загрустите! — разгомонился по дороге опять староста. — Тут у нас раздолье! И бугры, и рвы есть, обрывы — на подбор, как полагается! А мы вам для второго раза и рогатин за околицей натычем! Дело-то мне знамо — всю ливонскую прошел — от первого и до последнего ядра! В шведскую — вот энтими руками Иван-город и Копорье взял, а Нарву подержал, брат, и назад отдал!
— Не печалуйся, детинушка, — гоготнул подоспевший Николаич, зарывший лапищи по локти в сивую кудель орущего поперек седла барана. — Считай, ты Нарву нашему боярчику оставил! Наш не обожжется!.. К той избе с бирюльками, што ль, поворачивать?! Ах, там твои хоромы. А мы к невестке едем? Пошто же, мил друг, не к тебе?
— Неописанно бы рад! — отвечал староста воплем, хотя агнец уже не кричал. — Да вечор у меня некая монахиня остановилась! По всему — высокородная, седая!.. Дуры-бабы бают, — вдруг унял голос, — уж не матушка ли молодого государя?
Стольник вдруг яростно перекрутил на месте лошака — жёгнул плетью, выискав взглядом ближайшего стрельца в сухом кафтане, из перешедших речку по коровам вброд. Подскакал к нему. Стрелец начал поспешно выбирать вдоль по кафтану из петель кисти.
— Ого, что ваш-от сполохнулся? — слабо заморгал старик. — Так я нешуточно сказал?!
— Ты бы, вьюнош, с этого и начинал! — укорял его, упав на овна, Николаич. — А то — руби, читай!..
Скопин-Шуйский, весь в поперечных складках чужого кафтана, неловко дергая плечами, вбежал на крыльцо с прорезными перильцами. Весь вдруг затрепетав, толкнул дверь, повернул в дохнувшие какими-то простыми черенками и цветками сени. Там, нащупав в темноте железное кольцо второй двери, ударил им по дереву три раза, крикнул: «Господь благословен!»
— Аминь! — донесся из покоев женский, будто ахающий и как-то знакомый голос. Скопин, нырнув под притолкой, вошел в дом и увидел на поломанном об стол и печку клинке солнца стоящую в черном уборе, невеликого росточку женщину.
— Марфа Федоровна, будь здорова много лет, — быстро поклонился стольник, не зная, целовать ли руку инокини-старицы или царицы?
Инокиня ступила к нему. В полуовале грубого рядна, внятно теплое, еще красивое — несмотря на все излучины и устья тоненьких морщин, — ее лицо вдруг рассвело удивлением радости.
— Миша! Васи Скопина сынок?! Да как ты вырос! — смеясь, приняла его персты в свои сухие тесные ладони, теплые подушечки. — Жених! На такого, видно, и кафтаны-то не поспевают шить! — Озорно, зорко подергала стольника за тугую складку под мышкой.
Скопин щекотливо прыснул и отпихнул невольно ее руку от своей груди. И тут же испугался, душу свел виновато. А инокиня Марфа радовалась пуще:
— Экой барин, ошкуйник прямой! А ведь у нас под стол за малой надобкой ходил! Отец-то его доставать, а Мишук знай по нему кулачками твердит! Как он теперь-то поживает — Василь Савич?.. Да проходи, сына, присядь, сам-то рассказывай! — усаживала, привечала инокиня гостя.
— Марфа Федоровна, я… — Миша веселел, смелея, сам озаряясь вольной добротой ее лица, — я ведь к вам навстречу от… — и враз замолк, не зная, как назвать.
— Ах, ты от сынули? — произнесла Марфа Федоровна и смешливо, и легко, чего уж никак Скопин не ожидал. — Как хорошо, что встречаешь ты именно! — всплеснула мягкими руками. — Ну так давай с дорожки молочка парного выпьешь? Ой, Глебовна, ты тут — а как приклеена стоишь?! — повернулась инокиня к мирской бабе, глядевшей поверх выступающего печного кирпича из отгороженного закуточка.
— Марфа Федоровна, государыня, не хлопочи ты, — вовсе осваивался Миша и, даже не зная чему, начинал облегченно посмеиваться. — Не серчай, я ведь там, с дружиной со своей, обедаю…
— Ну, молочка-то, Миш, — будто испугалась Марфа. — Вон уж Глебовна несет. За разговором так бычком и выдуешь. — На стол встал глиняный кувшин, по горло полный манящей язык белой толщи — плотной до того, что на полвершка выше кромки кувшина выгибалась нерасплеснутая шапка в непроглядных пузырьках.
Миша вдруг почувствовал себя в Старостиной избе точно как многие годы назад в нянькиной каморке в Нерехте — на одном из вотчинных дворов тогда опального и вышибленного из Москвы отца.
Только отобедав с войском, Скопин в страхе опамятовался, выкликнул лучших стрельцов и, объехав село с ними вдоль и вокруг, всюду оставил за собой зевающие тайные дозоры. Затем он присмотрел место для государевой вежи и залез на колокольню, венчанную вытесанной бочечно еловой шишкой — проросшей вверх восьмиконечным крестом.
Отсюда он, желая смотреть бдительно, завороженно осмотрел — как чувственно зачитанную, первую из непонятых книг — всю Русскую землю до соседних деревень. И как тут можно было разобраться, что-то разгадать, когда все так светило тихо и ничем сбивчиво не выдавало себя: стога никуда не ползли, леса не пылали с растреском, не мутилась речка, и даже не плакал нигде крестный ход. Подступающих к Марфе Федоровне взбунтовавшихся боярских легионов тоже не наблюдалось, и Миша, присевший на лавочку звонаря, нечаянно упрочив голову в баляснике, приглушенно пахнущем смоляной сластью, уснул без грез. Когда он засыпал, колокольня плавно покачалась — в поступь стольникова рысака, но не обронила Мишу и не разбудила его.
В те же часы, только два дня погодя, луг перед околицей села был набит до отказа нарядным народом. Не одни крестьяне Тайнинского и ближайших деревень пришли оценить миг объятия — после необходимых разлучных времен — многомучимых своих, но восставших в чудозвонной славе мамы и дитяти. Московское дворянство и даже лошадное мещанство, намедни знавшие уже о времени и месте упованной встречи, загодя прискакали в Тайнинское. Иные подходили пешком с Москвы за полночь и, сведя с ума всех тайнинских собак, в который раз перебудив село и полкопейкой искупив свой ночной разбой, становились на постой, а точней — падали без чувств по сеновалам.
Афиногенов день развернулся вёдро, жарко. «Финогей с теплом да светом — разом уберемся со жнитвой», — веселились, не пошедши в поле, тайнинцы — все равно копногною не будет. Многие зато снарядили ивовые страшные корзины и вышли за околицу на торг. Москвичи, дивясь недорогой, кстати поспевшей снеди, бойко хватали пироги «со всякой всячиной», опрокидывали чумы простокваши, рявкали, стреляли огнем слез, отдавая назад кружки из-под взвара.
Но пришел час — и мальцы на далеких скирдах и здоровые дядьки, клонящиеся вместе с тонкими верхушками березок, заблажили петушино. Почти одновременно над деревней и рекой заокал скромный (да в два пуда) тайнинский колокол. Спохватились подголоски — зарядили, как из тонких облаков, нечаянно-грибным, сквозь божье солнце…
Пестрый до морока очей луг после коротких, точно слепых, толчков, как бы пробующих прочность воинского ряда, еще ярче сплотясь рваноцветьем одежд, застыл — глухо дыша.
Из реки на косогор выходили блестящие всадники и галопировали нолем к лугу. Первыми — кремлевские стрельцы в лиловых праздничных платьях, за ними — паны в жупанах и стальных, важно чищенных для отражения любых супостатов-светов, нагрудных кирасах. Дальше — на запряженной цугом четверне — багрово-золотая, тяжко болтающаяся на ремнях каретица, не видать пока толком, обитая сукном или чем? С боков кареты — стольники и рынды в белом, снизу черном: запыленном и обрызганном. Сзади — крутые рыдваны боярские, помоложе бояре — верхами, жмурятся в пушащихся куницах и песцах. Много дальше, еще на заречном кургане, показываются казачьи бунчуки.
Тайнинская колоколенка все поливала, заполаскивала — и вдруг, на миг ровно, смолкала, — может быть, у звонаря отнималась рука… И тогда прослушивался легкий равновесный звук, как вянущее эхо колокольни или извечный перелив в голове звонаря — слабый звук: это на упряжи коней малиново дрожали капельные колокольчики.
Колымага с персидскими завесами, сопутствуемая стрелецкой полусотней (впереди — боярский сын Михайла Скопин-Шуйский), отвалилась от села и, вся тормошась при каждом обороте колеса, поравнялась с царским поездом. Тогда увидели: московская красно-желтая каретица пуста.
И тут один всадник, шедший в поляках, но сам не поляк, без кирас — в русском процеживающем сияние камней саяне и маленькой шапке с пером, поскакал.
— Царь?! — широко переспросила у себя толпа.
Навстречу всаднику толкнулась дверца колымаги и…
Причитания, благословения, рык, писк, стенания — мужицкие и бабьи, мальчий высвист… Кто-то хотел точней расслышать что-то и орал, требуя у остальных тишину, но его самого вопленно — всем святым и посрамленным — заклинали…
Только когда старица Марфа Нагая села в развернувшуюся колымагу, а Дмитрий, взявшись за дверцу, пошагал с непокрытой главой подле, зрители в толпах, понемногу рассупонивающихся, вздохнули свободнее. Москвичи шли за поездом на Москву, но селяне не смели надолго забрасывать родину и понемногу поворачивали к дорогой околице, упавшей в именитых лопухах. Окликали потерявшихся в жестокой сутолоке родственников и друзей:
— Тю, Ефим Петрович, подь-ка!.. Чего увидал? Вроде ты дальше мово протесался? Я было кинулся за твоим столбунцом следом, так меня едва не порешили!
— И надо ба! Это ж, значит, ты все поле раскачал?! Ведь из-за тебя, толкача, мне стрельцы там чуть башку не обрубили!
— Вон как?!
— Я же за иху цепь все вылетал, мало не сел заместо матушки в цареву колесницу!
— Да, придурает он, сосед, — подошли еще односельчане. — Лучше Агея Мотова спроси: вот кто точно в первом ряде стоял, — и в который раз тянули за рукав уже усталого и мягкого Агея.
— Он-то к ей, царевич Митя, с конька соскочил и бежит: «Мама… мама!..» — сам плачет… — трудно говорил, сам с мокрыми щеками, бородач Агей.
— А она-то, матерь Марфа-то?! — заново, без памяти, выспрашивали земляки, теребя и распуская пальцами фиалковую вышивку на груди и вороте у Мотова.
— Она, — Агей тихо огладил ничем в давке не потревоженные, на конопляном масле чесанные волосы. — Она и вовсе плат не отымала от лица! А как ея он обнял — тут уж оклемалась, паря… Рекла: «Здрав буди, прирожденный сынок мой, естественный наш государь, Дмитрий Иванович!»
Агей вынес при сих словесах, изогнув запястье, два прямых перста перед собой и округлил по дугам век глаза. Но так Агей не простоял долго, вдруг снова кисло-сладко сморщился, свел горсть кулаком и, саданув им себе в грудь, тихонько зарыдал.
Летела мимо, бросая в разные стороны народ, крестьянка. С ходу остановилась, припрыгнув на одной ноге, а руками задержавшись за ревущего Агея Мотова:
— Надюшки моей не видали?!
— Оне нет, и я тоже. А Надька все с тобой была, — небрежно отвечали ей односельчане (Агей отмахнулся только сквозь слезу). — Да што сдеется с нею? Вымахала така цац-ка! Аж изрослась кобылица твоя — Фекла-Текла.
— Ох, того и страшусь, дружки! — призналась баба. — И девка-то под прыщом, а в Хватовке присуха у нея! Чаю, нониче-то здеся, вот она и провалилась. А то не хуже ли? Не московские ли какие бесстыжие за собой уманули!
— Не горюй, сердешная! — всем помигал Ефим Петрович, душевно приобнял ее одной рукой, другой — Агея. — Тут, ты же зришь, цельный народ на одной чудной надежде лет пятнадцать прожил — уж и не ждал, а в цари человека дождался! Да за такое-то время, ладная моя, мы те с Агеем наделаем таких Надек-то ровно пятнадцать!
Ефим Петрович вовремя присел, и бабий округлый кулачок влетел в грудь Агею. Расчесанный Агей, разом перестав плакать, открыл рот и тоже присел — поискать потерявшийся воздух пониже. Когда он сумел разогнуться, восполнив пропажу, и захотел повидать односельчанку сухими глазами, ситцевый ее убрус уже маячил далеко.
— Надюшка, неудобная дикарка! — звал низкий, предсердный ее возглас. — Откройся, кровиночка, Надечка-а-а! Где ты, Найдё-ёныш?!.
Через три дня по прибытии царицы-старицы в Москву Дмитрий полным обрядом сочетался с царством. После умиления на тайнинском лугу, казалось, самые сомнительные языки натвердо должны замуроваться за зубами, остатняя крамола истечь в землю, и явлена возможность провести обряд спокойно — без уверенной оглядки на какой-нибудь подвох.
Владыка Игнатий в Успенском соборе водрузил на Дмитрия «отцов венец» — шапку-казанку Ивана Мучителя. Затем по золотой дорожке, стланной поверх пути атласного лилового сукна, Дмитрия провели в Архангельский — самый крупный собор, где архиепископом Арсением была выдана ему и «пращурова шапка», Мономахова.
Виднейшие бояре подали законному царю сияющую — будто ручное солнышко кремлевское — державу и, друг через друга, удельный через вотчинного, передали огневой же долгий скипетр — с медленным поклоном, как от сердца отрывая обморочно вытянувшееся бесценное дитя.