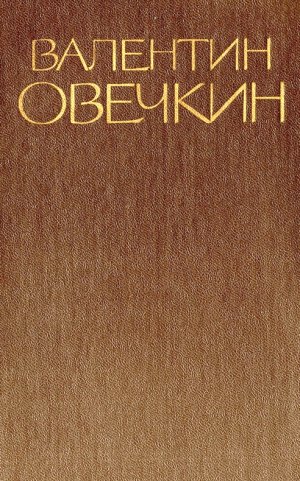
Учитель
Овечкин был властителем чувств моей молодости. Сказать бы — «дум», да будет перебор. Именно чувств!
Имя было озонным, притягательным, хмелящим, в нем содержался какой-то азарт: «Валентин Овечкин»! В колхозном строе я не понимал к той поре практически ничего, кроме разве того, что немец в сорок первом сохранил что-то подобное колхозам, назвав их только «общинами», что партизаны, изредка попадая к нам в присивашскую степь, рассказывали, что на «Большой земле» колхозов больше нет, а в сорок шестом Коля Крючков, единственный колхозник из нашего класса, хлебной карточки не получал, а ходил в школу только ради крохотного ломтика хлеба к «школьному завтраку». И с паспортом у него возникли большие проблемы, тогда как нам, совхозной братве, милости доставались «от природы».
Что мы родились вольными, а Коля Крючков — крепостным, это я и сейчас произношу с боязнью и оглядкой.
Под Кишиневом в пору поздней молдавской коллективизации стояли неубранными черешневые сады, людей в бараньих шапках увозили за что-то (за что-то же везут, значит — надо!) в какую-то Кулундинскую степь, но для меня в бедном университете Кишинева хлебозаготовки, группы урожайности, сама разница между райкомом и райисполкомом оставались скучной тарабарщиной. Однако пришла осень 1952-го, поступили книжки «Нового мира» с «Районными буднями», где странная колхозная жизнь отдавала слякотью, насилием, горем, и никаких тебе «Поддубенских частушек», никаких лукавых плутовок, скорее мат, команда, пот, брань. А «Свадьба с приданым», значит, так же не похожа на нашу жизнь, как шедшая тогда во всех кинотеатрах «Девушка моей мечты» не похожа на эсэсовскую Германию.
Это имя — «Валентин Овечкин» — я отделил из череды лауреатских колхозных обязательных чтений и, более того, удостоил включения в дипломную о великих стройках коммунизма. В один ряд с Борисом Полевым, молодым Аграновским, любителем шагающих экскаваторов Анатолием Злобиным мой избранник никак не входил, но я старался, всячески загонял его, калякая что-то насчет того, что подъем пока еще отстающих колхозов — тоже великая стройка…
Овечкин послал меня и на целину. Именно он, потому что функцию дрожжей общества выполнял тогда он один. Цикл «Своими руками» выходил в «Правде» в конце лета 1954-го, а через полгода я уже подал заявление «на новые земли». Надо было ехать и своими руками выправлять и чинить изломанное кем-то скверным и злым. Кем? И почему это должен был делать я? Перед целиной, сибирскими просторами и т. п. никаких моих вин не было, моя «терра» ограничивалась Крымом, Молдавией да Кубанью раннего детства, но… боялся опоздать! Что ни новый кусок Овечкина, то больше страх, что профукаешь жизнь, поезд уйдет непоправимо. Надо жить как Овечкин: за город не держаться (а у меня уже было уютное двухкомнатное гнездо на чердаке), начальству в рот не глядеть, труса не праздновать и цели иметь достойные, а не пальто для жены и не гонорар в конце месяца.
Открыл целину — да! — Хрущев, но послал меня и тысячи, тысячи других Овечкин. Скажете — наша волна была ответом на Двадцатый съезд? Но до съезда-то было еще ого-го сколько! Кулундинская степь, куда я попал, жила еще как бы с отрицательным знаком: ссыльные молдаване, калмыки, чеченцы, целые селения сибирских немцев с комендантами и запрещениями покидать бригаду, а тут еще поток амнистированных уголовников, посланных шалунами из ГУЛАГа «на освоение целинных и залежных земель»!..
Однако же я жил в мире продолжавшейся «Трудной весны». Вот этот директор МТС в Суетке, инженер с Магнитки, — он почти овечкинский Долгушин, а вот этот сговорчивый, считай, Руденко, то и дело из края налетит кто-то пугающе схожий с Борзовым. Разве что копий Мартынова не видать!..
Книга, приходя к нам кусками, дисциплинировала. Ни разу мысль о бегстве, о том, что, мол, хватит, намерзлись и пыли наглотались, не приходила в голову: подтягивал известный кодекс чести, ты был включен в стремительный, ракетный по быстроте процесс «поумнения» автора и солидарного с ним читателя.
От не больно сложных постулатов 1952 года «не зарезать курочку, что несет золотые яички», не подрывать передовые колхозы, «чтобы все строили коммунизм, а не въезжали в царство небесное на чужом горбу»,
через первое внушение колхознику «ты хозяин своих полей» в 1953-м и выяснение, «откуда страх взялся», сковавший всю нашу жизнь страх, и «что заставляет идти против совести»,
к осознанию в 1954-м, что «ответственны за тяжкое положение в отстающих колхозах мы, местный партийный актив», к повороту иерархической лестницы узким концом вниз («из районов в колхозы, из области в районы, из Москвы в область — все ближе к деревне»),
через здравые и важные частности организационного, снабженческого, технического преображения, через замену блудливого «достал» благородным «купил», через обломки веры во всякие чудеса, в том числе и в королеву-кукурузу, к всеобъемлющему демократическому выводу главы 1956 года: «Никогда ничего плохого не случится с колхозом, если у колхозников будет высоко развито чувство коллективного беспокойства за свое добро, чувство хозяев своей жизни».
Какое-то время (какое только именно?) они, Хрущев и Овечкин, были полными единомышленниками, и писатель словно бы стелил шпалы для скорых и дерзких решений. Что это, перехват функций высших горизонтов власти? Литературный бонапартизм? Нет, скорее завязь демократического мышления. Из письма А. Твардовскому еще в январе 1953 года, когда Сталин жив, а в умах еще вечная мерзлота: «Может быть, не дело литераторов подсказывать правительству какие-то организационные решения, но безусловно наше дело показывать ход новых процессов в жизни из глубины, показывать назревание необходимости принятия организационных решений, не откладывая дело в долгий ящик… Нам же, народу, жить при этих организационных формах».
«Дней Александровых прекрасное начало…» Когда Хрущев стал изменять самому себе, Хрущеву Двадцатого съезда, когда возникла в нем трещина, расколовшая его жизнь на слова и дела, когда именно получил идейную отставку автор «Трудной весны», и фраза-разоблачение — «Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного, и уже про наши дни» — навсегда поссорила писателя с «нашим дорогим Никитой Сергеевичем» и превратила его в ссыльного от публицистики — это надо вычислять специально. Для нас тогдашних ясно было только, что Никита уже не тот, что прежде, а Овечкин — тот, и что писатель не гнется, не угодничает. Оборвал же «Трудную весну» еще в середине 1956 года! Отнял мандат на доверие!
А целина оставалась лейб-гвардией «главного агронома страны». Он бывал на ней едва ли не каждую осень — хлеб Казахстана и Алтая был, собственно, единственной реальностью, какую он мог предъявить «городу и миру». Мы, тридцатитысячники и просто трактористы — «целинщики», писарчуки-журналисты и сельские учителя в совхозах, население «сборно-щелевых» домов, мученики бездорожья, буранов, пыльных бурь, служили как могли авторитету «дорогого Никиты Сергеевича» и торжеству его идей «по дальнейшему подъему». Но нас угнетали не беды быта, торговли, техники, нет: мы были достаточно советскими людьми, чтобы знать твердо — плохо только здесь, а кругом зато хорошо, и чем у нас хуже, тем другим, значит, богаче и лучше. Нас оскорбляла ложь Никиты — она была циничнее лжи Сталина! Провозглашено планирование снизу — и разом районная писарня засажена за какие-то «перспективные планы», где этажи вздора и наглости лезут до небес. Поповская раздвоенность на слова и дела, высмеянная Овечкиным! Никита сам учил себя обманывать! Этот сильный и умелый политик, разумный и опытный человек, сумевший и убийственный сельхозналог отменить, и ввести элементы купли-продажи в реальную колхозную жизнь, и выстоять ночь своего Доклада на XX съезде, и сталинских сатрапов Кагановича, Молотова, Маленкова свернуть в бараний рог, — он пристрастился ко лжи наркотически, требовал ее все в больших дозах! Хрущеву мстил внутренний его Сталин, и целина, личное его государство, выявляла двойственность, «черно-белость» Никиты Сергеевича сильней некуда.
Ровная как стол, вроде одинаковая всюду, великая степь открывала борзовым три поприща — и разом ставила три ловушки. Лето короткое, осень дождлива, тает в конце апреля — сей рано, как можно раньше! Степь ровна — так паши все подряд. Пески, солонцы — все даст хлеб, распаши и засей. Пары — зачем они? Какая может быть страховка? Да занять их кукурузой, внедрить пропашную систему! Хрущев попал во все три ловушки, избил людей, не пускавших его в капканы, — и за десять лет сделал новые, здоровые и плодоносные земли зоной экологического бедствия. Сделал Кулунду, Павлодар, омское Прииртышье, миллионы гектаров недавних ковылей «пыльным котлом», где в июне ты не видел солнца, сделал заповедником сорняков и зоной искореженных биографий. С 1958 года — говорю это перед друзьями и близкими, они не дадут соврать — и я втайне лишил Хрущева своего мандата доверия. Пышно сказано? Дело давнее, тому тридцать лет, пишу об ощущении. Лишил! Но поскольку посылал меня на целину не Никита, а Овечкин, в степи я остался, сбегать не помышлял — и как мог тянул лямку.
В шестую целинную страду в моей жизни — как бы отдельно от «райбуденного» Овечкина — появился веселый и добрый старший человек, Валентин Владимирович. Потеряв отца в двенадцать лет, я с отрочества влюблялся в солдат, тянулся к мужской опеке, и солдатскую сласть контактов, неспешных тар-бар, добродушных насмешек и поучений любил горячо и неутолимо. Сидел черт знает по скольку в сапожной мастерской у одноногого опухшего усача («За Родину — да, за Сталина — нет!» Скоро его забрали). Любил гараж, бондарный цех — ради мужчин, уважающих пацанов, собак и ремесла. К появлению Валентина Владимировича я уже даже бороду относил, мой сын-первоклассник уже сам пускал на Иртыше кораблики, но старая страсть проснулась, и я всей душой привязался к каплоухому, прищуренному, серьезному и насмешливому дядьке с офицерской еще выправкой. Сыну он делал головоломных бумажных голубей, нас с женой заставил вспомнить украинские дуэты, выказал себя ярым грибником, меня учил одному — «никогда не уговаривайте себя, не кривите душой, это погибель». Короче — осенью 1960 года в Омскую область по секрету от обкома партии приехал для знакомства с. целиной Валентин Овечкин.
Омский очеркист-агроном Леонид Иванов обеспечил маршрут (совхозы Русской Поляны, встречи с самостоятельными людьми), за мною была машина (собкора «Советской России») и гарантия тайны.
Сорняки на недавних ковылях потрясли Овечкина, барханы песка на молодой пашне, весь образ хозяйствования, когда некто словно ворвался в чужое и должен судорожно хватать, хапать и скорей драпать, а то вернутся, застигнут, расправятся, — вся инспекция хрущевского «заднего двора» привела Овечкина к таким горестным выводам, какие можно было итожить только пулей. Нет-нет, я не говорю, что дальняя поездка в Приморье и на целину, словно по крокам Твардовского, привела Овечкина к мыслям о никчемности жить дальше! Собралось наверняка много разного, всякого, и от треклятой Калиновки, и от добротной провинциальной травли «на местах», и от взаимоотношений с «Новым миром», с Твардовским, но теперь, издали, главного никак не заслонить и не убрать: самый известный и яркий пропагандист начальных хрущевских реформ приходит к идее политического самоубийства. Утренний выстрел в кабинете неточен, выбит правый глаз, прострелен висок, московские врачи спасают жизнь. Но точка поставлена. С 1961 года очеркиста Валентина Овечкина нет.
А той мокрой осенью я был свидетелем — не говорю популярности, известности Овечкина, это все суета, но — такой нужности писателя людям! Агрономы, измордованные идиотскими мотаниями из стороны в сторону, директора совхозов, жертвы «комитета по делам перестройки вечной» (слово было в ходу, только иностранцы еще не знали) со второй минуты, как мужики долгожданному исповеднику, выкладывали Валентину Владимировичу такое, чего никогда не услышал бы самый чиновный визитер. Нет, попово место в нашей социальной жизни так и не занято, и крепче всего то доказывал ярый большевик, коммунар и враг «долгогривых», агитатор полка капитан Овечкин!
Под финал целинной поездки — почти комический знак признания. Заехали куда-то в овсюжную даль за кокчетавской гранью. Безвестный совхоз, машинная калечь, ни души — пьют, должно быть, вповалку. Бродим вокруг сельмага в надежде сыскать хоть кого-то из начальства. Вдруг откуда-то из-за пластянок появляется здоровенный казах в ватнике, физиономия велит заключить, что «гуляет» он уже дня три, не меньше. Чином, судя по одежде, не выше управляющего отделением, но и не младше. Ко мне — кто такие? Я зычно рекомендуюсь: собкор «Советской России» по Западной Сибири! Кривится: не велика шишка… А тот (на Иванова)? «Член Союза писателей Иванов!» А-а, мол, только людей тревожат… А этот (оттопырил себе ухо)? «Валентин Овечкин…» Аж присел, глаза выкатил:
— Карыспадент?! Бешбармак нада!!
Мы — по газам и в Русскую Поляну от таких гостеприимств, но «карыспадента» не забывали Овечкину до аэропорта. Читывал ли тот, в кирзачах и с планшеткой на боку, что-нибудь кроме повесток в райкомпарт — бог весть, но вот что Овечкин — это самый главный «карыспадент» — это и он знал. Не лыком шит!
…В Курске, в не любимой им (за шум) квартире, где из окон видны были петлистая Тускарь и пойменный лес, — непременное в начале свидания чтение «Теркина на том свете» со старой, еще 1954 года, новомирской верстки и больное, с проклятиями и стенаниями, его пьянство:
— Прос…ли Киев! А теперь ему — Звезду? А Кирпонос, а целый штаб фронта?! Полмиллиона пленных, о-о-о…
Учитель — не глядели б глаза — катается по дивану в стонах стыда и «по срочному» заказывает Москву, «Трифоныча». Словно за кислородную подушку хватается.
Или желчный, язвительный рассказ, как редактор «Правды» Сатюков идет по коридору, старательно его не замечая. Судьба очерков подвешена, деньги прожиты, больше оставаться в гостинице «Москва» и нельзя, и не на что, но и возвращаться некуда: без публикаций готовых кусков ни ездить, ни писать немыслимо. В «Правде» секретарши ни с кем не соединяют, Сатюков или ослеп, или потерял память… Вдруг телефон: помощник Лебедев. «Хотите знать, как оцениваются ваши материалы? Очень и очень положительно. И Никитой Сергеевичем, и Георгием Максимильяновичем, и Вячеслав Михайловичем. Продолжайте в том же духе…» Не успела лечь трубка — набат, трезвон: «Валентин, где пропадаешь? С ног сбились, целую неделю ищем, ну как можно — ведь твои подвалы в номере!» Сатюков. Сам! И узнал вдруг, и вспомнил…
(Сатюков? Фамилия из песни Высоцкого — про Ваню и Зину у телевизора… В какую же пропасть — и как мгновенно! — уходят эти могущества, величины, превосходительства… Вот Мария Илларионовна Твардовская издает переписку мужа с Овечкиным и к письму от 20 августа 1959 года добавляет: «История с Мыларщиковым развития не получила. Выяснить имя и историю, с ним связанную, не удалось». Это ж надо! Гроза целых республик, в секунду решавший людские судьбы, оставлявший области без семян, правая рука Никиты во всех агроновациях заката, чьи художества на Алтае я пытался изобразить в «Русской пшенице», — и сгинул даже для микробиологов истории. Сколько же человеческого ничтожества понатащили с собой в память века Твардовский с Овечкиным!)
После выстрела в голову Валентин Владимирович вынужден был бежать в Ташкент, подальше от интереса друзей и недругов, пользовался расположением и опекой Шарафа Рашидовича Рашидова. Тот и квартиру подранку-курянину дал, и с собою в поездки брал, и хозяина «Политотдела» Хвана определил к нему шефом. А вот Петр Нилыч Демичев только сулил жилье где-нибудь в Большом Подмосковье — на том дело и кончилось.
«Иногда, Саша, мне кажется, что писательству моему пришел конец, — это зимою 63-го, письмо Твардовскому. — Что-то будто оборвалось в душе. Я не тот, каким был, другой человек, совсем другой, остатки человека. Писать-то надо кровью, а из меня она как бы вытекла вся».
В сентябре 1965-го я забирал Валентина Владимировича из ташкентской цековской больницы домой, на первый этаж дома по улице Новомосковской. Долго сидели в беседке, он был уже без повязки на глазу, но передвигался с трудом… Господи, неужто после поездки по целине прошло только пять лет?! Он, иронизируя над собой, читал Некрасова, из «Убогой и нарядной», я попросил самого его записать — и личным подписом скрепить:
Без языка. Без любимого «Нового мира», без литературной среды. Без надежд на выход книг, без денег, уже без веры в реальное возвращение. Без возможности что-либо понять самому в хлопковой круговерти Рашидова… Потом появилось словцо — «уехал». Об эмигрантах, часто насильно вытолкнутых.
Первым, пожалуй, из России уехал Овечкин.
Словно возбуждая, взбадривая себя, он в последние ташкентские встречи все заговаривал о будущей своей книжке про «Политотдел». Образец колхоза, о таких мечтали коммунары Приазовья в двадцатых еще годах! Хлопок, кенаф, громадный доход с каждого поливного гектара, стадионы, три средних школы, в больницах — чудеса хирургии, иглоукалывание, детей учат музыке, самбо, верховой езде — осуществленный рай. Причем сам Хван против культа личности, хотя является главою народа в изгнании — лидером выселенных Берией корейцев. Авторитет его абсолютен…
Самое замечательное в этой книжке — что она и не могла быть написана. Из благодарности книги не пишутся — настоящие книги. «Все то, что я до сих пор писал, я писал, с кем-то и с чем-то ожесточенно споря, опровергая то, с чем не согласен, утверждал свое. В «Районных буднях» ведь в каждой строчке — полемика. А тут вроде бы не с кем да и не из-за чего полемизировать, нет повода ругаться».
Молчание — золото. Полемизировал (и, возможно, ругался) уже следователь Гдлян. Правда, почти 20 лет спустя. «Политотдел» — впрямь высококультурное, вышколенное, мастерски отлаженное хозяйство, но Хван входил — и не мог не входить — в феодальную финансово-аграрную систему чуткого Шарафа Рашидовича.
После смерти учителя (надпись на камне — «Овечкин Валентин», видать, местные мастаки переставили слова по-своему) началось приспособление его личности к разным политическим ситуациям. Толкуя книгу сообразно злобе дня, различные авторы как бы отстаивали ей право на жизнь.
Году в семьдесят третьем (Леонид Ильич был еще единожды Героем Советского Союза и не был еще маршалом) за автора «Районных будней» извинялся и как бы ручался его сослуживец по Крымскому фронту Николай Атаров. Большим, но простительным грехом Овечкина было объявлено… нетерпение. «Слишком нетерпеливый и оттого опрометчивый и несчастный, он мог в минуту отчаяния извлечь из сердца и черкнуть: «Пишешь, пишешь и — ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной» (Н. Атаров, «Дальняя дорога»), «…про себя он всегда верил в приказную безотлагательность своих писаний «по моему хотенью». «В нетерпимости он не щадил ни врагов, ни друзей». «Человек крайностей, он становился предельно резок, разрывая с принятым у нас обтекаемым тоном…» «В «Трудной весне» движение приостановилось уже в судьбах самих героев… Тут художник расплачивается за свою одержимость, за то, что торопится навязать свои мысли и таким образом учредить порядок на земле…»
Терпеть еще можно и, конечно, надо было, а курянин был резок, одержим и нетерпим — вот какая штука. В целом — ничего, только горяч. Н. Атаров, по его словам, предостерег Овечкина: зарубежная пропаганда может привлечь его как фрондера для своих передач. «Ну и что? Что посоветуешь? — письменно ответил очеркист. — Отказаться от нашей внутренней самокритики? А ты чувствуешь, что она сейчас нужна, может быть, в тысячу раз больше, чем когда бы то ни было? Не люблю громких слов, а то бы сказал, что ты замахнулся мне в спину ножом».
Год 1983, статья А. Обертынского «Человек или экономика?» в «ЛГ» открывает еще одного Валентина Овечкина: главным объектом автора «Районных будней» был характер сельского труженика, его мысли и чаяния, а не экономика, не хозяйственная деятельность. Человек больше, чем экономика — отсюда и воздействие и долголетие «Будней».
Чтоб не тянуть с ответом, напомним и этому трактователю, и «ЛГ», и участникам вымученной дискуссии «человек или экономика», что Борзов весь соткан из цифр, он сам по себе есть экономика, только извращенная, стоящая на плутовстве, обмане, жульничестве. Вот сердцевинная операция, выводящая всего Борзова — и человека, и экономиста — на чистую воду:
«— «Власть Советов». Сколько у них было? Так… Госпоставки и натуроплата… Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..
— Самую высшую?
— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем… По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?»
За давностью лет поясним, что мера уже намолоченного была шулерским образом поднята, а с ней возрос и оброк, одно число потянуло бы за собой другие, изменилось бы место Троицкого района в областной сводке — значит, и качество самого Борзова как работника, его престиж. Ложь в цифрах выказывала лживость самого главного человека в Троицке. Закоперщик придуманного спора то ли давно читал «Будни», то ли не их читал.
Конец года 1986, эпоха гласности, Овечкин как бы перед КПП в перестройку. «Новый мир» отмечает тридцатилетие окончания книги «Районные будни» статьей Анатолия Стреляного. В редакционной врезке журнал объясняет, что пишущий — союзник и «в главном единомышленник В. Овечкина», так что горячность не стоит принимать слишком серьезно, тем более что «статья написана с сознанием проблем, так и оставшихся до конца не решенными, а в ряде случаев и еще более усложнившихся». Уж куда! Четверть века хлебного импорта — пуще не усложнить. Но эти врезки-извинения… Про альтиста Данилова роман — Родиона Щедрина зовут для врезки, раз по музыкальной части, вроде как резолюция наискосок: «К сердцу не принимать, журналу в вину не ставить». Военные записки — поручительство пойдет от маршала. Словно за рубеж выезжает, а не с читателем говорит! А еще столько мелом по доскам писали: «Мы не рабы, рабы не мы»… Анатолий Стреляный известен давно и прочно — книгами о Посмитном и Терентии Мальцеве, хроникой родного села и романтической повестью об Анатолии Иващенко, ныне политическом обозревателе Гостелерадио СССР. Впору самому врезки писать…
«Районные будни» появились не на пустом месте, — читаем у А. Стреляного. — Печатная критика партийных работников и партийной жизни была в то время обычным делом. В тридцатые — сороковые годы этой критики было не меньше, чем в пятидесятые — шестидесятые, не говоря уже о семидесятых, а больше, на порядок больше… Командирство, бюрократизм и комчванство назывались своими именами с такой решительностью, которая даже сейчас, в самом пылу разговоров о гласности, кажется невероятной». И далее:
«Районные будни» продолжали обыкновенное по тем временам дело (sic! — Ю. Ч.) критики партийной работы и партийных работников. Своей книгой Овечкин показал, что писателю тоже можно болеть тем, чем давно болеют селькоры…
Селькоры называли фамилии чинуш и головотяпов — писатель представлял портреты, образы».
Неверно! Сказать бы — «дезинформация», если б не простая нехватка информации. Сталинские газетные разносы, даже погромы районного (или какого-то еще) звена типа кампаний против «нарушения устава колхоза» и т. д. были выдачей «головою» такого-то процента «кадров» для укрепления сталинизма как такового. В любом случае это была критика (лучше все-таки — выдача головою) сверху, если даже детонатором оказывался вышеупомянутый селькор. Борзова как типа жизни не было ни в газетных очерках, ни в литературе. Открытие принадлежит Овечкину. Назвать обычным делом фиксацию и показ борзовщины «городу и миру» (именно так, «Районные будни» стали явлением и в Китае, и в Венгрии!) можно только… ну, во временном затмении.
Суть открытия: победители Гитлера закабалены Борзовым. Отличие от прежнего: бюрократизм как «бумажный тигр», как толчок по следу бумаготворчества — да, объектом официальной брани был, и долго; бюрократия как монополизм на управление всем и вся, как аппарат закрепощения одной части общества (крестьян) и нравственного разложения всех остальных частей — нет, ее в очеркистике не было. Редакторы всех главных московских изданий 1952 года, включая «Правду», чутко и мгновенно оценили качественную необычность Борзова, отвергнув рукопись «Районных будней». Только «Новый мир», с редактором которого Александром Твардовским Овечкин считал себя в ссоре (почему и зашел в эту редакцию уже за час до поезда, отправив первый экземпляр рукописи в ЦК, на имя Сталина — зашел, переступив через собственную гордость, и на счастье свое застал только уборщицу, которая уверила автора, что «не бойсь, не пропадет»), решил опубликовать очерк — да в самый канун Девятнадцатого съезда. И когда в статье по случаю тридцатилетия «Нового мира» А. Т. Твардовский делал свой (явно полемический) обзор литературы, то со всею редакторской гордостью утверждал:
«До «Районных будней» в нашей печати много лет не появлялось ничего похожего на этот очерк по его достоверности, смелой и честной постановке острейших вопросов… Значение небольшого очерка В. Овечкина было очень велико и не прошло бесследным для всей нашей литературы, обращенной к деревенской (и не только деревенской!) актуальной романтике. «Районные будни» дали очерку благотворный толчок в разных более или менее обособленных направлениях и превращениях этого жанра» («Новый мир», № 1 за 1965 г.).
«Фактором поворотного значения» в нашей литературе, обращенной к сельской тематике, назвал «Районные будни» Твардовский и в некрологе «Памяти Валентина Овечкина». «Пожалуй, ни одно из произведений «крупных» жанров, по выходе в свет этого очерка, не могло бы сравниться с ним ни читательской почтой, ни количеством отзывов в печати». По мысли главы «Нового мира», очерки его друга послужили «благотворным образцом… для целой плеяды талантливых мастеров этого жанра, с тех пор приобретавшего в нашей литературе все большее — и часто предпочтительное — внимание читателей» («Новый мир», № 1 за 1968 г.).
Впрочем, это уже, кажется, ссылка на авторитеты, не лучший метод доказательств. Другое дело — пока еще действующий принцип историзма. А он, историзм, сразу же атакует тебя вопросом: да как они в год «Экономических проблем социализма в СССР», в месяц, когда одобряется доклад Маленкова на XIX съезде (зерновая проблема решена!!), смогли протащить «борзовщину», внедрить ее в круг жизни — и самим при этом уцелеть? Это само по себе уникально. Ведь обыденное сознание ставит Овечкина за сентябрьским Пленумом Никиты Хрущева: партия поставила задачи, нацелила — публицистика откликнулась! Нет, оттепель началась до крещенских морозов.
Редакция «Нового мира» могла камуфлировать «Районные будни» под еще одно произведение за (не против, отнюдь нет, а за) погектарное обложение. За справедливый сталинский принцип, каковой был спущен в низы постановлением СНК и ЦК ВКП (б) от 8 июля 1939 года, где ликвидировались «крупнейшие недостатки в системе обязательных поставок государству мяса и шерсти колхозами, заключавшиеся в том, что передовые колхозы ставились в невыгодное положение, уничтожалась их заинтересованность в росте общественного животноводства и, наоборот, оказывались в льготном положении отсталые колхозы, не имеющие животноводческих ферм и не дающие роста поголовья скота в фермах». Борьба с лагерным придурком — она вдохновила и послевоенное (в феврале 1947 года) постановление «О мерах подъема сельского хозяйства…»: прежний, порочный принцип исчисления обязательных поставок, оказывается, «уничтожал заинтересованность колхозов», «приводил к стремлению колхозов добиваться уменьшенных планов… поощрял сокращение посевных площадей, не стимулировал освоения новых земель», теперь исчисление принципиально новое, погектарное, и «только противники колхозного строя, не понимающие прогрессивного значения для сельского хозяйства закона об исчислении обязательных поставок с каждого гектара пашни… могут тянуть партию назад к отмененной, как не отвечающей интересам развития сельского хозяйства, политике поставок»…
Вот Борзов-то и тянет назад! Он у Демьяна Опёнкина хлеб выгребает, нарушая погектарную справедливость, он и есть, значит, противник колхозного строя!
«Когда б вы знали, из какого сора…» Зарегламентировано всё, как в образцовом лагере ГУЛАГа. Колхозы Сталинградской, Курской, Южно-Казахстанской, Крымской, Воронежской областей обязаны осуществить сдачу зерна в госпоставки в следующие календарные сроки: в июле — 10 процентов, в августе — 45, в сентябре — 40, в октябре — 5, в ноябре — ноль. Установить на время уборки и до выполнения плана заготовок отчисления зерна для выдачи авансом колхозникам — 15 процентов от фактически сданного на государственные заготовительные пункты. Залогом всему — председатель, его свобода. Популярнейший анекдот. «Председатель, как живешь?» — «Как картошка: зимой не съедят, так весной посадят». Пьет тот колхозный актив впрямь как перед смертным часом: репрессии — явление бытовое, житейское, оказаться за решеткой у любого преда — всегда сотня причин, и на заседаниях бюро райкомов обыкновенно дежурят наряды милиции. Ехали с отчетом, ан — снять с работы, исключить из партии, арестовать. Когда на реальной районной партконференции 1952 года во Льгове (Курская обл.) один выступающий призвал голосовать за неудовлетворительную оценку работы райкома на том основании, что «в большинстве колхозов района собрано от 4 до 6 центнеров зерновых и от 40 до 80 центнеров сахарной свеклы, на трудодни выдали крохи, личная материальная заинтересованность колхозников подорвана, люди ряд лет получают по 200–300 граммов хлеба на трудодень, отношение колхозников к общественному труду во многих колхозах — как к трудповинности», то он вполне мог бы получить хороший срок за очернение колхозного строя, антисоветскую агитацию, антипартийную пропаганду. Говорил так, вы поняли, Овечкин.
В лагере как в лагере. Шаг влево, шаг вправо — уже точно побег. Бригадира Терещенко судили за то, что посеял 30 гектаров по-своему («На переднем крае»). Основанием для тюрьмы могут быть самые фантастические зигзаги и варианты: за один центнер сырых однолетних корней кок-сагыза в счет обязательных поставок можно принять по эквиваленту только 10 центнеров картофеля, а за центнер сырых двухлетних корней кок-сагыза можно уже 14 центнеров. Понять иные нормативные акты было, наверно, мудрено и Андрею Януарьевичу Вышинскому, хотя регламентировали они жизнь бедной безответной бабы: «Если птичнице в течение года начислено трудодней меньше, чем причитается за продукцию, ей производится дополнительное начисление трудодней в размере разницы между начисленными трудоднями в течение года и трудоднями, причитающимися за продукцию. Если птичнице в течение года начислено трудодней больше, чем причитается за полученную продукцию, то трудодни, начисленные сверх причитающихся, с нее списываются, но не более 25 процентов трудодней от начисленных ей за год». Угадали знакомую ритмику? Правильно — И. Сталин, Председатель Совета Министров СССР, постановление от 19 апреля 1948 года.
Раз это лагерь, то и летописание будет лагерное, и странновато уличать летописца в том, что и карандаш у него лагерный. и тетрадка, да и в образе мыслей есть следы не всегда раскованного мышления, а наоборот, следы ненавистной, но реальной жизни. Говоря ритмикой И. В. Сталина, тут мы имеем два пути. Путь первый — выявить, в чем этот субъект с карандашом опасен и вреден лагерю, чем он этот лагерь разрушает, какие взрывные мысли внушил он в целом спокойному лагерному контингенту. И путь второй — в чем поведение этого подсудимого традиционно, законопослушно, где он проявил себя осмотрительным членом коллектива, осторожным лагерником — и заслуживает, следовательно, снисхождения. Рацеи эти вот к чему.
«Думал об этом Овечкин или нет, но, на мой взгляд, он был и остается самым осмотрительным из лучших очеркистов-деревенщиков», — неожиданно узнаем мы от Анатолия Стреляного. — «Даже солиднейший Иван Васильев иной раз не так тщательно заботится о конструктивности каждого своего слова, как это делал порывистый автор «Районных будней». Книга, кажется теперь, создавалась не только Овечкиным-писателем. но и Овечкиным-редактором. Это было образцовое братское содружество. Начиная работу в 1952 году, еще при жизни Сталина, они, писатель и редактор, молчаливо условились: книгу делаем не в стол, а для печати. Умный издатель должен будет сразу увидеть, что неприятностей она ему не причинит».
«И как сбалансирован положительный Мартынов! Он сталкивается со множеством безобразий, трудностей и проблем, но ни в одном случае не проходит мимо, во все вникает, все меняет к лучшему. Чего не может решить сам, о том пишет докладные и письма в область и в Москву…» «Писание докладных, особенно таких, которые касаются крупнейших вопросов внутренней политики, — неотъемлемая часть служебной деятельности Мартынова. Он хочет, чтобы и другие егозили».
Что верно, то верно: хочет, разбойник, кипит, подталкивает, учит этому — и не только Мартынов, «альтер эго» автора, а и прямо-таки лично Овечкин. Даже счет ведет удачам своего егозенья (или надо — егоженья?), ибо вон как пишет подлинному издателю (которому — вопреки прогнозу — причинил-таки неприятности) Твардовскому[1].
«В общем-то весь цикл «Районные будни» составил 25 листов, и писал я его и печатал 4 года… И все разделы, между прочим, были написаны и опубликованы до принятия решений по поднятым в них вопросам». (Письмо от 1.1.1965 г.)
Вопросы-то эти «поднятые» повлияли, и благотворно, на жизнь миллионов работяг. Ибо касались хлеба насущного, заработка, самочувствия (юридического) вчерашнего полного, а сегодня на половину, на одну четверть (или сколько?) крепостного колхозника. Насчет категоричного — «У Мартынова нет ни одной ошибочной или спорной мысли. Он все понимает правильно и обо всем судит зрело» — то сам автор «Районных будней» насмешки будущего критика не разделяет и исповедуется другу-издателю, тому же «Трифонычу»:
«Злюсь, нервничаю по-прежнему — от сознания того, что, видимо, все же главного не сказал. Шуму очерки наделали много, но шум-то — литературный. Ось земная от этого ни на полградуса не сдвинулась[2]. В колхозах все по-прежнему.
Все же как-то идеалистически решал я вопросы вытягивания отстающих колхозов. Есть гениальный секретарь райкома, есть гениальный председатель колхоза — дело пойдет на лад. Но откуда же набраться их — гениев? Нужны, видимо, такие организационные формы, при которых допустимо пребывание на руководящих постах и среднеспособных товарищей, не только гениев». (Письмо от 11.1.1953 г.)
Однако же — глядите! — и нас, вслед за автором юбилейной статьи, стянуло в колею полного уравнения Мартынова с Овечкиным! Типичная ошибка неполной средней школы, а как прилипчива, проклятая. Условимся втайне: давая разоблачителю Овечкина высказаться (гласность же!), сами-то все-таки будем хотя бы про себя повторять — «нет, ребята, все не так, автор «Районных будней» — одно, рупор его и положительный герой — иное».
«То, что Мартынов такой писатель, очень удобно: он придает книге конструктивность и тем спасает ее — ведь поднимаемые проблемы получают хотя бы литературное разрешение», — пишет Стреляный.
«Чтобы все истории и картины благополучно и правильно завершились, Овечкин следит сугубо. В книге нет ни одного безвыходного положения, ни одного не совсем проясненного пути решения, ни одной нотки сомнения, что все «думы народные» будут вот-вот услышаны и, стало быть, исполнятся. Не в этом ли заключалась основная работа над книгой, думается иной раз. Суровые начала — творчество, крик души, а благополучные концовки и «рессоры», которых все понимающие критики и братья писатели будут великодушно и для пользы дела не замечать тридцать лет, — работа».
Слава богу, спала с глаз пелена. А за великодушие — спасибо особое. Нет, не за наше мнимое великодушие, с каким мы, «братья писатели», поддерживали «розовый туман» овечкинских «сказочных концов» («можно было бы и улыбнуться той или иной из его хитростей», — пишет незлой критик).
Особая благодарность — за мягкость приговора. Выведенный на чистую воду сочинитель «Районных будней» сознательно, как выяснилось, губил в себе художника, чтобы «истину царям с улыбкой говорить». Он намеренно егозил путем не только сказок, но и подсказок. Да-да, это не наша напраслина, это А. Стреляного собственный каламбур:
«Районные будни» — это не только сказка, но и подсказка: делайте так, как у меня написано, как мой Мартынов, как превзошедший его умом и силой посланец Москвы Долгушин! Делайте, и все будет хорошо…
Смотрите: раз это делают в книге, раз это напечатано, значит, точно так же можете действовать и вы… Мартынова, который годами егозит, подает в обком и в Москву сигналы и «прожекты» и продолжает оставаться первым секретарем райкома, в жизни такого Мартынова не было, нет и неизвестно, когда он будет…
Сполна наделенный гордою волей (это уже прямо об Овечкине. — Ю. Ч.), ради этого он и пренебрегал славой художника, безупречно верного натуре: выдавал желаемое за действительное, сглаживал острые углы…
Как ответила действительность на уступки Овечкина, на это бережное к себе отношение? Она ответила черной неблагодарностью».
И поделом — не егози! Резал бы правду-матку, подсказывая «больше публике», как Ефим Дорош, — было бы не в пример крепче. Впрочем, финальное заключение все-таки в пользу книги «с розовым туманом» (юбилей же):
«Как ни странно, как это ни противоречит тому азбучному положению, что сила литературы именно в ее художественности, правдивости несущих те или иные идеи образов и картин, «Районные будни» все еще могут быть кому-то полезны и своими слабостями — тем людям полезны, которые ждут от писателей не только сказок, но и подсказок».
Ave, святое искусство, vale, высокая художественность!
Сообщив, что продразверстка продолжается, автор отпускает юбиляра с миром.
Господи, просьба двойная: 1) не введи нас во искушение, но 2) избави нас от лукавого. Не дай реагировать на этакую перестроечную трактовку, как А. Егоров в «ЛГ»: «Я пил из черепа отца». Обыкновенное святотатство, всего делов. Но и не унизь до смешной адвокатуры, ибо она жалка и корыстна: заслонишь собою — ан и медальку на грудь. Будоражит-то — что? Наследство. Моральный авторитет с набежавшими за тридцать лет процентами. Головы и ходят кругом, и даже нигилизм, ухмылки насчет того, не черепки ли в сундуках, — тоже ведь от мыслей о богатстве.
И чего тебе самому егозить, неужто Овечкина убудет? Что, у тебя некая монополия на правду? Ныне всякое говорить дозволено. Да и на что нам глаза-то открыли? Что Овечкин был партийцем и в очищении партии видел корень раскабаления села — какая ж это тайна? Или что из подлинного Борзова выкроил расторопного хозяйственника — чему дивиться, если на глазах современников из человека, придумавшего адскую шутку «ежовы рукавицы», вышел докладчик Двадцатого съезда?
Иное! Один утверждает — был «опрометчив, нетерпелив, несчастен», другой — ему отомстило поруганное художество, отравил «розовый туман». Дуэлей не будет, хватит. Хватит уже той «великосветской» дуэли, когда — государь оскорбляет, о Калиновке велит писать, вызвать его не могу, потому себе пулю в висок.
Отыщем и уважим правду, которая содержится — не может же не содержаться, народ-то истинно литературный! — и в самых ошеломляющих, непривычных страницах. Постараемся понять, почему так пишут, какие нынче чувства порождает многострадальная тень Овечкина.
Довлеет дневи злоба его. А всякому времени — его смелость. Своему ученику Лю Биньяню, ныне одному из знаменитейших писателей Китая, Овечкин писал: «Больше всего я ценю в человеке смелость». Уважим старинное право художника судиться тем судом, какой он сам над собой признает, и тем законом, какой он поставил себе.
Поегозим относительно смелости Овечкина: была ли она? откуда? как уживалась с трусостью времени? какую службу сослужила своему хозяину, буде находилась в нем?
Маленькая притча — для признания в позиции. Один сибиряк отвоевал, честно протянул солдатскую лямку, но этого ему было мало. Он мечтал, оказывается, лично застрелить Гитлера! Уже после войны нафантазировал историю о своем геройстве — и удивлял очень артистичной, «художественной» сказкой приезжих. Близкие срамили его, он мучился — но ничего поделать с собою не мог. Мир его знал победителем Гитлера, но ему была нужна иная смелость. Он стыдился и орал — «миль пардон, мадам». Такой мудрый рассказ Шукшина…
От Овечкина, кажется, требуют убить Гитлера.
Овечкин родился в том же городе, что и Чехов, в тот год, когда Чехов умер. Правда, родину, то есть образ защищаемой земли, сделал себе уже пожившим, отвоевавшим человеком: Среднерусскую возвышенность, Курск, Льгов. Никаких диалектных следов юга в его речи не было, никаких «Евхениев Онехиных», как и следов «цэпэша» в его письме: безупречная, староуниверситетская грамотность, хотя форменного образования — только четыре класса городского технического училища.
В революцию он «Ванька Жуков» — подмастерье сапожника. Любовался сшитыми самим собою сапогами едва ли не столько, сколько и шил их. «С 13-ти лет, в общем, я сам себя кормил, несмотря на обилие родственников». В приазовской деревне Ефремовне, куда его увезла сестра, на семнадцатом году жизни заведует избой-читальней, учительствует — уже лидер, сельский активист. В сентябре 1925 года комсомольцы Ефремовки создают в пустеющем имении Деркачева (постройки и 800 гектаров госфондовской земли) коммуну, председателем ее избран Валентин Овечкин.
До конца жизни те юношеские годы вольного хлебопашества видятся ему праведными, чистыми, достойнейшими.
«Если бы я не ударился в эту дурацкую литературу и вернулся в свою бывшую коммуну (сейчас — колхоз) хотя бы сразу после войны, и меня бы избрали там опять председателем — и наш колхоз сейчас ничем не уступал бы «Политотделу», — ревниво пишет он из Ташкента Твардовскому (8. IX. 1966). — … Когда меня выдвинули из коммуны на партийную работу, то оторвали от коммуны с мясом, и эта рана осталась у меня не зажившей на всю жизнь. Много лет тоска по коммуне спать не давала, бумажки, канцелярии всякие, столы, за которыми приходилось в этих канцеляриях штаны протирать, просто ненавидел, все это мне казалось каким-то эрзацем жизни, никому не нужным, и в первую очередь не нужным самим канцеляристам… Настоящая моя жизнь осталась там, в нашей коммуне: земля, посевы, работа на полях, рост хозяйства, строительство, новый общественный уклад, рост людей».
Это, считай, на смертном одре, когда обыкновенно уже не егозят. И поскольку нам тут тона реабилитации уже не миновать, то лучше уже напрямую.
Да, Овечкин сам был из родоначальников практической коллективизации, но не сталинской, а добровольной. И не чаяновской, нэповской, а все-таки идейной, коммунистической. В пору, когда еще и рубль был «не бумажный, настоящий», и план оставался таковым же, вырабатывался за обеденным общим столом при керосиновой лампе: как косим, где продаем, что купим. Это то народное коммунарство, что выдвинет даровитейших самородков-хозяев — Макара Посмитного, Акима Горшкова, отчасти Терентия Мальцева, каковых потом (подчас во зло им самим, иногда силком) делали ходячими доказательствами живучести колхозов: богатеет же Макар? собирает же хлеб Мальцев? значит, у вас только яровизации (организации, специализации или еще чего-то) не хватает. Но и Аким, и Макар, и Терентий были добровольцами, в основе «доколхозных» их колхозов и коммун лежал здравый крестьянский выбор. Валентин Овечкин никого не мог бы, да и не стал бы никогда силком затаскивать в свою коммуну! Ни один из «отцов-основателей» не был тем, за кого его выдавала андреевско-маленковская, потом и хрущевская сельхозпропаганда, и почти с каждым властям приходилось свариться! Аким Васильевич Горшков держал свой мещерский «Большевик» на промыслах, на метлах да древесном угле, а агитировали Акимом за травополье или за кукурузу. Мальцева, в отличие от Горшкова, в тюрьму не сажали, но он сам ложился на пашню, отстаивая срок сева. Посмитный — самый фольклорный, наверно, хозяин из той истолченной в сталинской ступе плеяды (кстати сказать, очень выпукло и выразительно описан в одной из книг А. Стреляного) — держал в Одессе продуктовые ларьки, пек хлебы, давил масло, то есть основал очень денежный «агропром» задолго до кристаллизации этого зыбкого слова… Овечкин — доброволец по стилю жизни, и сельское его начало было именно добровольческим. Отчего и тяга в «Районных буднях» — куда-то назад, в какие-то ушедшие золотые колхозные времена.
«Клеймёный, но не раб».
«Дон-Кихот», донкихотство» — слова эти уйдут с Овечкиным в среднеазиатское изгнание, как и фигурка каслинского литья. Насколько, задумаемся, это плохо — донкихотство не в красноземах Ламанчи, а на черных полях Льгова — Ольгова? «Дон-Кихот — благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души предался любимой идее… — читаем мы у Белинского. — Более всего бывают Дон-Кихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности».
— Защита, не отклоняйтесь! Прошу вас быть ближе к предмету гражданского иска.
Простите. Добровольность и самораспоряжение своей судьбой в ответ на обстоятельства смертные, трагические, не оставляющие, кажется, выхода для чести и незапятнанного достоинства — вот Овечкин.
Попробуем с сегодняшним, отрытым из-под слоя лжи социальным материалом осветить хотя бы три поступка Валентина Владимировича в моменты истории, когда, как говорилось когда-то, «все равно война…».
На Северном Кавказе осенью 1932 — зимой 1933 годов организуется массовый голод. То есть не прямо голод или геноцид, это не объявлялось, но организуются такие хлебозаготовки, какие непременно покосили бы (и покосили) тысячи тысяч. Овечкин в эту пору — секретарь Федоровского сельпартколлектива (1931), затем — заворг и член бюро Курганинского райкома партии на Кубани. Урожай 1932-го убран и отобран. Мало, взять все — семена и харчи! Пленум ЦК только что по инициативе товарища Сталина одобрил решения Политбюро по разгрому кулацких организаций (Северный Кавказ, Украина) и «жесткие меры к лжекоммунистам с партбилетом в кармане». Как раз та критика, когда в жертву приносятся тысячи сельских и районных партийцев, вчерашних мужиков и казаков, пытающихся не допустить народной трагедии. Юридически голод подкреплен Законом ЦИК и СНК СССР об охране социалистической собственности: с 7 августа 1932 года за унос сумки или кармана колхозного зерна выносится высшая мера наказания — расстрел, с заменой при смягчающих обстоятельствах лагерным сроком не ниже 10 лет. Амнистия по таким делам была запрещена, закон не отличал злостного расхитителя от укравшего горсть зерен в предсмертном состоянии. Непосредственным автором закона был Сталин, осуществлять заготовки на Украину был послан Молотов, на Северный Кавказ — Каганович. Вместе с Л. М. Кагановичем в его комиссии были: М. Ф. Шкирятов, глава ОГПУ Г. Г. Ягода, начальник политуправления Красной Армии Я. Б. Гамарник, А. В. Косарев, тогда генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ и член оргбюро ЦК партии, М. А. Чернов и Т. А. Юркин. В речи на пленуме в январе 1933 г. И. В. Сталин обвинил в неудачах хлебозаготовок не крестьян, нет: «ответственность падает целиком на коммунистов». Чуть позже, в мае 1933-го, в ответе писателю Шолохову, великий вождь вернулся, однако, к идее «саботажа» со стороны хлеборобов, к мотиву «войны» хлеборобов против рабочих и Красной Армии. «Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую войну» с Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов».
На войне как на войне. В 1932 году средняя урожайность в колхозах выросла по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процента и составила в среднем 6,8 центнера. На Северном Кавказе было собрано по 3,9 центнера с гектара. Однако же и в тридцать первом году было вывезено за рубеж громадное (по сравнению с собранным) количество хлеба (5,2 миллиона тонн!), и в 1932 году продажа зерна за границу продолжалась. Не традиционный русский экспорт, нет — трофеи. Вывоз в 1,8 миллиона тонн при валовом сборе 1932 года в 69,8 миллиона тонн — будто и немного, однако же был вывезен хлебный паек (спасение жизни!) минимум семи миллионов человек. Крестьян, потому что города, 40 миллионов горожан, продуктовые карточки имели.
Изобретены и введены в действие региональные, так сказать, репрессии. Станица, уличенная в «злостном саботаже», заносилась на черную доску. Это значило: немедленное прекращение государственной и кооперативной торговли в станице с вывозом всех наличных товаров, полное запрещение торговли колхозникам и единоличникам, прекращение кредитования и досрочное взыскание кредитов, проведение чистки «от чуждых и враждебных элементов», изъятие органами ОГПУ организаторов саботажа хлебозаготовок.
Оккупированная территория! По отношению к трем «чернодосочным» станицам — Полтавской, Медведовской и Урупской — применено поголовное выселение (вместе с партячейками, с активом, с колхозными передовиками) на Север. Выселено 45 тысяч человек, их дома заселены колхозниками с Севера и демобилизованными красноармейцами. Казачьи станицы лишались имен: Урупская стала Советской, Полтавская — Красноармейской… Дивизии Гамарника против «уважаемых хлеборобов», банды за рекой Лабой из бежавших от красноармейских цепей. Война.
Четвертого ноября 1932 года в постановлении «О ходе хлебозаготовок по районам Кубани» комиссия Кагановича потребовала «уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа». На черную доску занесены станицы Темиргоевская и Ново-Рождественская. (Всего таких обреченных, объявленных вне закона, за эту страшную зиму собралось 15 станиц. При среднем населении в пятнадцать тысяч душ — представляете Хиросиму?) В Темиргоевской исключены из партии комиссией Шкирятова 7 коммунистов — «проводники кулацкой политики», «агенты классового врага». Секретарем станпарткома вместо арестованного направлен Овечкин В. В., член бюро Курганинского РК ВКП(б). Станица под арестом, следующий шаг — поголовное выселение. Овечкин никогда так не был близок к местам, где уже маялась семья Твардовских.
В конце 1932 года Сталин беседует с секретарем ЦК КП(б) Украины Р. Тереховым, который докладывает о массовом голоде крестьян, и преподает всем образец психологии стойкого партийца в этой войне:
— Нам говорили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор, оказывается, вы хороший рассказчик — сочинили такую сказку о голоде, думали нас запугать, но — не выйдет! Не лучше ли вам оставить посты секретаря обкома и ЦК КП(б)У и пойти работать в Союз писателей: будете сказки писать, а дураки будут читать[3].
В эту зиму в сорока верстах от Харькова умер голодной смертью мой дед, садовод Максим Васильевич. Мне шел четвертый год, и мать, уходя в очереди, боялась оставлять меня одного, могли украсть и съесть: людоедство в станице Пашковская под Краснодаром было обыденным явлением. Такие-то сказки.
Овечкин, начинающий писатель двадцати восьми лет, взял на себя ответственность за судьбы большой казачьей станицы, когда всякое помышление о противодействии Сталину, любое проявление сочувствия «саботажникам» было самоубийственно. Он уже через неделю вступил в преступный сговор с четырьмя председателями станичных колхозов, распорядился ночью секретно вывезти хлеб, уже оформленный в заготзерно и только из-за распутицы не вывезенный на станцию в Усть-Лабинск, и тайным путем раздавал его всю зиму ослабевшим семьям. В потайной столовой (черная доска, жизнь должна замереть!) готовили похлебку, развозили дистрофикам… Израсходовали десятки тысяч пудов, и любая ревизия, одно письмецо от обиженного станичника означали бы «вышку» секретарю станпарткома.
— Но никто не настучал! — с восторгом и удивлением вспоминал он об этом осенью шестидесятого[4].
— Защита, объясните суду, какое отношение излагаемое вами имеет к литературному вопросу? Вы говорите — «война». На чьей стороне стоял ваш подзащитный? Делит ли он вместе с упомянутыми вами Кагановичем, Шкирятовым, Сталиным и их соучастниками ответственность за последствия жестокой политики против крестьян, определенные вами как война?
Не мной — товарищем Сталиным… Я утверждаю, что Овечкин, став на время первым лицом (условно — Борзовым), проявил образцовую смелость. Он рисковал единственным, что у него было — собственной жизнью — ради спасения не знакомых ему прежде людей. В пьесе об Овечкине («Говори!», автор А. Буравский, поставлена недавно Московским театром им. Ермоловой) утверждается, что «альтер эго» Овечкина Мартынов, сделавшись первым, оказался практически такой же сволочью, как и Борзов. Значит, нравственность диктуется местом в иерархии. Человек будто бы меняется от того, какой трусости (послушания, готовности на все) от него требуют. Весь жизненный пример Овечкина говорит, что это неправда. Во всяком случае — не абсолютная, повсеместная правда. Объективно подзащитный был на стороне «уважаемых хлеборобов». Формально же — да, разумеется, он делит ответственность с Кагановичем, Молотовым и другими, пишет — «мы виноваты, местный партийный актив», почему, собственно, и привлечен к разбирательству пятьдесят три года спустя. Но делит нисколько не больше, чем дворянин Радищев — за крепостное право, богатый помещик Тургенев — за торговлю людьми, статский генерал Салтыков — за бюрократическое правление в России. Литераторы формируются из аномалий. Это так же верно, как то, что биология стоит на мутациях.
— Хорошо, продолжайте.
Добровольцем, просто даже штатским человеком, «по вольному найму», Овечкин прошел трагические полгода Отечественной войны — Керченский разгром. С 20 декабря 1941 по 8 июня 1942 года он был в штатной должности писателя редакции газеты Крымского фронта «Вперед, к победе!»[5]. Гражданский наблюдатель военных проявлений общества, разве что не в белой шляпе, а в кубанке с алым верхом. И не при курганной батарее, а на перешейке между двумя морями, Азовским и Черным, где на узине в шестнадцать километров, в чудовищной тесноте дивизий, лошадей, старых орудий, повозок, в обмотках на ногах и в трикотажных подшлемниках от обморожения, были сгружены две армии — целый фронт.
Конечно, и здесь бессмысленное мгновенное уничтожение 176 тысяч молодых (в основном) мужчин не готовилось заранее, а стало итогом системы отношений в обществе (и в частности — в армии), но судят «по делам их». Тайгуч, Ак-Монай, Аджи-Мушкай, 44-я армия, 51-я армия, воздушная армада Рихтгоффена, Еникале, танки немецкого прорыва и смертные четыре километра Босфора Киммерийского… Сейчас, спустя чуть ли не полвека, в Керчи, многолюдном городе, проживает на три тысячи человек меньше, чем погибло там в разгром 1942 года. В Хиросиме погибло сколько, 140 тысяч? Значит, на 36 тысяч меньше, если считать и наших пленных — из тех к миру вернулось немного. Но почему, почему, должен же быть ответ и на это?
Целью особого Крымского фронта было соединиться с сопротивляющимся Севастополем, отрезать — превосходящими силами — группировку Манштейна и через Перекоп выйти в тыл всей гитлеровской южной махине, предотвратив таким образом «дранг» на Кавказ, Сталинград, на Волгу. Ради этого можно было послать две армии!
Но в начале марта из Москвы прилетел Мехлис. Он был сталинский военачальник образца 1937 года: краткость приказа, Халхин-Гол в прошлом, трибунал для угрозы, расстрел на месте. Генерала Толбухина снял с поста начальника штаба фронта, уличив в создании оборонительных рубежей в глубине полуострова. Закапываются, трусы! Лезут в землю, предатели, когда фронт должен знать одно — «вперед, за Сталина, ура!». Вместо траншеи — вот «Боевая крымская», новая песня Сельвинского, армейский комиссар Мехлис сам слушал ее в Керчи пять раз подряд, приказал создать фронтовой семинар полковых запевал, приказал певцу Лапшину объездить все части, чтобы бойцы разучили с голоса, приказал отпечатать текст и разбросать листовки с самолетов над лесами горного Крыма, где — без разграбленных татарами продуктовых баз — гибли от голода партизаны. Автор песни Сельвинский был награжден наручными часами. Лично.
— Кровавая собака Мехлис…
Это у Валентина Владимировича было титулованием. Как бы ни сжат был рассказ, а — «тут нас вызвал на совещание кровавая собака Мехлис…» — титул произносился всегда полностью, без сокращений. «Маленьким Мехлисом» называл он редактора фронтовой газеты: самодура, «дундука», хама — и, в сущности, большого труса. После прорыва фронта он бежал первый, на глазах у всех.
Это он всегда считал чудом: перегруженный «Дуглас» с пьяными (именно так, он подчеркивал) летчиками дотянул до плавней Кубани и шлепнулся в камыши… Отыскав своего ретивого редактора, Овечкин попросил отчислить его. Почему? Ответил максимально, как позволяла дисциплина и война:
— Я не уважаю вас ни как коммуниста, ни как человека. Ну что, достаточно?
— Можете идти, — коротко ответил «маленький Мехлис».
Не только Гитлера — он Мехлиса не мог убить! Хотя попытки лично воздать «по заслугам» были. Генерал Петров, спасенный подводной лодкой, искал в Новороссийске адмирала Октябрьского — застрелить из пистолета за брошенных в Севастополе моряков. Мой отец погиб 19 февраля 1942 года: отвлекающий десант в Судаке был брошен без боеприпасов. В сорок четвертом у нас жил рядовой со знаками орденов на гимнастерке. В Керченскую трагедию командуя дивизионом, он видел, как один негодяй полковник отнял у пятерых раненых рыбачий ялик. Переплыв пролив на камере, этот орденоносец нашел полковника и стрелял в него. Потом штрафбат. Погиб при взятии Севастополя…
— Минутку! Вы опять уводите нас в сторону от литературы…
Никак нет. Эти жизненные факты — к тому, что первое крупное произведение Валентина Овечкина «С фронтовым приветом» есть всенародный разговор власть имущего (не «от имени и по поручению», не с голоса Верховного, а свой собственный) о том, кому принадлежит победа и как ею надо будет воспользоваться (до взятия Берлина было еще ого-го как далеко). Это мы вынесли невыносимое, мы прошли сквозь кромешный ад — и мы, значит, и должны жить меж собой иначе, мы не смеем повторять старых ошибок. Мы своих родичей-хлеборобов освободили, так как же теперь, опять их будет закабалять «дурак», который хуже «людоеда»?
«Почему немцы не распустили колхоз? Они же в листовках своих всегда агитировали против советской коллективизации… Никогда бы они не дали украинскому мужику земли… А пока, на период военного времени, им очень удобно было сохранить колхозную форму, как и раньше. Только все произведенное нами попадало не в колхозные амбары, а в Германию»[6]. Это публикация военного 1943-го, до главного постулата «Районных будней» — «Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян…» — еще девять лет, а «Фронтовой привет» стоит на середине пути.
— Какое отношение эта повесть имеет к вашему положению о личной смелости подзащитного?
А такое, что победу одержал Сталин — и делиться ею он не имел ни малейшего желания. Наши еще пробивались Восточной Пруссией, когда на восток пошли первые эшелоны — с сорванными погонами, в них-то и были Солженицын, и Копелев, и тысячи других, а потом пошла — сразу за Урал! — волна репатриированных: Верховный предостерегал от вольнодумств Колымою. И тогда многое понималось четче, совсем не так, как сегодня. Повесть «С фронтовым приветом», предложенная издательству в Киеве, понималась буквально так (перевод только исказит ярость рецензента):
«Писанина т. Овечкина явище, що лежiть по-за межами художньоi лiтератури. Це наскризь шкiдлива (вредная) и ворожа (вражеская) писанина, незалежно вiд намiрiв автора. Вона шiдляга заборонi (запрещению) i не може бути надрукована (напечатана)…»
Жена Радова, Софья Петровна, смеясь, вспоминала при Овечкине, что в это самое время он купал сыновей… в чемодане. Житье демобилизованного капитана в Киеве было нищенским: делал саночки и продавал на базаре, продал пайковую водку, чтобы сварить борща детям и отнести передачу в больницу опасно больной жене. Но ни слова в тексте повести не убрал, не изменил!..
— Ясно. Третья ваша «смелость» — конечно, «Районные будни»?
Нет. Существует книга… Двадцать два года — с 1946 по 1968 год — создавался уникальный «Роман в письмах», столь редкий в наш телефонный век. Переписка Твардовского и Овечкина! Для Валентина Владимировича «Трифоныч» несомненно был главным человеком, для Твардовского курский и ташкентский адресат — главным корреспондентом.
Роман в письмах? Кто помнит сарказм Твардовского, его иронию по поводу «эпистолярного жанра», не рискнет без оглядки так красиво именовать терпкую, всегда точную и деловую переписку двух твердых, чутких к фальши, насмешливых людей, у которых — при всей оторванности общения — всегда присутствовал некто третий. Им была литература: дело их, и страсть, и кислород, и смысл жизни, и неприятие лжи.
Этот третий заставляет Твардовского писать жесткие, нелицеприятные слова о драмах Овечкина (я, пишущий это, намеренно умалчиваю об этой всегдашней склонности…), но та же рука вовсе не из любезности шлет Овечкину радостные слова: «Вы — человек такой редкий среди литераторов — стоите у самой жизни с Вашим чутким ухом и зорким глазом, взыскательным умом и добрым сердцем!» Что говорить про Овечкина… Для него ниточка к «Трифонычу» и в России, и в Средней Азии была дороже, чем отрезанной роте — телефонный проводок. Членство в редколлегии «Нового мира» многие годы давало чувство причастности к общественным сдвигам времени. А из-за натуры и работы Овечкина сам талант огромного поэта напрямую столкнулся с сельскими буднями, с реальностями многострадальной деревни.
У романа своя фабула, синусоида: от живого, горячего начала («Работа безусловно интересная, ценная. Будем печатать», — весь сказ о «Районных буднях»!) до жизненного праздника, поездки вдвоем на Смоленщину, когда время гонит кислород, все полны надежд, Никита Сергеевич полон сил и решительности… А потом — снятие Твардовского (первое, в 1954 г.) как сигнал, что Хрущев отнюдь не прост, не однозначен… И превращение — с краешка 50-х — «Нового мира» в журнал небывалой литературы, в орган преображения общества. В муках и поражениях, каждой книжкой обдирая бока, пролеживая в цензурах по три-четыре месяца, «Новый мир» опережал время — и спасал нашу с вами честь. Все это в переписке — до печальных прощальных писем, до телеграммы сына: «Сегодня 27 (января, 1968 г.) скоропостижно скончался Валентин Владимирович Овечкин».
Но вот что заметят потом, после: Твардовскому плохо — и просьбы приехать «хоть душу отвести, а то очень уж тяжко» (это когда снимали в первый раз), Твардовскому скверно на душе — и он срывает зло, язвит, насмешничает, ёрничает, словно вымещает на надежном приятеле и боль от травли, и предчувствие конца.
«Мне очень трудно, — письмо в Ташкент 22 марта 1966 г., — исчерпывающим образом отвечать на твои очень хорошие письма, носящие все же характер подробного вопросника к имеющему быть отчету о проделанной журналом работе за определенный период. Твой интерес понятен и ценен для нас, но это слишком большая нагрузка — всю нашу каждодневную «круговерть — то ли жизнь, то ли смерть» представить всякий раз в связанном виде…»
После такого — что? — горшок об горшок? Да и за что? И кому — подранку, инфарктнику, изгою? Нет! В том и штука, что — нет, просто тому, ровно, давно и неутомимо идущему, которому хоть матюки шли — все топает, хоть проколи его издевкой — оглянется и идет. Тошно, сил больше нет! Пишешь и пишешь, а оно все так же, и злость твоя незаметным образом перекидывается на своего, твердящего со святостью провинциала все одно и то же, одно и то же.
«По своим бьешь». И не больше. Хоть бы обложил издалека…
Не знаю, как назвать этот род смелости (выдержкой? снисходительностью? мужеством?), когда ты для своих должен служить и в час жалобы, и в слабый момент отчаянья, когда все уже трын-трава, и моральные тормоза отказывают. Люди, человеки… Да, но талантливые какие! Ведь «архангельского мужика» буквально из ничего, из озонного воздуха соткать и пустить его по перекресткам перестройки — что это вам, баран начхал? Купцов и кавалеристов выдумать — легко ли? Да и пьеска. «Говори», мол, а говорить-то давно не умеем, или поклоны бьем, или желчью, кислотой… А направляющий на то и направляющий, чтобы было на ком сорвать отчаянье, безнадёгу и азарт.
— Э-эй, вы там, куда вас черти несут, выслуживаетесь все. Да свалитесь же в холодок, вы нас дразните, мучите, что ли, э-эй…
Учитель! Стой, вон дерево, тень, всю душу вымотало…
«Учитель! Перед именем твоим…»
Ноябрь 1988 г.
Ю.Черниченко
Рассказы и очерки
Глубокая борозда
Обмерили новоселы наскоро шагами хозяйство свое скудное, перемерили и новую, отмеренную им землю. Словно ожил муравейник в лощине на берегу Серебрянки. С утра до ночи трудятся новоселы, устраивают свое жилье.
Дружно работают, один другому помогают.
Бревно за бревном, вырастают домишки новоселов — курники против огромных домин богатых соседей с хуторов Боголюбского и Сердюковского.
По вечерам лощина оглашается задорными комсомольскими песнями павловской молодежи. До полночи звучат песни, не дают старикам уснуть. А у соседей — тихо. Угрюмо молчат старые хутора, как будто притаились, готовясь наброситься на незваных гостей. И молодежь с хуторов к новоселам не ходит, при встрече поглядывает косо, хмуро.
С насмешкой смотрят хуторяне на павловцев.
— Смотри, хозяева нашлись! На весь коллектив три клячи да полторы пары быков. Пасли бы скотину — спокойнее было бы и сподручнее, так нет, тоже туда, в хозяева лезут! Не таким беднякам хозяйство вести.
Когда узнали, что павловцы коллективно работать хотят, товарищество организовали, — еще больше злиться стали.
— Коммунию строят; за чубы тянут людей. Посмотрим, как через год разбегаться будут. Голопузая компания.
Долго горевал кулак Егор Кузьмич за землицей, а потом, как узнал, что у павловцев всего три лошади, кое-что смекнул и успокоился.
— Один черт, пахать им нечем будет. Заарендую года на три, попользуюсь еще!
А рыковцы (так товарищество называлось) не унывали, делали свое дело, а на соседей и внимания не обращали. Решили комсомольца Андрюшу в город послать, похлопотать о тракторе.
Съездил Андрей и привез радостную весть: трактор будет, да еще на четыре года в рассрочку, и тракториста берутся на курсах выучить. Одним словом — дело на мази. Месяца через полтора уже пахать машиной будем.
Радуются рыковцы, не верится им, что у них, бедноты безлошадной, трактор будет. А больше всех радуется Андрей. Он ведь сколотил коллектив, он, бегая, мужиков агитировал, он и за трактор первый стал нажимать.
В воскресенье собрались рыковцы решать, кого на курсы отправить, и решили послать Андрея.
— Гляди, Андрей, хорошенько учись, чтоб не осрамиться нам с машиной. Вишь, как кулачье над нами насмехается. Доказать им надо!
— Докажем!
А вечером, когда все старики сидели на завалинке у Андреевой избы, пришел нежданный гость, Кузьмич. Пришел как добрый сосед, посидел, табачком угостил, о хозяйстве поговорил и, когда уже поднялся уходить, вскользь, как бы вспомнив, спросил:
— Земельку мне ту, что за куриловской дорогой, не сдадите годика на три? Земля там крепкая, пахать-то вам ее нечем.
Мужики покачали головами.
— Нет, сдавать не думаем… Сами вспашем.
— А чем пахать-то будете? За ту землю с голыми руками не берись.
— А трактор на что? Трактором вспашем.
— Трактором? А где ж он у вас?
— Будет!
— Ну, это еще дело далекое. Вилами писано…
— Тогда посмотрим — вилами или нет, а землю, брат, не сдадим.
— Через полтора месяца пахать начнем, — вставил Андрей.
— Ну что ж, дело ваше! А то сдали бы лучше? Верней бы дело было! Трактор-то ведь штука не надежная: трынь-брынь — и стал. Наплачешься с ним.
— Ничего, Кузьмич. Наша машина — наша забота. Тебя не позовем с ней возиться.
Кончился трудовой день. Нестерпимая жара сменилась вечерней прохладой, потянуло свежим ветерком. Рыковский муравейник кончал работу, готовились ужинать и отдыхать. И вот ребятишки, второй день уже выглядывавшие Андрея с бугра, отчаянно завопили: «Едет, едет!»
Прислушались. Из-за бугра ясно доносилось ровное пыхтение мотора.
— Едет!
Через минуту стало видно и трактор. Быстро бежал он по уклону, таща за собою плуг. Все, от мала до велика, собрались у андреевских ворот.
Разгоряченный стальной конь, мощно гудя, вбежал во двор, круто повернулся и стал. С него слез грязный, запачканный в масле Андрей и сияющими глазами обвел собравшихся. Все кричали, шумели, наперебой расспрашивали, говорили.
Молодежь и старики, как мухи мед, облепили машину, заглядывая и сверху, и снизу, и с боков.
Андрей присел к старикам, угостил городскими папиросами.
Кузьмич степенно поглаживал бороду.
— Да, трактор — машина неплохая, только у нас он не идет. В Америке дело другое — там керосин нипочем. А у нас один керосин заест — расход большой. Лошадьми помаленьку, не спеша, пошел и пошел, а этот черт, как станет чего, ну и стой. Простоит день, да другой, да третий, вот тебе и скорость твоя. Да еще в горячее время, когда день год кормит. Всякая машина-то ведь каприз имеет. В Америке — дело другое, там народ грамотный, образованный, а у нас — головы соломой набиты. Мы еще в косилках с трудом разбираемся, а то трактор нам дай. Головы-то у нас ведь не американские.
Взорвало Андрея:
— А у тебя, Кузьмич, голова американская?!
— К чему это ты, парень? — удивленно глянул тот.
— А к тому! Как же ты думал, когда с Матюшкой Морозом хотел трактор брать?
— Кто, я? Трактор?
— Да, ты. Думаешь, не знаю? В союзе говорили, Егор Фролов с Морозовым приезжали, трактор хотели взять. Сулили все сразу наличными заплатить, да только не дали вам. Для голодранцев трактора берегут. Что на это скажешь, Кузьмич? А?
Кузьмич густо покраснел и не находил слов для ответа, плюнул и пошел прочь. Дружным хохотом проводили его рыковцы.
— Вот так мериканец! Хитрый, черт!
Семен Прохорыч, кулак боголюбовский, подошел к трактору, щелкнул пальцем о звонкий бак и обернулся к Андрею:
— За куриловской дорогой когти обломает.
— Когти, говоришь?
— Пахать вам ту землю до самой зимы, — с ехидным смешком сказал Семен Прохорыч.
— До зимы? Через две недели всю переверну.
— Больно горяч ты, парень, не берись ту землю за две недели пахать, легче на поворотах!
Разобрало Андрюху.
— Спорить давай!
— Чего спорить! И так знаю, что не вспашешь. Сорок десятин целины — дело не малое.
— Ну, так смотри ж, коли не вспашу!
— Ладно, ладно, посмотрим!
Ушли хуторяне. Архипыч, один из стариков рыковцев, заметил Андрею:
— Погорячился ты малость, Андрюха. Земля-то ведь тяжелая, коренистая.
— Коли сказал вспашу — значит, так и будет.
Рано, до зари, Андрей выезжал в поле, поздно ночью будил боголюбовцев, возвращаясь домой.
Машина работала хорошо. Чутко прислушивался к ней Андрей, стараясь уловить малейшие перебои и вовремя исправить работу мотора. Вспашка была отличная. Безукоризненно переворачивал плуг пласт за пластом залежавшейся, коренистой земли.
Каждый день приходили с соседних полей мужики поглядеть на работу трактора. Приходили, подолгу глядели, качали головами, удивлялись, мерили пальцами глубину борозды, любуясь работой стального коня. День за днем уменьшался сорокадесятинный загон.
— Ты б, Андрей, легче горячился. Больно уж заездил себя. В шею никто не гонит, можно и раньше с поля приезжать.
— Ничего, — весело отвечал Андрей, и глаза его искрились энергией.
После тринадцатого дня работы осталось всего с десятину нераспаханной земли.
Было воскресенье, но Андрей не считался с отдыхом и поехал кончать пахоту. Срезав последнюю серую ленту земли посреди широкого загона, Андрей радостно улыбнулся.
До глубокой осени ползал белокрылый трактор на длинных загонах рыковских полей назло сердюковцам и боголюбовцам.
Ни сажени земли не сдали рыковцы в аренду.
Довольны, не нахвалятся рыковцы своей машиной, а больше всех доволен ею Андрюха-тракторист…
А за Кузьмичом прочно укрепилось прозвище: «Мериканец».
1927
Ошибка
Силантия Федоровича Агаркова колхозники звали дед Ошибка.
— Завязывай, Петро, мешки получше, чтоб не просыпал, а то дед Ошибка выгонит тебе чертей!
— Бросай курить, ребята, бери вилы — дед Ошибка идет!
Силантий Федорович — старик суетливый, всегда сердитый и нахмуренный. Зычный голос его выделяется из шума на молотильном току, как труба в духовом оркестре, и слышен далеко в окружности, особенно когда что-нибудь не ладится — идет зерно в полову или остается в соломе невымолоченный колос.
— Это его наш бывший начальник политотдела так прозвал, с тех пор и пошло: дед Ошибка, — объяснил мне один колхозник из той же второй бригады, в которой состоял со своим семейством Силантий Федорович, и однажды в свободную минуту рассказал историю странного прозвища Агаркова.
— Дед он такой, как бы сказать, с заскоками или же с уклоном на старый режим. Всякое дело до старого примеряет. Выбирали мы первый раз колхозное правление, ну, все как полагается — записали кандидатуры, начинаем голосовать, а дед разбушевался: «Негоже так: помахали руками и готово — садись, Ванька, за председателя, руководствуй нами! Ведь наш колхоз побольше, чем у пана Деркача экономия была, тут ума нужно, чтоб таким хозяйством управлять! Надо им, кого хотим выбрать, пробу сперва сделать». Стали его урезонивать: «Не туда загнул, дед! Что ж это — лошадь на базаре покупаешь? Запряг в дроги: а ну, садись человек десять, погоняй рысью!» Дед свое: «Можно и людям сделать пробу. Вот как пан Деркач делал. Помер у него старый приказчик, надо было нового на его место определить. Позвал Романа-ключника и объездчика Федула. «Гляди, Федул, — говорит пан, — едет по хутору мужик. А ты, Роман, видишь, из леса кто-то выезжает? Бегите, узнайте — куда они едут». Побежали они. Первый Федул вернулся, запыхался. Узнал про своего мужика — едет в село Куракино. «А откуда едет?» — спрашивает пан. Почесал Федул затылок. «Беги обратно!» Вернулся Федул. «Из Латоновки едет». — «А по каким делам едет он в Куракино?» В третий раз побежал Федул догонять мужика. А тем временем возвращается Роман. «Едет, говорит, тот человек из слободы Кирсановки, а путь держит в город на базар коня покупать. Малость выпивши. Ежели еще ему поднести, так в аккурат вашего слепого мерина за хорошую цену можно сбыть. Я ему расписал — полста заглазно дает». Вот! Так и взял пан приказчиком Романа. Вишь, как умные люди делали!»
Ну, тут ему, конечно: «На старый режим хочешь повернуть? Нам твой пан не указ!»
Или вот такое: когда сошлись мы в колхоз, и вот уж перед тем, как выезжать на посевную, привязался дед к правленцам: «Дозвольте молебен отслужить! Это ж не шутейное дело. И деды и прадеды наши однолично жили, а мы порешили — гуртом. Что, как не сладится?» Начал было уже со стариков самообложение собирать, чтоб попу заплатить.
Придет, бывало, на степь в бригаду и — до кухарки: «Что варишь?» — «Борщ с бараниной». Ну, тут дед как разойдется, аж в хуторе за три версты слыхать: «Опять с бараниной? Какой же дурень в эту пору, весною, режет баранов? Мясо пожрем, а овчины — хоть выбрось! Куда они, стриженые, годятся? Хозя-ева! Безотцовщина, пустодомы!» А ездовые: «Жалко тебе? Что жрать-то, ежели один борщ, да и тот без мяса?» — «Не подохните! — кричит дед. — Баранина и в молотьбу пригодится. Весною можно и цибулю с квасом. Что дома лопали? Вчера только сошлись в колхоз, и подавай вам уже всякие разносолы! Нажить сперва надо!»
Или пристанет к посевщикам: «Зря ячменем все поле засеваете, лучше бы овса добавили. Нонешний год на Николу лягушки квакали, — овес должон бы уродиться». И ходит, зудит: «Не слухайте бригадира — сейте овес». Или — лошади не так спарованы. Его кобылу надо бы с Пантюшкиной спрячь, они и до колхоза спрягались, привычные, а Серегиного хромого — с Андрюшкиным сухожилым, нехай уж в паре хромают. Дед — перепрягать, а ездовые не дают. Ругаются ребята: «Что ты за шишка такая, что порядки тут наводишь? Тебя ж не выбрали еще председателем? Ступай домой, командуй над своей бабкой!»
В первую весну, как стали работать мы колхозом, очень суетился дед, а потом видит — по его не выходит, овес не сеют, баранов режут — заскучал. В бригаду не стал уж ходить, все возле потребилки околачивался, где собирались на раскур табаку кому делать нечего. Раз как-то пришел я к нему вечером, сидит бабка одна, деда нету. Подождал немного, слышу — снаружи кто-то возится под окном, стену лапает и ругается потихоньку: «Где ж они, проклятые? Днем тут были, а зараз нету…» — «Дед, что ли?» — спрашиваю бабку. «Вот-то, говорит, как видишь, и дверей не найдет». — «Так чего ж ты, говорю, пойди открой». — «А ну его, нехай ночует на дворе. Одурел на старости! Дожил до седьмого десятка и рюмки в рот не брал: не идет, говорит, а зараз — пошла. Да еще какую моду взял, черт старый: чуть что не по его — хлеб не допекла или пуговку на штаны не пришила, зараз тянется в морду дать! Озлел, как цепной пес!»
А угощался дед у Чепеля. Был у нас такой единоличник закоренелый, на прошлой неделе только вступил в колхоз. У него, бывало, все старики собирались. Шатаются по хутору как неприкаянные, ну, куда? — до Чепеля. Сегодня Чепель ставит литру, завтра другой — по очереди. Яблоками закусывали — сад у Чепеля хороший. Так их и прозвали — колхоз «Веселая беседа», а Чепель за председателя там был.
Но на собрания дед приходил обязательно. Тут уж он брал свое! Председатель, бывало, посылает рассыльных по домам и приказывает: «Только тому срывщику горлатому не загадывайте». А дед будто нюхом чует, когда собрание. Хоть и не зовут, так придет. Сядет в темном уголку на задней скамейке, и только, бывало, разойдется председатель, станет нам докладывать про посевную кампанию да начнет с того, как он на польском фронте два дня эскадроном командовал, когда командира убили, а дед кричит: «Слышь, Петька! Брось про это, слыхали уж много раз. Ты лучше ответь на вопрос: дохлые кобылы воскресают или нет?..» Председатель как услышит дедов голос, аж головой закрутит, будто зубы у него заболят, а дед продолжает свое: «Нет? А вот в нашей бригаде воскресла. Давеча булгахтер с бригадёром считали, считали — недостает одной кобылы, написали акт: разорвали, дескать, волки, а она нынче утром заявляется — в грязюке вся по уши, худущая, как шкилет!» Счетовод совается на стуле, будто на мокрое сел, а колхозники шумят: «Как же так? Где же она была?» Бригадиру некуда деваться, объясняет, что кобылу бабы вытащили на огородах из копанки (был у нас тогда бригадиром Поликарп Устименко, жулик оказался, судили его после), а ввалилась она туда ночью на попасе еще третьего дня.
А дед уже полевода распекает: «Илюшка! Чего ж ты не похвалишься, сколько вчера дудаков подстрелил?» Тут уж все за животы берутся, один дед сидит, как статуй, глазом не моргнет. Полевод наш — злой охотник был. Как увидит — дудаки за курганчиком пасутся, про все на свете забудет. Раз этак подбирался к ним, три километра на животе прополз — ничего не выходит! Ляжет в бурьян — дудаков не видно, поднимется — уходят дудаки, не подпускают пешего. К ним надо на подводе подъезжать или же с подкатом. Так он что придумал: пришел на загон, где пахали, вывел одну упряжку из борозды, — погоныч тянет быков за налыгач, а он идет за плугом с ружьем. Полдня кружили этак по степи вокруг того места, где дудаки паслись, таких кренделей начертили плугом, будто кто с пьяных глаз обчинал загон (вгорячах и плуг позабыли выкинуть), полгектара не допахали, а дудаков совсем было уже приготовился полевод стрелять, — чья-то баба шла с бахчи — спугнула…
Так и пойдет собрание кувырком. Кричат все: «Давай, дед, давай! Поддай жару!» Раз как-то говорит дед: «Что это в нашем колхозе, как бывало у Савки Мошны: купят, продадут — никто ничего не знает!» Мошна был такой мужик на нашем хуторе. Купит лошадь, даже сыновьям не скажет правду — за сколько. Все, бывало, тишком делает. Придешь к нему — зараз амбары, конюшню запирает, чтоб не узнали, сколько у него хлеба, да скотину не сглазили. Так вот дед и говорит: «Порядки у нас, как у Мошны. Видим — свинарники правление строит, свиней племенных, значит, собираются покупать, а что да как — ничего нам не поясняют. Может, по тыще рублей за штуку платить, — так эти свиньи и штаны с нас стянут. Я на таких свиней не согласный, нехай они подохнут по всему свету!» Ну, тут записали в протокол: предупреждение и строгий выговор деду за подрыв животноводства.
Еще пуще обозлился дед. И вот в прошлом году, весною, выкинул он такое колено. Распорядилось правление бороновать озимую пшеницу. Против этого-то дед не возражал. Хоть наши хуторяне и не делали этого сроду, но видели, как у Дергача в экономии бороновали — лучше получается. Но когда заметил дед на бригадном дворе, что сын его Гришка собирается на степь и кладет на бричку деревянную борону, вмешался: «Положь эту скребницу на место. Возьми фабричную, двухзвенную». У Гришки мозги раскорячились — кого слушать? Бригадир распорядился брать на зеленя бороны легкие, деревянные, чтоб меньше рвать озимку. Дед в азарт вошел: «Дураки вы оба с бригадёром! Бери, говорю, железную!» Не успел Гришка выехать за хутор, встретился ему по дороге бригадир, обругал его, заставил вернуться и взять деревянную борону. Дед немного погодя опять наведался на бригадный двор, глядит — нету деревянной бороны. «Ах ты ж, говорит, собачий сын! Не послухал-таки, болячка тебе в спину!» И прямым сообщением — на степь.
С Гришкой бороновали еще трое парней. Ну, до тех дед не подходил — что с них спросишь, когда тут со своим не справишься. Подождал он, пока Гришка выехал на край загона, выхватил у него вожжи, как горланет на него, аж кони в сторону прянули: «Кто тебе батька — я или бригадёр? Кого слушаешь? Убирайся зараз отсюда! Хлебу я еще пока хозяин такой же, как и твой бригадёр! Не дам пакостить!» Да вожжами его — по спине! Гришка, бедный, аж заплакал с досады, бросил на загоне бричку и борону, сел верхом и поехал в хутор жаловаться на батька бригадиру. А дед идет за ним следом и рассуждает: «Теперь за старухой очередь. Скажет: не буду тебе, черту старому, портки мыть — бригадёр, дескать, не велел, — и что ты ей сделаешь? Вот жизня!»
Вечером деду принесли из правления повестку. Повестку дед взял, а в правление не пошел. Решили о нем заглазно: «Агаркова Силантия Федоровича, как антисоветского элемента и срывщика осеннего сева, исключить из колхоза».
Ну, так и жил дед: Гришка его со старухой — в колхозе, а он — единоличником. Придет ночью от Чепеля, толкает старуху: «Эй ты, колхозница, подвинься! Развалилась! И на кровати уже места нету!»
Уже и политотдел у нас стал работать. Дошли до начальника разговоры про воскресшую кобылу, давай он ковырять. Так по ниточке и распутал клубок. Оказалось, что счетовод с нашим бригадиром не одну кобылу списали этак на волков. И быков и коров сплавляли в Ставропольщину на базары, а в актах писали — волки разорвали. Уже и посадили бригадира со счетоводом, а дед все не хлопочет, чтобы восстановили его.
Довелось нам на другую весну снова бороновать озимку. Приезжает из МТС старший агроном. «Строго, говорит, запрещаю применять деревянные бороны. Железные бороны тяжелые, идут по загону ровно, спокойно и землю хорошо рыхлят, а деревянные — прыгают, как козы, корку не разделывают, а зеленей портят больше».
Пришел я до деда. «Твоя, говорю, правда. Зря тебя исключили. Пиши жалобу. Не выйдет дело в правлении, жалуйся в политотдел». Не пошел дед ни в политотдел, никуда — так крепко разобиделся.
Случилось, что начальник политотдела товарищ Павлов сам приметил деда.
Встретились они как-то на улице, спрашивает Павлов деда: «Ну как, дедушка, дела у вас в колхозе?» — «Дела — как по маслу, — отвечает дед, — в две смены работа идет!» — «Как в две смены?» — «Да так: одни спят, а другие мух от них отгоняют». А в то время у нас в колхозе, верно, не ладилось. Председатель надумал другой раз жениться, ездил по хуторам, невесту искал, полевод — каждый день на охоте, а бригадиры тем часом до Чепеля. Павлов поглядел этак на деда: «А ты ж чей будешь? Я в вашем колхозе всех стариков знаю, а тебя будто не видел ни разу…» Дед насупился. Привык он, что никто его речей в толк не берет, вот, думает, еще один такой: поговорит, посмеется и уедет. «А я, — отвечает, — не колхозник». — «Чего так? Ушел из колхоза, что ли?» — «Да… ушел. Не ко двору пришелся». И больше не стал объяснять про себя. «Может, ты, дед, лишенец?» — спрашивает Павлов. «Ну, ясно, лишенец, кулак. Триста голов скота имел!..»
Павлов и верит и не верит. Пришел в колхоз, спрашивает, так ли? Разъяснили ему: пастухом он был когда-то, триста коров в стаде ходило. Бедняк. При Советской власти уже пару кляч заимел. С этой-то стороны у него все в порядке, а вот крикун большой и старорежимного закала. Павлов наморщил нос — он всегда, бывало, когда чем-нибудь недоволен, сморщит этак нос и сопит, как еж. «Да, говорит, комсомольский возраст дед уже перерос. Нагляделся он на своем веку старого режима». А когда встретился с ним в другой раз, то стал его опять расспрашивать: «Как же ты, дедушка, дальше думаешь? Чем жить-то будешь?» Дед за словом в карман не лезет. «Проживем! — говорит. — Куплю конячку и буду колхозную солому молотить. Соломку-то, дай бог им здоровья, хорошую бросают, колосу — пополам. С месяц помолочусь — на три года хлеба. Не пахавши, не сеявши!» Павлов навострил ухо. «А ну-ка, говорит, садись в машину, поедем со мной, покажешь, где так молотят».
Поехали. А у нас тогда на молотилках норму повернули не с тонны, а с гектара, ну, машинисты и гнали — лишь бы скорее. Целые снопы проскакивали. Павлов нагнал там всем жару. «Завтра, говорит, опять приеду. Если еще хоть один колосок невымолоченный найду — плохо будет».
Едут обратно. Дед спрашивает: «А ты кто ж такой будешь, что распоряжаешься? Должно быть, этот самый политотдел?» Павлов смеется. Он такой щуплый, кепка на затылке, не похож на начальство. «Этот самый», — говорит. «А ежели до старого приравнять, как оно будет — политотдел? — спрашивает дед. — Становой или же повыше?» — «Не знаю, — смеется Павлов, — как по-старому, а только если еще заметишь какие непорядки — ступай прямо ко мне». Дед дня через два пошел поглядеть, как молотят, — нету в соломе ни зерна. Удивился. «Хм! Как сто бабок пошептало! Оно таки, значит, верно, неплохая эта штука — политотдел».
И так у них повелось с Павловым. Придет дед к нему в политотдел, сядет в углу, нахмурится и бормочет: «Сукины дети, агроломы, нету на вас погибели!» А сам под ноги себе глядит, будто не до Павлова речь ведет. Павлов усмехается. «Ты что там, дед, бубнишь! Подсаживайся ближе». — «Да вот, говорит, опыты у нас делают, как прямо по сорнякам озимку сеять. Привез агроном эти пшеничники, или как они там у черта называются, а они только сверху землю ковыряют, а вглубь не лезут. Весь сорняк как был, так и стоит невредимый!» Павлов — на машину и деда с собой.
Раз как-то спрашивает Павлов у деда: «Чего ж ты не подаешь заявление, чтобы приняли тебя обратно в колхоз? Я слыхал: тебя исключили за то, что не давал бороновать озимку? Ну, это дело прошлое — уладим». — «А ну их к лешему! — говорит дед. — Буду сам хозяевать. За чужой головой хоть и спокойнее жить, да тошно».
Павлов на этом не остановился. Вызвал раз деда в политотдел. «Хоть ты, говорит, Силантий Федорыч, и не колхозник, но даем тебе от политотдела задание. Мы в ваш колхоз посылаем лучшую тракторную бригаду. Машины там новой марки, гусеничные, каждая по двенадцать лемехов тянет. Так надо, чтоб эти машины работали как следует. Тебя мы прикрепляем к этой бригаде наблюдать за качеством. Побудешь там хоть с неделю, пока наладится. Все равно делать тебе сейчас нечего. Соломы такой, чтобы тебе молотить, уже нет». И смеется. Дед подумал. «Это ж как я буду? Вроде как в третьей бригаде Микита Редкокаша? Инспехтором?» — «Вот, вот, так, как Никита». — «А что оно, слышь, это инспехтор, ежели до старого приравнять, — десятский или же сотский?» Рассказал ему Павлов. Пошел дед в бригаду. А председатель наш носом крутит. «Зря. Раз — то, что не колхозник, а другое — с ветерком дед. Он там такого натворит, что и не расхлебаем». Павлов ему: «Ничего, поглядим».
На другой день бежит в политотдел рулевой Мишка Филатов с жалобой на деда: «Нехай рукам волю не дает! Это ему не старый режим! Ежели мер не примете — в суд подам!» Аж слезы у парня текут и шею бинтом обвязал. Приехал Павлов на место происшествия, спрашивает деда: «Что тут у тебя с ним вышло?» Дед плечами сдвигает: «Ничего не вышло. Галдел, галдел ему: держи, парень, ровнее — огрех бросаешь, подглыби середний плуг, мелко берет, — так ничего и не вышло. Пришлось ссадить с машины». — «Как же ты его ссадил, что парень жалуется — шея не ворочается?» — «Ну, а я ж-то при чем? Я б, может, за рукав или за шиворот его взял, кабы он в рубашке был, а он голый, загорал против солнца. Пришлось взять его за шею». Да как вызверится на Мишку: «С-сукин сын! Весь загон испакостил — срамно глядеть! Небось, когда на своем тракторе пахал, так не бросал огрехов!» — «Как — на своем?» — спрашивает Павлов. «Да так. Свой трактор у них с батьком был. И молотилка. Он с Вербового хутора, я их знаю, как облупленных».
Выгнал Павлов этого тракториста из бригады. А через неделю — снова жалоба на деда. Пришел в политотдел председатель «Красных бойцов». «Что за самоуправство! — говорит. — Нашу клетку запахал!» Тут и наш председатель был. «Вот видите! — говорит. — Я же предупреждал — наделает делов». Павлов посмеялся, а потом как взял в оборот председателя «Красных бойцов»: «Какой же ты руководитель, ежели земли своей не знаешь? Хозяева! Сто гектаров земли потеряли!» Вышло так: в наш участок заходит сапогом стогектарка «Красных бойцов». Земля там хорошая, толока, лет пять не пахалась. А у них такой ералаш в то время был: бригадиры и полеводы каждый месяц менялись, участков своих не знали, первая бригада думала, что клетка эта второй бригады, а вторая тоже за свою не признавала. Ну, у деда и разгорелся глаз на эту землю. «Загоняй, ребята, — наша будет!» Аж когда вспахали, тогда только разглядели «Красные бойцы» — ихняя земля. Ну, клетку ту им вернули, они нам за нее после отпахали. Деду Павлов сказал: «Больше так не делай. Не к помещику за межу залез, а в такой же колхоз». А «Красным бойцам» потом проходу не давал. На каждом собрании, бывало, издевался: «Ну-ка, расскажите, хозяева премилые, как вас дед с землей объегорил?»
Вот так и пошло. Посылал Павлов деда к тракторам на неделю, а пробыл он там до конца пахоты. До Чепеля совсем дорогу забыл. Приезжает как-то Павлов, а дед суетится, мотается по полю, загонки для тракторов размечает, ругается с полеводом: почему сорняки на участке не выжег? Спрашивает Павлов деда: «Ну, а ежели так вот, как сейчас, не тошно будет в колхозе?» Дед подумал, усмехнулся: «Так-то оно вроде ничего…» Зазвал его Павлов в вагончик, сам написал заявление, дед подписался. А как узнал Павлов в точности, за что исключили деда, про деревянную борону, рассердился, ни разу не видали его таким злым. «Шляпа! — говорит нашему председателю. — Жуликов под носом у себя держал, а деда какого выгнал!»
Так с тех пор и работает дед инспектором в нашей бригаде. Недавно было — ячмень уже начинали косить, — приходит в степь, под глазами синяки, нос распух, будто пчелы его покусали, ухо в крови. Я перепугался: «Где это тебя угостили?» — «У Чепеля», — отвечает. «Чего ж тебя туда занесло? Опять до рюмки потянуло?» — «Пошел ты к черту! — говорит. — До рюмки! Ишь догадливый какой!» Обиделся и разговаривать не стал. Вечером уже, когда отсердился малость, рассказал: «Пришел, говорит, вчера до Чепеля, а там пир горой — человек двадцать собралось. И из нашей бригады сидят трое. «Что ж вы, говорю, делаете, бандиты? Колхоз уже косовицу начал, а вы тут саботаж разводите?» Чепель поднимается: «А что ты, говорит, за шишка такая? Тебе какое дело?» — да за грудки меня! Я не стерпел, Чепелю — в ухо! Чепель развернулся, да меня! Я его — коленом в живот. Кабы один на один — умолотил бы, да вступились там за него, я и ушел от греха прочь».
Когда уезжал от нас Павлов — пришел к нам в колхоз и говорит председателю: «Этой своей ошибки до смерти не забывай». И зовет деда: «Ну, иди сюда, дед Ошибка, попрощаемся». Так с тех пор и пошло — Дед Ошибка…
1935
Родня
Я вот скажу, что такое для меня колхоз. Тут у нас всё рассуждают: много хлеба на трудодень получаем, патефоны, велосипеды, мол, у каждого. Я не об этом, я о другом расскажу…
У меня сейчас самая большая семья в хуторе — с детьми семнадцать душ. Три сына женатых при мне, две дочки, внуки. Интересно получается. Сам иной раз диву даешься, как живем. Со стороны поглядеть — будто и не родня друг другу. У каждого свои трудодни, своя получка, купить ежели чего нужно — каждый за свои покупает. Дом-то этот строили сообща, в складчину. Собрались все, посоветовались: семья большая, а хата тесная, жить негде, — надо новый дом строить, чтобы каждому квартира была. Ну, и поставили, вишь, какие хоромы: шесть комнат, столовая, кухня. Старший сын, Федор, дал денег на постройку, Николай и меньший Яшка свою долю внесли. И девчата — тоже. Так и живем. Стол, конечно, совместный, мать готовит на всех, девчата помогают, когда бывают дома, а во всем остальном каждый располагает на свой заработок. Костюм новый справить, вещь какую-нибудь купить, в дом отдыха либо в Москву в отпуск с жинкой съездить — это уж как кому желательно. Вот девки мои поехали в прошлом году в город: одна меховую шубу себе купила там, а другой загорелось, в чем бы ни стало, на самолете полетать. Взяла билет, слетала аж в Ленинград. Ну, чего ты ей сделаешь? Ее труд, ее деньги — сама себе хозяйка.
Может, кому из отцов такие порядки не нравятся, но, по-моему, лучшего и не придумаешь. Большая тяжесть с моей души снята. Если кто скажет, что нехорошо этак, не по-родственному: между своими людьми, в одном доме, считать раздельно трудодни и деньги, — так я на это отвечу: великое спасибо колхозу за то, что учел он труд каждого человека и определил, чего стоит его труд.
Вот я тоже вырос в такой большой семье. Три брата нас было женатых при отце, две сестры. Не делились долго. Старик и слушать не хотел о разделе. Отцовщина наша была там, где сейчас правление колхоза помещается. Дом этот конфискован в тридцатом году — как кулацкий. Но это уж младший братец Марко вышел в кулаки, когда остался один, а при отце мы хотя и жили в достатке, но своим трудом обходились. Семья была двадцать две души. Считались мы в селе людьми богатыми, скота имели много, хлеба сеяли десятин тридцать, только богатству нашему никто не завидовал. Как-то у нас все безалаберно шло. От зерна амбары трещат, скота много продаем, а носим всё домотканое, и аршина ситцу, бывало, за год не купим в лавке — штаны из холста, такие ж и рубахи, и у баб все холщовое, и в будень и в праздник. Отец сам и овчины чинил на кожухи, и шапки шил сам, и сапоги тачал из товара домашней выделки. Сляпает сапог из сыромятины, по мокрому походишь, расползется мешком — не разберешь, где носок, где задник, кругом ровный. За зиму пары три такой обувки износишь, зато дешево, сапожнику не платить.
И работали бестолково. Не знали покою ни днем, ни ночью, с ног сбивались. В молотьбу отец от воскресенья до воскресенья никому и на час прилечь отдохнуть не позволял: «Зима, говорит, на то придет, зимою будете дрыхнуть». Всю ночь тарахтят веялки у нас на току. Только если со стороны послушать, — чудно как-то тарахтят, с перерывами. С вечера слышно, потом затихнет, еще немного потарахтят, потом опять не слышно. Заглянуть в то время на ток, когда тихо, — спим все, где кого захватило: детвора-погонычи, что оттягивали волоками полову к скирдам, верхом на лошадях спят; девчата — возле веялок, а старик на мешках храпит. Перемучаемся этак ночь, потом и днем ходим как вареные, вилы из рук валятся, где кто присел, там и заснул. А под конец выходит — люди уже озимь сеют, а мы все косим да молотим.
Плохо работали. Хуже нас никто землю не обрабатывал. Пахали кое-как, на два вершка, сеяли наволоком, лишь бы побольше захватить. Били на количество, аренды добавляли. На пахоте отец, бывало, только и следил за тем, чтоб «аккуратно» обчинали загоны — на плуг, на два через межу чужого прихватывали.
На такие штуки отец-покойник, не тем будь помянут, большой мастер был. Не туда его голова работала, чтобы дать порядок дома и на поле, участок получше обработать, сад, может, насадить, скота породистого добыть, а только — чтоб облапошить кого-нибудь, на чужбинку чем ни есть попользоваться.
По этим делам отцу больше всех под мысли пришелся младший сын Марко. Я старший был, а меня отец так не приближал к себе, как Марка. Я из дураков не выходил. Все — Алешка-дурак. Это за то, что не умел людей обманывать. А про среднего, Степана, и говорить нечего. Этот был у нас парень хлесткий, несдержанный на язык. Я, признаться, робел перед отцом, а Степка резал прямо: и за то, что работаешь, как проклятый, а ходишь в отрепьях, и за детей, что в школу не пускают, и за всякие проделки отцовы и Марковы, за которые стали уже нас звать в селе по-уличному — Хапуны.
Повезу я, бывало, на ссыпку пшеницу да подмешаю, как отец прикажет, в каждый мешок по мерке отходов, а там приемщик возьмет пробу не с верху, а со дна, щупом, и забракует. Идет вся пшеница по цене отходов по пятаку за пуд. Приезжаю домой, рассказываю, а Степан как вскинется: «Что, — на отца, — не все дураки на свете, есть и похитрее нас? Ловкачи! Рубли на пятаки менять!» Отец аж позеленеет. «Цыть, сукин сын! Молодой еще — батька попрекать! Кто ж вам виноват, что такие растяпы. Заставь дурака богу молиться! Кабы Марка послал, тот небось ссыпал бы за первый сорт». Степан не унимается: «Да, Марко ссыпал бы! Марко ваш может! Быков вон ссыпал на ярмарке за сто двадцать, а деньги куда девал? Гашка в чулок спрятала? (Гашка — Маркова жинка была). Так нам с Алексеем про то тоже надо бы знать. И наш труд есть в тех деньгах». Старик до Степки — с палкой. «Молчи, обормот! Ты на Марка не моги! Марко — хозяин. На вас доверь — за неделю размотаете. Быки! Вон где быки: крышу на конюшне перекрыли — раз, новый стан под бричкой — два. Заслепило тебе, не видишь?» Степан и палки не боится. «Крыша — двадцать рублей, это нам известно, стан — тридцать, а еще семьдесят где?..» Гнул Степан все на раздел.
Один Марко был утешением родительским. Не надо, бывало, учить его да приказывать — сам знает, что делать. Издохнет свинья — Марко разделает тушу, как резаную, и везет в город на базар. Обратно едет веселый, под хмельком: отец ему позволял и вином побаловаться — знал, что больше четвертака не пропьет, зато на деле не один целковый натянет, — хвалится: пошла за первый сорт! Все ему знакомые: и врачи те, что клеймо кладут, и колбасники, всех угощает, подарками задабривает… Послал его однажды отец к одному придурковатому мужику договориться насчет земли, взять у него на весну в аренду десятин несколько, так Марко споил там всех, заставил вместо аренды купчую за ту же цену подписать. Понятые руку приложили, а к чему — не разобрали спьяна. И нам это стало известно уже после раздела. Десять лет не оглашал Марко бумагу. Сеяли, все считали — аренда, оказалось — купленная. Вот какой был хват!
Звал его отец малой, а «малому» уже за тридцать перевалило, моложе меня всего на четыре года был. Наружностью — весь в отца. Мы со Степаном в мать вышли, черные, а он рыжий, кривоногий, морда красная, как кирпичом натертая, глаза запухшие, бесперечь моргает ими, — какая-то болезнь у него была в глазах: все, бывало, слезы вытирает, будто плачет. Так схожи они были с отцом мыслями своими, что понимали один другого с полуслова. Послушаешь иной раз их разговор, как они советуются между собой о каком-нибудь деле, — ничего не разберешь.
Сидят рядом, потупятся, отец бороду теребит, Марко глазами моргает, вытирает платочком слезы, и только и слышно: «Эге… Да и я так думал… Оно б то можно и тово, да как бы не тово…» — «Слышь, малой, — говорит отец, — ну, так как же? Убить? Жалко. Может, тово?.. Попробуем?» — «Да и я тоже так думаю, — отвечает Марко. — Залить ему пару бутылок да по ребрам его, по ребрам хорошенько, чтоб сигал. Эге?» — «Да, ну да, может, и тово… А не тово, тогда уж быть ему так…»
Мать сердится: «Ну, заджеркотали, турки! Всего делов — коня слепого продают, а таятся, будто человека собираются зарезать, прости господи!»
Так они вдвоем и правили. Отец больше по домашности, а Марко — поехать куда-нибудь, купить, продать. Меньшим братом был, должен был бы нас со Степаном уважать, а он, чуя за собой отцовскую руку, такую волю взял над нами! Стал прикрикивать, как на работников. Забежит иной раз на степь, где мы жили все лето, — я, Степан, Федька, сын мой, Степановы девчата, — как приказчик, на дрожках, плетка в руке. И то ему не так и это не так. Сено перестояло, мало скосили, рано выпрягаем. «Вы, говорит, мне тут пошевеливайтесь веселее! Чтоб к воскресенью все сено было в стогах». Степан как-то не вытерпел. «Тебе-е? — говорит. — Ах ты, шут гороховый! А этого тебе не желательно?» — да как хватит его по спине вилами, тот с дрожек и кувыркнулся. Что там было! Марковы дети — на Степана, мы с Федькой вступились за него — и нам попало. Бабы передрались. И такое случалось у нас не раз, а частенько…
Вот так и жили. Денег отец на руки никому не давал. «Хлеб жрете? — говорит. — Одежа, обувка есть? На что вам еще? На баловство?» Как раз была у нас такая жизнь, как вот некоторым нравится: несчитанное, немереное, неделенное. Степан пытался было кой-когда посчитаться — один скандал. Но чуяли мы с ним, что дела неладные. Куда-то же они деваются, эти деньги, что выручаем за хлеб, за скот?
Долго жили мы вместе. Федору моему уже двадцать лет было, когда поделились. Все-таки поделились. Когда уже всем стало невмоготу. Больше всех досталось Мотьке бедной, Степановой жинке. Загнали бабу в могилу…
Мотька была молодица такая, что по нынешним временам не знаю как бы ее и возвеличили за ее работу. Первой ударницей прославили бы. Собою была щупленькая, худенькая, но в работе — огонь! И на степи ворочала за троих и дома. На все руки была мастерица. Мы хоть зимою отсыпались вволю, а Мотька круглый год не знала отдыха. Все спят уже, и бабы спят, а она сидит чуть не до рассвета при каганце, шьет. Всю ораву одевала. Штаны, рубахи наши эти самые холщовые — все это ее работа была. Сама и пряла, и ткала, и шила. Но раз уже пошло у отца со Степаном разногласие, и невестка немила стала, ничем не могла ему угодить. Не так ступнула, не так повернулась, не так села. Отец и называл ее не иначе, как в насмешку, — модистка. «А где ж это наша модистка? Эй ты, модистка!», «Так — черт-те что, не молодица! — говорил он. — В чем только душа держится, кожа да кости, сказано — модистка! Гашка, вот это баба! Нашей породы, крестьянской. Мешок за хорошего мужика понесет». Гашка, Маркова жинка, была его любимая невестка. Ростом на голову выше Марка, пудов шесть весу — идет, земля под ней дрожит.
И так завелось между ними: Мотька и ткала холсты и шила, а кроить рубахи отец всегда звал соседку Семеновну, — пронырливая такая бабенка была: где ссора в семействе, туда и она свой нос сует. Достанет отец из сундука холсты, даже мать к этим делам не допускал, запрется с Семеновной в передней хате, подождет, покуда она выкроит рубахи, завернет остатки и опять прячет в сундук под замок.
Мотька от обиды все плакала втихомолку. Она такая безответная была. А Степан терпел, терпел, да однажды и не вытерпел. Вывел эту Семеновну из хаты, турнул ее в шею с порожков, а потом — до отца: «Что она у вас украла, Мотька, что не доверяете ей? — побелел как стена. — Как же можно жить так в семье — без доверия?» Отец расходился: «Кого учишь, сукин сын? Не украла, так могёт украсть!» И получилось у них так: отец ударил Степана палкой, а тот либо оборонялся, либо так уже обеспамятел — тоже толкнул отца… Потянул отец Степана в волость на расправу. Держали его там три дня в холодной, били. Вернулся домой страшный, лицо распухло, весь в синяках.
С тех пор еще хуже у нас стало. Зашла злоба такая, что ничем уж не утушишь. Моя баба и Мотька нашли ключ от Гашкиного сундука, — та обронила его где-то, — и сговорились между собой посмотреть, чего она там прячет. Выждали, покуда все вышли из хаты, открыли сундук, а там под старым Гашкиным приданым кашемировые полушалки, бумазея, сукна, ситцы в штуках — все то самое, на что отец никому в семье и копейки не давал.
Бабы так и ахнули. Вот оно где — и быки наши и пшеничка! На что Мотька тихая да смирная была, и та разъярилась. Побежала за топором, а моя стала выбрасывать все из сундука на пол. Посекли они топором на пороге все Гашкины обновы, запихали обратно в сундук, заперли на замок и ключ подкинули обратно на то ж место, где нашли. Гашка как заглянула в сундук, захворала от злости, два дня в постели пролежала. Догадалась она, конечно, чьих рук это дело, но отцу не пожаловалась: покупались эти кашемиры, должно быть, тайком и от старика. Стала вымещать нашим бабам кулаками. Как поймает где-нибудь Мотьку одну — за волосы ее и оземь. И мою бабу била. Ну, за баб, конечно, мы, мужики, вступались в драку. Редкий день обходился мирно. Как шум, крик на дворе, так соседи уже знают — Хапуновы дерутся.
Сойдемся, бывало, за обедом — четыре отца, четыре матери, дети взрослые, девки-невесты, всех двадцать две души — молчим, чертом один на другого исподлобья поглядываем, сопим только да жуем. За едой ругаться невыгодно: другие тем временем лучшие куски из чашки повытаскивают. А встанем из-за стола, помолимся, выйдем на двор и — пошли гоняться один за другим с граблями.
А воровать стали все поголовно, кто чего изловчится, — не зря опасался отец, что «могёт украсть». Малыши крали яйца на леденцы, бабы таскали лавочнику на дом масло, сало кусками, меняли на ленты, гребешки, парни крали пшеницу с току целыми мешками.
Наконец, дошло до того, что Гашка пустила про Мотьку слух, будто к ней, когда спала она одна в летней кухне, лазили в окно соседские парни. Набрехала, конечно. Куда там той бедной Мотьке до парней! Замучили бабу — еле ноги тягала. Но все же — брошено слово, так с языка на язык пошли сплетни по селу. Кто-то ворота нам дегтем вымазал за Мотьку, а может, сама же Гашка. Тут и Степан дал маху. Не разобравшись с делом, поверил и тоже Мотьку — за косу. Защитил бабу от напасти! И вот как-то вышел я ночью в конюшню задать корму лошадям, зажег фонарь, глянул перед собою — и шапка в гору полезла. Висит Мотька на вожжах, голова набок — захолонула уже. Вот что получилось…
Похоронили мы Мотьку. Степан кричал на могиле не своим голосом, рубаху на себе рвал. Тут уж и отец с Марком видят — дальше так жить невозможно, посоветовались между собой: «Ну что ж, малой, выходит — тово? Не миновать?» — «Да, ну да. И я так помыслил», — и объявили нам со Степаном раздел имущества…
Марко, как младший сын, остался на корню, с отцом. Нам со Степаном отделили по пять десятин земли с краю участка, на солончаках. На том месте у нас никогда хлеб не родил. Лучшая земля, чернозем, была ближе к селу — осталась за Марком. Из тягла дали Степану пару волов, один калека, давно уже не запрягался, на ногу не ступал, собирались его на бойню продать. Мне дали пару лошадей, самых что ни есть расподлюк выбрали. Одна подорванная, больная, другой тридцать лет, без зубов. Ну, из инвентаря кое-что дали: сеялку без ящика, ящик бричечный без колес, топор, лопату… Пожаловались было мы со Степаном в волость на неправый раздел, да Марко поперед нас ублаготворил там кого следует. Подтвердили…
Дальше жизнь наша пошла так. Марково хозяйство на отцовщине после раздела стало подниматься в гору, как опара на дрожжах. Земли прибыло, больше чем нам отрезал, — огласил купчую на ту, что считали арендой. Выждал с год для приличия и начал: молотилку с паровиком купил, еще земли добавил, лавку открыл. Ну, тут уже всем стало понятно. Соседи говорили: «Вот аж когда Марко Хапун жинкин чулок развязал!» Ясное дело: кашемиры да ситцы — то мелочь. Тыщи лежали где-то до поры до времени. Наши труды… Одна беда была Марку — рабочих рук стало не хватать в хозяйстве. Пришлось нанимать на наше место работников.
Были у нас еще две сестры, Варька и Феклушка. Этих Марко оставил при себе, на отцовщине, обещался выдать замуж, справить приданое. Варька ждала, ждала женихов, да и ушла в город, устроилась там где-то в прислуги. А Феклушку он чуть не до тридцати лет держал в девках, все искал таких сватов, чтоб поменьше приданого спросили, да и нашел подходящее место: богатая семья, не стыдно посвататься, и ни копейки приданого не потребовали, рады-радехоньки были, что хоть голую душу взяли. Их в селе сторонились все: больные были, от мала до велика, поганой болезнью…
Отец после раздела начал стареть как-то сразу на глазах. Стал задумываться. Должно быть, заскребло-таки его за душу. Нехорошо все же получилось. Как-никак не чужие, свои, кровные. Потянуло его подальше от людей, в одиночестве обдумать свою жизнь. Весною отвез его Марко в город, и пошел он оттуда пешком по святым местам. Вернулся осенью, уже в холода, худой, оборванный. Марко его сразу огорошил: «Негоже так, батя! Прошлялись рабочее время, а я за вас человека нанимал бахчу стеречь. Вы бы уж и в зиму — того… туда, где летом были, в лавру там какую, что ли…»
Помер старик не в почете. Пока была жива мать, кое-как еще доглядывала за ним, а остался один, туго пришлось доживать. Когда совсем ослаб и, бывало, по старческой немощи обпачкается либо за обедом чашку с борщом опрокинет, и по затылку от Гашки схватывал. Не слезет с печи — забудут и к столу позвать. Сам портки в речке стирал. Станет на бережку на четвереньках, а потом не разогнется и кличет ребятишек, чтоб вывели на сухое…
Мне на отделе не повезло. Лошади, те, что дали мне, в первый же год пали. Спрягались мы с соседом по корове. Жил у людей на квартире. Одно лето проболел я, не управился с прополкой — сорняк заглушил хлеб. Семена не вернул. Так уж я и не поднялся. Пошел по наймам, детей на поденщину стал посылать. До самой революции батраковал. Степан построил-таки себе хату, женился другой раз, взял за женой корову, лошадь. Пожил годов несколько, а потом подкосило и его. Настала засуха такая, что выгорело все на полях, как от пожару. Кору толкли, подмешивали в хлеб, желуди в лесах собирали. Степан в то лето не стал и косилку зря гонять по своим солончакам — не было ничего, одни будяки выросли. За зиму проел скотину, снасть, какую мог продать, а весною выпросил у соседа подводу, уложил на нее пожитки и подался в город. Хату его купил Марко для старшего сына за пять пудов ячменя. Чужие четыре давали, Марко по-свойски пуд накинул.
Степан перед отъездом пришел к брату за ячменем, набрал зерно в мешки, завязал… Марко стоит, глазами моргает, вытирает платочком слезы, будто плачет — жалко с братом расставаться. Степан отнес мешки за ворота на подводу, вернулся к нему — чего б сказать на прощанье? Да как плюнет ему в рожу — только и всего. Больше мы его и не видали. Работал он на рудниках, потом на завод поступил, в революцию — слыхать было — участвовал в Красной гвардии с сыновьями (два сына взрослых были у него к тому времени), — все трое погибли.
Вот что вышло из нашей семьи…
Когда Марка штрафовали по хлебозаготовкам в пятикратном размере, мои ребята с великим удовольствием помогали комсоду выгребать его пшеницу из амбаров. Меньшие, Николай и Яшка, эти только понаслышке знали про наше совместное житье с дедом и дядькой Марком, а старшой, Федор, — тот хорошо помнил, на своей шкуре все испытал. Он в гражданскую войну в партизанах был. Заскочил как-то с отрядом к дядьке. «Эх! — говорит. — Посчитаться бы с тобой! Пустить на дым все, что награбил ты нашим трудом! Ну, ладно, нехай подождет до поры. Оно нам еще пригодится».
В тридцатом году раскулачили Марка и выслали со всем семейством на Урал. Приходил ко мне прощаться, просил хлеба на дорогу. Плачет, слезы вытирает. Дал буханку. Черт с тобой, езжай да не ворочайся…
1938
Прасковья Максимовна
Приехал я в один район Краснодарского края с заданием редакции написать очерк о колхозных опытниках. Мне назвали в райкоме колхоз «Красные зори», где опытным участком и хатой-лабораторией заведовала Прасковья Максимовна Бондаренко. Туда я и направился.
Председатель колхоза, рассказывая о Бондаренко, хвалил ее, но как-то мялся, отводил глаза в сторону, заметно было — не от души хвалил.
— По урожайности никто в районе ее не опередил, это верно. Семьдесят центнеров кукурузы взяла. За клещевину краевую премию получила. Мы ей корову дали, в дом отдыха посылали в прошлом году.
— Значит, хорошо работает?
— Да. Вот только… Вы были в бригаде, говорили с народом?
— А что?
— Не любят ее некоторые колхозники. Сами не можем понять — почему очень много недовольных на нее.
Тут же, в кабинете председателя, сидел парторг колхоза.
— Это правильно, — подтвердил он. — Работает она интенсивно, но с людьми ладить не умеет.
— Зазналась?
— Да нет, вроде бы и не зазналась. Просто завелась там склока! Такие перетурбации в бригаде — не успеваем мирить их! Есть очень агрессивно настроенные против нее. Станешь говорить им об ее достижениях — слушать не хотят. Затуляют уши и уходят.
Я тоже «затулил» уши и ушел.
…Бондаренко — пожилая женщина, лет сорока, вдова, худощавая, смуглая и черноволосая, очень похожая на цыганку. Живет она одна — дочь учится в городе, в медицинском институте, сына в прошлом году призвали в Красную Армию. Несмотря на то, что Прасковья Максимовна все дни проводит в степи и редко бывает дома, в хате ее уютно и чисто убрано. Хата — старая, крестьянская, на две половины, с огромной русской печью в простенке, с маленькими подслеповатыми окнами, но с хорошей обстановкой. Посреди передней комнаты стоит круглый стол, покрытый белой скатертью, к столу придвинуты четыре стула. Над столом низко спущена электрическая лампочка под зеленым стеклянным абажуром. В углу этажерка с книгами. Над кроватью ковер. У другой стены мягкий диван. Лежанка русской печи, уродующая комнату, задернута кружевной занавеской. Такие же занавески на окнах. На полу домотканые дорожки. Сама Бондаренко одевается чисто и со вкусом. Когда я пришел к ней, она собиралась куда-то уходить. Одета она была в темно-синий шерстяной костюм, сшитый у хорошего портного. Вечером я видел ее в клубе в цыганской шелковой шали, яркой, цветастой, с длинной бахромой до земли.
Меня в беседе с Бондаренко прежде всего, конечно, интересовали причины «перетурбаций» и «агрессий» — изъясняясь пышным слогом парторга. Она тоже с этого начала:
— Вот о нас уже много писали. В районной газете каждый день: «Победы стахановки-опытницы Бондаренко», «Прасковья Максимовна едет на курорт», «Колхоз премирует лучших стахановцев» и все такое… Хвалили нас достаточно, даже слишком. Не так оно гладко все бывает, как может кому показаться. А вы лучше напишите о нас с другой стороны.
— Как с другой?
— О наших трудностях. Какая борьба у нас идет. Это правильно председатель говорит — не любят…
И стала рассказывать.
Рассказ ее, взволнованный, местами прерывавшийся даже слезами, я и передаю здесь.
— Говорите: не могут понять, почему такое отношение ко мне? Кабы хотели понять — поняли бы!.. Чего тут особенно придумывать? Конечно, не за что меня любить. Я же таки, верно, залила кой-кому за шкуру сала. Без этого в нашей работе не обойдешься.
Вот — далеко не ходить — весною было дело. Сеяли мы ячмень. Тракторист Петька Сорокин либо не выспался и дремал, либо нет у него способностей, вижу — никуда не годится сев. Не то чтобы огрехи бросал, но кривулял. Я говорю ему: «Так, Петро, дело не пойдет. Останавливай машину, не разрешаю сеять». Он взъерепенился: «И всегда ты, тетка Паранька, придираешься. Ну и скандальная же ты баба! На что тебе сдалась тут прямолинейность? Чтоб поглядеть было красиво? Что это — пропашные, культиваторы здесь пускать?» Я говорю: «Дурень ты! Разве прямолинейность для красоты нужна? Надо каждое семя так уложить в почву, чтоб одно другому не мешало, а ты кривуляешь: где сдвоишь рядки — там густо, а где разведешь — там пусто». Он не слушает, сеет. Я — до ихнего бригадира: «Давай другого тракториста». — «Нет другого, все в разгоне». Что делать? В правление, в МТС? Это пока добьешься толку, так и ячмень весь посеют. Надо, значит, самим меры принимать. Забежала наперед трактора, расставила руки, кричу: «Стой, бо все одно с этого места не сойду, хоть дави меня машиной!» Остановил Петька трактор, ругается, а девчата мои подошли сзади, взяли его за руки-ноги, как барина, сняли с сиденья, вынесли на межу и посадили в бурьян. «Гуляй тут, — говорят ему, — охолонь трошки, а к машине не лезь, не пустим». Бригадир видит такое происшествие, делать нечего, сел сам на трактор, посеял ячмень — пятнадцать гектаров. Посеял, действительно, слова не скажешь — как шнуром отбил каждый рядок, чего нам и хотелось.
Вот вам — один случай. А их много бывает. Я прямо скажу: если нам не поступать таким манером, так тут тебе наделают делов! И посеют так, что от земли своей откажешься, и урожайность смешают, и участки перепутают. У меня раз хотели было отнять участок, который мы три года удобряли, передать во вторую бригаду. Я — в район. Там говорят: «Ну что ж такого, хорошая земля и второй бригаде нужна». Я — письма в край. Нету ответа. Я тогда — на почту. «Вызывайте, говорю, по прямому проводу Москву, Михаила Ивановича Калинина». Наши перепугались: «Брось, Прасковья Максимовна, уладим как-нибудь». — «Да не как-нибудь, говорю, а отдайте нам ту землю, в которую мы столько труда вложили!» Ну, некуда им деваться — отдали…
Я знаю, как меня тут разрисовывают: «Черт, говорят, в юбке, а не баба». Ну что ж, ладно, нехай так. Не это обидно. Обидно, что плетут такое, чего сроду и не было. Тут, если вам рассказать все… Говорили про меня: «Она своих баб, которые с нею на опытном участке работают, окончательно затягала, запрещает им за целый день присесть отдохнуть, ей бы только плетку в руки — как жандарм!» А девчата мои смеются: «Какая неволя заставила бы нас с нею работать? Да сама-то она где — не с нами? Что ж, она разве богатырь какой?» Говорили, что учетчик нам за магарычи выработку приписывает, что за красивые глаза премии получаю. Всего не перечтешь. Ляпают со зла, кому чего в голову взбредет…
А за что злятся? Как вам сказать… Вот я привела вам пример, так это еще не все. Есть такие люди, что как будто ничего у нас с ними плохого и не было — ни за землю не грызлись, ни по работе столкновений не случалось, — а вот тоже не нравимся мы им.
Я начну прямо с нашего председателя Василия Федорыча. Конечно, лишнего тут говорить не приходится, чтоб там гонение какое-нибудь с его стороны было либо еще чего — этого нет. Человек он грамотный, читает постановления, знает, что бывает тем руководителям, которые палки в колеса стахановцам вставляют. Вроде бы даже идет навстречу — премии дает, в президиум всегда выдвигает, и все такое. Но только как-то оно у него получается не от чистого сердца. Как говорится, не по любви, а по расчету.
Мы ведь, стахановцы, народ беспокойный, сами вечно в заботе, в суете и другим покоя не даем. А он, Василь Федорыч, малость тяжеловат на подъем и страшно любит достижениями хвалиться. На каждом собрании: «Помните, говорит, какие были у нас бурьяны в тридцать втором году? Выше всадника! Что тогда распределяли мы по трудодням? Крохи. А сейчас — шесть килограммов! Чего нам еще надо?» И все в таком роде. Выходит: приехали до краю, дальше двигаться некуда, выпрягайте, хлопцы, коней и лягайте спочивать. Я ему на это отвечаю: «Как у тебя, Василь Федорыч, шея не заболит назад оглядываться? Тошно уж это слушать — о тридцать втором годе! Не по шесть килограммов — побольше дали бы, если б все одинаково боролись за урожайность». Опять-таки он и здесь не возражает. «Это правильно», — говорит. Хлопает в ладоши, а у самого лицо не дюже радостное. Вижу я его насквозь. Ему эти мои слова прямо как серпом по душе. Не даем человеку на лаврах поспать. И вот так у нас получается: председатель — глава всему колхозу, старший руководитель наш, а если не ладится что-нибудь в работе, станешь сомневаться, духом падать, — так неохота и идти к нему. Посочувствует, скажет: «Это правильно». Ну и все…
А с бригадиром что у нас вышло? Был у нас старый бригадир, Анисим Петрович Божков. С самого начала коллективизации работал, с двадцать девятого года. Выдвигалось уже предложение на общем собрании: начислять ему дополнительно за выслугу лет по двадцать пять соток с трудодня. А от нас, стахановцев, поступило другое предложение: начислять, если нужно, и пятьдесят соток, может, и благодарственную грамоту ему выдать, но с бригадирства снять.
За что мы на него так? Да просто видим — устарел наш Петрович, не столько годами, сколько делами своими, стал уже нам как гиря на ногах. Были тут зимою курсы повышения квалификации — ни одного дня не ходил. «Я, говорит, и так квалифицированный, вдоль и поперек. Могу вам без хаты-амбулатории анализ сделать каждому гектару и каждой кочке на гектаре, бо я об них за десять лет миллион раз днем и ночью спотыкался». Посылали его в Краснодар учиться — сбежал. Приехал туда, зашел в общежитие к курсантам, спросил у них расписание занятий, те рассказали: одиннадцать предметов — русский язык, математика, химия, ботаника и еще целая куча. «Одиннадцать предметов! Химика, ботаника! Так это ж, говорит, надо лошадиную голову иметь, чтоб все туда влезло!» Прямым сообщением обратно на вокзал, подождал вечернего поезда — и домой.
Вот такой он, Божков. Хозяин он, правда, неплохой был, заботливый, дневал и ночевал в бригаде, но что толку, если не хочет человек дальше своего носа смотреть? Стали мы на новый лад полеводство перестраивать, начали как следует за агротехнику браться и вот тут уже видим — нету у нас бригадира.
Говорю я как-то ему: «Мы, Анисим Петрович, заборонуем для опыта гектара три ячменя. Видал, какая на нем корка? Попробуем, что выйдет». Он испугался: «Что ты, Паранька, очумела? Сроду такого не слыхал, чтобы яровые весною скородили». — «А я, говорю, слыхала. И читала. Не бойся ничего, на свою ответственность беру». Заборонили — по два центнера на гектаре прибавки получили. В другой раз — рассеваем мы калийную соль по озимой пшенице, а он пришел на загон, поглядел, говорит: «Будет уж тебе, Паранька, снадобья свои сыпать. Тут земля и так жирная, не выстоит пшеница, поляжет». Девчата стали смеяться, он не поймет — чего. «Иди, говорю, Анисим Петрович, спать, не срамись тут». Он: «Чего, чего ты, Паранька?» — «Да, говорю, как же ты этого не знаешь? Калийная соль как раз для этого и употребляется — для укрепления стебля».
Ушел он, мы обсуждаем между собою: плохо дело! Для нас-то он, конечно, безвредный, мы сами знаем, чего и сколько сыпать, но ведь у него в бригаде еще сколько народу. Что он им там плетет? И стали добиваться перед правлением, чтобы сняли его. «Не желаем, говорим, такого допотопного! Было время, может, и был он хорошим бригадиром, а сейчас уже не годится в руководители». Долго они раздумывали: жалко, десять лет работал человек. Ну, сняли все-таки, заменили другим человеком. Члена партии назначили, грамотного, понимающего. Вот вам, значит, еще недовольные: сам Божков, жинка его, брат, сват, друзья, приятели — все чертом глядят…
Может, кому-нибудь думается так: вот мы получили на опытном участке большой урожай, показали наглядно, каждому теперь ясно — и старому и малому: будешь по старинке работать, по старинке и урожай соберешь — пять — десять пудов, такой же и трудодень будет тощий, а применишь науку — двести, триста пудов возьмешь; в общем указали дорожку, и все сразу так и кинулись за нами по этой дорожке. Эге! Если бы да кабы…
Ведь это же не так просто — триста пудов взять. Какие мы применяли способы? Первое и основное — расчет семян. Пшеницу взвешивали, высчитывали, сколько в килограмме зерен, а потом уж норму высева устанавливали. Сеяли только перекрестным, суживали сошники, увеличивали норму вдвое, так что Петрович наш аж за голову хватался: «Зарежете вы меня! Судить будут из-за вас! Где это видано — двадцать пудов семян всадить на гектар? Пропадет пшеница и колосу не выкинет». А мы так рассчитывали: зачем нам междурядья в пятнадцать сантиметров? Сколько земли гуляет! Ведь там еще смело по одному рядку можно уложить, и не будет густо, потому что равномерно семена распределим по всей площади. Потом, конечно, удобрения — навоз, суперфосфат. Подкормку делали куриным пометом и навозной жижей. Куриного помета собрали в этом году тридцать тонн. По дворам ходили, на птичнике поспешили захватить, в совхоз ездили — есть тут у нас недалеко птицесовхоз. Что учетчик нам за магарычи трудодни приписывал, то брехня, а в совхоз, верно, сама возила птичнику два раза по пол-литра, чтоб весь помет нашему колхозу забронировал. А удобряли тоже не как-нибудь, а спрашивали почву: чего ей не хватает, чего ей хочется — жирного, кислого, соленого? Анализ брали на каждом участке, а потом уже определяли, чего сыпать и по скольку, чтоб и не оголодить растение и не перекормить на один бок. Мороки много! Колосовые — и озимые и яровые — бороновали весною, местами даже по два раза. На пропашных, где были плешины, подсаживали руками. Клещевину чеканили всю. Ну и, само собою, качество работы!
Десять женщин со мною на опытных участках работают. Еще где та заря, а мои бабы уже коров доят, будто все в одну минуту просыпаются. Дохожу до Кузьменкиного двора — Катя у ворот стоит, тяпка на плече, как солдат на часах. Рядом с нею Настенька Рябухина живет. Та, слышно, у колодца плещется — умывается. «Готова, Настенька? Пошли?» — «Пошли!» Бывало часто, придем на поле и сидим ждем, пока рассветет, — не видно полоть. Покуда остальные выйдут, у нас уже по два-три рядка пройдено.
Но самое главное — мозгами надо ворочать. Я сначала думала: может быть, потому на стахановцев недовольство, что если поспевать всем за нами, так работы много лишней прибавляется? Ведь этого же никогда раньше здесь не знали: навоз вывозить, жижу собирать. А потом вижу — нет, тут другое. Работы сейчас уже не боятся. Нет! Работают все намного лучше, чем, скажем, года три-четыре назад. Узнали цену трудодню. Бывает наоборот: когда не хватает для всех работы, ранней весною или после уборки, дерутся за каждый наряд. Если бы только полоть, скородить, косить, так добавь каждой бригаде еще по столько же земли — с великим удовольствием взяли бы, а то учиться надо, в школу ходить на старости лет, забивать себе голову всякой яровизацией, гибридизацией. Так оно страшно кой-кому показывается, что не нужны ему и двадцать килограммов, оставили бы его только в покое. Разве мало — шесть килограммов? Триста трудодней заработаешь — почти две тонны хлеба получишь. Когда это было, чтобы у мужика-середняка, не говоря уже о бедноте, столько хлеба чистоганом, за вычетом всех расходов, оставалось?
Видите, как привыкли люди? Да разве хуже нам, если б мы больше хлеба получили? Продали бы больше государству, в колхозе что-нибудь видное построили. Ох, эта привычка проклятая! Сколько раз я высказывала: «Вот, говорю, дед Петро наш, чабан, привык всю жизнь на локте спать — пасет отару один, без помощников, день и ночь начеку, ляжет, упрет локоть о землю, положит голову на ладонь, чтоб видно было овец, куда пойдут, и дремлет. У него, говорю, у деда, только и заработку было — по кувшину кислого молока да по буханке со двора. Свалит их в кучу на чердак, засохнут буханки, как камень, — зимой рубят их топором, размачивают в воде и едят. Так неужели, говорю, хуже будет деду, если привезем ему вагон пшеницы? Вагон хлеба, конечно, не съесть, так разве только и радости, что в белых пирогах? Разве откажется он, чтоб хоть при конце жизни сыны на собственной легковой машине в гости к куму его свозили и чтоб сидел он в автомобиле, как нарком иностранных дел, — в шубе на лисьем меху, в каракулевой шапке и в лайковых перчатках?»
Колхозники смеются: «О-о! Это ты, Паранька, далеко хватила! Не скоро это будет». — «Почему, говорю, не скоро? Все в наших руках. Можно и надолго растянуть, можно и сократить — как взяться. Захотеть только надо крепко, так захотеть, чтобы всей душой рвался ты вперед. И надо, чтоб руководители наши не о тридцать втором годе толковали тут нам, а о сорок втором…»
Я вам не досказала про Божкова, как его снимали. Агротехника-то одно, а пришлось нам еще в другом деле его посрамить.
Проверяли мы перед Первомаем соцдоговора и пошли комиссией по хатам поглядеть: готовятся ли хозяйки к празднику, мажут ли, белят. Зашли и до Божкова: как там наш квалифицированный бригадир живет? У него хата большая, бывшая кулацкая, а в хате хоть конем играй — пусто, голо: стол на трех ножках, кучи зерна всюду насыпаны, в углу вместо кровати топчан, сбитый из досок, на топчане жена лежит с ребенком — вчера только родила. Грязно, мышами воняет. Жалкая картина!..
Спрашиваем его: «А где же твоя новая кровать?» (Он незадолго перед тем купил в сельмаге никелированную кровать с сеткой.) «Прибрал, говорит, на чердак, чтоб не занимала тут зря места. Стоит, как комбайн, середь хаты». — «Что, говорю, не понравилось?» — «Да нет, кровать хорошая, так ее же и убрать надо. Что ж ее так, голую, ставить». — «Разве, говорю, у вас и постели нету?» — «Да так-таки и нету. Вон на топчане всякое тряпье — не положишь же его на новую кровать. И одеяла нету». — «Купить, говорю, надо. Хлеба-то у тебя сколько! Небось еще и прошлогодний задержался. Чего ты так, Анисим Петрович, натягиваешь?» Он ухмыляется: «Да ладно уж, нашли об чем беспокоиться. Не возьмет черт и на топчане. Наши кости привычные к жесткому. Не первый год». — «Привычные? Ну, спите на топчане. Можно прямо и на пшенице. Кинул вон кожух на кучу — и ложись. А кровать, говорю, обмотай хорошенько рогожкой, чтоб никель не потерся, она и через двадцать лет будет как новая».
Смеется он, в шутку принимает, а меня зло берет. «А почему, спрашиваю, жена дома рожала? Почему не отвез в родильный дом?» Под боком, тут же, в станице! «Вот, говорит, привязалась, как будто тебе это в диковину! Давно наши бабы узнали тот родильный дом? А в поле не приходилось им рожать?» Ну, мы его там как взяли в оборот! «Дикий, говорим, ты человек, Анисим Петрович! И кости и голова у тебя привычная ко всякому отжившему, потому и боится она химии». А потом, на заседании правления, мы ему и это присчитали. Доказываем в одну душу: «Не может такой человек быть нашим руководителем! Куда он нас поведет?» Бабы после судачили:«Через то Божка скинули, что Параньке не угодил — не на кровати, а на топчане спал. Некультурно!»
Больше всего донимают нас вот такими сплетнями. Иной раз так обидно станет, разволнуешься, переплачешь тут одна ночью… Смешно сказать, костюмы мои, тряпки вот эти, и то кое-кому глаза колют. «О-о, говорят, финтит наша Паранька! Старуха, а наряжается, как молоденькая». Да какое кому дело! Хлеб есть, деньги есть — куда мне это все девать? Если старуха, так должна в отрепьях ходить, чтоб другим на меня и глядеть было противно? Я ведь за эти сплетни вынуждена была на родного брата в суд подать. Да, было дело, довели…
Вышло так. Убирали мы в прошлом году клещевину. На нашем участке был самый ранний посев, и у нас она созрела раньше всех. В субботу поглядела я, что клещевина начинает осыпаться, и решила начинать ломку кистей на другой день, а выходной вместо воскресенья взять в среду или в четверг. После уборки подсчитали мы урожайность. У нас получилось пятнадцать центнеров с гектара, у других — семь, восемь, восемь с половиной. И вот откуда ни возьмись пошли слухи: это Бондаренчиха со своими ударницами затем ходила в воскресенье ломать клещевину, что в тот день никого в степи не было, и они наломали кистей на других участках и к своей урожайности присчитали.
Я была на загоне, зеленя глядела, не знала еще ничего, когда прибегает ко мне Катя Кузьменкина, рассказывает: так и так, вот что говорят про нас. Бабы собрались на таборе, бунтуются, кричат: «Это они, может, всегда так урожайность повышают — с наших участков?» У меня аж руки-ноги затряслись, сомлела вся. Кто ж это мог такую подлость сделать? Пришла на табор, угомонила баб. «Давайте, говорю, разберемся. Кто видал, что мы вашу клещевину ломали? Вот тебя, Санька, больше всех слыхать — ты видала?» — «Нет, говорит, не видала, мне Феклушка сказала». — «Ладно, давай Феклушку. Ты, Феклушка, видала?» — «Сама не видала, слыхала, как бабы говорили». — «Кто?» — «Да вот Дашка говорила». — «А тебе, Даша, кто сказал?» Перебрала так всех по одной, и кончилось на родном братце моем, Кирюхе. Он уж ни от кого не слыхал, сам первый выдумал и пустил. «Я, говорит, шутейно, хотел баб подразнить…» Шутейно!
Вы не видели брата моего? Волков его фамилия. На два года старше меня, здоровенный такой верзила, за спором лбом кирпичину перебивает. Возьмет на ладонь, трахнет об лоб — пополам, как об каменку! Раз у одного уполномоченного пятьдесят рублей этак выспорил. Тот выбрал ему самую крепкую, огнеупорную — перебил!
Ну, что его заставило? Да то же самое, что и других заставляет, когда они на нас всякую всячину плетут. Ведь он, братец мой, такой человек: нового боится, как самого злого черта. Стали трактора появляться — все ходил за ними следом, землю нюхал: не провоняла ли керосином? На комбайны говорил: «Это смерть наша пришла! Погноят хлеб, подохнем с голоду!» А в колхоз когда вступал, так это было целое представление. Ведь какая дубина, а прямо захворал, извелся ни на что, животом мучился месяца два, понос напал. Доктор оследствовал: «Это, говорит, у него от страху…»
Спрашиваю я его: «Как тебе, братуха, позволила совесть сказать на нас, что мы покрали чужую клещевину?» Он на попятную: «Да я шутейно. Чего ты привязалась?» — «Я, говорю, такие дурацкие шутки каждый день слышу. Будет этому край или нет?» И начала ему высказывать: «За что, говорю, у нас на стахановцев гонение? Чем мы вам не угодили? Вас, как слепых котят, надо брать за шиворот и носом в молоко тыкать, чтоб поняли вы, где сладко… Что такое, говорю, есть в колхозе стахановец? Тот, кто брешет, что стахановец за премии работает, — либо дурак, либо враг наш. У стахановца душа не терпит поскорее прийти к такой жизни, какая нам еще и не снилась. За то кладет он свои силы, чтобы и нам всем довелось еще при коммунизме пожить. А вы — такую грязь на стахановцев!.. Э-эх, люди… Давно уже, говорю, собиралась я проучить кого-нибудь за эти шутки, ну, ты, Кирюха, попался первый, тебе и отвечать. Это тебе даром не пройдет, и гляди не обижайся. Ты мне, как брат, по-родственному удружил, ну и я ж тебе, как сестра, тем же отплачу». И подала на него жалобу прокурору за клевету. Выехал суд, судили его, дали год принудиловки, отбывает сейчас при колхозе…
Я не так для себя это сделала, как для других. Я-то сама и от десятка таких, как Кирюха, отобьюсь — стреляный воробей, но ведь за нами другие сейчас поднимаются. Молодежь. Вот есть у нас стахановка Фрося Жукова. Вызвала нас на соревнование. Восемнадцать лет, такое манюсенькое, как пуговка, от земли не видать, а поглядели бы, как работает! Кормилица! Колхоз кормит! А тут такие дубогреи, что лбом кирпичи разбивают… Не помочь девчонке — заклюют.
Легче было бы, конечно, работать, если бы парторг у нас был как парторг, а то одно несчастье! Как начнет беседу с колхозниками проводить да как залезет в дебри: «Я, говорит, пришел к вам выпятить ваши недостатки и заострить вопрос: почему тут у вас трения происходят? Может быть, Бондаренко субъективно кому-нибудь и не угодила, но надо подходить к ней объективно, потому что, если посмотреть на это дело с точки зрения, так еще и Маркс говорил, и я говорю…» — и понес! Будет целый час тарахтеть — и ничего не разберешь. Я аж удивлялась: как там у него в голове устроено, что не может он просто, по-человечески слова сказать, а все с выкрутасами?
Колхозники спрашивают его: «А Маркс насчет твоей жинки ничего не говорил? Как ей — положено на работу ходить?» Он же, парторг наш, в мировом масштабе все выпячивает, а что под носом — не видит. Жинка его, молодая, здоровая, сидит нашейницей на его трудоднях — хоть бы раз когда вышла в степь поразмяться от безделья. А числится колхозницей. Бессмысленные люди!.. Меня в этом году приняли в партию, так я и на партсобраниях вот это все в глаза парторгу высказываю.
А тут надо сказать, что и от райкома помощи мало. Секретарь райкома, товарищ Сушков, такой у нас спокойный человек. Бьют, бьют район за отсталость, за сев, за прополку — он и ухом не ведет. Если где в газете плохо про район напечатано, совсем даже не читает, чтоб, боже упаси, не разволноваться и не захворать — сердцем, говорят, нездоров.
По-моему, если разобраться хорошенько, так нашего товарища Сушкова тоже привычка заела. Привык он, что район несколько лет уже в числе первых от заду тянется, думает, так ему и быть вечно. Идет одна бригада на выставку, ну и хорошо. А чтоб весь район мог попасть туда и чтоб его самого вызвали в Москву — это ему даже не верится. Невысокого полета человек.
Разве по-настоящему так надо бы за дело взяться? Он, товарищ Сушков, должен всех нас, сколько есть таких в районе, знать, как самого себя: чем мы живем, что у нас на душе, какие нам помехи встречаются. Сам должен приехать, с народом поговорить, да и не раз и не два, а так, чтобы раскопать все до корня, может, кому прояснение мозгов надо сделать, а может, есть людишки и похуже, до сих пор с волчьей думкой живут, гадят нам — вывести таких на чистую воду. Так бы надо, по-моему. А он — без интересу. Станешь ему рассказывать, что у нас делается. «Склоки», — говорит. Так он понимает. Так что ж оно выходит — и в тридцатом году склоки были, и вот сколько лет боролись, пока приучили народ ценить колхозное, как свое, — тоже «склоки»? А если теперь начнем начислять, счислять бригадам трудодни за урожайность — опять будут «склоки»? Ого, еще и какие!..
…Ну, а все же хоть и недостаточно помощи, а дело вперед подвигается. Люди стали грамотнее, понимают, что ежели наши местные руководители ошибаются в чем, то их за это не похвалят, а нам нужно делать свое, как правительство нам велит.
В тридцать шестом году одна я собирала тут птичий помет и золу, а в прошлом году уже в каждой бригаде были стахановские звенья. Есть такие, что догоняют уже нас. Фрося Жукова — я уж о ней говорила, — Анюта Гончаренкова, Феня Будникова. Молодые все девчата, а работают — одно заглядение!..
А на огородах у нас отличается Варвара Волкова. Вот еще интересная баба — невестка моя, брата Кирюхи жинка.
В начале коллективизации такая была противная да несговорчивая, под стать Кирюхе своему. Кирюха тогда долго не в своих чувствах был, все страдал за своей слепой кобылой, что обобществил, — так Варька уж кляла, кляла колхоз! «Уговорили моего дурака, записался, а теперь черт-те что с ним делается! Стал как чумовой — не ест, не пьет, ночью отвернется до стенки и лежит чурбан чурбаном, вздыхает только. Может, это у него и не пройдет? На дьявола он мне теперь сдался, такой неспособный!» Да прямо аж плачет!.. А сейчас Варьку не узнать, совсем не та стала, что была, намного поумнела. На курсах вместе с нами учится.
Теперь у них наоборот получается. Придет Варька ночью с курсов, ходит по хате — уроки учит: «Азот, фосфор, калий, кальций… Почва, подпочва…» А Кирюха высунет голову из-под одеяла: «Когда ты уже, агрономша задрипанная, спать ляжешь! Туши лампу! Чего б я мучился, раз башка не варит! Еще умом тронешься». Варька ему: «Иди к черту!» Кирюха помолчит и опять: «Ну что это за жизня такая! И днем ее не видишь, и ночью нету. И сегодня так и вчера. Да чи я женатый, чи неженатый?» Варька: «Тебе одно только на думке. Спи!» Кирюха раньше, до суда, и в драку было при таких случаях кидался, а теперь боится, как бы еще и от жинки не попало. Ругается только, а больше всего мне достается. «Это, говорит, та чертова Паранька семейную жизнь людям разбивает. Побесились бабы! Тянутся все за нею — курсы, рекорды, агротехника, а дома хоть волк траву ешь!» Варька утром рассказывает нам, смеемся мы… «Спасибо, говорит, тебе, Паранька, что проучила его, и ко мне теперь стал немного повежливее».
Соберемся мы перед зорькой на улице — в степь идти. Мои бабы все песенницы хорошие. «Заводи, говорю, девчата, какую-нибудь повеселее». На углу Варька нас встречает. «Ну что там у тебя? Спит твой?» — «Лежит, проснулся. Только стал было потягиваться, а я уж оделась уходить». «Варька, говорит, да чи я женатый, чи неженатый?» — «Ну, давайте, говорю, бабы, споем ему:
Доходим до самых зловредных, я говорю: «Дюжей, бабы! Буди их, не давай им разнеживаться!» Как горланут мои девчата — у них в хате аж стекла дрожат. «Еще дюжей!..» Пройдем по улице с песнями — как свадьба: кто не знает нашей повадки, перепугается: что это за игрища такие среди ночи? А оно и не так-то среди ночи, но перед рассветом. Самым хорошим часом — холодком. Петухи поют, в балке родники шумят, ветерок туман сгоняет, несет со степи всякие запахи приятные…
Так. Ну, это я уж не туда загнула. Начинаю чего-то разрисовывать. Хватит. Об этом, может, в другой раз когда-нибудь напишете, а сейчас пишите то, что я вам рассказала. Да глядите, чтоб в точности было, чтобы знали все, как мы тут работаем. Может, у кого такое понятие, что стахановцу в колхозе не жизнь, а масленица, все его уважают, помощь ему со всех сторон, благодарность за его труды, прямо на руках его носят. А оно всяко случается…
1939
Гости в Стукачах
В правлении станичного колхоза «Маяк революции» обсуждался вопрос, кого послать в соседний хуторской колхоз «Красный Кавказ» для проверки соцдоговора.
— Надо послать таких, — говорил председатель колхоза, — чтоб не только проверили все до основания, но чтоб и на собрании могли разделать их как следует быть. Конец года — итоги подводим. Самых острых на язык надо подобрать.
— Ну что ж, — предложил бригадир Дядюшкин. — Пошлем опять Капитона Иваныча Печерицу. Этого они всем колхозом не переговорят.
— Печерицу обязательно! — поддержали колхозники. — Главным докладчиком будет.
— Дядюшкина тоже. Запиши Андрея Савельича Дядюшкина.
— По машинам — Коржова.
— Можно еще Сережку Замятина.
— И Василису Абраменко.
— Правильно, этих — по животноводству.
— Так, ладно, — подвел председатель черту. — Из звеньевых надо бы еще одну.
— Пашу Кулькову!
— Кулькову, да. Я сам думал. Подходящая кандидатура. Здесь всем нам житья не дает, пусть и там ее узнают. Так, есть. Ну, и, значит, сверх этого — кому желательно. Сколько на машину поместится.
…В воскресенье с утра у правления стояла трехтонка. Капитон Иванович Печерица, парторг колхоза и заведующий агролабораторией, на правах старшого в комиссии захватил лучшее место в машине, где не так пробирал острый декабрьский ветер, сел прямо на дно кузова, спиной к кабинке, поднял выше головы воротник тулупа. Из воротника выглядывали усы его, покрасневший от холода нос и глаза, темные, карие. К нему под бок примостилась Паша Кулькова, худенькая девушка, рыжеватая, с рябинками на лице. Капитон Иванович укрыл ее полой тулупа. Доярка Василиса Степановна Абраменко, тетя Вася, как ее звали, пышная, румяная казачка, укутавшаяся в дюжину платков и теплых кофт, с трудом вскарабкалась на борт и, вскрикнув: «Ой, мамочка, да пособите же!» — свалилась с борта прямо на ноги Капитону Ивановичу. Кузнец Михайло Потапович Коржов, мужчина такого огромного роста, что всякий раз, когда он появлялся в толпе, казалось, будто кто-то верхом приехал, подковырнул носком сапога к машине валявшийся на дороге камень, стал на него и, задрав ногу через борт, очутился в кузове. Бригадир Дядюшкин и конюх Сережа Замятин, оба в черкесках, в красных бешметах, вынесли из конторы скамейку, поставили ее в кузов, сели на нее, не прячась от ветра, лицом к нему. Сергей зажал в коленях древко знамени, на полотнище которого золотым шелком было вышито: «Лучшему колхозу — переходящее знамя Осташковского станичного Совета».
Кроме комиссии, в машину село еще человек пятнадцать. Закубанский хутор Стукачи, куда ехала комиссия, в свое время выселился из станицы. Там проживало много родичей станичных колхозников, которых можно было навестить, пользуясь случаем.
Последним усадили дряхлого деда Акима Федотыча Штанько, собравшегося в гости к куму-однополчанину. Акима Федотыча проводила из дому к машине старуха, заботливо обмотавшая его поверх овчинного полушубка двумя полотенцами — одним вместо кушака под пояс, другим под воротник, вокруг шеи.
— Э-эх, совсем бы рассыпался дедушка, кабы бабушка не подпоясывала! — сказал Коржов, нагибаясь через борт, беря маленького, тщедушного деда под мышки и втаскивая в машину.
— Значит, так, — сказал председатель, заглядывая в кузов, — ты, Капитон Иваныч, следи, чтоб все в порядке было. Под твою ответственность. Там кто до свата, до кума, — он посмотрел строго на деда Штанько, — чтоб аккуратно гостевали, без лишнего, а то еще на обратном пути из машины повываливаются. Насчет проверки — глядите в оба. Карандаши, блокноты захватили? Передавайте привет ихнему председателю. Андрей Савельич! Передашь брату привет от меня, скажешь — извиняется, что не смог сам приехать: в район вызывают.
— Ладно, скажем.
Шофер Федя Малюк завел мотор.
— Всё?
— Всё как будто.
— Ну, поехали. Держись, дед!..
Хутор Стукачи прозывался так потому, что там много было кузнецов. В тихий, безветренный день, когда подъезжаешь к хутору, еще с парома, километра за два, слышен дробный, звонкий стук молотов о наковальни. Было у хутора и другое название, данное ему землемером при нарезке участка, — Ново-Осташковский, но оно употреблялось только в бумагах, а так все привыкли звать его либо Стукачи, либо просто по имени колхоза — «Красный Кавказ».
Комиссия из «Маяка революции» нагрянула в хутор часам к десяти утра. В правлении не было никого; председатель, завхоз, бухгалтер — все ушли завтракать. Встретила гостей сторожиха. Она попросила их подождать минутку и побежала за председателем.
Гости собрались в круг у конторы правления. Капитон Иванович сбросил с плеч тяжелый, стеснивший движения тулуп, кинул его шоферу в кабинку, остался водном ватном бешмете, — статный, недурной наружности, черноусый, не молодой, но и не старый еще казак. Состоялось небольшое совещание.
— Придется, должно быть, разделиться по отраслям, — сказал Капитон Иванович, — а то не управимся к вечеру.
— Конечно, разделиться, — ответил Дядюшкин. — Каждый по своей специальности.
— Ты, Михайло Потапыч, по инвентарю: ремонт, сохранность и все прочее. Возьмешь с собою еще человек двух. Только гляди, тут у них с этим делом обстоит получше нашего: кузнец на кузнеце, кузнецом погоняет. Копай поглубже, качество проверяй. Тетя Вася пойдет с Сергеем на фермы. Пусть уж они заодно и тягло посмотрят, — так, что ли, Андрей Савельич? Успеете? Ладно. Значит, и конюшни ваши. Действуй, Сергей, смело, не пожалей труда; если найдешь где нечищеного коня, скидай черкеску, бери щетку-гребенку и чисть. Покажи им, как работать надо. Паша останется с нами. Мы с нею и Андреем Савельичем займемся бригадами, семенным фондом и всем остальным. Так? Кто раньше управится — присоединяйтесь к нам.
Из хаты на другой стороне улицы, напротив правления, вышел, застегивая длинную кавалерийскую шинель, председатель колхоза Николай Дядюшкин, родной брат Дядюшкина из «Маяка революции», демобилизованный недавно младший командир.
— Хозяин идет, — сказал Коржов.
— Молодой хозяин, — заметил Капитон Иванович. — Трудно ему здесь приходится. Но он вроде парень не промах. А? Как думаешь, Андрей Савельич, вытянет братуха колхоз?
— Кто его знает, — пожал плечами Андрей Савельич, — как сумеет народ повернуть.
Николай Дядюшкин, широко улыбаясь, поздоровался за руку сначала с братом, потом со всеми остальными.
— Прибыли? Очень хорошо. Давно ждем. Ого, как вас густо, — всем колхозом привалили! Приехали, значит, к нам ума-разума подзанять, поучиться, как надо хозяевать? Прекрасно! Всегда рады помочь людям.
Капитон Иванович обернулся к своим:
— Слыхали? Вот вам и молодой. Тоже с подходом… А что ты думаешь, Коля, — может, и на самом деле придется какой-нибудь опыт перенять. Мы не отказываемся. Бывает. Вот летом ездили наши в «Восход», вернулись — рассказывают: сроду не видали такого дива, как это можно пчелиным медом вместо колесной мази обходиться, а там на практике пришлось повидать. В одной бригаде у них брички целое лето не мазали, а мази и в помине нету. Бригадир узнал, что комиссия приехала, испугался, как бы не догадались брички проверить, выдал ездовым с кухни два кило меду, велел медом помазать да еще приказал: «Если будут спрашивать, почему желтое, говорите — солидол переработанный». Наши так бы, пожалуй, и недоглядели — кухарка их выдала. Сели обедать, она подала вареники с вишнями и говорит: «А подсластить нечем — извиняйте. Держала кувшин меду про всякий случай, да наши шалопуты додумались брички мазать — забрали у меня». Как — брички? Кинулись туда, сняли колесо, пальцем на язык, — верно, мед. Приехали, рассказывают: «Вот такую рационализацию видали».
Дядюшкин-младший, не обижаясь, посмеялся вместе с гостями, похлопал по плечу Капитона Ивановича:
— Валяй, валяй, дядя Капитон! Нам это не вредно.
Хуторская жизнь — вся на виду. Стукачи — небольшой хутор, в нем всего одна улица. Хаты стоят двумя ровными шеренгами, окруженные со всех сторон голой зимней степью, а клуб и правление колхоза — посредине хутора, на пригорке. Отовсюду видно, если кто-нибудь подъезжает к правлению. Минут через десять у машины собралась толпа.
— Здорово, сосед!
— И ты, сваха, тут? Доброго здоровьечка! Что ж одна приехала? А сват Петро?
— Здравствуй, мамо!
— Здравствуй, здравствуй, доченька! И Федюшку привезла? Внучек мой родненький! Давай его сюда.
— Ого, Капитон Иваныч! Живой, крепкий? Опять к нам?
Когда переговорили с родичами о всяких домашних делах и народу собралось больше, Капитон Иванович сообщил, зачем они приехали. Сам он отрекомендовался председателем проверочной комиссии, колхозников, приехавших с ним, представил как членов. Тут же рассказал, каким порядком наметили они произвести проверку. Дядюшкин-младший объявил, что вечером в клубе состоится общее собрание.
— Та-ак… Значит, сегодня опять кой у кого штаны затрясутся? — сказал один из хуторских колхозников. — Как в прошлый раз у завхоза Юрченки, — ищет блокнот, а сам руками в карманы не попадает.
— Нет, сегодня хуже будет. Все отрасли проверим.
Завязалась легкая словесная перепалка.
— Так и много же вас приехало! Трудно будет с вами сражаться.
— Ничего, ребята, не робей! Мы — дома, в своей хате и кочережки помогают. Вот когда к ним поедем, там достанется. Заклюют!
— А мы пошлем еще больше — две машины нагрузим.
— Где они у вас — две машины? Разве уже исправили ту, что Юрченко разбил, когда за зайцем гонялся?
— Исправили. Пятьсот рублей на его счет записали. Давно уже на ходу. Ты, Капитон Иваныч, будешь три года того зайца вспоминать.
— А это что ж у вас на машине — переходящее знамя? Не нам ли, случаем, привезли?
— Да, когда-то было у вас. Узнаете?
— И обратно к нам возвращается?
— Ну, ясно, они его здесь оставят. Чего ж его возить туда-сюда. Все равно ведь приедем, заберем.
— Кишка у вас тонка забрать знамя, — ответил Капитон Иванович. — Оно уже к нам привыкло… Насчет знамени я вам, товарищи колхозники, такую резолюцию передам, если это вас интересует: тогда отберете вы у нас знамя, когда у вашего рябого быка, которому Митька Стороженко хвост оторвал, на том самом месте новый хвост вырастет, — никак не раньше.
— Вот шут его дери! Уже пронюхал! Ведь это вчера только случилось.
— Слухом земля полнится. Нам по телефону позвонили.
В спор вмешался дед Штанько. Он закоченел в пути, но в хату до кума не спешил — порядка не ломал.
— Жнамя нам никак нельзя терять, — прошамкал он, растирая шерстяной варежкой почугуневшие щеки, мокрые от слез. — Оно и раньше так было: ежели полк швое жнамя потеряет, так и полк рашпущают. Вот как было.
— Ну, этого, дедушка, с нами не случится, — ответил Капитон Иванович. — Кто отберет знамя — они? А ну-ка, поглядите на них получше: похожи они на таких героев? Вот можно прямо с конторы начинать. Порожки развалились, и поправить некому, — нам, что ли, своих плотников прислать? Чистилки для сапог не имеется, — это культура такая? А в кабинетах я хоть еще и не был, так с прошлого раза помню: печка облупилась, дымит, в стенке дырка, кирпичи вываливаются прямо над главным бухгалтером, плевательниц нет, курят все. Правильно? Ну вот. Как там бухгалтера вашего — не убило еще кирпичиной? Нет, живой, идет… Здравствуй, товарищ бухгалтер! О тебе речь как раз зашла. Беспокоились о твоем здоровье.
— Нету уже дырки — замазала. И печку поправила, — отозвалась с крыльца сторожиха, она же уборщица конторы. — Надо сначала поглядеть, а потом говорить. Ну и дядька Капитон! Погоди, приедем к вам!..
Смущенная хохотом колхозников, закрылась шалью и юркнула в дверь.
Дядюшкин потянул Капитона Ивановича за рукав.
— Что ты навалился на них с места в карьер? Давай уж по порядку — идти так идти.
Дядюшкин-младший, все так же широко улыбаясь, пригласил гостей погреться.
— Дядя Капитон! Зайдемте ко мне, посидим. Вы, может, выехали из дому натощак? Закусите сначала?
— Нет, этим нас не возьмешь! — отмахнулся Капитон Иванович. — Закусить, выпить — знаем это! Натощак способнее — злее будем, больше недостатков подметим. Ты, товарищ председатель, побеспокойся лучше, чтоб все люди на местах были. Сейчас пойдем. Тетя Вася! Михайло Потапыч! Начинаем, пошли. Сбор к четырем часам в клубе. Записывайте там все. Фактов, фактов побольше, они факты не любят.
Площадь у правления колхоза опустела. Коржов с двумя колхозниками из «Маяка» пошли к инвентарному двору, за ними — вереница хуторян. Василиса Абраменко с Замятиным, тоже окруженные толпой колхозников, направились к животноводческим фермам в конец хутора. Дядюшкин-младший пошел с Капитоном Ивановичем и с братом.
— Ты, Коля, сейчас не затевай ничего, — сказал ему уже серьезно, без всегдашней своей усмешки, Капитон Иванович. — Мы дома позавтракали, есть не хотим. Лучше попозже, после проверки, а то не управимся. Ну, как тут у тебя? Рассказывай.
Николай Дядюшкин, шедший позади Капитона Ивановича, прибавил шагу, встал между ним и братом.
— Малость поправляются дела. Кое-что привели в порядок. Двух мертвых душ из правления выставили. Теперь у нас завхозом Иван Григорьич. Вот на животноводстве еще безобразие большое. С Пацюком неладно. Вы их, животноводов, на собрании сегодня продерите покрепче, чтоб почувствовали… Мы же, имейте в виду, не готовились нисколько, у нас все начистоту. Иван Григорьич говорит мне вчера: «В бане у нас грязно, может, послать девчат, пусть приберут?» А я ему: «Очковтирательством заниматься? Брось! Сам поведу, покажу». Федор Сторчак начал было пшеницу из сеялки выбирать, — как сеял озимку, так и осталась, проросла в ящике, — я наскочил: «Отставить! — говорю. — Раньше надо было это делать. Проросла, так нехай уж и заколосится к приезду комиссии».
— Ничего, — сказал Андрей Савельич. — Мы им сегодня всыплем. Да и тебе заодно — чтоб не распускал вожжи. Это ж позорище — быку хвост оторвать!.. Ну, пойдем к амбарам, показывай семена.
Холодный декабрьский день. Над хутором плывут серые тучи. Срываются снежинки. Ветер меняется: то вдруг дунет порывом с севера, то повернет с запада, то совсем утихнет. Тучи опускаются ниже, сразу темнеет, будто уже вечер. Что-то готовится в небе. Ночью, вероятно, повалит снег, завьюжит, ляжет зима.
Михайло Потапович Коржов, застегнув на все крючки полушубок, ходит по инвентарному двору между рядами сеялок, борон и культиваторов. От него не отстают ни на шаг кузнецы «Красного Кавказа», колхозники, детвора — всего человек с полста. Коржов среди них — огромный, плечистый, на голову выше самых высоких хуторян.
— Завхоз! Иван Григорьич! — кричит он. — Ты их нарочно подговорил, чтобы не давали осматривать? Скажи, нехай расступятся, невозможно ни к чему подойти.
Инвентарь в колхозе «Красный Кавказ» отремонтирован к весне полностью. Это нравится Михайлу Потаповичу. Хорошо, рано управились. Насчет сохранности тоже неплохо. С трех сторон двор огибают длинные навесы под дранью, построенные этой осенью. Есть куда закатить машины в непогоду.
— Вы сегодня же и приберите все туда, — говорит Коржов завхозу. — Вишь, снежок срывается.
Но вот Михайло Потапович задерживается возле одной конной сеялки. Он опускается на корточки, внимательно разглядывает болтик, прижимающий к пальцу диск одного из сошников, просит у кузнеца ключ, пробует гайку ключом. Так и есть. Болт с левой резьбой, гайка прикручивается по ходу диска. При первом же заезде в борозду гайка привернется до отказа, и диск не будет вращаться. Михайло Потапович указывает кузнецам на их оплошность. Те соглашаются. Один бегом мчится к кузнице, приносит оттуда другой болт и тут же заменяет негодный. Но Коржов не встает, сидит под сеялкой, перебирает сошники, что-то соображает.
— Вы скажите по совести, — оглядывается он через плечо на старшего кузнеца «Красного Кавказа» Трофима Мироновича Кандеева, — что вы делаете, когда палец в диске подработается? Прокладкой оборачиваете?
— Ну да, — отвечает Кандеев.
— Жестянкой?
— Жестянкой.
— И на тракторных так?
— И на тракторных.
— Вот через это у вас и сев получается такой, будто бык по дороге пописал, — говорит Коржов и встает. — Хоть вас тут, кузнецов, десять человек, а, стало быть, не додумались. Прокладка — дерьмо! Либо завернется так, что совсем заест, либо за два дня сотрется, и опять диски будут болтаться.
— Иначе никак не приспособишь, — отвечает Кандеев.
— Надо насаживать палец.
— Да как же ты его насадишь, когда он стальной да еще цементированный?
— Можно. Не молотом, конечно. Легонько, осторожно.
— Нет, нельзя, — упирается Кандеев. — Как ни осторожно, все равно рассыплется.
— Нельзя? Снимай одну диску — пошли в кузню!
Спор разрешается у горна. Кандеев дует мехом, Коржов становится за наковальню.
— От двери отойдите! — кричит завхоз Бутенко колхозникам, нахлынувшим в кузницу и затемнившим свет.
Коржов закладывает в огонь палец диска, снимает полушубок. Шум и разговор в кузнице утихают. Скрипит ручка меха, шипит пламя, вырывающееся длинными язычками из-под груды углей. Уловив момент, чтоб не перегреть, Михайло Потапович вынимает клещами из горна палец, склоняется над наковальней. Точно рассчитанными, несильными ударами молотка он насаживает палец. Пять минут назад ему не жарко было и в полушубке, а сейчас он в одном пиджаке, и на лбу его блестят капельки пота. Взгляд Коржова сосредоточен, напряжен, губы плотно сжаты — серьезный момент для репутации первоклассного мастера… Не давая пальцу остыть, Коржов бросает палец в перегоревшую жужелицу и выпрямляется во весь рост, чуть не достав головой до потолка кузницы, вытирает рукавом пиджака лоб… Все кузнецы по очереди обмеряют остывший палец кронциркулем. Палец раздался миллиметра на два, — столько, сколько и нужно. Чуть оправить напильником — и все, не надо никаких прокладок.
— Ну, — торжествующе говорит Михайло Потапович, — рассыпался?.. Запиши, Петро Кузьмич! — обращается он к сопровождающему его колхознику из «Маяка». — Было б хоть на литру поспорить! Вот если переделаете так все диски — совсем другой сев у вас будет по прямолинейности.
— Да, придется, пожалуй, переделать, — соглашается немного смущенный Кандеев. — Спасибо, сосед, за науку.
У борон Коржов сразу берет ключ и начинает подкручивать туже все гайки на зубьях. Почти каждая гайка оборачивается в его руках еще раз, два.
— Что ж это вы не дотягивали? Не годится! Разболтаются на кочках.
— Да не может быть! — удивляется Кандеев. — Я сам проверял — хорошо было. Это ж ты тянешь не по-человечески.
Кандеев накладывает ключ на гайку, тужится из всех сил, но гайка дальше не подается. Коржов берет у него ключ и без особого напряжения обкручивает ту же самую гайку еще два раза.
— Слабо, слабо, сосед!
Все смеются, смеется сам Коржов, смеется Кандеев.
— Вот бы у кого силенки занять!
— На семерых хватило бы!
— Нет, Михайло Потапыч, — говорит Кандеев, — ты уж этого нам не засчитывай. Нельзя по твоей силе равнять. Ты у нас, может, один такой на весь Краснодарский край.
— Ладно, — усмехается Коржов. — Пусть не в счет. А вот это уже в счет, — поднимает он с земли борону.
Борона перекошена в раме, зубья кривые, не оттянутые. Все кузнецы недоумевающе пожимают плечами. Борона, как видно, совсем не была в ремонте. Как она попала сюда? Вероятно, кто-нибудь из бригадиров недавно нашел ее где-то и приволок сюда, в общую кучу.
— Ну, это нам неизвестно, как она попала, — говорит Коржов. — Дело ваше, разбирайтесь. — Он поднимает борону и швыряет через головы колхозников к дверям кузницы. — Вот там ей пока место. И не говорите никому, что на сто процентов инвентарь отремонтировали. Запиши, Петро Кузьмич! Ну, что у вас еще есть? Показывайте.
…На животноводческих фермах, куда пошли Сергей Замятин, Василиса Абраменко, свинарка Мотя Сердюкова и конюх Максим Петрович Дронов, собралось народу столько, что когда комиссия проходила по свинарнику или коровнику, за нею тянулся хвост сопровождающих от входа до выхода. Собрались здесь все колхозники, работающие на фермах, — доярки, скотники, свинарки, сторожа, водовозы.
Гости знали уже из рассказов своих колхозников, бывавших раньше здесь, что животноводство — самая отсталая отрасль в колхозе «Красный Кавказ». В этом им теперь пришлось убедиться воочию. Постройки им понравились — кирпичные, крытые железом, но — и только. Снаружи поглядеть — красиво, а внутри куча непорядков. Видимо, еще в первые годы коллективизации кто-то тут брался всерьез за развитие животноводства, а потом руководители сменялись, другие меньше стали обращать внимания на эту отрасль, животноводство пришло в упадок, и часть капитальных построек осталась даже не занятой скотом. Слыхали гости нелестные отзывы и о нынешнем заведующем животноводством Пацюке. При нем за последнее время на фермах стало особенно плохо. Но Пацюка не было среди хуторян, окруживших гостей.
— Где же Пацюк? — спрашивала Василиса Абраменко. — Разве ему не известно, что проверка происходит?
— Как не известно? Известно…
Не понравилась гостям ни МТФ, ни ОТФ. На молочной ферме скот грязный, тощий, продуктивность низкая. На овцеферме всего полсотни овец, громкое только название — ОТФ, и овцы плохие, всякая смесь, беспородные. Но пуще всего раскритиковали гости свиней, когда очередь дошла до СТФ, — мелкорослых, горбатых, на которых было больше щетины, чем сала.
Мотя Сердюкова поглядела на хуторских свиней, сокрушенно покачала головой и поджала губы пренебрежительно.
— Я считала, что простых свиней уже во всем свете нету, а они еще, оказывается, не перевелись. Ну зачем вы держите эту пакость? Не пора ли завести племенных?
Василиса Абраменко засмотрелась на одну рябую матку, длинноногую и поджарую, легкую в ходу, как гончая собака, и стала подшучивать:
— Не эту ли свинку мы гнали сегодня машиной? Ой, бабоньки, не поверите, какое чудо было! Стали в хутор въезжать, она, откуда ни возьмись, выскочила на дорогу и — поперед машины. Шофер жмет километров на шестьдесят, а она и того больше. Гнались, гнались, так и не догнали. Животы порвали было со смеху. Точь-в-точь такая ж рябая. Я говорила: вот кабы достать нам таких на племя — наши охотники ходили бы с ними зайцев ловить.
Сергей Замятин сказал:
— У нас если бы показать ее, так собрались бы все, как на зверинец. Подумали б — дикая.
А Максим Петрович Дронов ходил, заглядывал в базки и только молча плевался, чем окончательно вывел из терпения свинарок.
— На лысину бы нашему Пацюку плюнул! — сказала одна из свинарок, Авдотья Сушкова, сурового вида женщина, худая, высокая, с густыми, черными, сросшимися над переносицей, бровями. — Ему, черту, плюнь, может, пособится! — И, задетая за живое насмешками гостей, начала говорить горячо, возмущенно: — Вы, товарищи, не хвалитесь вашей скотиной, а скажите — руководители у вас хорошие. Да! Нам это тоже не очень приятно слушать. Кто б ни приехал на ферму — все издеваются над нашими свиньями. Зайцев гонять! От и Пацюк у нас такой, что с собаками его не догонишь и не сыщешь, — где он пропадает. Вот вам наглядно: заведующий животноводством, к нему комиссия приехала, а он сбежал, спрятался, должно быть, от стыда… Мы ему за племенных свиней голову уже прогрызли. Люди ездят, достают, — в совхозе вон продавали, в колхозах есть, надо только побеспокоиться. Как пень! Разве ему до этого?
Все стали изливать обиды на Пацюка.
— На голом цементе свиньи спят, и нечего подстилать, нету соломы. В степи гниет, жгут ее там, а сюда не подвозят. Разов сто уже говорили об этом Пацюку!
— И зачем только поставили его сюда? Совершенно не интересуется человек!
— Да нет, он сначала взялся было крепко, да скоро охолонул…
— Оторвался от массы. Головокружение получилось…
Среди колхозников, собравшихся вокруг комиссии, был дед Абросим Иванович Чмелёв, ночной сторож. Маяковцам, хорошо знавшим всех хуторян, Чмелёв был известен как человек невоздержанный на слово, злой, ругательный, но болеющий душою о хозяйстве.
— Ну, а ты, Абросим Иваныч, чего расскажешь нам? — спросил его Дронов. — Почему у вас так плохо? Что тут получается с Пацюком? Ты же тоже с этой отрасли? Здесь сторожуешь? Должон знать.
— Ничего зараз не скажу, — отмахнулся дед. — Смотрите сами. Ничего не скажу… — И объяснил, немного помолчав: — У меня такой характер: если сейчас начну, весь заряд прежде времени выйдет и на вечер не останется. Не хочу! Я на собрании расскажу все до тонкости, в чем тут у нас гвоздь забитый. Я уже давно этого собрания дожидаюсь. Разве тут один Пацюк! Ух, с-сукины сыны, до чего распустились!..
И больше Абросим Иванович в самом деле не стал ничего говорить. Он ходил только следом за комиссией и поддакивал, когда гости замечали какие-нибудь непорядки. А гости придирались к каждой мелочи.
— Что это у вас сено сложено так близко к коровнику, под самую крышу? — спрашивал Дронов.
— Во, во! — обрадованно вставлял дед Чмелёв. — Скажи еще ты, я им, анафемам, уже говорил.
— А разбрасываетесь кормом, будто на второй урожай надеетесь, — замечала Василиса Абраменко, подбирая с земли оброненный кем-то порядочный клок сена.
— Так, так! — поддакивал дед. — Вы еще полюбуйтесь, как у нас силос берут, — устлали всю дорогу силосом. А кабы вы поприсутствовали, когда у нас коров доят. Бьют скотину, матюкаются! Из-за одного такого обращения понимающая корова молока не даст!
— Это ж кто у вас отличается? — спросил Дронов.
— Да кто — вот Анютка первая…
— Ах, боже, твоя воля! Абросим Иванович! — всплеснула руками покрасневшая до слез доярка Анна Кудрикова. — Что ж ты меня срамишь перед людьми? Когда ты слыхал, чтоб я ругалась по матушке?
— Чтоб ругалась — не слыхал, а как била корову лопатой — видал.
— Та-ак! Запиши, Сергей! — с нарочитой строгостью сказал Дронов, подмигнув Замятину.
— Куда — запиши? — подскочила к Сергею Кудрикова. — Меня? Это я одна, значит, буду отвечать за всех? А как Манька Федотова била — ей ничего? А Маришка никогда своих коров не чистит и вымя не обмывает — это как? Меня только видно?
Смех, шум. Марина Петровна кричит:
— Не чищу, потому что некогда — твоих коров завсегда доить приходится. Ты вот объясни людям, почему ты по три дня на ферму не являешься? Торговля тебя завлекла? В Сочи все ездишь — с яйцами да с маслом?
— Ну ладно, хватит об этом. Тише, девчата! — успокаивает Василиса Абраменко. — Расскажите вы нам теперь еще вот что. Как же это у вас получается, что до сих пор план поставки молока не выполнили? Сколько вы надаиваете молока? Кто у вас бригадиром на мэтэфэ? Чичкин? Макар Емельяныч, ну-ка, пойди ближе. Чем вы кормите коров? Как — по норме или от брюха? Всех одинаково?.. Сколько коров поставили на индивидуальное кормление, на раздой? Ни одной?! О-о, это, значит, у вас такие порядки, как еще при царе Горохе мы хозяйновали!..
А в это время Капитон Иванович с Дядюшкиным и Пашей Кульковой в одной из полеводческих бригад, собрав колхозников, беседовали с ними о подготовке к весеннему севу. Они вникали в хозяйственные планы бригады так детально, будто им самим предстояло здесь работать, — спрашивали, сколько каких культур будет сеять бригада, как подготовлена с осени земля, правильно ли размещены поля по севообороту. Было и здесь немало смеху и шуток, от которых многих бросало в пот, особенно когда Капитон Иванович, имевший, как заведующий агролабораторией в своем колхозе, пристрастие к науке, налег на проверку агротехнических знаний посевщиков и звеньевых, а потом добрался и до бригадира. Учеба оказалась самым слабым местом в хуторском колхозе. Капитон Иванович и вопросы-то ставил не легкие, но и ответы некоторые были до того уж несуразны, что Капитон Иванович в конце концов сказал:
— Может быть, вы, товарищи, робеете, что нас тут много собралось? А как же вы говорите, что в сороковом году обязательно на выставку поедете? Там еще больше народу будет. Совсем растеряетесь да такой чепухи нагородите, что и слушать будет стыдно, — прогонят вас из Москвы!..
Они управились позже всех — обошли все бригады, осмотрели агролабораторию, поглядели в амбарах семена, заходили на квартиры к колхозникам и кончили свою работу в конторе — подсчитали по отчетам урожайность и доходность разных отраслей, расход трудодней и прочее, чем нужно было подытожить проверку соцдоговора.
Капитон Иванович исписал весь свой блокнот. Он посерьезнел, не шутил больше, стал молчалив и сосредоточен, расспросил лишь Коржова, Василису Абраменко и Замятина о результатах проверки по их отраслям, записал себе еще кое-что и больше до самого вечера ни с кем не говорил; готовясь к собранию, обдумывал, что надо будет сказать. Дядюшкин-младший перед собранием пригласил всех колхозников «Маяка революции» пообедать в клуб, где в одной из комнат накрытые столы давно ждали гостей. Капитон Иванович и там, выпив две стопки водки, покраснел только, но не разговорился, ел мало, сидел за столом недолго, встал, отошел в сторону, к окну, и, пока продолжался обед, похаживал молча из угла в угол.
Коржов, указывая на него, подмигнул Дядюшкину-младшему:
— Сочиняет — на вашу голову. За вашу хлеб-соль…
В зале клуба шумно и весело. Духовой оркестр, — гордость хуторского колхоза, живущего на отшибе, вдали от всех благ станичной культуры, — играет вальсы и польки, нестройно, фальшиво, но с таким оглушительным треском и грохотом, что даже лампы мигают. Девчата танцуют впереди в свободном от скамеек кругу.
— Видал? — кричит на ухо брату Дядюшкин-преседатель, указывая на оркестр. — Это уж мое начинание.
— Дело неплохое, — отвечает Дядюшкин-бригадир. — Штука в колхозном хозяйстве полезная… А чего они так тянут в разные стороны, козла дерут?
— Не напрактиковались еще. Я их недавно только стал допускать сюда, а то все ходили в лес, подальше от людей, там репетировали. Ничего, подучатся!..
На дворе уже темно. Разбушевался холодный ветер, валит снег. Колхозники, входя в клуб, топчутся на пороге, сметают веником снег с сапог, отряхивают шапки. Шофер «Маяка революции», Федя Малюк, тревожно поглядывает в окно: как оно там, не занесет ли дорогу, покуда соберутся ехать домой?
Скамейки в клубе уже заняты, а народ все подходит. Дядюшкин, поднявшись на сцену, оглядывает зал. Собрание будет необычное. Несмотря на плохую погоду, явка, как никогда, — если не все сто процентов, то около этого. Он делает знак капельмейстеру, чтоб прекратил музыку, снимает свою кавалерийскую, с синим околышем, фуражку, кладет ее на стол, приглаживает руками встрепанные волосы.
— Начнем, товарищи! — говорит он.
После выборов президиума Дядюшкин не сразу покидает сцену, задерживается на минуту, чтобы объявить повестку дня и «направить» собрание.
— Сегодня у нас, товарищи, один вопрос — проверка соцдоговора. Докладывать будут наши гости. Просьба соблюдать тишину. Семечки можно отставить на время, давайте потерпим немножко. Девчата! Вы что ж задом наперед к президиуму повернулись? Феклуша! Настя! Вы куда пришли — на посиделки? Сядьте аккуратней. А это что за пацаны в углу? Чего вы сюда забрались? Живо домой, спать! Пропустите их там. Вот активисты какие, ни одно собрание без них не обойдется!.. Ну, можно начинать. Семен Трофимыч! Руководи.
Председательствует на собрании бригадир Семен Трофимович Елкин, человек средних лет, хмурый, небритый, с прокуренным, хриплым басом, в очень растрепанном одеянии. На нем грязная ватная стеганка, под ней пиджак, засаленный и рваный, рубаха, не убранная в штаны, все это нараспашку, без пуговиц. На голове кепка из телячьей шкурки, местами совершенно облысевшая, с надломанным, отвисшим книзу козырьком. Он никогда не снимает ее, а лишь передвигает со лба на затылок и обратно. Сейчас Елкин насовывает кепку наперед и немного набок, чтобы защитить козырьком глаза от яркого света большой керосиновой лампы, стоящей на столе, и предоставляет слово комиссии.
Со скамейки первого ряда, отведенного для гостей, поднимается Коржов и идет на сцену. Он с трудом протискивает свое огромное тело в узкую дверцу, за кулисами в тесноте задевает что-то плечом и роняет с грохотом на пол, чем вызывает сдержанный смех в зале, при выходе из-за кулис к столу опять застревает в дверях, отчего жидкие фанерные стены трясутся и, кажется, вот-вот рухнут, — смех в зале возрастает, — наконец, красный, смущенный, рванувшись, преодолевает последнее препятствие, оставив на дверной скобе кусок меховой оторочки полушубка, и становится у стола президиума, выпрямившись на просторе во весь рост.
Капитон Иванович, обернувшись к колхозникам, объясняет:
— Мы решили так — сначала по отраслям, а потом в целом. Не возражаете?
— Не возражаем! — отвечают из зала. — Дело ваше.
Коржов достает из кармана полушубка записную книжку. В зале стихает. Слышно, как ветер сеет снег в окна.
— Не разберешь чужую руку, — говорит Коржов, перелистывая записную книжку. — Это Петро Кузьмич тут записывал… Ну, ладно, я вам словесно расскажу, у меня рассказ будет короткий… Проверили мы, стало быть, с Петром Кузьмичом весь инвентарь. Ну что — инвентарь отремонтированный, хоть сегодня выезжай на посевную. Прибрать есть куда, помещений хватает. Вот не знаю только, — Коржов поглядывает на черное окно, за которым бушует метель, — прибрали или нет? Днем еще на дворе был.
— Прибрали, — отвечает завхоз Бутенко.
— Тогда, стало быть, всё… Против качества тоже ничего сказать не могу — качество хорошее. Нашел я, правда, одну боронку: зубья, как колючки у ежа, во все стороны торчат, не была совсем в ремонте, а причислена туда же, к отремонтированным, — но это, похоже, у них ошибка вышла, просто забыли про нее. Ладно… Потом еще получилось у нас с кузнецом пари.
— Что получилось? — вопрос из зала.
— Какие пары?
— Пари, говорю. Поспорили, стало быть, как лучше пальцы в дисках подгонять. — Коржов находит глазами Кандеева. — Вот с ним. Ну что ж, это дело наше, мастеровое. Оно и так, как Кандеев ремонтировал, годится, все так делают, а как я показал — еще лучше, сев будет прямее. А нам, кузнецам, как я понимаю, нужно думать не только как железку загнуть, а и об агротехнике. Правильно, товарищи кузнецы? Вот… Ну, плуги, культиваторы, прицепы — это все тоже есть. Вагончик для трактористов имеется… Еще хотел я сказать насчет бричек. Очень мне понравилось, как у вас обстоит дело с ходами. В вашем колхозе на каждую пару тягла есть новый ход, даже с излишком, — запас имеется на молодняк. Хорошо! Я бы на месте правления премировал ваших колесников, как лучших стахановцев. Заслуживают этого. Поставили, можно сказать, колхоз на колеса. Вот я и своим хочу посоветовать. Капитон Иваныч! Ты, стало быть, как член правления, учти это. Можно и нам этак: послать в горы колхозников, нехай заготовят побольше ободьев, ступок, и сделаем сами — не хуже фабричных будут. Что у нас — колесников нету или оковать не сможем? Сделаем десятка три бричек и выйдем из положения. А то мы все на сельхозснаб надеемся, а там таких заявок, как наша, тыщи!
— Вопрос к Коржову! — раздается голос с первой скамейки, где сидят маяковцы. — А чем они свои брички мажут?
— Ну, мажут известно чем: колесной мазью, — отвечает Коржов. — Нет, тут не подкопаешься, надо правду говорить: уход за инвентарем хороший, не мешало бы и нам поучиться.
— Еще вопрос! — поднимается один из кузнецов «Красного Кавказа». — А как у вас, товарищ Коржов, с ремонтом инвентаря?
— Нельзя сказать, чтоб уж очень хорошо, — отвечает Коржов, — но и не так-то плохо: если приедете в следующее воскресенье, кончим к тому времени. У нас же кузнецов не столько, как у вас, но все равно кончим… Ходá нас мучают, как я уже говорил, а так сеялки, бороны — это, стало быть, готово. Короче сказать, хвалиться не буду, — приедете, посмотрите сами…
Больше вопросов нет. Коржов поворачивается и идет на место.
— Мало, мало! — качает головой Капитон Иванович. — Плохая у тебя добыча, Михайло Потапыч! Ты, случаем, не перехвалил их?
— Нет, не перехвалил, — отвечает Коржов, спускаясь осторожно по шатким ступенькам сцены. — Ничего не поделаешь, Капитон Иваныч! Знаешь, как в сказке про два мороза: один пошел богатого душить, а другой — бедного. Так тот, что бедного, тому трудней досталось — не одолел. Бедный рубит дрова, греется, и мороз его не берет. Так и мне, стало быть, сегодня пришлось. Самую трудную работенку дали.
— Душил, душил, — не берет?
— Не берет! И я не в силах. Раз хорошо, как же ты на него скажешь — плохо?
…На сцене у стола — доярка Василиса Абраменко. После спокойной, медлительной речи Коржова, которую в задних рядах плохо даже было слышно, в зале раздается бойкая скороговорка круглолицей, румяной казачки. Голос у нее звонкий, «пронзительный», — тетя Вася лучшая запевала в колхозном хоре. Ей мешают говорить теплые платки, которыми она закуталась, едучи сюда. Василиса Степановна разматывает их, снимает и ватную кофту — в клубе уже становится жарко, надышали, — бросает все, не прерывая речи и не оборачиваясь, на край стола. Председательствующий Семен Елкин опасливо поглядывает на нее из-под надломленного козырька кепки, осторожно подвигает одежду дальше, чтоб не свалилась на пол. По рядам колхозников проходит оживление.
— Или оно вам не болит? — говорит возмущенно Василиса Степановна, бросая недобрые взгляды на председателя и завхоза «Красного Кавказа». — Или из вас, руководителей, никто туда не заглядывает? Какие постройки, сколько капиталу вложено! Для чего же было тогда и строить это все? Бедные животные! Поглядели мы на ваших коровок — прямо сердце болит. Грязные, в сырости стоят, окна соломой позатуляли. И еще их же и виноватят! Спрашивали доярок: почему такой низкий удой? Говорят — коровы плохие. А вот я хотела бы еще вашего животновода спросить: как он понимает? Вот только беда — не можем найти его. Целый день ищем — где он есть? Никита Алексеевич! Ты тут?
— Тут! — отвечает за Пацюка враз несколько голосов из дальнего угла.
— Ну, слава богу, а то мы уже думали, может, побег на Кубань топиться со стыда.
— Эге! — подает кто-то реплику. — Заставишь его! Он у нас не дюже совестливый.
— Так что ж за причина, Никита Алексеевич? — продолжает Абраменко. — У нас две тыщи литров, а у вас пятьсот. Кто виноват — коровы?
— Бугаи, — негромко отвечает один из колхозников «Красного Кавказа» с явным намеком на что-то всем известное. Вокруг вспыхивает смех.
— Может, и бугаи, вам лучше знать, но коровы ни при чем. Коровы у вас неплохие; свиньи, верно, ни к черту, — крысы, а не свиньи, давно бы уж надо сбыть их и завести племенных, чтоб и корм зря не переводили, а коров хаять не приходится, коровы хорошие, есть такие, что раздоить — по три тыщи литров дадут. Но откуда же ему быть, молоку? Рациона правильного нету, кормовые единицы не учитываются. Стали спрашивать доярок и бригадира, а они смотрят на нас как на иностранцев: что это за диковина — кормовая единица? Им эти слова совершенно даже непонятные. Вот навоз — это понимают, потому что по колено в навозе ходят и коровы и доярки… Эх вы! Еще соревнование с нами заключили! Куда вам, грешным, с нами тягаться?
— Разрешите спросить у животновода, — встает Максим Петрович Дронов. — Ответь на вопрос, Никита Алексеевич: можно ли складывать сено к коровнику под самую крышу? А если цигарку кто бросит — и сено сгорит и коровник? Отвечай. Да где же он есть? Пацюк!
— Есть такой, — поднимается в заднем ряду Пацюк, полный, с длинными украинскими усами мужчина, в кубанке набекрень. — Чую. Где ж там под самую крышу? Вы бы очки надели.
— А ты не серчай, Никита Алексеевич! — оборачивается к нему Дядюшкин-председатель. — Терпи! К чему это — очки? Нехорошо. Отвечай по существу.
— Э-эх, так его растак!.. — срывается с места дед Абросим Иванович Чмелёв, пробирается между рядами скамеек и идет к сцене.
— Куда ты, дед? — машет на него рукой Семен Елкин. — Куда? Вернись, рано еще. Прение еще не открывали.
— А мне оно и не нужно, твое прение, — отвечает дед. — Настигло время сказать — и скажу, и не перебивай меня, ради Христа, а то брошу. — Дед останавливается. — Как же я этого не люблю, ну вас к чертовой матери! Когда б ни начал — то, говорят, какой-ся рыгламент не вышел, то не открывали еще, то уже закрыли. Тьфу, чтоб вы провалились! — поворачивает обратно.
— Так еще комиссия не кончила. Нельзя, Абросим Иванович, порядок ломаешь, — убеждает Елкин.
— Ничего, дайте сказать деду, — говорит Капитон Иванович. — Мы подождем. Иди, иди, Абросим Иваныч!
— Валяй, Абросим Иваныч!
— Дать деду слово! — несется из зала.
— Ладно, нехай выскажется, — говорит Елкину Дядюшкин. — Ты, Абросим Иваныч, только поприличней выражайся. Тут — женщины.
— А это как придется, — отвечает дед. — Не ручаюсь, — и идет к сцене.
— Граждане колхозники колхоза «Красный Кавказ»! — начинает Абросим Иванович пространно и торжественно. — До каких пор будут приезжать к нам люди и колоть нам глаза нашим животноводством? Может, оно вам, верно, не болит, как вот гражданка Абраменкова сказала, но мне болит, потому что хоть мое дело и маленькое, я — сторож, но причисленный к этой отрасли, и считаюсь как работник животноводства. Ей-богу, истинно говорю вам — терпение уже лопается!.. Тут спрашивали, кто виноватый, вот и я как раз об них хочу сказать, об этих самых сукиных сынах, кто довел наше животноводство до ручки, растак их… кмх! Да… У меня должность такая: хожу кругом двора, звезды считаю и чего-чего только не передумаю за ночь! Припомню и что раньше было, еще до извержения царя, и гражданскую войну, и вот стану сам с собой рассуждать: что у нас такое, в нашем колхозе, с животноводством получается? Прочее хозяйство в гору идет, а животноводство — вниз. В чем тут гвоздь забитый? Да в самих руководителях, по-моему! Сколько уже у нас заведующих переменилось! Милиён! И все без толку. Прямо не везет нам на них, либо место у нас такое, богом проклятое. Был Степка Журавлев — этот, барбос, начал выручку за молоко пополам делить: половину в кассу, половину в карман. Скинули его, судили, назначили Фаддея Кузьмича. Кузьмич полгода поработал — помер. Ну, царство ему небесное, это со всяким может случиться. После него поставили Гаврилу Отрыжкина. Такой был захудалый да больной, подкормился сливками — начал выбрыкивать, дояркам проходу не дает, прямо удержу нет. Скандалы у нас каждый день, мужья ревнуют, жен терзают. Скинули и Отрыжку. После Отрыжки еще штуки три сменилось, и все такие же: либо не в курсе, либо с какой-ся придурью. Назначили, наконец, нам Никиту Пацюка. Ну, думаю себе, этот поведет дело! Парень наш, красный партизан, командиром взвода был у нас в отряде. Человек пожилой, с понятием. Ну, и что ж из него получилось? И этот старый козел по той же дорожке пошел!..
Абросим Иванович призадумывается.
— Может, оно и неприлично здесь о таких вещах говорить, но приходится. Кабы общественное дело не страдало, а то ведь — хозяйству разор!.. Я так и не придумаю: в чем тут гвоздь забитый, почему они у нас все одной болезнью болеют? Либо от безделья — не может человек свою линию найти, в чем его хвункция, как заведующего, заключается, и начинает от скуки дурить, либо на самом деле молоко такое вещество, если много его употреблять, действует на людей? Не знаю, на меня уже не действует. У меня еще с тысяча девятьсот…
— Ближе к делу, Абросим Иваныч! — просит Дядюшкин. — Покороче.
— А я к делу и веду. Куда ж еще ближе… Об чем я говорил? Тьфу, чтоб тебя, перебил!.. Да, насчет Пацюка. Ну, так вот, не могу сказать, какая тому причина, но и Никита Алексеич наш в тую же кадрель ударился. Была у нас в хуторе спекулянтка-единоличница Лизка Моргункова, и он, красный партизан, колхозник с двадцать девятого года, с той спекулянткой спутался! И до чего ж хорошего это довело? До рукопашного бою. Вот тут, прямо перед клубом на улице. Жинка его шла вечером по воду, а он тут свиданьичал с Лизкой — ну и потянула коромыслом по горбу. Начал было Никита отступать за плетень, она его и там настигла, да цибаркой по голове! А цибарка была с водою. Изувечила ее, цибарку, сбила в лепешку. Народ кругом, тюкают… Какой же от него теперь может быть авторитет? Придет на ферму, станет дояркам что-нибудь указывать, а они: «Гы, гы!.. Никита Алексеич! А цибарку выпрямили?..» И хотя бы уж после этого покаялся. Нет, продолжает! Только теперь уже не дома, а в отдаленности, больше по хуторам. Все разъезжает: то силосорезку вроде ищет, взять на время, то сепаратор, говорит, продается где-то по случаю, а сам — до девчат. Это уж я доподлинно знаю. Рассказывали ребята с Вербового, что там наш Никита Алексеич вытворяет, когда приезжает. Жинка его тут? Присутствует? Ну, извиняйте, из песни слова не выкинешь. Я бы, может, и не стал всего объяснять про своего командира бывшего, да само дело заставляет. В общем ты, Настя, не дюже ублажай его, когда он приезжает ночью домой да говорит: ездил аж на Пасечный хутор, замерз, проголодался, — его там без тебя поят и кормят.
В переднем ряду, где сидит жена Пацюка, Настя, — шум, возня. Настя порывается встать, хочет, видимо, пробраться ближе к мужу, ее удерживают, успокаивают. Елкин призывает к порядку, стучит карандашом по столу. Дед Чмелёв продолжает:
— Ну, это еще не все. Второе — начал наш Никита пьянствовать. Рассобачился окончательно. Пьет, по-старому сказать, как перед страшным судом. Праздник, будень — ни с чем не считается. Патефон, соленый огурец — больше ему ничего не нужно. Доносят ему: пропали быки, которыми сено подвозим, ушли с попаса — с горя пьет, нашлись быки — с радости, издохла корова — поминки справляет, отелилась — крестины, так и идет у него конвейером. А на фермах тем часом коров не чистят, корм переводят, две траншеи силоса погноили — подплыл водой; бураки поморозили, на телят понос напал, на телятниц столбняк какой-ся: станет в дверях против солнышка, руки в боки упрет, семечек на губы навешает и стоит, поплевывает с утра до вечера. Черт бы вас побрал с этакой работой!.. И бригадир у нас на мэтэфэ такой же, Макар Чичкин, — вот он сидит, полюбуйтесь на него, — лодырь из лодырей. Может, станешь, Макар, отказываться? Куда там отказываться, — я все правильно говорю. Разобьют коровы корыто — целую неделю будет плотников ждать, сам ни за что за топор не возьмется. «Не моя, говорит, хвункция». Говорил я Пацюку: «Не ставь ты, ради бога, Макара на должность! Это же ни рыба ни мясо, никакого с него навару не получится!» Нет, назначил бригадиром. Понравился ему, должно быть, тем, что водку глушит не хуже его… Вот тут гражданка Абраменкова называла разные такие слова, которые нашим дояркам не известные, рацивон и все такое. Да откуда же нам их знать? Или, может, у нас на фермах собрания когда бывают, или курсы проводятся? Ничего такого нету. Никакой массовой работы, — одна, можно сказать, голая администрация. Забегут Пацюк с Чичкиным, покричат, пошумят, глядишь — уж смылись. Так и знай: либо сепаратор поехали вместе покупать, либо патефон накручивают.
Абросим Иванович оглядывается через плечо на Елкина:
— Как там, рыгламент еще не кончился? Скоро начнешь тарахтеть?
Из зала единодушно отвечают за Елкина и колхозники «Красного Кавказа» и гости:
— Не кончился!
— Продлить деду!
— Продолжай, Абросим Иванович!
— Ну ладно. Хотел я еще рассказать про кобылу Зорьку… Ведь это, что хвост быку оторвали, это же у нас случилось, на животноводстве. У нас тут так: чтоб ни стряслось — где? — на животноводстве. Бабы поскандалили — где? — у нас. Волки жеребенка разорвали — у нас. Быка покалечили — у нас. Каждый день происшествия. Что придумали, сукины сыны, обормоты, Митька Стороженко и Васька Пеньков! Связали быков хвостами, поставили их зад к заду и давай хлестать — за спором, чей перетянет, покуда и оторвали хвост одному. Судить надо, подлецов! Но этого мало, я хочу сказать — в чем тут гвоздь, откуда они такой пример взяли? Да от самого ж заведующего! И он так же издевается над худобой. Была закрепленная за Пацюком кобыла Зорька, вы ее все знаете, молодая кобылица, шустрая такая. Дали ему, как заведующему, — на, ездий по делам, куда тебе нужно, только береги ее. Ну и что ж? Загнал! Мотается по хуторам, силосорезку ищет, — уже и силос давно набили, а он все ищет, вернется домой, бросит ее на дворе оседланную либо привяжет с пьяных глаз до той метлы, что Настя у порога заметает. Ходит Зорька по огороду до утра, метлу за собой тягает, заподпружится, нажрется всякой дряни. Если я не наведаюсь да не отведу ее на конюшню — никто и не кинется. Раз этак сделал, другой, потом горячая воды хватила — ну и все, пропала Зорька. А кобыла была какая!.. Э-эх, безобразники, разорители, головотяпы, чтоб вас скорежило в три погибели!..
Абросим Иванович круто поворачивает и идет на место.
— Кончил, дед? — спрашивает Елкин.
— Кончил. Кабы та кобыла не издохла, она б вам еще больше рассказала!..
На долю конюха Сережи Замятина досталось доложить собранию результаты проверки ухода за рабочим тяглом. Сергей, парень лет двадцати, комсомолец, говорит с жаром, почти кричит:
— В общем, у вас, товарищи, так получается: за мертвым инвентарем лучше ухаживаете, чем за живым. Нет у вас заботы о верном нашем друге — коне! Что на животноводстве безобразия, что на конюшнях — одинаково. Разве при таких кормах, как у вас, лошадям быть в средней упитанности? Как змеи должны быть! Тут всему причиной, я скажу, корытá. Корытá у вас в конюшнях велики — сразу целая сапетка половы вмещается. Урезать надо их обязательно, чтобы одну жменю только можно было всыпать, — всегда будет свежая мéшка, и лошади охотнее ее станут есть. А то намешают сразу на целую неделю, лежит она, киснет. Николай Савельич! Вот послушай моего совета: пошли завтра плотников, нехай поделают маленькие корыта, вот такие, — посмотришь, как начнут кони поправляться… Теперь насчет чистки. Чистка у вас, товарищи ездовые, не качественная. Во второй бригаде нашли мы две пары лошадей — прямо можно написать пальцем на спинах фамилии ездовых.
— Ты ж их, Сережа, почистил? — спрашивает Капитон Иванович.
— Нет, дядя Капитон, — виновато отвечает Сергей, — не почистил. Не дали! Такие сурьезные ездовые попались, не допускают, — Петренко и Артем Малышев. «Хоть ты, говорят, и комиссия, но до наших коней не имеешь права касаться. Указать можешь, а сам не лезь. Чтоб ославили потом на весь район — приезжали, дескать, из «Маяка» конюхá в «Красный Кавказ» лошадей чистить!» Почистили при мне, на том и помирились… Есть еще у них во второй бригаде жеребята-стригуны, Максим Будник ухаживает за ними, — прямо жалко глядеть на них! Прошлогодние репяхи в хвостах. Говорит — не даются чистить, брыкаются. Что значит брыкаются? Это и хорошо. То и конь, что треноги рвет. Не дастся одному — взяли бы его вдвоем, да как следует щеткой его по бокам, туда-сюда! Эх, Максим! А еще казак! Остаться, что ли, у вас на день, поучить вас, как надо чистить?.. Только вы, товарищи, не обижайтесь: самокритика исправляет и людей и лошадей.
Замятину дружно аплодируют все. Оркестр играет туш. Дед Чмелёв крякает и замечает:
— Ишь ты! Поддабриваются перед чужими! Мне так не подыгрывали!..
— Так тебе, Абросим Иваныч, неудобно подыгрывать, — отвечает капельмейстер. — Ты ж всегда кончаешь матюком!
Собрание становится шумным. Смех, соленые добавления с мест. Елкин то и дело стучит карандашом по столу. К тому времени, когда на сцену с заключительным словом проверочной комиссии выходит Капитон Иванович, атмосфера уже сильно накаляется…
Капитон Иванович, сухощавый, стройный, в бешмете с обтянутой талией и высоким стоячим воротником, покручивая усы, ждет с минуту, пока успокоится народ. Шум откатывается по рядам колхозников назад и замирает у дальней стены.
— Ну, мы наговорили вам тут всякой всячины, — начинает Капитон Иванович. — Извиняйте, если, может, кого задели за живое. Такая наша обязанность, затем и послали нас сюда. Оно-то, конечно, в чужом глазу соринку видать, а в своем и бревна не заметно. Ну ничего, вы тоже приедете к нам, укажете на наши упущения… Итак, товарищи, поработали мы с вами год. Я думаю, мы сейчас первенство определять не будем. Тут нужны посторонние люди, а сами начнем определять — еще подеремся. Это районные организации сделают: проверят, учтут все и скажут, кто кого опередил. Но все-таки разрешите сказать свое мнение, так, частным порядком, неофициально: первенство, конечно, останется за нами.
— За кем? — не расслышал кто-то сзади.
— За нами. Ну ясно, иначе и быть не может.
— Ничего ясного еще нету! — тот же голос. — У нас нынче, Капитон Иваныч, далеко лучше, чем раньше было. Мы в этом году по шесть килограммов хлеба на трудодень дадим, чего у нас еще сроду не бывало.
— Ну что ж такого! И мы по шесть, — отвечает Капитон Иванович.
— Значит, равняемся.
— Если равняемся, тогда мой совет: давайте на палку конаться. Чей верх, тому и знамя, — предлагает какой-то шутник.
Елкин с сердцем грохает кулаком по столу:
— Да поимейте же вы совесть! Ну что за народ — не дают человеку слова сказать!
— Нечего копаться, — продолжает спокойно Капитон Иванович. — И так видать. Что на трудодень — это еще не все. Не единым хлебом жив человек. Отпало уже это — ценить колхоз только по килограммам. Что — шесть? Можно и восемь и десять дать. Ничего не строить, не отчислять для продажи — вот и десять. Мы ведь в этом году сколько настроили! Конеферму на сто маток, мельницу, гараж, родильный дом, две новые автомашины купили. Восемь тысяч центнеров пшеницы сверх поставок продали кооперации под машины и стройматериалы!.. Нет, товарищи, так однобоко нельзя подходить: шесть и шесть, — значит, равны. Надо брать все хозяйство, все отрасли, тогда будет правильно. А если взять по отраслям, — конечно, наш колхоз от вашего как небо от земли, что и говорить! Мы, можно сказать, мчимся вперед на тройке вороных, еще и пристяжные по бокам: сад, огород, пчелы, птица. А вы запрягли одну клячу в оглобли — трюх-трюх помаленьку. Только на полеводстве выезжаете. В случае какой стихии, града или засухи — все, слезай, приехали. Ни хлеба, ни денег. Правильно? Единственное, что имеете, — животноводство, и то нашему и в подметки не годится. Наших всех животноводов вызвали в район оформлять документы на Всесоюзную выставку, а вашего, как видно, не сегодня завтра будет прокурор оформлять…
— Капитон Иваныч! Да ты не верь! — не выдерживает Пацюк. — Тут такого наговорили, что и на голову не лезет. И сено — под самую крышу. Прямо будто я вредитель какой!..
— Никита! — хрипит Елкин. — Тебе давали слово? Терпенья не хватает?
— У вас этот председатель, которого сняли, — продолжает Капитон Иванович, — был парень из таких, которые не любят особенно перегружать себя работой, чтоб не надорваться. Разведи гусей, утей, а на них, дьяволов, нападет еще какая-нибудь чума, подохнут — отвечать придется. Ну, теперь Николай Савельич, может, иначе дело повернет?
— Да уж кой-чего начали, — отзывается Дядюшкин. — Сто колод пчел покупаем в «Дружбе», с питомником договор заключили на посадку винограда.
— Хорошо! Вот когда всего этого заведете побольше, тогда можно будет вам и о первенстве поспорить. А пока не волнуйтесь и не расстраивайте зря нервы. Вот так… А насчет вашего полеводства я, товарищи, тоже хотел поговорить. В нынешнем году урожай хороший, но не думайте, что у вас так уж крепко дело поставлено. Мы сегодня были во всех бригадах, с бригадирами беседовали. Проверяли, как полагается, как нас недавно колхоз «Коминтерн» проверял. Спрашивают коминтерновцы наших колхозников: «Кто такой был Тимирязев? Кто был Вильямс? В чем их учение заключается?» А что вы думаете? Вспахать только без огрехов да посеять в срок — этой агротехнике уже десять тысяч лет. Пора по-настоящему браться за науку. Я скажу, не хвалясь: у нас это крепко налажено. Я как заведующий агролабораторией сам закручиваю учебой, собираю людей, агронома приглашаю. Четыре раза в неделю занятия. Ходят все в порядке дисциплины: и бригадиры и члены правления. Никаких никому льгот ни по семейному положению, ни по старости. Сидим за партой, как детишки: тетрадочки, карандашики. А у вас, проверили мы, — плохи дела! Агролабораторию вашу мыши съели, от экспонатов одни пеньки остались. И заведующего, может, съели бы, так его нету — услали в горы лес заготавливать. Нашли работенку по специальности! Ну, раз агролаборатория не работает, значит, и учебы никакой. Думали, может, сами люди читают, интересуются, взяли на выдержку несколько человек — ни в зуб ногой, извиняйте за выражение. Вот товарищ Елкин такого нам упорол, что животы порвали было со смеху. «Дарвин, говорит, это главнокомандующий французской армией».
— Да неверно же! — вскакивает Елкин. — Не говорил я этого!
Теперь Елкина успокаивают в свою очередь колхозники:
— Порядок, Семен Трофимович! Не перебивай докладчика.
— Ты же председатель собрания!
— Сам нарушаешь!
— Терпи! — кричит ему Дядюшкин. — Терпи!
— Да как же стерпишь, ежели напрасно? Не говорил я про главнокомандующего.
— Прошу прощения, ошибся, — извиняется Капитон Иванович. — Насчет главнокомандующего это бригадир Душкин сморозил… Плохо, плохо, товарищи! Гляжу вот я на тебя, товарищ Елкин, и думаю: нет из тебя никакого движения, — почему так? Каким помню я тебя с начала коллективизации, таким ты и остался. И кепка на тебе та же самая, которую носил, когда мы лошадей обобществляли в станичном гиганте. Помнишь, как тебя бабы возле мельницы терзали, сапоги в колодец забросили, а кепку в яме с мазутом утопили? Ты ее после в керосине вымачивал, она тогда еще новенькая была… Как ты, товарищ Елкин, в то время руководил бригадой? Наряды давал, конюхов по ночам проверял, тяпки полольщикам точил. А сейчас как руководишь? Тяпки точишь, наряды даешь — то же самое. Неужели за десять лет ничего нового не прибавилось? А агротехника? Иль тебя это не касается? Неверное рассуждение! У Душкина в бригаде еще хуже — ни одного гектара не удобрили! У нас же, товарищи, на будущий год половина всей посевной площади пойдет по удобрениям. Вот, выходит, и тут вам до первенства далеко. Триста гектаров озимки посеяли — наперекрест. А вы — ничего. Может, и слыхали об ефремовском агрокомплексе, — слыхали, конечно, не может быть, чтоб вас не коснулось, — но не придали значения. Поговорили, тем дело и кончилось, а применить на практике не рискнули. Никуда это не годится!
Елкин ерзает на стуле.
— Что ж ты равняешь, Капитон Иваныч? — говорит он, жалко улыбаясь. — Вы — в станице, а наше дело хуторское. Живешь тут, в глуши, бык быком, и уши холодные.
— Ты не прибедняйся, товарищ Елкин! При чем тут хутор? Можно и в станице запустить себя хуже, чем на хуторе. Тут другое… Я скажу прямо, ты только не возьми в обиду. Вот пришел ты сегодня на собрание, в общественное место, а на что ты похож? В дегте весь, будто подолом трактор обтирал, небритый, рубаху распустил. Еще хвалитесь — шесть килограммов! Куда ж вы их деваете? А посмотри на нашего бригадира Андрея Савельича. Видал, какой джигит? Почему бы и тебе не так? Не любишь казачью форму — надень галстук, пиджачок. Ах ты ж, товарищ Елкин-Палкин! В этом культура тоже проявляется! Поверь моему слову: сейчас у тебя в бригаде урожай неплохой, а уберешь рубаху в штаны да скинешь вот эту цилиндру телячью, еще лучший урожай будет!
Смущенный Елкин снимает свою «меховую» кепку, вся тулья которой от давности облезла, вытерлась, как бок у чесоточной овцы, и, повертев ее в руках, кидает под стол.
В клубе дрожат стекла от хохота.
— …Ну, что вам, товарищи, еще сказать? Значит, самое больное место у вас — культура. Нажать надо на это дело обязательно.
— В следующий раз приедете — все бригадиры при галстуках будут, — говорит, улыбаясь, Дядюшкин. — За свой счет куплю. И обяжем решением правления носить. Как в армии — приказом по гарнизону.
— Посмотрим!.. Надо вам открыть при колхозе стахановскую школу, как у нас. Имейте в виду, товарищи, не будете учиться — в самых задних рядах окажетесь. А плохо быть отстающим! О передовом колхозе и в газетах пишут, дети читают про своих отцов, матерей, какие они герои, девчата охотнее замуж идут в такой колхоз, в Москву люди ездят, почет им и уважение, а отсталых и куры клюют… Еще хотел я сказать, товарищи, о вашем животноводстве — совет вам дать, как направить дело. Про Никиту Алексеича не буду говорить, достаточно о нем сказано, у него, должно быть, и так уже в сапоги полно поту натекло. Нехорошо, конечно, получается. Знал я его как человека стоящего. Значит, разбаловался. Ну что ж, и от такой хворобы лекарство имеется. Тут Абросим Иваныч правильно подметил насчет функций. На фермах, само собой, есть начальники — бригадиры, а тут еще заведующий всем животноводством. Я бы вам посоветовал упразднить эту должность — завживотноводством. Назначить подходящих людей на фермы — и все. И пусть ими непосредственно руководит правление, а еще лучше, если сам председатель больше будет вникать. Мы давно уже так сделали. У нас нет завживотноводством, есть заведующие фермами и больше никого. Они за свое дело отвечают, сами все обеспечивают, у них и тягло, подвозят себе все, что нужно, ну, а в случае чего, обращаются в правление.
— Как ты предлагаешь, Капитон Иваныч? — поднимается дед Чмелёв. — Чтоб, значит, ликвидировать Никиту?
— Ликвидировать. Должность его.
— Совсем?
— Совсем.
— Чтоб и не было?
— Ну да.
— А пожалуй, так оно лучше выйдет, — соглашается кто-то из колхозников.
— Значит, останется наш Никита — министр без портхвеля? — не унимается дед Чмелёв. — И куда ж его тогда?
— Да куда — можно в бригаду, на степь, хотя бы временно. Это очень хорошо помогает. Там функция известная, гулять некогда. У нас в прошлом году был такой случай с завхозом Катричем. Задурил парень, пьет и пьет каждый день, аж похудел от водки, черный стал, как земля, хрипит. Сняли его, послали в бригаду посевщиком. Поработал немного на свежем воздухе, обдуло его там ветерком — очухался. Через месяц прикинули на весы — на восемь килограммов поправился. Как на курорте. А то было совсем пропадал человек. Сейчас опять назначили завхозом.
Снова смех. Все оборачиваются к Пацюку.
— Никита Алексеич у нас сегодня именинник, — говорит Кандеев.
— А ему ж, бедняге, еще и дома достанется!
— Ну вот и все, товарищи, — кончает Капитон Иванович. — Как будто охватили полностью. Если будут вопросы — задавайте. В заключение передам вам пламенный большевистский привет от соревнующихся с вами колхозников «Маяка революции» и желаем всякого успеха. Но переходящего знамени вам, конечно, не видать как своих ушей.
Оркестр приготовился было сыграть туш, но последние слова Капитона Ивановича смущают капельмейстера: можно ли приветствовать такой выпад против них? Он вопросительно смотрит на своего председателя.
— Валяй! — машет рукой Дядюшкин. — Ничего не поделаешь — гости! Гостей надо уважать.
Гремит музыка, трещат аплодисменты. Елкин, красный, распарившийся возле жарко горящей лампы — «молнии», хлопает с сосредоточенным выражением лица громче всех…
В прениях после Капитона Ивановича выступают колхозники «Красного Кавказа», выступают еще гости, которым не пришлось говорить вначале. Собрание продолжается до глубокой ночи, бурное, необычное.
Максим Петрович Дронов не мастер на широкие обобщения. Он касается отдельных хозяйственных непорядков.
— Михайло Потапыч! Ты говорил, с инвентарем у них хорошо, стали, мол, на колеса, а вот сбруя ихняя никуда не годится. Мы смотрели — во всех бригадах на бечевках ездиют. Спрашивали их: «Кожи у вас есть?» — «Есть», — говорят. «А шорники есть?» — «Есть». Так чего же они не шьют новую сбрую? Или, может, у вас шорники такие, что боятся кожи резать — как бы не испортить?
Вскакивает шорник «Красного Кавказа» Федор Кравчук:
— А у вас — сбруя? Довольно, Максим Петрович, не хвались! Видал ваших, приезжали на мельницу — постромки из пожарной кишки, уздечки из мочала, а вожжи из фитилей. Тоже — зажиточные!
— Так это, может, одна пара на весь колхоз задержалась и как раз попалась тебе на глаза!
— В аккурат три подводы ваших было на мельнице, и вся сбруя такая!
— Во-о!.. Максим Петрович! Что ж ты, брат, хвастаешь?
— Значит, поквитались? — смеется кто-то. — У нас бечевки, у них мочала!
— В расчете!
— Нет, не поквитались, — поправляет Дядюшкин-председатель. — Этим, товарищи, нельзя успокаиваться, если нашли у соперника прореху. Прореха на прореху — в расчете. Не так! Тогда поквитаемся, когда и у них и у нас будут кони как львы, сбруя — вся в бляхах; урожай — пятьдесят центнеров; овощей, фруктов — горы! Вот тогда скажем — в расчете.
Паша Кулькова обращается к завхозу «Красного Кавказа» Бутенко:
— Иван Григорьевич! Вы как понимаете: ваша обязанность только в кузню заглядывать, где инвентарь ремонтируется, да горючее возить? А о живых людях вы не беспокоитесь? Это вас не касается? Вы знаете, в каких условиях ваши стахановцы живут?
— А что такое? Ничего не знаю. Ты, Паша, на меня особенно не наваливайся, я же всего только второй месяц как заступил.
— Ничего! Не из Америки приехали! Тут живете, все видите. Как у вас Фрося Петренкова считается?
— Как? Стахановка.
— Лучшая стахановка! Я с ней соревнуюсь, была летом в ее звене, видела ее клещевину. Замечательная клещевина! А как вы Фросю отблагодарили? Вам же известно, что у них в семье она да мать-старуха, мужчин нету, — значит, надо помогать. Хата течет, ветер крышу сорвал, сарай завалился, корову некуда загнать. Что у вас, соломы нет на крышу, сарай не из чего слепить? Стыдно, товарищи! Не на мой характер! Я бы перешла в завхозову хату либо в председателеву, самоправно, и сказала: «А вы идите жить в мою, нехай вам за шиворот течет, раз вы такие, что не заботитесь о стахановцах!..»
Выступает еще раз Абросим Иванович Чмелёв:
— Я со всем этим согласный, что говорила комиссия о наших недостатках. Правильно на сто процентов! Очень приветствую я такие собрания. И Степановна правильно говорила, и Сергей — как тебя? — Васильич, хоть и молодой парень, а тоже толково подметил, почему у нас лошади худые. И насчет сбруи, что Максим Петрович сказал, тоже правильно. Чего там отказываться? Кожи лежат, гниют, а ездим черт-те на чем. Скоро уже будем вязать брички за хвосты лошадям. Ну, а Капитон Иваныч — этот уж обрисовал все до тонкости. Как в воду глядел! Подписываюсь под его словами! С одним только я не согласный… Как ты мог, Капитон Иваныч, сказать так: не волнуйтесь насчет первенства? Это твое выражение, я считаю, недопустимое. Как можно не волноваться? Есть ли такой человек на свете, чтобы не желал лучшего? Прямо совсем ты нас принизил, подсек под корень. Что ж ты хочешь, чтобы мы до веку такие вот речи слушали на собраниях? Плохое твое пожелание! А я скажу наоборот — придет время, будут люди приезжать к нам сюда, приветствовать нас, награждать. Да! Иначе и быть не может! Нажмем — и догоним вас! А то, может, и перегоним!
Деда поддерживают колхозники:
— Правильно!
— Пусть не зазнаются да почаще назад оглядываются, а то пятки оттопчем.
— И у нас народ работать умеет, дай только правильное руководство.
— Догоним!
На этот раз выступление деда чествует и оркестр.
— И еще не согласный я вот с чем, — почему меня сторожем поставили, — продолжает Чмелёв. — Тому председателю сколько разов заявлял и тебе, Николай Савельич, заявляю вот здесь, принародно, — сторожую только до весны. Так и знай. Занудился уже я на этой должности — звезды считать. Я еще не такой калека. Подыскивайте на мое место кого-нибудь из самых престарелых, а я пойду в бригаду. Капитон Иваныч! Товарищи маяковцы! Как говорится, нельзя только штаны через голову надеть, а то — все можно сделать! И наш колхоз передовым можно сделать. Надо только потрудиться крепко. Да самим вникать во все упущения. А лоботрясов, разгильдяев этих, которые ходу нам не дают, — по шапке!
Бригадиру Елкину приходится выступать с покаянной речью. Кается он искренне, от души, он много пережил на этом собрании. Кепку он как снял, так и не надевал больше, застегнул воротник рубахи, одернулся.
— Честное слово, товарищи, больше этого не будет! — прижимая руки к груди, говорит он. — Кто не работает, тот и не ошибается. Оно верно, занимаешься черт знает чем, только не агротехникой. Муку мелешь, сбрую чинишь. Ну, теперь я заведу иной порядок. Завтра посылаю три подводы на станцию за суп… за супвер… — вот, проклятый, не выговоришь! — за су-пер-фос-фа-том! И давайте так договоримся: кто старое помянет — тому глаз вон. А насчет курсов я не возражаю…
Молчит лишь Пацюк.
В конце собрания слово берет Николай Савельевич Дядюшкин.
— Ну, кто это мне вчера говорил насчет бани? Ты, кажется, Иван Григорьевич? Вот она где, баня, всем нам! Я предупреждал вас, когда принимал дела, особенно Никиту Алексеевича, — так работать нельзя. Возьмут когда-нибудь нас в оборот — жарко будет! Ну, ничего. Почаще надо делать такие проверки. Спасибо вам, товарищи маяковцы, за критику. Передавайте и вы дома привет от нас и скажите: очень довольны все остались, особенно руководители некоторые. В том числе и председатель. Именно так! Я, товарищи, оправдываться не буду нисколько. Что недавно стал председателем — это не оправдание. Как в армии? Принимает новый командир часть, ему не дается много времени на ознакомление: через час-два, может, и в бой ее поведет. Есть немало и моих упущений. Просто, можно сказать, не сообразил, за что в первую голову надо взяться. Хоть бы и курсы, — конечно, можно было давно открыть. Также и агролаборатория. Ну ладно, хватит, а то еще начну оправдываться. А это самое последнее дело. И вам никому не советую. Не затем мы сюда собрались, чтоб нам тут накручивали гайку, а мы ее назад раскручивали. Нехай как закрутили, так и остается. Надо сказать одно: плохо работали? Плохо. Можно лучше работать, — как думаете?
— Можно, конечно!
— Дед вон говорит — нельзя только штаны через голову надеть.
— В наших руках сделать колхоз таким, как Абросим Иваныч сказал: чтоб приезжали люди к нам и учились у нас? Как вы считаете, товарищи колхозники?
— Ясно — в наших!
— А кто же придет сюда работать за нас?
— Ну, значит, всё. Приказано выполнять. По-военному — коротко и ясно. Закрывай, товарищ Елкин, собрание. А насчет Пацюка и этих наших хвостокрутов, Стороженка и Пенькова, и все остальное, что нам тут советовали, — это мы решим на следующем собрании, в воскресенье. Сейчас уже поздно, вопросы серьезные, будем спешить, скомкаем. Капитон Иваныч! Значит, мы в воскресенье к вам не приедем, будем своими делами заниматься. Дайте нам немного сроку подуправиться. Приедем после Нового года. И уж тогда держитесь! Пошлем Абросима Иваныча, Кандеева, Семена Трофимыча, и я сам приеду. Кандеев вам все болтики на сеялках проверит. Запасемся харчами, три дня будем жить, пройдем из хаты в хату… — Дядюшкин замечает под столом кепку Елкина, поднимает ее. — Покуда полную эту цилиндру недостатков не наберем — не уедем!..
Оркестр играет гопак. Как ни поздно, но по традиции всякое собрание в клубе должно закончиться танцами.
— Эх, рви кочки, ровняй бугры, держи хвост морковкой! — кричит Капитон Иванович. — Сергей! А ну-ка, покажи им!
Сергей, заломив на затылок кубанку, выходит на круг. Хуторские девчата выставляют против него доярку Ксюшу Ковалеву, рослую, сильную девушку, немного тяжеловатую, но неутомимую в танцах. Сейчас же выскакивает и вторая пара — кузнец Кандеев с Мотей Сердюковой. Начинается соревнование в ловкости, выносливости и изобретательности на всякие замысловатые коленца.
— Шире круг!
Капитон Иванович не выдерживает, вытаскивает за руку из толпы, окружившей танцоров, Настю Пацюкову и тоже пускается в пляс.
— Не горюй, Настя! Все перемелется — мука будет!
Настя, отложив расчеты с Никитой до возвращения домой, танцует, не жалея каблуков.
Дед Чмелёв, поигрывая плечами, с ухваткой старого лихача, проходит два круга с Пашей Кульковой.
— Вот это пара! — смеются колхозники.
— Самая подходящая — по характеру!
— «Страдание»! — заказывают оркестру.
— Давай «Страдание»! — кричит Сергей и переходит на замедленный темп другого танца.
«Страдание» танцуют с припевом.
начинает Ксюша Ковалева, подбоченившись, задерживаясь против Сергея.
добавляет в лад ей Сергей, разводя руками и не переставая в то же время выстукивать о пол частую дробь. Зрители — в восхищении:
— Ловко у них получается!
начинает Ксюша.
закругляет Сергей.
— Вот, брат, как у них согласно идет!
— В чем ином, а уж в танцах один другому не уступаем!
…Шофер Федя Малюк, постояв немного в кругу зрителей возле танцующих, выходит на двор к машине. На дворе всё в снегу. Тишина и легкий мороз. Буря улеглась, небо прояснилось. Горят над хутором яркие звезды. Федя обметает прихваченным в сенях клуба веником снег с капота мотора и с подножек, откидывает борт кузова — там тоже полно снегу. Очистив кузов, он достает оттуда ведро, идет к колодцу и начинает наливать поду в радиатор.
…Гремит музыка, танцует молодежь.
В углу у стены, в сторонке стоят братья Дядюшкины, один в казачьей черкеске, другой в шинели. Андрей Савельич лет на десять старше Николая, усатый, с сединой на висках. Николай выше брата, плотнее его.
— Правильно поступаешь, Коля! — говорит Андрей Савельич. — Так и дальше действуй. Главное, не давай им оправдываться. Может, чего и лишнего наши перехватили, но — ничего. Оно и неплохо. На то, говорят, и щука в море, на то и соревнование, чтоб руководители не дремали. Будешь так держать — дело пойдет.
Николай широко улыбается.
— Да думаю, что пойдет… А чего ж не пойти? Люди и у нас хорошие. У меня все ж таки план был обогнать вас. А? Конечно, не сразу, но так — годика за два…
— Что ж, час добрый…
— А деда Чмелёва мы, пожалуй, назначим заведующим мэтэфэ, — говорит Николай. — Как ты смотришь, Андрей? В бригаде ему, конечно, не под силу, — не его дело с тяпкой гнуться, — а на ферме справится. Раз человек охотится поработать, почему не так? Дед он грамотный. Ругательный, правда, немножко, ну, мы ему сделаем предупреждение.
— Можно, по-моему, на мэтэфэ. Неплохо будет. Он, если возьмется, выгонит им чертей. А главное — уж без опаски. На него молоко, говорит, не действует.
Братья смеются, поглядывая на Абросима Ивановича, гоголем прохаживающегося по кругу, на этот раз с Василисой Абраменко.
…На порожках сцены, обнявшись, отдыхают после танцев подруги — звеньевые Паша Кулькова и Фрося Петренкова.
— Приезжай, Фрося, к нам, когда ваши будут ехать. Приезжай обязательно, — говорит Паша. — Попросись, чтоб тебя послали.
— Приеду… Значит, Паша, мы опять будем с тобой соревноваться? Вот кабы нам вместе на выставку поехать!.. Ох, Паша, как же мне не хочется, чтоб у тебя в звене лучше было против нашего! Кабы у нас хоть трошечки-трошечки лучше. Или чтоб равнялись… Ты на меня не сердишься, Паша?
— Чудачка ты! — улыбается Паша и обнимает подругу.
…Дед Штанько и его кум Онисим Федорович Пшонкин, к которому он приехал в гости, — такой же дряхлый, престарелый казак, — пока длилось собрание, несколько раз исчезали из клуба. Кум жил рядом с клубом, к куму они и ходили подкрепляться. Теперь они сидят посреди зала на скамейке, наблюдают издали за танцами и ведут беседу, громко, чтоб перекричать музыку.
— Да-а!.. — говорит дед Штанько. — Видал, кум, как спорят? Кто проверяет? Сами себя — Андрюшка Савкин, Мишка Коржов… Помнишь, кум, был на мазуренковой мельнице машинист, при старом режиме, как его?
— Кудря, — подсказывает кум.
— Во-во, Кудря! Бывало, сойдемся человек несколько в кочегарку, он и начинает рассказывать. Настанет, говорит, такая жизня у нас, что не будет ни царей, ни ампираторов, всеми богатствами завладает трудящийся народ, земля будет все одно как богова, — никто не смей купить, продать. Ну, которые верили, которые не верили. И те, что верили, тоже — туда-сюда. Если, говорят, и будет такое, то не скоро. Лет, может, через тыщу. А оно вишь как обернулось! И мы с тобой, кум, дожили!
— Дожили…
Пауза.
— Ну что, кум? — предлагает Пшонкин. — Может, пока что пойдем — еще по одной?
— Да как оно тут? Успеем?..
— Успеем!
Старики, взявшись за руки, идут, нетвердо ступая, к выходу.
Следом за ними проталкивается к дверям Пацюк, грузный, лысый, с длинными запорожскими усами. Задев в толпе плечом Дронова, Пацюк сердито бросает ему:
— Все же ты, Максим Петрович, напрасно так обставил меня. Там до крыши еще три сажени. И крыша железная. Чего ей сделается?
— Не надейся, Никита Алексеич, на железо, — отвечает Дронов. — Я видел, дорогой, как и железо горит. А три сажени под хороший ветер, как днем сегодня был, ничего не составляют.
В дверях Пацюк сталкивается с бригадиром Чичкиным, выходившим на двор покурить.
— Слышь, Макар! — спрашивает Пацюк. — У тебя есть на ферме вилы?
— Есть, пять штук тройчаток и еще две новых в кладовке, — отвечает Чичкин, недоумевающе глядя на Пацюка.
— Ну, пойдем!
— Куда?
— Пойдем! — тащит его за рукав Пацюк.
Чичкин, пожимая плечами, идет за ним.
…В окна клуба падают лучи света от фар автомашины, разворачивающейся на улице.
— Поехали, товарищи! — зовет Капитон Иванович своих. — Пили, гуляли, невесту видали — пора домой.
Музыка умолкает. Все выходят на улицу. Маяковцы прощаются с хуторянами и усаживаются в машину.
— А дед Штанько где? — спохватывается Капитон Иванович. — Стой, стой, Федя! Деда потеряли. Где ж он будет? Это он у Пшонкина. Сергей, а ну-ка, смотайся за ним!
— Погоди, — останавливает Коржов Сергея. — Идут.
Со двора Пшонкина доносится песня, нестройная, пьяная. Поют двое, дребезжащими старческими голосами:
Через минуту и сами певцы показываются из-за угла. Кумовья бредут в обнимку. Пшонкин без шапки, дед Штанько волочит по снегу рушники, которыми подпоясывала его дома старуха.
— Успели, кум! — радостно восклицает дед Штанько, завидев машину.
— Успели, — отзывается Пшонкин.
выводит Штанько, Пшонкин гудит басом, без слов, невпопад.
— Та-ак! Есть один, не уберегли, — говорит Капитон Иванович.
— Ой, сыночки мои родные! — просит дед Штанько. — Вы ж меня не бросайте. Я поеду домой. Там же у меня Фросичка, Фросичка-а!..
— Ладно, ладно, не бросим, отвезем к Фросичке. Только с уговором — не танцевать в машине. В середку его. Вот сюда. Подвяжите ему воротник и держите всю дорогу за ноги. Я его знаю, он теперь пойдет буровить.
— Все? — оглядывает Капитон Иванович машину. — Раз, два, три, четыре, восемь, десять, пятнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать один… Все… Ну, пожелаем вам, товарищи, всего хорошего! Спасибо за привет, за ласку!
— Счастливого пути!
— Скажите вашему шоферу, чтоб в балке аккуратнее держал по косогору. Там теперь намело снегу.
— Вот как вам повезло! Приехали к нам летом, уезжаете зимой!
— Жить вам, товарищи, да богатеть, да спереди горбатеть! — жмет Капитон Иванович руки колхозникам, перегнувшись через борт. — Чего б вам такого пожелать на прощание? Женщинам вашим желаем — сколько в лесу пеньков, столько бы сынков, сколько на болоте кочек, столько дочек! А всем вообще — тыщу быков да пятьсот меринков, чтоб на речку шли — помыкивали, а с речки шли — выбрыкивали, да чтоб все были чищеные, хвосты целые, замытые, как у наших. Прощайте, не поминайте лихом. Ждем к себе в гости.
— Прощайте!
— Приедем обязательно.
— До свидания, Абросим Иваныч! Значит, если б та кобыла не издохла, и она б еще кой-чего добавила?
— Добавила б столько, что за ночь не переслухали!
— До свидания, мамо!
— С богом, доченька! На платок, закутай ноги Федюшке.
— Кум! А кум!.. Аким Федотыч! Пока!..
— До свиданья, сваха! Привет передавай свату Петру!
— Счастливо оставаться!..
Машина трогается, прокладывая в хуторе первый след по первому снегу. Долго блестит в темноте красный фонарик, удаляясь по шоссе…
Колхозники расходятся но домам. Возле Николая Савельича на крыльца клуба остаются только завхоз и бригадиры, ожидающие нарядов на завтра. Хорошо на улице после табачного угара в клубе. Свежо, мороз покусывает щеки. Скрипит снег под сапогами на ступеньках крыльца. Над амбарами за хутором поднимается рогатый месяц. Последние тучи сползают по небу, вниз к черному горизонту…
Дядюшкин дает наряд: сколько подвод послать завтра на станцию за горючим и за минеральными удобрениями, сколько за лесом в горы, куда направить людей — часть на амбары рушить кукурузу, часть готовить зерно на мельницу, человек трех из бригады Душкина отрядить на токи за соломой, и чтоб они же укрыли завтра хату Петренковой. Стряхнув полой шинели снег с перил крыльца, Дядюшкин пишет записку заведующему агролабораторией Матвею Спицыну, усланному не по назначению на лесозаготовки. Бутенко присвечивает ему папироской, раскуривая ее над блокнотом.
— Передашь с кем-нибудь, кто поедет в горы, — отдает Дядюшкин записку завхозу. — Пусть возвращается домой. А взамен его можно послать Юрченко.
Поговорили о погоде. Рано лег снег, надо бы в каждой бригаде заготовить еще по паре саней. Если с этого времени установится санный путь, быстро можно управиться с вывозкой леса…
— Николай Савельич! — говорит завхоз Бутенко. — А я все-таки посылал сегодня девчат в баню — прибрали там и вытопили. Должно быть, вода еще горячая, вечером топили. Может, пойдем? Неплохо бы сейчас освежиться на сон грядущий. Голова трещит!
— В баню? — улыбается Дядюшкин. — Вытопили, говоришь?.. Да, компания-то подобралась подходящая. Как раз все, кому всыпали на собрании. Так надо же и Пацюка захватить. Он больше всех пропотел сегодня. Пацюк здесь?
— Нету его, — отвечает Елкин. — Ушел.
— Он что-то спрашивал Чичкина насчет вил, — говорит бригадир Душкин. — «Вилы, спрашивает, есть у тебя на ферме?» Это они пошли сено от коровника откидывать.
— Ну-у?
— Не иначе.
— Вот задали человеку работы!
— Да что ж, ему теперь все равно нельзя являться домой, покуда Настя не перелютует.
— Это верно. Побьет опять. Черт — не баба!
— Вот, Николай Савельич, какие нынче порядки пошли, — говорит Душкин. — Муж жену побьет — судят, а жена мужа — ничего. Он же не пойдет в милицию, совестно заявлять: жинка побила. Так и проходит.
Николай Савельич не отвечает Душкину, просит у Бутенко папиросу, закуривает и вдруг, фыркнув и поперхнувшись дымом, начинает хохотать. Хохочет он до слез. На собрании ему, председателю, неудобно было смеяться, здесь он отводит душу. Глядя на него, хохочут и бригадиры.
— Вот попали в переплет!.. Ах ты ж Елкин-Палкин! Двойную фамилию дали — как графу! Теперь это, гляди, так и останется. Единственный тебе выход, Семен Трофимыч: забить их всех урожайностью, чтоб не могло быть никакого смеху… А дед! Нашел, в чем гвоздь! Как он Пацюка! При жинке, при людях!..
— Я думал, Настя кинется к нему, — говорит Душкин. — Вот бы получилась чертоскубица! Так все-таки рискованно, как дед загнул, — можно собрание сорвать.
Долго грохочет в стылом морозном воздухе густой мужской хохот.
— Так что ты предлагаешь, Иван Григорьевич? В баню? — говорит Дядюшкин, вытирая рукавом шинели слезы. — А не поздно? Оно-то не мешало бы попариться. Так надо же и белье чистое захватить? Или просто так — ополоснуться? Смеяться, пожалуй, будут маяковцы, ежели узнают? А? Это ж такой народ! Капитону Иванычу попадись только на зубы. Скажет: и после собрания все правление с председателем во главе пошло в баню.
— Да откуда ж они узнают? Ночь, кто нас тут сейчас увидит?
— Ну ладно, шут их бери! Пошли.
Замкнув двери клуба на ключ, Дядюшкин спускается с крыльца и, пересекая наискось улицу, идет, протаптывая дорожку в снегу, на хозяйственный двор, где в глубине усадьбы, за запорошенными снегом акациями, чернеет баня. Следом за ним, гуськом, идут бригадиры и Бутенко.
…Тихо в хуторе. Кое-где в хатах зажигаются огоньки. Колхозники, вернувшись с собрания, ужинают и укладываются спать. Снизу, из-за балки, от переправы, доносится песня. Поют хором много голосов. Потом песня обрывается. Слышно:
— Эге-ей!..
— Ого-го-о!..
— Дед Ива-а-ан!..
Это маяковцы, объехав хутор и спустившись к Кубани, вызывают паромщика, задремавшего на том берегу.
1940
Слепой машинист
Степь. Во все стороны далеко-далеко раскинулась земля, ровная, не покрытая ни строениями, ни лесками, ничем, кроме низкой поросли диких трав и сеяных хлебов. В сияющем небе властвует солнце, а на земле гуляет ветер, гонит волны по зеленому морю пшеницы, кружит пыль на степных дорогах.
Ветер в степи — как песня, его можно слушать часами. Днем, когда знойный воздух тяжел и неспокоен, только и слышен ветер. Все живые голоса степи покрывает он. Шумят камыши на берегах мелководной, тихо плывущей по степи речки; ветер гонит по ней зыбь против течения, кропит водяной пылью камыши; шелестят придорожные травы; однотонно звенит, качаясь, сухой бурьян на верхушках непаханых курганов. Кажется, весь мир полон невнятного шума, гудения, шелеста. Ветер обжигает лицо, сушит губы, вызывает легкую боль в ушах, оставляя на лице, руках и одежде тонкий, еле ощутимый запах полевых цветов. И лишь вечером, когда воздушный океан, омывающий землю, постепенно успокаивается, в прозрачной тишине становятся слышны и другие звуки… Где-то по дороге едет бричка, мелодично, как цимбалы, цокают колеса о тарелки осей. Далеко за перевалом пасутся отары. Оттуда доносится лай собак, окрики чабанов, детский плач ягнят. Мерно поскрипывают чигири, качающие воду на огородах у речки, и очень похоже на их певучий, протяжный скрип кричит где-то в тернах куропатка-мать, растерявшая выводок. Несмело, в одиночку, пробуют голоса лягушки на болотцах в балке. Звонко выстукивают вечернюю перекличку перепела — иной подберется к тебе по густым хлебам так близко, что даже вздрогнешь от неожиданного, громкого, внятного: «Подь полоть!»
Под каждым кустом жизнь. Голоса ее сливаются в мощный, хорошо сыгравшийся оркестр, и слышнее всех стараются в нем неутомимые скрипачи — сверчки и кузнечики.
А ранней весною и осенью с неба льется игривое, радостное, как детский смех, курлыканье журавлей, смягченное расстоянием гоготанье несметных верениц диких гусей — музыка нежная и волнующая, красивее которой нет, кажется, в природе. Кто, заслышав высоко под облаками призывно-тревожный крик улетающих птиц, не остановится, подняв голову, зачарованно глядя вслед далеким путникам?..
Много жизни в этих пустынных равнинах, называемых степью. И среди голосов живой природы, весною, летом, осенью, днем ли, ночью ли, звучит в бескрайних просторах новая, не так давно ворвавшаяся в степной хор песня — песня машин.
Нет такого уголка в наших степях, куда бы не проникли машины. Прочно и неотъемлемо, как достойные спутники всему земному, вошли они в степной пейзаж. Куда бы ни забрели вы по полям, всюду извечному журавлиному курлыканью и пению жаворонков вторит металлическая, мягко рокочущая песня моторов. Там тракторы перепахивают пар, там, закончив в одном месте работу, тянут на другой участок передвижные вагоны и инвентарь, там начинают уже косить желтеющие ранние хлеба. Стемнеет — всюду по степи загораются огоньки. Огоньки движутся, ближние — быстро, дальние — чуть заметно, порою скрываются в лощинах, опять появляются на буграх. Лязгает железо плугов и прицепов, поют моторы. К полуночи все умолкает, все спит, а тракторы поют.
Раньше самых ранних перелетных птиц появляются тракторы в степи. Еще в балках лежит снег, еще на колхозных полевых станах не видно ни души, а у степных дорог уже стоят крашеные деревянные вагоны на колесах — походное жилье трактористов. Холодно, сиверко, бьется о землю сырой, порывистый ветер. Трактористы греются в вагонах у натопленных печек; выходя наружу, в десятый раз осматривают свои машины и плуги, время от времени запускают моторы, прогревают масло — стерегут первые проблески весны, чтобы, не теряя ни часа, начинать пахать рано подсыхающую крепь и взлобки.
И осенью позже всех покидают они степь. Закончена уборка, свезено зерно с токов в амбары, скошены стебли кукурузы и подсолнухов, опустела земля, и люди ушли в станицы, а красные вагоны все стоят там же, при дорогах, обдуваемые со всех сторон ветрами. Устало ползают тракторы по краям узких серых полосок, оставшихся кое-где островками среди черных полей зяби, допахивают последние гектары. Возвращаются они в гаражи машинно-тракторных станций, когда лемеха плугов уже не лезут в почву, размытую осенними дождями. Иногда и зима застает их в степи. Ударит мороз, повернет ветер с севера, набегут тучи, и за одну ночь побелеет все вокруг. Как уходили тракторы из МТС, так и возвращаются — по снегу.
На полях одной кубанской станицы работала тракторная бригада № 5, или, по имени бригадира, бригада Степана Гайдукова. Не одна она была в станице. В каждом колхозе работало по бригаде, в некоторых и по две, а колхозов в станице было шесть. Гайдуков работал в колхозе «Завет Ленина».
Бригада его считалась в МТС средней — не из передовых и не из последних. Рулевые в ней были всякие. Были способные ребята, ставшие трактористами «по призванию», любящие свою профессию; были и такие, что поступали в свое время на курсы трактористов только потому, что если работать ездовым на лошадях — пешком придется ходить за плугом, а на тракторе — сидеть будешь целый день на пружинном сиденье, как в кресле. Да и заработок у трактористов выше.
Был в бригаде Афоня Переверзев — большой любитель «задавить волчка» в свободную минуту. Когда случался перебой в работе из-за непогоды, он мог проспать в вагончике двадцать четыре часа кряду. Сон одолевал его даже на машине, особенно в ночной смене. Часто случалось — пашет-пашет Афоня, вдруг в конце загона, где нужно поворачивать, трактор, словно норовистый конь, выскакивает из борозды и катит прямо через дорогу по целине, по тернам. Прицепщик сидит на плуге, чистит его, выбивается из сил, удивляясь, откуда взялся такой густой бурьян — чистиком не проткнешь; наконец догадывается, когда уже проедут с полкилометра, кричит:
— Тпру! Стой! Афоня! Куда мы едем?
Афоня просыпается.
— А, чтоб тебя холера задавила!.. А ты ж чего смотрел? За каким чертом сидишь там? Не мог раньше окликнуть?
Сонливость однажды чуть не стоила ему жизни. Пахал он загон у Черного яра, кончавшийся глубоким обрывом у реки. Поворачивать надо было, не доезжая метров пяти — десяти до обрыва. Монотонный гул мотора усыпил Афоню — он, поклевывая носом, проехал поворот и вскинулся, лишь когда в лицо ему ударил холодный ветер со дна яра. Еле успел выключить мотор. А глубина была метров двадцать, сорвался бы — костей не собрать… Трактор пришлось оттягивать назад другой машиной, потому что нельзя было зайти наперед, чтоб покрутить пусковую ручку, — передок висел над самой кручей. С тех пор бригадир, во избежание несчастных случаев, запретил всем трактористам пахать у Черного яра ночью, а Афоню и днем туда не посылал.
Ребята потешались над ним:
— Знаешь, Афоня, почему ты спишь на машине? Потому, что нет у тебя в мыслях ничего возвышенного. Вот если бы ты начал мечтать: выработаю за сезон тыщу гектаров, пошлют меня учиться на инженера, изобрету такой трактор, что можно в вагончике лежать и управлять по радио, а он сам будет ходить по борозде и заворачивать, где надо, — гляди, и не дремалось бы тебе… Или попробовал бы в девушку какую-нибудь влюбиться. Станешь страдать, думать о ней, и спать не захочется. А может, тебе и за девчатами лень ухаживать?
Мешковатый, вялый и угрюмый, равнодушный ко всему на свете, кроме жирного борща с бараниной и своего замасленного матраца, Афоня отвечал обычно:
— Ну вас с вашими девчатами! Не видал добра!..
Был в бригаде Дмитрий Толоконцев, верткий, хитрый парень с длинным прозвищем: «Митька-подглыбляй-директор-едет». Трактористом он работал уже не первый год и машину знал неплохо, но пахал, бывало, так: от табора поглубже, а на середине загона помельче, чтоб сэкономить горючее. Однажды, увидав, что из лощины выскочила легковая машина директора МТС и направляется через пахоту прямо к ним, он закричал прицепщику, сидевшему на плуге: «Кирюха! Опусти на одну дырку — директор едет!» — с перепугу так громко, что даже директор услышал. С тех пор Толоконцева и прозвали в бригаде: «Митька-подглыбляй-директор-едет».
Были ребята совсем молодые, лет восемнадцати — девятнадцати, беспечные, по недостатку житейского опыта не научившиеся еще ценить свою, не похожую на жизнь отцов и дедов, судьбу.
Бригада не могла похвастать безаварийностью и отличным выполнением производственных заданий. Всякое случалось. И подшипники плавили, и поршни разбивали, и не укладывались в сроки работ из-за простоя машин. Бригадир Гайдуков злился, что ему навязали такую недружную, разношерстную бригаду. Сам Гайдуков был трактористом опытным. На тракторах он работал десятый год, начинал еще с «фордзонов», до организации МТС работал в совхозе на тракторах разных марок.
Перевели Гайдукова в пятую из хорошей бригады, стахановской, державшей первенство в МТС. Он не терял надежды, что и пятую бригаду удастся вывести в передовые, но ясно представлял себе, что это нелегко. Главная трудность заключалась в том, что у некоторых трактористов не хватало не столько технических знаний — дело наживное, — сколько любви к машине.
Участок колхоза «Завет Ленина», где работала пятая бригада, прилегал к станице. Трактористы стали табором, со своей полевой кухней, керосиновыми бочками, разбросанными вокруг вагона, водовозками и прочей утварью, в километре от окраинных хат, а пахали на обе стороны: и в степь и к станице. Временами машины подходили к самым дворам — ночью, разворачиваясь, золотили лучами фар черные окна хат, будили гулом моторов спавших в хатах колхозников.
На табор из станицы прибегали ребятишки, толклись там целыми днями, просили покатать их, бегали за плугами по бороздам, выбирали из земли дикую репку, наблюдали, как трактористы разбирают машины для текущего ремонта и что делают в развороченных внутренностях тракторов. Гайдуков не разрешал ребятам болтаться под ногами, но совсем не прогонял с табора, позволял им сидеть в отдалении, за чертой, обозначенной колышками, и делать оттуда критические замечания вроде: «Опять Васька Шляпин перетянул подшипники. Будет ему беда — упарится крутить», или: «Что-то Петро дюже часто становится на профилактику — и вчера стоял и сегодня опять разбирает задний мост».
— Пусть приучаются, — говорил Гайдуков. — Будущие инженеры.
Приходил часто к трактористам пожилой колхозник с лицом, изуродованным багровыми пятнами, будто от какой-то болезни, — слепой. Приходил, держась за плечо сынишки-поводыря, говорил густым басом, поворачивая лицо туда, где слышал голоса:
— Здорово, ребята! Ну как оно?
Садился на ступеньках вагона и сидел часами, покуривая трубку, слушая, что делается вокруг него.
Первый раз он пришел, когда бригада только выехала в степь, потом пришел, когда получили два новых трактора «СТЗ-НАТИ» на гусеничном ходу. Трактористы обедали в вагоне. Один вышел и увидел: слепой сидит на корточках подле новой машины, ощупывает ее всю руками — гусеницы, передачу, отстегнул капот мотора, ощупывает карбюратор, крышку цилиндров. Парень хотел было окликнуть слепого и спросить, чего он там ворожит, но Гайдуков остановил его:
— Ладно, пусть…
Подошел к слепому, усмехнувшись, сказал:
— Осматриваешь, Матвей Поликарпыч?
— Эге, — обернулся слепой на голос. — Значит, такой же, как и те, только на гусеницах… Мотор тот же, а силы, должно быть, прибыло. Да? Ловко придумано!
Не все ребята знали историю этого человека, хотя он был их станичником. Знали только, что он старый машинист, работал на мельницах и на молотилках и ослеп давно при аварии с локомобилем. В колхозе он жил на иждивении семьи, у него были взрослые дети. Звали слепого машиниста Бородуля Матвей Поликарпович.
Когда потеплело, Бородуля стал приходить к трактористам каждый день. Приходил, садился и слушал веселый гомон рабочего дня тракторной бригады, как ребята, звеня ведрами, перебрасываясь шутками по поводу очередного происшествия с Афоней Переверзевым, заправляют машины или настраивают плуги, как запускают моторы и разъезжаются по загонам или, если ночью прошел дождь и сыро пахать, разбирают тракторы и принимаются за «профилактику». Скучно, вероятно, было старику оставаться дома, когда вся семья уходила на работу. Был он здоров, силен, а к делу ни к какому не способен. Трактористы часто звали его помочь им покрутить трактор после подтяжки подшипников. Двое молодых, не хворых ребят, взявшись за обрубок железной трубы, надетый на пусковую рукоятку, с трудом срывали ее с места и прокручивали только вполоборота, а слепой Бородуля, один, без трубы, крутил мотор вкруговую, как веялку, и еще усмехался:
— Слабо подтянули!..
Гайдуков при разборке трактора подзывал старого машиниста, давал ему ощупывать разные детали, называл их, объяснял устройство системы зажигания и коробки скоростей — новое для Бородули, чего не было в локомобилях и нефтяных моторах, на которых он работал, и тот запоминал все с одного раза. Ребята говорили:
— Матвей Поликарпыч скоро сможет сдать экзамен по теории.
Но Бородуля был понятливым не только в теории. Однажды Гайдуков уехал по каким-то делам в МТС. В его отсутствие в машине Афони Переверзева застучал мотор. Афоня пригнал трактор к вагону и, заявив, что будет подтягивать подшипники, стал спускать масло из картера. Бородуля, пришедший как раз на табор, удивился: с чего бы это в машине, недавно вышедшей из ремонта, вдруг подшипники ослабли? Он попросил Афоню завести снова мотор, долго выслушивал работу коленчатого вала, приложив гаечный ключ к уху и к чугунному телу трактора, и сказал наконец:
— Это, парень, не подшипники. У подшипников другой стук. А это дребезжит, как жестянка. Мелочь какая-то.
Он ощупал снаружи весь мотор, провернул за ремень вентилятор, покачал шкивом вентилятора на валу.
— Почему шкивок болтается? Шпонка стерлась? Ну, вот оно и есть. Вынь шпонку, оберни ее прокладкой и забей потуже — только всего.
Афоня так и сделал: забил плотно шпонку, и стук прекратился. Рулевые долго потом смеялись над ним: как ему, зрячему, слепой «причину» в машине нашел. А Гайдуков при случае говаривал какому-нибудь нескладному парню, упускавшему смазку или терявшему в борозде пробки от баков:
— Может, посадить тебе на трактор в помощники Матвея Поликарпыча, чтоб доглядел за пробками?
И жаловался Бородуле:
— Вот наделили бригадкой! Полсезона не проработали, а по запасным частям уже перерасход. Бьют, ломают, теряют! Сидит и не слышит, что у него в машине делается, и назад не обернется — как оно там пашется, может, уже и плуг потерял. Куда там с ними до первенства! Скорее заработаешь себе чего-нибудь на шею такого, что и трудодней не хватит рассчитаться.
Однажды для Гайдукова выдался особенно несчастливый день. Афоня Переверзев, по обыкновению, заснул на машине и, подъезжая к табору, наехал на другой трактор, стоявший на заправке, — на один из новеньких «СТЗ-НАТИ», — помял ему радиатор и в своей машине свернул воздухоочиститель и топливный бак. Два трактора вышли из строя на несколько дней, ремонт и новые части влетят в копеечку! И в ту же ночь Митька Толоконцев совершил поступок, который нельзя было расценить иначе, как злостный прогул.
Толоконцев не отличался, подобно сопливому и вялому Афоне, женоненавистничеством. С некоторых пор он увлекся одной девушкой из колхоза «Завет Ленина», Маврой Волковой, или, как ее звали все, Мавочкой.
Сдав смену, Митька каждый вечер уходил в станицу и возвращался на табор к утру. Так продолжалось всю весну. Потом бригада переехала дальше километра на два, и Митьке пришлось больше работать в ночной смене. И вот стал парень приспосабливаться. Лишь только трактор выйдет на край загона к станице, где на верхней улице жила Мавочка, мотор начинает капризничать, чихать, машина не тянет плуг. Митька выключает скорость, глушит мотор, объявляет, что будет его чинить, и посылает своего прицепщика на табор за каким-то ключом, необходимым для устранения неполадок. Прицепщик идет — два километра туда, два обратно. Митька, выждав, пока прицепщик удалится, спускает немного теплой воды из радиатора, умывается и уходит в другую сторону, к станице, и исчезает там в густом саду Волковых. За несколько минут до возвращения прицепщика он появляется у трактора, возится там, продувает какие-то трубочки. Прицепщик приносит ключ, Митька берет его, примеривает к первой попавшейся гайке и швыряет оземь:
— Не тот! Я ж тебе говорил — семь восьмых! Чем ты слушал?
Опять прогулка в четыре километра, еще час простоя. Прицепщик спотыкается впотьмах по бороздам. Митька сидит в саду с Мавочкой. Возвращается прицепщик без ключа, злой: нету там такого! Но Митька уже достает его из инструментального ящика и ругается притворно сердито:
— Тьфу, будь ты проклят! А он здесь был, под паклей. Как я его не заметил!
Подкрутив какую-то гайку, которая и без того достаточно плотно сидела на своем месте, заводит мотор и едет к табору сдавать смену — уже и ночь прошла, рассветает.
Раз случилось такое с его трактором, другой раз случилось, потом, в ту несчастную ночь, когда и Афоня Переверзев набедокурил, прицепщик почуял неладное (на этот раз у Митьки отказал вентиляторный ремень, потребовался новый из запасных) и, придя на табор за ремнем, разбудил бригадира и высказал ему свои подозрения. Гайдуков немедля сел на велосипед и покатил по гладкому, освещенному полной луной шоссе к станице, где стоял трактор. Митька не рассчитал времени и не успел вернуться к трактору. Как предполагал прицепщик, так и вышло: Гайдуков нашел его в саду Волковых. Вентиляторный ремень оказался в порядке, машина была на полном ходу. Пойманному с поличным парню оставалось лишь чистосердечно признаться, что и раньше поломок не было, просто хитрил. Подсчитали: часов пятнадцать за четыре ночи простоял трактор.
В довершение всего утром рулевой Роман Сорокин, разворачиваясь на шляху, зацепил плугом телеграфный столб и вывернул его «с корнем» — оборвал междугородную линию. Можно было ожидать, что и этот случай, с соответствующими карикатурами: «Берегись, столбы и заборы, — гайдуковцы едут!» — будет описан в эмтээсовской многотиражке и пойдет по тракторным бригадам людям на потеху.
Гайдуков лютовал, ходил мрачный как туча. Отправил в ремонтную мастерскую Афонины «трофеи» — искалеченный радиатор и воздухоочиститель, написал директору докладную записку о Толоконцеве. Два аварийных трактора стояли на таборе разобранными. Гайдуков на них и не глядел. Стоять им так дня три, пока в заваленной работой мастерской дойдет очередь до его заказа. А майский пар, который пахала бригада, тем временем превращался уже в июньский.
«С праздничком, Степан! — поздравлял он сам себя. — Будем теперь чухаться на этом пару до Кузьмы-Демьяна! Разве ж это трактористы? Дегтярники! Деготь бы им только возить на облезлой кляче».
…С обеда пошел дождь. Вернулись к табору и те тракторы, что пахали. Работа совсем приостановилась.
Вся бригада собралась в вагоне. Не слышно было шуток, смеха, стука костей домино и азартных возгласов игроков. Трактористы сидели тихо, удрученные свалившимися на бригаду несчастьями, и даже разговаривали друг с другом вполголоса. Сидели в вагоне и всегдашние гости бригады — слепой Бородуля со своим сынишкой, застигнутые в степи дождем. Бородуля пришел еще утром, как раз в разгар событий, когда Гайдуков разделывал в пух и в прах Афоню и Митьку.
Гайдуков сидел у окна за раскладным столиком, перебирал старое запасное магнето, чистил обгорелые контакты прерывателей. Обычно такие вынужденные перебои в работе из-за непогоды, когда останавливались все машины, он использовал для читок технической литературы — проводил с трактористами так называемый «техчас». На этот раз ему было не до занятий. Он все еще не мог успокоиться и, возясь с магнето, бормотал про себя:
— Учили дурней за государственный счет. Колхоз трудодни начислял. Пожалуйста, дорогой, учись, приобретай квалификацию. Доверили такие ценные машины!.. — Он плюнул с сердцем в раскрытое окно. — Расскажи им, Матвей Поликарпович, про свои курсы, — повернулся он вдруг к Бородуле. — Расскажи, а то им это все без понятия. Дюже легко достается…
И, пока шел дождь, барабаня по железной крыше вагона, Бородуля рассказал трактористам про свою жизнь — жизнь крестьянского парня в те времена, когда в станице не было еще МТС, не было восьмидесяти штук тракторов, сорока комбайнов, двадцати автомашин в колхозах, электростанции, средней школы, стипендий в техникумах и институтах. Слушали его внимательно. Даже Афоня не спал: или постеснялся укладываться на отдых после того, что натворил, или разогнали ему сон невеселые мысли о предстоящем взыскании за ремонт двух искалеченных тракторов.
Почему у Матвея, когда ему было еще лет двенадцать, появилось вдруг влечение к технике, он и сам не мог бы объяснить. В роду у них машинистов не было. Дед его, иногородний переселенец, шерстобит, не имел постоянного жилья, кочевал, как цыган, с Дона на Кавказ, с Кавказа в Крым. Отец осел на Кубани, построил хату, занимался сельским хозяйством на арендованной у казаков земле. Два дяди его жили в станице — один пас скот, другой валял валенки и шил сапоги. Все они, как говорится, тележного скрипу боялись, а Матюшке захотелось вдруг стать механиком.
Может быть, запала ему в душу эта страсть при мимолетных встречах с поездами, когда ездил он с отцом в город и ждали они у закрытого шлагбаума, пока пронесется впереди с ревом и грохотом окутанный дымом зеленый пассажирский паровоз, таща много вагонов-домиков на колесах. Отец Матвея был дикий человек, старовер. Когда ему понадобились для приписки к станице какие-то документы с родины, он ходил с Кубани на Черниговщину пешком, считал машины дьявольской выдумкой. При встрече с поездом он крестился и отворачивался, и Матюшку, сидевшего на возу, накрывал войлочной полстью. Но тот чертовщины не боялся. Сбросив полсть, глядел во все глаза на чудесное видение, вихрем проносившееся мимо подвод, пока последний вагон скрывался за посадкой…
Может быть, разбудил его мечты чей-то автомобиль, залетевший однажды в станицу?.. Увидал Матвей — катит по улице, рыча, железная карета, блестящая, раскрашенная, на толстых резиновых колесах, какие ему приходилось видеть только на беговых колясках местного богача, коннозаводчика есаула Земцева. Глядит Матвей и глазам не верит: где же лошади? Сама едет! И едет с такой быстротой, как ничто живое не может двигаться по земле. Только успел Матюшка поддернуть штаны, собравшись бежать ей вслед, — карета уже была на другом краю улицы, остановилась у бакалейной лавки. Народ повалил к лавке поглядеть на диковинную машину. Кинулся туда и Матюшка, но на полпути ему встретился отец и завернул палкой обратно:
— Куда? Чертогонки не видал?
Всей техники в станице в ту пору было: несколько молотилок с локомобилями у кулаков да старый нефтяной пятидесятисильный двигатель «Урсус» на вальцовой мельнице у купца Кругликова. Молотилки работали только летом и далеко в степи, на токах, а мельница — круглый год. Мельница и стала постоянным прибежищем Матвея.
Целыми днями околачивался он там в толпе станичников, лазил по мешкам, заглядывал в ковши и под помосты, на которых стояли вальцы. Но ничто не интересовало его так, как сердце всей механики — мотор. Вальцы, рушки, зерноочистки — все это он скоро рассмотрел и понял, почему оно движется: не само по себе, а от передачи. Жизнь всему дает мотор: от него тянутся во все стороны приводные ремни, как длинные руки, а к нему — ничто. Мотор работает, вращается сам. Но как же так — сам? Что движет его оттуда, изнутри? Нефть, говорят. А как? Горит и толкает? Чем? Пламенем, дымом? Эта загадочная машина все больше влекла к себе Матвея.
Проникнуть в машинное отделение было не так просто. Посторонних туда не пускали. Мальчишек, которые вертелись во дворе мельницы, надоедливо заглядывали в двери и окна кочегарки и не прочь были стянуть какую-нибудь железную штучку, машинисты гоняли, как шкодливых собак, обливали водой из пожарного шланга, ловили и драли за уши. Матвей, однако, нашел способ задобрить сердитых машинистов — их у Кругликова было два: старший, кривоногий, плешивый и грязный, как дегтярная бочка, захожалый бобыль, и его подручный, молодой парень из местных казаков.
Матвей воровал ночами арбузы на бахчах, прятал на огороде в бурьяне и таскал потом машинистам. Когда арбузный сезон кончался, приносил машинистам папиросы. Деньги на папиросы он зарабатывал танцами — плясал в мельнице перед помольщиками, за что скучающие в ожидании очереди казаки платили ему кто копейку, кто две.
За эти приношения машинисты разрешали ему вволю сидеть в углу за водяным баком, где он не мешал им, и любоваться оттуда машиной хоть с утра до вечера.
Старый «Урсус» доживал последние дни. Станина двигателя, в нескольких местах треснувшая, была вся в латках и хомутах. Цилиндр скреплен был для прочности насаженными на него толстыми железными обручами. Из всех стыков чугуна по грязному телу двигателя текли тягучие масляные слезы. Коленчатый вал, тоже стянутый в двух местах хомутами, «подсевал», маховики ходили, покачиваясь, угрожая в любую минуту аварией. Пульс двигателя — толчки отработанных газов в выхлопной трубе — был неровный: то слишком частый, то замедленный, приглушенный, с перебоями, точно старый двигатель страдал пороком сердца. Но Матвей в этих тонкостях еще не разбирался. При всех своих латках и подпорках старый «Урсус» казался ему чудом. Он часами просиживал в кочегарке, на своем законно откупленном, словно ложа в театре, месте, следя широко раскрытыми глазами за мерными взмахами шатуна, ворочавшего тяжелые маховики, за суетливой беготней блестящих шаров регулятора. Вот она, сила, что не просит ни у кого помощи, сама себя движет и движет другие машины, сотрясая все здание мельницы!..
Глядя на мотор, Матвей стал понимать, почему и та карета ехала сама, без лошадей, почему паровоз бежит по рельсам, как живое существо. И эта машина могла бы побежать. Вот только убрать фундамент, открутить все болты, удерживающие ее на месте, опустить ее пониже, чтоб коснулась маховиками земли, — и побежит. Матюшка иногда так живо представлял себе эту картину, как «Урсус», ломая дверь, выскакивает из кочегарки и катит по улице, а за ним — машинисты, перепуганный хозяин мельницы, мальчишки, собаки, что начинал громко хохотать. Машинисты переглядывались. Старик говорил молодому:
— Да он у нас, брат, вроде умом тронутый!..
Бывало, Матюшку из такого блаженного состояния выводил неожиданный удар палкой по спине. Отец!.. Убегать из дому надолго не разрешалось. Дома на нем уже лежали обязанности помощника по хозяйству. Он должен был пасти гусей и свиней, полоть огород, поливать капусту, и, если свиньи приходили домой без пастуха, если мать не могла его дозваться ни завтракать, ни обедать, отец знал уже, где его искать: шел на мельницу, крестясь и отплевываясь, переступал порог кочегарки и ловил там сына. Но это случалось редко, когда Матюшка слишком уж был погружен в свои мысли. Обычно он, уставившись на двигатель, не забывал поглядывать по временам и на входную дверь и, лишь только замечал на пороге отца, ужом проползал в мельничное отделение сквозь дыру, пробитую в стене для приводного ремня, оттуда через весовую — во двор, прятался в бурьяне, выжидал, покуда отец уходил домой, — и обратно в кочегарку.
Большой радостью было для Матвея, когда однажды старший машинист подозвал его, дал масленку и велел подлить масла в подшипники. Матвей земли под собой не чуял. А потом у них так и пошло: машинисты стали часто прибегать к его помощи — он и заправлял бак нефтью, и следил за смазкой, и воду подкачивал. При разборке ему давали паклю, заставляли мыть в керосине и вытирать разные части. Последнее было для Матвея самым интересным. Тут он узнавал названия частей и расспрашивал, для чего они приспособлены, проникал глазами и руками в «святая святых» — внутрь двигателя.
Лето и зиму проболтался Матвей на мельнице. Ему пошел четырнадцатый год. Рано возмужавший, он был рослым, плечистым парнем, смахивал на семнадцатилетнего. И вот в этом году счастье улыбнулось наконец ему. Молодого машиниста призвали на военную службу. Место его освободилось. Старик один не мог управляться возле машины, надо было кого-то брать в подручные. Выбор пал на Матвея. Старик давно уже понял, что этот вихрастый и глазастый любознательный парнишка не «тронутый» умом, а просто необычайно увлекшийся техникой. По его совету хозяин мельницы однажды позвал Матвея к себе в контору и предложил ему место ученика в кочегарке.
Отец сначала и слышать не хотел о мельнице. Лишь испробовав на спине Матвея все пригодные для вразумления средства: чересседельник, кнут, палку — причем дело доходило до того, что Матюшку откачивали водой, но на другой день упрямый парень опять убегал на мельницу, — плюнул отец, убедился, что сын испорчен безнадежно, что толку от него дома все равно не будет, и сам пошел к Кругликову договариваться насчет жалованья. Договорились: первый год бесплатно, только харчи хозяйские; начиная со второго года — по три рубля в месяц.
Так стал Матвей «механиком». Теперь уже не крадучись, а с полным правом уходил он рано утром на мельницу и возвращался домой, весь пропахший нефтяной гарью, испачканный мазутом. Познания его с каждым днем расширялись. Учитель ему попался хороший. Не боясь, что вырастит себе «конкурента», старик открывал ему капризы изношенного двигателя, учил слесарному делу. Скоро Матвей уже мог сам и пустить двигатель, и остановить его, знал, когда что нужно подмазать, подкрутить, и машинист, отправляясь в тихий уголок мельницы соснуть на мешках часок-другой, со спокойной душой оставлял на Матвея кочегарку. Это были для парня часы полного торжества… Вот он уже почти и машинист. Сам, один на один, стоит перед машиной, никто ему ничего не указывает и не подсказывает — все тут подчинено его воле, от него зависит убавить ходу маховикам или прибавить так, что затрясется даже фундамент двигателя и мирошники прибегут в кочегарку ругаться — побьешь арматуру! Самый старший, самый главный сейчас на мельнице среди множества станков, трансмиссий, шкивов — он, Матвей. Пожелай он — все остановится, все замрет, и опять по его воле все может ожить, завертеться, загрохотать. Да, машинист! Вот оно — желанное!..
Но недолго длилось его счастье. Дряхлый «Урсус» совсем состарился. Матвей не поработал учеником и года, не дотянул до первой получки. Однажды зимою двигатель забастовал, не захотел больше утруждать свои больные скрепленные множеством хомутов и подтяжек суставы и на все усилия машиниста и Матвея, раскачивавших маховики, давал лишь слабые толчки назад и плевался черной нефтью. Стали разбирать его, чтоб найти «причину», и обнаружили, между прочим, что цилиндр дал небольшую, еле заметную для глаза трещину, а зазор между поршнем и стенками цилиндра — «хоть собаку тащи», и нет смысла отливать другой поршень — цилиндр не годится. Все не годится.
Мельница закрылась. Хозяин рассчитал рабочих. Двигатель разобрали и на четырех санях отвезли в город, на склад железного лома. Матвей шел следом за санями, как за покойником, до самого ветряка на выгоне и размазывал рукавом по щекам слезы…
До весны Матвей промаялся дома, а весною сбежал. Прослышал он, что в кунцевской экономии, за восемьдесят верст до станицы, есть у пана автомобиль, такой, как заезжал однажды к ним. Там же, говорили, есть маслобойка с нефтяным мотором и еще одна редкостная машина — локомобиль-самоход, приспособленный для пахоты, движется сам по полю и десять плугов за собой тянет. Взял Матвей в узелок хлеба, вареной картошки и пошел в Кунцево. Но там ему не повезло. Механик самой интересной машины — автомобиля, надутый щеголь, державшийся наособицу среди панских батраков, ходивший в зеленой фуражке с каким-то гербом и белых перчатках, сказал, что помощники ему не нужны, как-нибудь и сам справится, посмеялся над ним — куда ему в шоферы, не его ума дело.
— Если хочешь остаться в экономии — тут вчера свинопас помер, поступай на его место.
Паровой трактор (это был на самом деле не локомобиль-самоход, а настоящий трактор, огромный, неуклюжий, три четверти силы тративший на передвижение самого себя) пан продал лесопромышленникам в Апшеронку для работ на лесопилке, рассчитав, что пахота его обходится слишком дорого. Купцы при Матвее потянули трактор со двора шестью парами волов. Спрашивал он их, не нужен ли будет подручный машиниста. Если бы взяли, пошел бы за трактором на край света. Не взяли. А маслобойка по случаю недорода подсолнуха не работала. Поглядел Матвей в щель пристроенного к маслобойке сарая: двигатель такой же «Урсус», как и тот, что у них был, должно быть, родные братья, на одном заводе сделаны, только помоложе, еще и краска на боках не обгорела…
Домой Матвей не пошел. Сбежал он, не спросясь отца. Решил он идти в город и сам еще попытать счастья. В городе больше всяких машин, и заводы есть, и железная дорога. Отец прождал его неделю и подал на розыск. Вскоре из города пришла в станичное правление бумага: найден такой, Бородуля Матвей, пятнадцати лет, содержится в участке, будет направлен по месту жительства этапным порядком, с очередной партией пересыльных. Полиция подобрала Матвея у железнодорожного депо, где он, не устроившись на работу, лежал, голодный, больной, под огромными стеклянными окнами, за которыми видны были стоявшие на ремонте в депо паровозы, сверкали ослепительные голубые молнии автогенной сварки и слышалась звонкая дробь клепальных молотков.
Вернувшись домой, Матвей с год поработал в хозяйстве. Умер отец, мать вскоре вышла замуж за другого. Отчим не имел уже над Матвеем такой власти, стал парень отбиваться от дома. В молотьбу, лишь только загудели в степи на токах молотилки и засвистали тоненькими голосами, похожими на паровозные гудки, локомобили, ушел Матвей туда и кочегарил у одного машиниста два месяца в качестве добровольного помощника, без всякой платы, за одни харчи, дозволенные хозяином молотилки, из общего батрацкого котла. Вернулся уже осенью, когда кончили молотьбу. Отчим сказал ему: «Где прошлялся лето, туда иди и в зиму кормиться». И Матвей совсем простился с домом, пошел в люди. Место нашлось — нанялся в молотобойцы к одному кузнецу. Силенки хватало, детина вырос — хоть в крючники, под десятипудовые кули. У этого кузнеца он и поселился, прожил у него три года, хорошо изучил кузнечное ремесло, не лишнее для машиниста. Работал он в кузнице зимой и весной, а летом уходил в степь, на молотьбу. Так к двадцати годам стал он самостоятельным мастером — кузнецом, слесарем и машинистом паромолотилок. Сбылась мечта Матвея…
Прежнее детски-наивное восхищение машинами теперь сменилось у него осмысленной любовью к этим лучшим помощникам человека. Сколько молотильщиков с цепами заменяет паровичок! Как ускоряет он молотьбу, самую напряженную работу, когда люди ночей не спят, торопятся убрать до дождей в сухие закрома плоды годового труда! Сколько хлеба сберегает он людям!.. С большим уважением прочитывал Матвей имена, выштампованные на медных дощечках, привинченных к топкам локомобилей и рамам молотилок, — «Генрих Ланц», «Клейтон», «Гаррет», — в простоте душевной принимая их за имена изобретателей, выдумавших эти машины. Не знал он еще, что это просто имена людей, завладевших машинами, имена хозяев всей техники, таких же, как и Кругликов, как кунцевский пан и те кулаки, у которых он работал.
Достигнутое, однако, не совсем удовлетворяло Матвея. Месяц-полтора, самое большее два, при хорошем урожае работал он машинистом, а остальное время и не видел этих своих «Клейтонов» и «Ланцев», запрятанных в сараях владельцев до будущей молотьбы.
Он женился на девушке-сироте, хату себе построил в станице, зажил собственным домом. Зарабатывал Матвей неплохо: хозяева платили ему и деньгами и зерном по уговору — такой-то пуд с умолота. Купил инструмент, кузницу свою открыл. Для жизни хватало, для души хотелось большего. Машины, на которых работал он, стали казаться ему слишком уж простыми, не оставалось в них ничего загадочного, над чем можно было поломать голову… И мысли Матвея опять обратились к городу. Теперь он смог бы там, пожалуй, устроиться — человек взрослый, имеет специальность, да не одну.
Жена немного побаивалась незнакомой городской жизни, а Матвей решил переехать, откладывал только переезд с года на год: ждал все хорошего урожая, чтоб подработать побольше на молотьбе и скопить денег для устройства на новом месте.
Но переехать не удалось.
Урожая Матвей дождался. Еще с весны угадывали старики по гусиному лёту, что будет по десяти арб снопов с десятины, а вышло и по двенадцати и по пятнадцати. И на рост был хлеб, как камыш, и на зерно очень набористый.
Но у Матвея дела сложились неудачно. Он почти все лето проболел, привязалась к нему какая-то злая лихорадка, пропустил сроки найма, когда поднялся — перед самыми жнивами — и пошел к старым хозяевам, все места уже были заняты другими машинистами. Мотнулся он по хуторам, по ближним станицам — нигде ничего, люди готовятся в степь выезжать, уже отремонтировали машины и вывозят их на тока. Оставалась только молотилка с локомобилем у одного казака, Кузьмы Романовича Тертышного. Молотилка была старая, разбитая, тарахтела, как рассохшаяся телега, и локомобиль был такой же — еле тянул машину, не держал пара. Много хлопот и мало заработка сулили эти калеки. Да и сам хозяин слыл в станице очень уж нехорошим человеком: к нему не только машинисты — несколько привилегированный народ среди сезонных рабочих, а и простые поденщики-сноповязы нанимались неохотно из-за плохих харчей и всяких придирок при расчете.
Все в хозяйстве у него было старое, изношенное: сбруя из бечевок, брички разбитые, косилки такие, что в жнива больше приходилось чинить их, чем косить. Сеял он, однако, десятин полтораста, и рабочих у него перебывало множество, как в большой экономии, потому что недолго жили.
Однажды заболел тяжело Тертышный. Был он старик худой, желтый, с хищным крючковатым носом, ходил тихо, склонив голову набок, будто прислушиваясь к хрипам и стукам в груди (болел сердцем), все хватался за бок и потягивал какое-то лекарство из бутылочки, которую носил при себе. И вот придавило его, слег и не думал уж подняться, отсоборовался, приготовился помирать. Велел он оповестить станичников: все, кто имеет на него обиду, пусть приходят — возместит вдвойне. На другой день во дворе Тертышного собралась целая толпа бывших его годовых и поденных рабочих. Выслал он к людям сыновей, те опросили каждого, кто на что жалуется. Жаловались все: один вспоминал, как у него Кузьма Романович удержал при расчете пятнадцать рублей за поломанное бричечное колесо, а колесо было такое, что еще десять лет назад пришло время рассыпаться; другому, нанимавшемуся не за деньги, а за харчи и «справу», старик вместо обещанных по уговору новых сапог дал рваные опорки; третьего просто выгнал в середине срока, не уплатив ни гроша, за то, что работник назвал похлебку, которой кормили рабочих, свинячьим пойлом. Всех обид вышло тысяч на пять, а вдвойне, как обещал испугавшийся смерти старик, на десять. В доме поднялось смятение. Бабы выли:
— Разоряете нас, батюшка! Вам помирать, а нам жить!
Сыновья стали уговаривать отца повременить с расчетом. Но тот уж и сам одумался. Пока оповещали народ, пока опрашивали сыновья людей, ему полегчало, отлегла боль, стало свободнее дышать и даже есть захотелось. Распорядился он, чтоб поставили людям ведро водки за его здоровье, — тем дело и кончилось. После он жил еще лет десять, ходил, задыхаясь, хрипел, как удавленник, заглядывал во все углы и в горшки — не переложили ли бабы в варево лишней ложки смальца на заправку?..
Поговаривали, что Тертышный, рядовой казак, разбогател не от хозяйства. Он отбывал действительную службу в городе Нахичевани на Кавказе. Там ему случилось спасти тонувшего в Араксе турка. Турок оказался ювелиром, владельцем магазина. Они покунались. Тертышный стал ходить в гости к своему приятелю, и однажды турка нашли задушенным в магазине, возле взломанных витрин с золотыми и серебряными вещами. Казаки, служившие с Тертышным, подозревали его, потому что, вернувшись домой, он сразу начал покупать скот и заарендовал большой участок земли. Но дело было давнее, недоказанное, и эти слухи не мешали Тертышному на склоне лет исполнять две почетные должности в станице — церковного старосты и члена выборного суда.
Вот у этого Кузьмы Романовича Тертышного и оставалось еще не занятое место машиниста. Матвей пошел к нему, осмотрел молотилку и локомобиль: старье, как и все на его дворе. Локомобиль очень был похож на тот первый мельничный двигатель, молотилка и того хуже — дерево в скрепах сгнило, бока покоробились, решета перекосились. Другой на месте Матвея плюнул бы и ушел, но он, не имея возможности строить новые машины, как ему мечталось, находил удовольствие в том, что восстанавливал, возвращал снова жизнь такому отработавшему свой век старому хламу. Осмотрел он все до последнего винтика и решил, что, если приложить руки, можно еще сезон помолотить. Нанялся и тут же, не уходя домой, принялся за ремонт.
Дни и ночи возился Матвей с машинами, торопясь отремонтировать их к началу молотьбы. Когда он кончал уже ремонт, в станицу приехал из города инспектор по котлам — маленький, сердитый, неразговорчивый человек в форменной фуражке с молоточками на околыше. Были и в то время государственные инспектора по надзору за паровыми установками — для предупреждения несчастных случаев с этими опасными в неумелых руках деревенских доморощенных «механиков» машинами. Инспектор обошел всех владельцев паромолотилок в станице — кому выдал разрешение на работу, кому запретил пускать локомобили в ход. Пришел он и к Тертышному. Молотилка его не интересовала, он осмотрел локомобиль, поглядел, качая головой и посвистывая, на латки, остукал, как доктор больного, изъеденные ржавчиной и окисью стенки котла, спросил, в каком году куплена машина, и даже не стал испытывать давлением, сказал коротко:
— Дерьмо. На свалку.
Положив портфель на колесо локомобиля, начал писать акт, а Матвею велел приготовить сверло — по закону инспектор, обнаружив, что котел ненадежен, должен был тут же привести его в полную негодность, чтоб хозяин, невзирая на запрещение, не пустил его самовольно в работу.
Тертышный схватился за сердце.
— Сынок! (Он всех называл сынками по праву возраста). Что же ты делаешь? Режешь меня без ножа! Чем же я буду молотить? Хлебец-то какой уродил! Когда его катками перебьешь! Погниет!..
— А это дело не мое, — ответил инспектор, продолжая писать. — Купи другой локомобиль. Вон у Мартовицкого на складе сколько угодно. Новенькие.
— Шутишь, сынок?! Купи! — задыхался Тертышный, зевая беззубым ртом, как рыба на суше. — А денег дашь? Откуда ж взять капиталу, когда хлеб еще не молоченный?
Инспектор все же не дописал акта. Старик уволок страшного гостя в дом. Поднялась суматоха. Бабы заметались по двору. Невестки резали кур и гусей, сыновья побежали в лавку за вином. Матвей бросил приготовленные сверла, ожидая, что будет дальше.
Выбрался инспектор от Тертышного только к утру. Гуляли всю ночь. Старик и в тачанку наложил всяких узелков, оклунков. Какой написал акт инспектор и написал ли, Матвею не было известно. Он даже и не поговорил с Матвеем — машинистом, которому предстояло работать на локомобиле. Старик, выпроводив гостя, объяснил ему происшедшее:
— Ублаготворил! Валяй смело! Это, сынок, знаешь какой народ? Все у Мартовицкого на услужении. Для него стараются. Жулики!.. Признался: «Будешь, говорит, еще десять лет молотить. Эти старые машины, говорит, крепче теперешних, нового выпуска».
История с инспектором заставила Матвея призадуматься. Знал он, что бывает, конечно, и так, как говорил старик. Инспектора работают и нашим и вашим: получая взятки от торговых компаний, выбраковывают годные еще локомобили, чтобы на складах веселее шла торговля… Отказаться? Пропадет год, тот самый урожайный год, которого он долго ждал. Тертышный, заметив колебания машиниста, набавил ему полсотни рублей. Матвей остался. Но договорились: молотить только свое, на сторону не наниматься. Через несколько дней и молотьба началась.
Искусно подлеченные Матвеем молотилка и паровик работали неплохо, остановок почти не было; погода стояла хорошая, дело быстро подвигалось. Матвей наметил себе на манометре предельную черту давления ниже обычной красной метки и зорко следил за стрелкой. Хозяин, однако, держался подальше от локомобиля. Он слонялся по току, удушливо хрипя, поторапливал рабочих у элеваторной подачи, наблюдал, как кладут скирды, но к локомобилю за всю молотьбу ни разу не подошел и, видимо, всем своим домашним приказал держаться подальше от него.
Помолотили с месяц. Стали перепадать дожди. Но работа уже подходила к концу. Матвей спрашивал рабочих, возивших с поля снопы: много ли осталось? Отвечали — дней на пять, в другой раз — дня на два, наконец ответили:
— Сегодня подберем! Кончаем!
Ну и хорошо — обошлось благополучно. Матвей виду не подавал, как он переволновался за этот месяц, а у самого душа вся истлела от постоянной тревоги за котел. Потом в тот день, когда говорили — конец, появились вдруг у молотилки новые люди, хлеб подвозили беспрерывно, но уже не те лошади, не те подводчики, не Тертышного работники. Матвей, занятый у локомобиля, не заметил, когда произошла эта перемена. Глянул — уже другие молотильщики; узнал людей — мужики с хутора Калюжного. Нарушил-таки хозяин уговор, подрядился молотить на сторону, не спросясь его. Соблазнило Тертышного то, что можно было, пользуясь случаем, сорвать какой угодно отмер. Пошли дожди, люди отдавали за машину шестой, пятый и даже четвертый пуд — четверть урожая, лишь бы только спасти хлеб.
Рассердился Матвей, поругался с хозяином, пригрозил бросить машину, но не бросил… Поработали еще недели две, кончили и нанялись еще смолотить пятьдесят десятин на хутор Родниковский. Тут уж хозяин сначала подмагарычил Матвея. Затеяли в воскресенье гульбище с родниковцами, привезли на ток водки, пива, позвали Матвея и напоили его так, что он еще и на другой день, устанавливая машину на новом месте, нетвердо держался на ногах.
Там, на Родниковском хуторе, и случилось несчастье… Работа пошла хуже. Растрепавшаяся молотилка с трудом перерабатывала мокрый хлеб, часто ломались решета, забивался барабан, срывало бичи — больше стояли, чем молотили. Локомобиль, отмахавший своим шатуном столько, сколько в иные годы, при худшем урожае, не досталось бы ему отмахать и за три сезона, расстроился, парил из всех клапанов, как распаявшийся самовар, угрожающе стучал подшипниками, из последних сил тянул молотилку и наконец отказал совсем, да так отказал, что одни колеса от него остались…
В тот день на рассвете как-то зловеще, с завыванием, гудел огонь в топке. Матвей подумал суеверно — быть беде. И потом пошло. Только пустили машину, одна баба на полке зазевалась, втянуло ее за юбку в барабан — еле успел Матвей притормозить: вытащили чуть живую, но больше от страха, чем от увечья, руку только помяло. В обед сорвался со шкива ремень и так хлестнул Матвея по боку, что он полчаса лежал на земле, приходя в чувство. А вечером, когда Матвей дал уже свисток — предупреждение, чтоб подбирали вокруг машины, сильный взрыв потряс вдруг землю, мажары, стоявшие на току, молотилку. Локомобиль подпрыгнул, сорвавшись с укрепов, окутался паром. Разорвало котел…
Матвей в момент взрыва перегребал жар в топке. Только он один и был возле локомобиля, больше никто не пострадал. Он не успел отскочить. Из развороченного котла хлынула вода в топку. Струя пара ударила в лицо, в грудь, он схватился руками за лицо и упал ничком на землю…
Старик Тертышный сам отвез Матвея в больницу на тачанке. Всю дорогу он охал и стонал пуще Матвея, испугавшись, как бы не пришлось отвечать за случившееся.
— Ох ты ж, господи, твоя воля! Несчастье какое! Кто же его знал! Вот как пришлось!.. Сынок! — хрипел он на ухо Матвею, придерживая на коленях его голову с наложенной на лицо мокрой тряпкой. — Как перед истинным богом: в случае чего — за семью не тревожься. Мой грех, сознаю. Что заработал у меня, заплачу вдвое, буду помогать, пенсию назначу от себя. Вот те крест!..
Два месяца пролежал Матвей в больнице. Ожоги на теле были тяжелые, сплошные волдыри, мог бы и помереть, будь слабее здоровьем. Когда сняли повязку с его лица, с пустых, прикрытых распухшими веками, загноившихся дыр на месте глаз, жена, пришедшая за ним в больницу, заголосила, как по мертвому…
Отлежавшись дома, Матвей отправился к хозяину за расчетом. К тому времени первый испуг у Тертышного прошел. Он уже обдумал, как вывернуться в случае какой-нибудь неприятности, и перед богом, должно быть, замолил грех, поставив свечку потолще, что ему, как церковному старосте, недорого стоило. Свидетелей при том, как и что обещал он Матвею, везя в больницу, не было. Уплатил он ему не вдвойне, а ровно столько, сколько причиталось, еще и удержал двадцать пять рублей и мешок пшеницы, выданные в начале молотьбы авансом.
Люди посоветовали Матвею подать на Тертышного в суд. Но чего добьешься, если Тертышный сам состоял в станичных судьях, был близок к властям?.. Все-таки Матвей решил испробовать — подал в другой суд, при отдельском правлении. Тертышный вызвал из города того самого инспектора, что приезжал перед молотьбой. Инспектор осмотрел останки локомобиля и составил акт, что взрыв произошел по вине машиниста, по недосмотру за давлением пара. С этим актом Тертышный и явился в отдел. Не высудил Матвей ничего. Не удовлетворившись первым решением, он хотел подавать выше, на пересмотр. Тертышный, услыхав, что бывший его машинист не успокоился, пришел к нему и предложил сто рублей, чтобы кончить полюбовно.
— Брось, сынок, тягаться со мною, — сказал он откровенно, — беды только наживешь себе. Не выйдет по-твоему, нет у тебя никаких доказательств, одни голые слова. Я эти судейские порядки, будь они неладны, знаю. А вот если я подам на тебя, что загубил машину, — подтверждение имеется. Хуже будет. Могут такого припаять, что и хаты лишишься.
На том и помирились.
Ослеп Матвей двадцати пяти лет. Было у него уже трое детей. Проели сначала то, что заработал он у Тертышного, потом инструмент кузнечный, потом жене пришлось идти внаймы, а Матвей оставался с детьми за няньку. Но он и в няньки не годился. Однажды разжег огонь в печке, хотел сварить детям кашу, маленькая дочка подошла к печке, стала там играть и вдруг закричала — занялся подол платьица. Матвей кинулся на голос, а она отскочила к порогу. Покуда искал он ее по хате, натыкаясь на сундуки и скамейки, на ней уж обгорело платье, волосы на голове, вся кожа вздулась пузырем. Не дожила до вечера. Пришла мать со степи — в доме покойник. Не то горевать, не то радоваться, что одним ртом стало меньше. Есть страшная пословица, сложенная в старое время бедняками: хороши ягоды с проборцем, а дети с проморцем… Приходилось Матвею и «Лазаря петь» на ярмарках.
…Говорят: если шахтера привалит породой в забое и спасут его, навсегда остается у него страх перед подземельем. Человек, которому приходилось тонуть, ненавидит потом всю жизнь море. Нет, не осталось у Матвея злобы на машину. Машина была не виновата.
В революцию, когда выбирали ревком, делили кулацкую землю, слепой Матвей ходил по станице как живое напоминание о неоплатных долгах старых хозяев, выступал на собраниях, говорил:
— Мало лишить их земли! Куда-нибудь в море их, на остров, и еды им не давать, пусть сами себя пожирают!..
При советской власти ему, нищему, жене его, иногородней батрачке, и детям дали в казачьей станице пятнадцать десятин земли. С этого он и пошел жить. Раз посеял исполу — отдал в аренду соседям десять десятин за то, что те посеяли и убрали ему остальные пять, потом купил за хлеб лошадь, жена сама с подросшими старшими детьми стала обрабатывать часть надела. Детей у них родилось еще двое. Потом вступили в колхоз.
Когда в соседней станице организовалась МТС, он ходил «осматривать» первые тракторы. На голой площади строили гаражи и мастерские. Были среди рабочих МТС знакомые Матвея — старые машинисты паромолотилок. Они водили его туда, где трактористы обкатывали только что сгруженные с железнодорожных платформ тракторы. Матвей ощупывал новые машины, его подводили к плугам невиданных размеров и тракторным сеялкам. Так же, на ощупь, знакомился он и с комбайнами. И, может быть, никому не были так близки и понятны, как ему, замыслы партии: наводнить станицы машинами, дать их в руки людей, не имевших никогда и простенькой лобогрейки, пустить их всюду по земле, чтоб перепахали они до материка старую жизнь!..
Один сын его стал учителем, старшая дочь — зоотехник. Дети живут при нем, кормят его, одевают. Нужды ни в чем не терпит. А тяжело, скучно старику…
Вот приходит он в бригаду, сидит здесь днями. Бывает, сойдутся на таборе все тракторы, пять тридцатисильных машин, загудят так, что земля дрожит под ними. Можно ли равнодушно слушать их? Видят ребята — сидит старик, посасывает трубку, и на слепом невыразительном лице его нельзя прочесть ни радости, ни печали; и не знают они, что с ним делается в такие минуты. А у него этот гул отдается в самом сердце. Плакал бы и смеялся, если б мог, и шел бы неизвестно куда, обнял бы всю землю, на которой работают эти чудесные машины, и людей, которые сделали их и прислали сюда…
Кончил рассказывать слепой, и дождь перестал.
Степь, омытая бурным летним дождем, — какая красота! Вокруг вагона, стоявшего на широком столбовом шляху, горели холодные огни заката. В одной стороне небо очистилось, там засияло большое красное, уходящее за курганы солнце, в другой — сбились к горизонту, изредка отстреливаясь далекими беззвучными молниями, черные тучи. На мокрой траве, на каменной бабе, выкопанной кем-то из кургана и поставленной у дороги, на окрайках разорванных туч — на всем багряные брызги, кровь солнца. Медные телеграфные провода на столбах, колеблемые ветром, вспыхивают, точно расплавленные. Странный свет, быстро гаснущий, как зарево затухающего пожара, падает на землю. И там, в той стороне, где тучи, — все новое, живое, молодое. Трава зеленая-зеленая; одинокий тополь, выросший из пушинки, занесенной ветром в степь, красуется, словно вырисованный на туче тончайшей кистью, — виден каждый листик, белый, чистый, серебряная роспись на черном бархате.
Ребята повалили из душного вагона, пропахшего керосином, на воздух. Захлюпала мокрая земля под сапогами… Пока рассказывал Бородуля, все слушали его в угрюмом молчании. Теперь, любуясь чудной игрой красок в небе — багровых, золотистых, оранжевых, любуясь степью, с детства знакомой, но сегодня особенно хорошей, помолодевшей, освеженной дождем, не один подумал про себя: «И этого не видит старик…»
За перевалом, далеко, гудели тракторы.
Кто-то, слушая далекое урчанье моторов, сказал:
— Там пашут. Должно быть, дождь не захватил их, стороною прошел…
Трактористы расселись на ступеньках вагона, курили, пряча по степной привычке огонь в кулак, чтобы ветер не разносил искры, разговаривали вполголоса, точно боясь нарушить очарование угасающего вечера и помешать мыслям молчавших, думавших что-то свое. Двое негромко затянули песню и оборвали на половине. Слепой, постояв немного в дверях вагона, сошел по ступенькам на землю, подозвал поводыря-сына. Поводырями у него были посменно младшие из сыновей. Один вырастал — другой заменял его.
Роман Сорокин, тракторист неплохой, парень не из равнодушных, способный, серьезный, по нечаянности лишь сваливший сегодня телеграфный столб, проговорил, задумчиво усмехнувшись, как бы отвечая на рассказ слепого машиниста:
— А в колхозе «Коммунар» был случай. Посылали одного чудака на курсы, Гришку Рябовола, а он им отвечает, правлению: «Что вы мне предлагаете — трактор? Это дело уже устарелое — тыр-тыр, пять километров в час. И девчата уже на трактористов не заглядываются — не в диковину. В мазуте всегда, как черт. Посылайте на шофера — согласен. Только чтоб стипендия была двести рублей в месяц». Так его и послали водовозом на свиноферму, дали ему быков самых ленивых, таких, что еле с ноги на ногу переступают, чтоб не дюже поспешал.
Все рассмеялись.
— Правильно сделали.
— Пять километров! А как же он хотел пахать, — вставил слово Афоня Переверзев, — как автомашина бегает? Так при такой скорости…
— Не управишься и руля поворачивать, — перехватил Митька Толоконцев. — До разу в Черном яру очутишься…
— А ты помолчи, Мавочка! — озлился Афоня. — Я не про то говорю. При такой скорости лемеха не выдержат, сгорят. Это же не просто ехать по гладкой дорожке, а землю ковырять. Земля — она тяжелая. На тихом ходу и то нагревается лемех — аж шипит, когда плюнешь на него.
Ветер, бунтовавший над степью, когда шел дождь, не унимался до сих пор — хороший, прохладный западный ветер. Заря горела, предвещая на завтра бурю.
— Я, братцы, и сам не рад, — вдруг жалобно взмолился Афоня. — Что это такое со мной? Покуда с перебоями машина идет — ничего, как пойдет ровно — хоть убей, спать хочется, не раздерешь глаза.
— Это у тебя, Афоня, хвороба такая. Застой крови, — отозвался Павло Савчук, украинец из демобилизованных красноармейцев, переселившийся в тридцать втором году на Кубань, самый старый член бригады, один из тех лучших рулевых, благодаря которым бригада при всех ее неурядицах держалась все же на уровне средних. — Лечиться треба. Холодные ванны принимать утром и вечером. Верно говорю. Наилучшее средство. Или переливание крови надо сделать. Тебе от Митьки перелить трошки, а твоей крови с горшочек Митьке для успокоения — как раз обоим и поможется…
Посмеялись и опять замолчали задумчиво.
— Так, говорит Гришка, устарели? Когда же они успели устареть? Вот дуросвет! Это уже значит — парень с жиру сбесился… И скажи — чего они лезут в шофера? Гонять по улицам, собак давить! Я б свою должность никогда на шофера не сменял. Тракторист — это фигура историческая, — продолжал Савчук. — Кто вызволял колхозы из прорыва в те годы, когда тут сорняки были выше радиатора? Трактористы. Кто больше всех положил труда на колхозной земле? Трактористы. А досталось нам, як тому куцему на перелазе!.. Приехали мы сюда в начале коллективизации: дело неустроенное, непорядки, вагончиков нема, спали на голой земле до снегу. Насгребаешь мерзлого бурьяна, польешь его керосином, перегорит, ляжешь пузом на горячую золу и греешься, пузо отогреваешь — на спину, так и переворачиваешься всю ночь, как котлета на сковороде… А работали как! Гоняют тебя, как соленого зайца, по всем колхозам: где прорыв, туда и посылают на буксир брать. Осенью пойдешь за расчетом — в одном колхозе говорят: «А мы не помним, чи работал ты у нас, чи не работал, у нас за лето столько трактористов перебыло, что и счет потеряли». Доказываешь: «Да как же ж не работал? Пятьдесят гектаров вспахал на толоке!» — «Так то, говорят, не наша земля, то «Ударника» земля». Вот туда, к чертовой матери! Они уже и землю свою растеряли! В другом колхозе счетовод, кулацкая морда, сбежал, и ведомостей не найдут, не по чем рассчитываться. Такое зло возьмет! Работал, работал год — пропало все. Думаешь: ну, брошу, хай ему черт! Пойду конюхом в бригаду, буду там как и все, абы день до вечера, чтоб палочку записали. А потом заглянешь в мэтэес, увидишь там свой трактор — жалко станет. Кто тебя, сердягу, будет доглядать? В чьи руки попадешь? Чи будут тебя мыть, чистить, маслица вовремя подливать, чи занехают, как ту цыганову кобылу, искалечат? Нет, давай еще, друже, поработаем годок, к тому идет, что получшает дело. А которые бросали. Разные были и трактористы. Прямо на степи, никому ничего не скажет, бросает машину и уходит. Пашешь-пашешь, вдруг — стоит в бурьяне трактор, с плугом, без людей, земли ветром скрозь надуло, и щерица уже на крыльях поросла. Давай его выручать. Находка! Было пять машин в бригаде, стало шесть. Да-а… Про нас, хлопцы, про первых трактористов, еще книжки напишут, как мы тут воевали!
— Столбы валяли… — добавил кто-то.
— Да и не без того. А как ты хотел? Это Роману сегодня пришлось, как тому чумаку — ехал по степи, зацепился возом за верстовой столб и лается: «Так и не люблю ж этой проклятой тесноты! Понатыкали, чертовы души, столбов — проехать негде!..» Нет, про Романа вы, хлопцы, бросьте! Роман умеет не только столбы валять. Он когда был моим напарником, так мы с ним по полтораста гектаров в сутки бороновали. Вы у него спытайте, как он, — в котором это году, Роман, в тридцать пятом? — подсолнухи косил комбайном в «Парижской коммуне» по снегу. Снег в колено, все думали уже — пропал подсолнух, а он выехал косить. Я шел с хутора Марчихина, слухаю: что оно такое — гомон идет по степи? А то Роман выгребает лопатой снег из-под трактора да крещет ихнего председателя, аж искры сыплются. Подошел, спрашиваю: «За что ты его так?» — «Да как же ж, говорит, не лаять его, сукиного сына! Хитровал все, не хотел комбайном косить, чтобы меньше платить натуроплаты: «Уберем, говорит, вручную», — да и дотянул до зимы. А теперь чувствует, что виноватый перед нами, так поддабривается, накормил борщом — самое сало да мясо, такой жирный, ложкой не повернешь, болит живот, спасу нет, а тут раз за разом вставай да нагибайся, лезь под машину на карачках». Да как завернет в сорок святых, я аж злякался. Никогда не слыхал, чтоб он так страшно лаялся. Три метра пройдет машина — сугроб снегу перед радиатором. А все же спас их, гектаров с сотню, подсолнухов. Нет, Роман — этот знает, почем фунт лиха.
— А помнишь, Павло, — сказал повеселевший Гайдуков, — как нас у Черкесского леса банда обстреляла?
— Эге! Это ж когда было — в тридцать втором. Как на позиции! Подлезли балкой и открыли стрельбу из централок по табору. Федька Камарницкий с переляку в бочку залез, — была у нас бочка железная, негожая, с дыркою, — туда сгоряча пролез, а обратно не может, так и пришлось его везти в мэтэес, а там разрезали кислородом… Мне в магнето картечину влепили…
— Поймали их? — спросил кто-то.
— Поймали, после, — ответил Гайдуков. — Трое их было: Антон Селиверстов, тот, что в коллективизацию председателя стансовета зарубил топором, и кулаки Фомичевы, от высылки спасались. Пустили облаву по лесу: Селиверстова подстрелили, а тех живьем взяли. Они не раз такие нападения на трактористов делали. Всем бригадам приказ был от дирекции: иметь при себе какое ни есть оружие. Ночью часовых выставляли.
Прощаясь со слепым машинистом, пожимая ему руку, Гайдуков сказал:
— Ходить бы тебе, Матвей Поликарпыч, всюду по бригадам и рассказывать это, чтобы не забывали!..
…Небо на западе меняло цвет, как остывающее раскаленное железо, вынутое из горна.
— Давайте, товарищи, пока видно, приготовим машины на завтра, — сказал Гайдуков. — Может, за ночь просушит ветерком, и тронемся рано. Заряжай! — подал он команду, словно командир батареи.
Трактористы, дотягивая папиросы, шумно поднялись, пошли к машинам. Афоня Переверзев с необычайным для него проворством вскочил, затоптал в грязь только что закуренную, толстую, как собачья нога, цигарку и первым захватил место в очереди у заправочного насоса, но вдруг вспомнил, что заправлять ему нечего — машина стоит разбитая, — неловко, боком, выдвинулся в сторону и побрел обратно к вагону. Ребята засмеялись.
Над степью низко, со свистом пролетела стая чирков, возвращавшаяся с кормежки на тихие камышовые болотца. Все подняли головы вверх, хотя в потемневшем небе уже нельзя было разглядеть быстрых, как камни, пущенные из рогатки, птиц. Далеко в стороне слышалась знакомая песня машин — чья-то бригада уже выехала на ночную работу. А еще дальше, на черном горизонте, откуда не доносился звук моторов, было видно — зажглись ползающие светлячки-огоньки. В небе — звезды, и на земле, словно их отражение, — движущиеся мерцающие звездочки.
1940
У братской могилы
В этот хутор, на берегу речки Каменки, части Красной Армии вошли после пятидневных тяжелых боев. Маленький хуторок стоил больших жертв. Жители хутора похоронили в братской могиле, в центре, против правления колхоза, на самом видном высоком пригорке, восемнадцать человек — лейтенанта и семнадцать бойцов. Тогда, на похоронах, кто-то из хуторян дал обещание над свежей могилой: как бы ни расцвела хорошо жизнь в будущем, как бы легко и беззаботно ни было на душе у живых — никогда не забывать спящих в земле на зеленом пригорке, над речкой Каменкой.
И вот накануне второй годовщины освобождения хутора, как и в прошлом году под этот день, как и Первого мая, как и в День Победы, председатель колхоза распорядился выставить почетный караул из лучших стахановцев к братской могиле.
…Первым полагалось стать в почетный караул самому председателю колхоза, партизану, орденоносцу Степану Гринчаку, но так как следующей по списку трактористке Наде Козубенко нужно было идти в бригаду и заступать на трактор в ночную смену и у него самого еще не все было распланировано в конторе с бригадирами на завтра, то он поставил первой на один час с вечера Козубенко.
Они пришли к могиле вдвоем: Гринчак — узкоплечий, с запавшей грудью, сутуловатый высокий мужчина средних лет. Надя — низенькая, полная, круглолицая молоденькая девушка. Выправкой не блистали оба, шли не в ногу — Гринчак в армии не служил никогда, а в партизанском отряде строевой подготовкой у них не занимались.
— Стой! — скомандовал вполголоса Гринчак. — Отойди немного дальше, на угол. Так… Повернись лицом к хутору. Так… Значит, постоишь, Надя, а через час я приду со сменой. Так…
Постояв минуту у памятника, не зная, что еще сказать часовому, Гринчак неловко, с винтовкой на плече, повернулся кругом и пошел через площадь к правлению колхоза.
Надя осталась у могилы одна. Вечерело. Солнце закатилось в синюю тучу на западе и вместе с нею уходило за горизонт. На темной воде реки под крутым берегом, обрыв которого начинался в нескольких метрах от братской могилы, всплескивала играющая в последних бликах вечерней зари рыба. По другую сторону памятника, сложенного в виде обелиска из серого дикого камня, простиралась широкая площадь. За нею виднелся хутор, одна улица, хаты направо и налево, силосная башня с высоким громоотводом на крыше, колодец с журавлем на колхозном дворе. Кое-где в хатах уже зажигались огоньки. Было тихо так, как бывает только на хуторе, окруженном на десятки километров безлюдной степью, где каждый одиноко родившийся звук — стон кулика на речке, свист крыльев пролетавшей над землею стайки диких уток, сонный лай собаки, скрип ворота колодца, где-то на выгоне за селением, — совсем, кажется, не нарушает безмолвия, а, бесследно теряясь в пространстве, лишь оттеняет собою широту и глубь земного мира.
«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»
В сумерках уже нельзя было разобрать высеченные на камне под этими словами имена, но Надя знала их на память.
Она повернулась лицом к могиле.
— Витя! Панас! Товарищ лейтенант! — проговорила Надя тихо. — С праздником вас.
Ей ответил лишь кулик под кручей на речке, да где-то далеко за хутором в степи послышался окрик пастуха, погнавшего волов на пастбище в ночь: «Гей! Гей!»…
…Это было два года тому назад. Когда фашисты задержались у полустанка и стянули туда все силы, в хуторе несколько дней совсем не видно было войск. Бои шли и справа и слева, особенно сильно гудело и сверкало по ночам у большой дороги, километрах в десяти от хутора, через головы хуторян пролетали снаряды с той и другой стороны, иногда проносились по улице гитлеровские танки и броневики, но не останавливались здесь. Хутор очутился, как говорят военные, в «нейтральной зоне».
И вот однажды ночью в окно тихо постучали. В хутор вошла разведка — лейтенант и человек десять бойцов. Потом лейтенант половину своих разведчиков отослал куда-то, а сам остался здесь с пятью бойцами. Видимо, он должен был продолжать наблюдения отсюда за движением немцев по большой дороге или получил приказ удержать хутор и не дать немцам его уничтожить в случае, если сюда наскочит небольшая группа поджигателей.
Разведчики жили в их хате. Хата стояла на окраине хутора, на бугре. Отсюда хорошо было видно во все стороны. Один из разведчиков дежурил все время на крыше, остальные сидели в хате в постоянной готовности принять бой в случае появления немцев. Надина мать предлагала постирать им белье и верхнее обмундирование, они отказывались. «Мы, мамаша, — говорил лейтенант, пожилой человек, уралец, бывший учитель, — можем всякую минуту так рвануть отсюда вперед, километров на сорок за день, что и гимнастерки не успеют просохнуть. Вот как собьют фрицев у полустанка, так и пойдем». Отказывались они от мягких перин и подушек в чистых наволочках, видимо боясь загрязнить их, и спали по очереди, не раздеваясь, на соломе, застланной плащ-палатками. Они давно оторвались от своей части и не имели запаса продуктов с собой, и единственное, от чего не отказывались, — от молока, вареников и борща со свежей капустой.
Среди разведчиков были два закадычных друга — украинцы Панас Недосека и Микола Передерий. И третий крепко запомнился Наде — Виктор Толоконников. Все были молодые, веселые ребята. Толоконников был донской казак, первое время войны служил в коннице, а после ранения под Ростовом отбился от своей казачьей части, попал в пехоту и все горевал по кавалерии. Он носил не пилотку, а черную каракулевую шапку-кубанку с ярко-красным суконным верхом, и когда выходили из хаты во двор, а в это время, случалось, где-то высоко под облаками пролетали немецкие самолеты, то боец Передерий кричал на него: «Эй, казак! Замаскируйся, ну тебя к бесу. Твою кубанку за три тыщи метров видно. Из-за тебя и нам фрицы всыплют». Толоконников был красивый парень, смуглый, черноглазый, статный, легкий в походке. Он лихо танцевал «барыню» и кавказскую «кабардинку» — без музыки, под хлопки в ладоши или под выстукивание ложками по котелкам. А маленький, коренастый, толстый и рябой Панас Недосека и его земляк-односельчанин долговязый, угрюмоватый на вид, вечно подтрунивавший над товарищами по любому поводу и смешивший их, но сам никогда не смеявшийся Микола Передерий чудесно пели.
Передерий все сватал Надю за своих товарищей и, расхваливая перед нею женихов, давал каждому из разведчиков меткие, смешные характеристики. Особенно советовал он ей выходить замуж за его земляка Панаса Недосеку: «Это же хозяин! Ты посмотри в его вещевой мешок — чего только там нет. И тот сухарь, что еще на Курской дуге получил, и старые подметки с тех сапог, что в Днепро закинул. С ним не пропадешь. Прокормит детишек. Скупость — не глупость. А работящий какой! Смотри, сколько уже гвоздей вам в стене понабивал. Верно сказано: солдату, если не дать гвоздей в стену набить, так ему и квартира не квартира. Аккуратист! Видишь, все на своем месте — котелочек, лопатка, противогаз. У него и в хозяйстве все будет в порядке. А что рябой — то ничего. Рябые, говорят, на любовь верные. Да и безопасно насчет того, что уж другие девчата не отобьют. Кто его, такую образину, полюбит?» Еще хвалил он крепко одного разведчика — Бобрышева, сибиряка. «За этим, Надька, будешь жить, как королева. Сам и борщ сготовит, и хлеб испечет, и котлет нажарит. Повар первой руки, по недоразумению в разведчики попал. Пять фрицев уже имеет на счету. К медали «За отвагу» представлен. Был женат, но развелся по закону, так что можно считать — холостой. А какие он пельмени по-сибирски умеет готовить, в собственном соку, на сливочном масле — язык проглотишь! Он тебя, Надька, раскормит — будешь толще нашего Панаса». Хвалил и себя — за спокойный, не ревнивый характер, хвалил и четвертого разведчика — дважды орденоносца узбека Умара Умарова. «Тысячу трудодней в год зарабатывал человек на хлопке. Повезет тебя в Ташкент — там у них яблок, урюка, винограда, ешь — не хочу». И предостерегал ее только, чтоб не влюбилась в Толоконникова. «Это такой лодырь, что и мышей ловить не будет. Щеголь, гуляка. Где ты видела из танцоров хороших мужей? Мот. Все приданое твое прогуляет и сам ничего не наживет. К тому же, скажу тебе по секрету, он у нас немножко порченый: когда служил в кавалерии, то часто с лошади падал, и теперь его иногда припадки накрывают — но ночам с койки падает, все думает, что препятствия берет». «Это я падал с лошади?» — отзывался Толоконников, приподнимаясь с соломенной постели, и завравшийся Передерий съеживался и быстро втягивал голову на длинной шее в плечи, как черепаха в панцирь при виде опасности.
А лейтенант часто беседовал с Надей о школе, спрашивал ее, в каком классе училась она до немцев, была ли в комсомоле — в комсомоле Надя не состояла, она была до войны еще пионеркой, — думает ли продолжать учебу, когда пройдет фронт и восстановится нормальная жизнь?
…Это были хорошие, незабываемо счастливые дни, когда жили у них разведчики — первые вестники свободы. К ним в семье Козубенков привыкли, как к родным. Пятеро бойцов стали для Нади как пятеро братьев, а лейтенант, пожилой, серьезный, с седыми висками человек, был как отец. Он оказался и годами ровесником ее отцу…
Уже видно было с бугра по усиливавшемуся движению на запад на большой дороге, что гитлеровцы удирают, бросая рубеж, на котором им не удалось закрепиться. Уже все реже слышались пулеметные очереди и разрывы снарядов у полустанка. Бой утихал. Лейтенант с наблюдательного пункта разглядел уже в бинокль залегшие цепи красноармейцев на высотках в излучине реки, там, где вчера еще были немцы. Фронт все глубже огибал хутор своими крыльями. Все кругом горело. Враги жгли села, скирды немолоченого хлеба и соломы. А этот маленький хуторок, затерявшийся в глуши, в стороне от больших дорог, они, казалось, совсем забыли. Но нет, не забыли. И этот хуторок был отмечен черным крестом на карте какого-то германского офицера, заведовавшего при войсковом штабе отделом превращения покидаемых советских территорий в «зону пустыни».
Утром шестого дня в хутор въехали по проселку два вездехода, битком набитые автоматчиками.
Дежуривший на крыше Толоконников заметил машины, когда они спускались с бугра к речке, к броду. Брод был глубокий, перейти через него машины не смогли. Часть автоматчиков осталась у машин, остальные, не раздеваясь, бросились в реку и перешли ее, держа автоматы над головами, по плечи в воде.
Толоконников кубарем скатился с крыши, пошел быстрым шагом в хату.
— Гость в хуторе, товарищ лейтенант! — доложил он с порога. — Гитлеровцы!
— К бою! — поднял лейтенант короткой командой отдыхающих разведчиков и, надевая на себя полевую сумку и автомат, пошел к двери.
— Палить хаты будут! Ой, лишечко, пропали мы, — заголосила Надина мать. — Не минула и нас лиха година. А что ж вы, хлопцы, будете делать? Куда вы? Да они ж вас всех перебьют. Такая сила! Идемте со мною, я вас в погребе под бураки спрячу или в скирду зарою, — может, не найдут. Пересидите, пока наши вступят.
Одну лишь секунду колебался лейтенант. Он окинул взглядом своих бойцов. Какая-то тень пробежала по его лицу.
— Не за тем, мамаша, прислали нас сюда, чтоб мы прятались по погребам, — ответил он и молча, наскоро, не сказав им ни слова на прощание, пожал руки старухе и Наде. — Шагом марш за мной! — повернулся к бойцам. Уже со двора крикнул он им: — Сами прячьтесь. Бегите на реку, в камыши. Если дойдут сюда — все равно хату не спасете. Хоть сами живы останетесь.
Мать стала перетаскивать вещи из хаты в погреб, а Надя убежала на соседний двор и, взобравшись на высокую кучу кукурузных бодылок, все смотрела в ту сторону, куда ушли задами усадеб, по канаве, заросшей вишняком, разведчики…
Уже на восточной окраине голосили бабы, кричали дети, кудахтали всполошенные куры, выли собаки. Уже запылала одна хата — Федосьи Якубович. Уже запылала другая хата — сирот Кравцовых. Гитлеровцы шныряли по дворам с горящими факелами в руках. Запылала третья хата, Козубенковых родичей материного брата, Ивана Морозова. Горели сараи, скирды… Потом вдруг послышался треск автоматов. Надя за последние дни научилась отличать по звуку советские автоматы от немецких. Строчили наши автоматы. Закричали немцы. До слуха ее донеслась лающая, отрывистая команда на чужом языке. Не видно стало ни одного немца на улице. Огонь дальше не распространялся. Горели все те же три усадьбы, трещали с перерывами автоматы, звонко, раскатисто щелкали винтовочные выстрелы. Часа два прошло так — слышно было, что разведчики ведут бой с поджигателями, но никто — ни немцы, ни они не показывались на открытых местах. Потом перестрелка стала утихать. Опять показались немцы во дворах и на улице. Загорелась четвертая хата — Марфы Якубович. И тут Надя увидела за речкой на бугре, далеко за вражескими машинами, маленькие движущиеся, перебегающие от куста к кусту фигурки. Один гитлеровец из оставшихся возле машин взобрался на кабинку и стал махать пилоткой над головой, крича что-то, но вдруг всплеснул руками и свалился в кузов. С бугра щелкнул винтовочный выстрел. Фашисты заметались. Часть их бросилась к реке, но с горы уже бежали красноармейцы, стреляли с ходу из автоматов и винтовок по машинам. Одна машина тронулась было, но вдруг круто вильнула передними колесами и опрокинулась набок. Враги кинулись назад по хутору, через сады, — в степь, но и там перед ними на кукурузном поле показались красноармейцы. Надя на скирде, дрожа от радости, подпрыгивала, смеялась, плакала, выкрикивала одно только слово: «Ага! Ага! Ага!..»
Еще через час она была на том краю хутора, где догорали подожженные гитлеровцами постройки, и увидела их всех, шестерых, у полусгоревшей хаты Марфы Якубович. Бойцы вошедшей в хутор части уже снесли их всех в одно место, под стену хаты… Длинный, долговязый Микола Передерий лежал как живой — ни единого пятнышка крови не было на его лице и руках. Пуля угодила ему прямо в сердце. Лейтенант перед смертью, видимо, долго мучился, почугуневшее лицо его было искажено болью, пальцы на руках скрючены, ноги сведены к животу судорогой. Большая рана в боку от разрывной пули еще сочилась кровью. Узбек Умаров застыл с удивленно поднятыми тонкими черными бровями. В руке его был зажат кусок ремня автомата — так крепко сжал его, умирая, что не вынули, пришлось обрезать ремень. Грузный, толстый Недосека лежал в большой луже крови с широко расстегнутым воротом рубахи и засученными по локоть рукавами, словно прохлаждался в тени хаты. Рябое, багровое, но уже принимавшее землистый оттенок лицо его все было испещрено мелкими белыми точечками — крупинками соли от высохшего в рябинках пота…
Хутор наполнялся войсками. Словно прорвало где-то запруду — шла и шла пехота, вброд, через реку, самые первые, спешившие, чтобы не оторваться от немцев, переходили реку, не раздеваясь и не скидая сапог, вторые эшелоны пошли уже вразвалку — раздевались, купались в речке, простирывали портянки. Идя по улице, бойцы, которым предстояло здесь остановиться на ночь, с приятным удивлением оглядывались по сторонам, переговаривались между собою: «О-о, а этот хуторок, ребята, целый! Как будто и фрицев тут не было. Четыре хаты только сгоревших. Тут поживем».
Надя побежала домой рассказать матери, что увидела на месте недавнего боя… Хутор наполнялся людским гомоном, грохотом колес, гулом моторов, ржанием коней. Задымили летние печки во дворах. Хозяйки варили, пекли, жарили. Обозники заезжали в сады, распрягали лошадей, маскировали их под деревьями. В хату Козубенков набилось опять полно бойцов. Были и среди этих и уральцы, и сибиряки, и украинцы, и кубанцы. Были шутники-балагуры, были женихи, начинавшие со сватовства. Были бойцы с орденами, с медалями, с гвардейскими значками. Но это были не те, самые первые. Те лежали там, на облитой кровью земле, у пожарища, под стеной полусгоревшей хаты, и для них уже рыли могилу в центре хутора, на площади… Надя, поплакав на плече матери, пошла обратно к ним и была подле них неотлучно, до последней минуты, пока привезли в хутор на санитарных повозках еще двенадцать убитых бойцов и уже вечером, в сумерках, положили всех, под салют из автоматов, в могилу и засыпали землею — вот здесь, на этом самом месте…
…Это все прошло в мыслях Нади Козубенко, пока она стояла в почетном карауле на площади, у памятника. Было это почти два года тому назад. Много воды утекло с тех пор. Вот и выросла уже она. Не девчонка — настоящая невеста. Комсомолка. И трактористкой стала, как советовал ей лейтенант Коржов. Вторую весну работает на машине. Много потрудилась и она для победы… Вспомнила Надя отца, брата, знакомых хуторских молодых ребят, погибших на фронте, которым не довелось отпраздновать вместе со всеми победу…
Легкий ветерок, чуть ощутимый на лице, как дыхание близко стоящего человека, донес из палисадников запах каких-то ночных цветов. По улице прошли двое, парень и девушка, слышны были молодые голоса, начатая с половины — «одержим победу, к тебе я приеду» — и незаконченная песня, смех, удаляющиеся шаги. Потом опять стало тихо. Журчал внизу родник, стекающий из-под горы в реку. Какая-то ночная птица пролетела над памятником, шумно взмахивая крыльями, закрывая на миг своим большим темным силуэтом звезды. Еще прошел кто-то по хутору с песней. Заиграла гармошка. Аромат цветов все гуще разливался в прохладном воздухе. Звезды горели ярко, не мигая. Ночь была светлая от звезд и чистого неба, свежая, тихая…
Когда Гринчак пришел к братской могиле с другим часовым, Кузьмой Гавриловичем Майстрюком, отцом Героя Советского Союза, погибшего и похороненного где-то в Белоруссии, первый часовой, трактористка-стахановка Надя Козубенко сидела на ограде памятника, положив винтовку на колени, и плакала, закрыв лицо руками.
1945
Упрямый хутор
В феврале 1943 года фронт остановился на Миусе.
Рота Алексея Дорохина отрыла окопы в садах хутора Южного. Глубоко промерзшую землю долбили ломами и пешнями, взятыми у местных жителей. Хутор стоял на взгорье — одна длинная, извилистая улица, два ряда хат; усадьбы нижнего порядка круто спускались к широкому, ровному, как стол, лугу. Метрах в ста от края усадеб вилась по лугу замерзшая, занесенная снегом вровень с берегами речка. За речкой, за лугом, в полукилометре — такое же взгорье и хутора. Там закрепились немцы.
Окопы нужны были для укрытия от артиллерийского огня и бомбежек, а когда было тихо, бойцы отогревались в хатах. Гитлеровцам, поспешно удиравшим из хутора, не удалось сжечь его дотла. Сгорели только камышовые крыши, кое-где выгорели деревянные рамы в окнах, а стены, сложенные из самана — земляного кирпича, и потолки, густо смазанные толстым слоем глины и земли, огонь не взял.
— Не берет ихний огонь русскую землю, — говорил, тряся головой, старик, хозяин хаты, где расположился лейтенант Дорохин со старшиной, телефонистами и связными. — Это что ж, дело поправимое — крыша. А пока морозы держат — и потолок не протечет. Жить можно.
Со стариком ютились в хате невестка-солдатка и мальчик лет двенадцати, внук. Мальчик бегал за хутор, где упал сбитый зенитками «юнкерс», таскал оттуда листы дюраля, плексигласа. Старик заделал окна досками и плексигласом, на косяк двери навесил дверцу с разбитого «ЗИСа» и уже поглядывал наверх: соображал что-то насчет крыши. Под копной старой гнилой соломы у него было припрятано с десяток бревен довоенного еще, видимо, запаса. Три дня похаживал он вокруг копны, не решаясь обнаружить, на искушенье ротным поварам, свой клад. Наконец не вытерпел, вытащил два бревна, начал их обтесывать на стропила, вязать.
— Не рано ли, дед, вздумал строиться? — спросил его Дорохин.
— А чего время терять, товарищ лейтенант? Не будете же больше — туда-сюда? Или на фронте неустойка?..
— Отступления не предвидится. Я не о том. На самой передовой живешь. Угодят снарядом — пропали твои труды. Обожди, пока продвинемся дальше.
— Пока продвинетесь — у меня уж все будет наготове. Вот обтешу стропила, повяжу их на земле. Камыша нажну на речке.
— Речка вся простреливается. Видишь, где немцы? На тех высотках. Из ручных пулеметов достают.
— Ночью, потихоньку. Днем я на речку не полезу… Только вы уж, товарищ лейтенант, будьте добреньки, прикажите вашим поварам, чтоб не зарились на мой лесок. От немцев прятал, от своих не таюсь. Оно-то, конечно, и поварам трудно, местность у нас безлесная, соломой ваши кухни не растопишь, но и нам теперь, как фронт пройдет, ох, нелегко будет с нуждой бороться! Каждая палка в хозяйстве понадобится… Вон в том дворе, через две хаты, — куча кизяков. Пусть берут на топливо. Хозяев там нет. Хозяин в полиции служил, сбежал… Эти обрезочки можно бы дать вам на дрова. А впрочем, я их тоже в дело употреблю. Распущу на рейки — боронку сделаю легкую, на одну корову.
«Жаден старик, — подумал Алексей. — И корову где-то прячет. Крынку молока бойцам жалеет дать».
— Где же ваша корова? — спросил он.
— Отогнали на хутор Сковородин. Родичи там у нас. Подальше от фронта. Корову тут держать опасно.
— А невестке, внуку не опасно жить на передовой? Почему их не отправили к родичам? Коровой больше дорожишь?
— Не отправил, да… Попробуйте вы их отправить, товарищ лейтенант! Был у нас промеж собой семейный совет. Нельзя жилище бросать без присмотра. Все же хата, хоть полхаты осталось. Садик у нас, деревья — чтоб не вырубили. Копешка сена вон для корму — как это все бросить? Я говорю: «Буду здесь жить, пока передовая не пройдет». А Ульяна говорит: «Я вас, папаша, одного не оставлю. Вдруг что-нибудь с вами случится?» А Мишка говорит: «И с дедушкой и с тобой может случиться, а меня возле вас не будет? Не пойду отсюдова!» Так и порешили — держаться кучкой, семейство небольшое. Было большое. Два сына — на фронте… А корову как не жалеть, товарищ лейтенант? Весна придет, тягла нет, чем пахать-сеять. На корову вся надёжа…
Огрубел, что ли, Дорохин за полтора года войны, притупились в нем инстинкты хлебороба — речи хозяйственного старика не вызывали у него сочувствия. Ему-то рано было думать о наступающей весне, о пахоте. Дошли только до Миуса… Вот здесь, на снегу, на этом самом месте, где обтесывал старик бревна, лежали три дня тому назад прикрытые плащ-палаткой его лучший командир взвода сержант Данильченко, с которым шел он от Волги, и замполит Грибов…
— Бревна мы твои, дед, не тронем, не волнуйся. А вот этими стружками прикажи невестке нагреть воды. Да побольше. Нам бы хоть голову помыть, в бане давно не были… Хозяин! Должен бы знать солдатскую нужду!
— Извиняюсь, товарищ лейтенант! Это мы мигом сделаем. Баньку сообразим! Вон в том сарайчике поставим чугунок, натопим. Котел есть. Ульяна! Поди сюда! Слыхала, об чем речь? Шевелись, действуй! Через час доложи товарищу командиру об выполнении приказания! Воевал и я, товарищ лейтенант. Много времени прошло. Еще в японскую, в Маньчжурии. Отвык, конечно, в домашности, обабился… Разведчиком был!..
Утром, когда Дорохин, проведя ночь в окопах с наблюдателями, пришел в хату позавтракать, старик — звали его Харитоном Акимычем — предстал перед ним с георгиевской медалью, приколотой к замызганной стеганке.
— А-а… Сохранил?
— Сберег… Не для хвастовства прицепил — для виду, чтоб ваши ребята меня приметили. Проходу нет по хутору. Пароль, то-се. Ночью часовые чуть не подстрелили. За шпиона переодетого принимают меня… А мне теперича придется по всяким делам ходить.
— Ночью нечего болтаться по хутору.
— Так днем-то вовсе нельзя, — неприятель заметит движение. У нас ночью общее собрание было. В поле, вон под теми скирдами.
— Какое собрание?
— Колхозное. Правление выбирали.
— Колхозное? Где же он, ваш колхоз-то?
— Как — где? Вот здесь, в этом хуторе. Кроме полицаев, что сбежали, в каждом дворе есть живая душа. Не в хате, так в погребе.
Старшина Юрченко подтвердил:
— В каждом дворе, товарищ лейтенант. Не поймешь — передовая у нас или детские ясли? На том краю, где третий взвод разместили, у одной хозяйки — семеро детей. Слепили горку из снега, катаются на салазках. Не обращают внимания, что хутор, как говорится, в пределах досягаемости ружейно-пулеметного огня. В бинокль оттуда же все видно как на ладони! Немец боеприпасами обеднял, экономит, а то бы!..
Старик продолжал рассказывать:
— Членами правления выбрали Дуньку Сорокину и Марфу Рубцову… А в председатели обратали, стало быть, меня.
— Тебя? Ты председатель?
— Начальство! За неимением гербовой… Есть еще один мужик на хуторе, грамотнее меня, молодой парень, инвалид. Ну, тот тракторист. Может, по специальности придется ему поработать.
— А тракторы есть у вас?
— Тракторов нету. Угнали куда-то, — старик махнул рукой, — еще при первом отступлении. Успеют ли к весне повернуть их сюда?..
— Как ваш колхоз назывался тут до войны?
— «Заря счастья». Так и оставили. Назад нам дороги нету, товарищ лейтенант. Как вспомнишь, что у нас было при надувальном хозяйстве…
— При каком хозяйстве?
— Дед, должно быть, хочет сказать: при индивидуальном хозяйстве, — пояснил старшина.
— Вот то ж и я говорю — надувальное хозяйство. Кто кого надует. К этому нам возвращаться несподручно… Так что, можно сказать, по первому вопросу сомнений не было никаких. Единогласно постановили: «Колхоз «Заря счастья» считать продолженным…» А вот чем пахать будем? Два коня у нас есть. Одры. Немцы бросили. И двенадцать коров осталось. На весь хутор. На восемьдесят пять дворов. А земли — семьсот пятьдесят гектаров…
— Ничего у вас, дед, сейчас с колхозом не выйдет, — сказал Дорохин. — В штабе полка был разговор: если задержимся здесь и будем строить долговременную оборону — все население с Миуса придется вывезти подальше в тыл. Километров за пятьдесят. Чтоб не путались у нас тут под ногами.
Харитон Акимыч подсел к столу, за которым завтракали Дорохин и старшина, долго молчал, тряся головой. Старик был крепок для своих восьмидесяти лет, невелик ростом, тощ, но широк в плечах, не горбился, в руках его чувствовалась еще сила, с лица был свеж и румян и только сильно тряс головой — может быть, еще от старой контузии. Похоже было — все время поддакивал чему-то: словам собеседника или своим мыслям.
— Вы из какого сословия, товарищ лейтенант? — спросил он, помолчав. — Из крестьян или из городских?
— Из крестьян. Был бригадиром тракторной бригады.
— В нашей местности весна в марте открывается. Уже половина февраля… Чем год жить, если не посеем? Как можно — от своей земли идти куда-то в люди?
— Вам отведут землю в других колхозах, во временное пользование. Без посева не останетесь.
— Посеять, то уж и урожая дождаться, до осени жить там. А тут же как? Вы, может, раньше тронетесь. Пары надо поднимать под озимь, зябь пахать. А люди, тягло — там. Разбивать хозяйство на два лагеря? Нет, для такого колхоза я не председатель, ежели бригада от бригады — на пятьдесят километров!.. Земля-то наша, товарищ лейтенант, вся вон туда, назад, в тыл. Окопов там не будет. Никому не помешаем. Ночами будем пахать!..
Со двора послышалось, не первый раз уже за утро:
— Воздух!
День начинался беспокойно. Только что пятерка «юнкерсов» отбомбилась над расположением соседнего справа полка. Еще горело что-то там, в селе Теплом.
Дорохин, старшина и связные выскочили из хаты. Дорохин захватил котелок и, стоя под стеной хаты с теневой стороны, глядел в небо, торопливо дохлебывая жирный мясной кулеш.
— Эти, кажись, прямо к нам… Мишка! Ульяна! — закричал дед с порога в хату. — Не прячьтесь за печку! Там хуже привалит! На двор, дураки!
— Марш к нам в окопы! — скомандовал Дорохин. — Вот в этот ход сообщения… Довольно, не бегать! Замри!
В голубом морозном ясном небе разворачивалась над хутором девятка пикирующих бомбардировщиков «Ю-87».
— Лаптежники… Сейчас устроят карусель, — сказал старшина. — Вот начинают…
— Пригнись! — толкнул Дорохин деда в спину и сам спустился в окоп.
Головной бомбардировщик, нацелившись в землю неубирающимся шасси, похожим на лапы коршуна, взревев сиренами, круто пошел в пике.
— А, шарманку завел! — погрозил ему кулаком старшина. — Шарманщики! Пугают… Бомб маловато.
Для первого захода бомб у «юнкерсов» оказалось достаточно. Небольшие, десяти-двенадцатикилограммовые бомбы сыпались густо, рвались пачками. В садах будто забили фонтаны из снега с землею.
— Ну, это еще ничего, — сказал Харитон Акимыч, выглядывая из окопа и сильнее обычного тряся головой. — Давеча один кинул бомбу на выгоне — с тонну, должно быть! Хозяева! На такой маленький хутор такие агромадные бомбы кида…
— Трах! Трах! Трах! Трах!.. — взметнулись один за другим четыре фонтана в соседнем дворе.
— Лежи, председатель! — потянул Дорохин за ногу деда. — Зацепит осколком по голове — хватит с тебя и маленькой бомбы. Хозяйственник какой!
Хутор ощетинился огнем. Били из окопов станковые и ручные пулеметы, трещали винтовочные выстрелы, били откуда-то из глубины обороны зенитки. Один «юнкерс» на выходе из пике закачался, клюнул носом, низко потянул за бугор. Остальные продолжали свою «карусель» — один, сбросив бомбы, взмывал вверх, разворачивался, другой заходил на его место, пикировал.
— Всыпали одному! — закричал старшина. — Смотрите, товарищ лейтенант, захромал! Ага! Удираешь!
— Не удерет! Не в ту сторону завернул с перепугу. Прямо на зенитки пошел. Там ему добавят!
За вторым заходом бомб сыпалось меньше. За третьим — что-то падало с неба на землю, но не рвалось.
Старик вылез на бруствер.
— Это что ж они такое кидают, а? К чему это? Вон бочку кинули. А то что летит? Еще бочка… Оглашенные!
— Это тебе, дед, на хозяйство в колхоз! — захохотал Дорохин. — Халтурщики! Где же ваши боеприпасы? Довоевались?
…В чистом, голубом небе таяли белые облачка от разрывов снарядов зениток. «Юнкерсы» ушли. Еще один бомбардировщик, когда ложились они уже на обратный курс, заковылял, задымил, но сразу не упал. Далеко отстав от ушедших вперед, долго тянул по небу черный хвост дыма, пока наконец показалось и пламя. Свалившись на крыло, пошел вниз. Упал он далеко, километрах в пятнадцати, — к небу взметнулся огромный столб дыма. Спустя несколько секунд донесся глухой тяжкий взрыв…
Пахло гарью. Где-то дымило. Через улицу, напротив, во дворе кричала женщина:
— Митя, родной! Что они с тобой сделали! А-а-а!..
— У Гашки Морозовой сына убило, — сказал Харитон Акимыч. — А может, поранило… Ульяна! Сходи к ней, помоги.
— Пошли туда санитара! — приказал Дорохин старшине.
Взрывом одной небольшой фугаски, упавшей во дворе, разворотило угол хаты. Старик, сняв шапку, яростно скреб затылок, соображая, чем и как заделать угол.
— Такого уговора не было, чтоб и стены валять… Ах, ироды, губители!
— Вот тебе и колхоз! — сказал Дорохин. — Убирайтесь вы отсюда, пока целы-живы! Видишь, боеприпасов им еще не подвезли, бочками швыряются, а как закрепится оборона — тут такое будет!..
— Как же это все покинуть, товарищ лейтенант? Когда на глазах, ну что ж, развалили — починю, еще развалят — починю! А без хозяина — что же тут останется?..
— Воздух!..
— Ложи-ись!..
Какой-то шальной «мессер», возвращаясь на свой аэродром, снизился, ураганом пронесся над хутором, расстреливая остаток боекомплекта в людей, закопошившихся во дворах. Запоздало застучали вслед ему пулеметы и сразу умолкли. Немец, прижимаясь к земле, перевалил за бугор, пошел лощиной — исчез…
— С цепи сорвался! — сказал, поднимаясь с сугроба, Харитон Акимыч. Из трясущейся бороды его и с лысины сыпался снег. — Черти его кинули! Чтоб ты там, в балке, носом в землю зарылся.
В наступившей тишине с края хутора донесся отчаянный вопль женщины.
— Марья Голубкова, кажись, — приложив ладонь к уху, прислушался старик. — Та, про которую ваш старшина говорил: семеро детей… Что говорить, жизнь нам тут предстоит несладкая, товарищ лейтенант. Но как же быть? Лучше бы вы с ходу продвинулись еще бы километров на полсотни туда.
— И там бы в каком-то селе остановились. Там тоже народ, жители. Нам-то не легче… Нет, сам буду просить наших интендантов, чтоб подогнали ночью машины! Погрузим вас, со всем вашим барахлом, и отвезем подальше в тыл! Что это за война, когда вокруг тебя бабы голосят?
На Миусе простояли долго. Здесь застала Дорохина и весна — все в том же хуторе Южном.
Бывает на войне — и разбитые, отступающие части противника, и наступающие войска изматываются так, что ни те, ни другие не могут сделать больше ни шагу. Где легли в какую-то предельную для человеческой выносливости ночь, там и стабилизировался фронт. Тут дай один свежий батальон! Без труда можно прорвать жиденькую оборону, наделать паники, ударить с тыла! Но в том-то и дело, что свежего батальона нет ни у тех, ни у других.
Так было на Миусе в феврале. Весною стало иначе. Дороги высохли, подтянулись тылы. Пришло пополнение. Оборону насытили войсками, огнем, боевой техникой. Миус — фронт. Командование готовило его к крупным операциям.
Все ушло, зарылось в землю. В каждом батальоне было отрыто столько километров ходов сообщения, сколько и положено по уставу, блиндажи надежно укрыты шпалами и рельсами с разобранных железнодорожных путей, каменными плитами, землею. Можно было пройти по фронту из дивизии в дивизию ходами сообщения, не показав и головы на поверхность.
И немцы имели достаточно времени для того, чтобы привести себя в порядок.
Теперь уж хутора и села на передовой казались совершенно опустевшими. Ни малейшего движения не заметно было днем во дворах и на улицах. Сунься днем по улице какая-нибудь машина или подвода — сейчас же по этому месту начинали бить тяжелые минометы и орудия.
И все же в хуторе Южном, на самой передовой, ближе которой метров на триста к немцам было выдвинуто лишь боевое охранение, жили люди. От хутора уже почти ничего не осталось — одни развалины. Люди жили в погребах. Днем прятались, а с наступлением темноты вылезали, копали огороды, сажали, сеяли у кого что было — картофель, свеклу, кукурузу, просо. Где-то в балке, в нескольких километрах от хутора, был оборудован полевой стан колхоза. Там находились пахари с коровами и единственной парой лошадей, обрабатывали колхозные поля, тоже по ночам, а на день укрывали скот в каменоломнях.
Не однажды жителей хутора Южного выселяли в тыл. Подходили ночью машины, забирали людей, солдаты проверяли по всем закоулкам — не остался ли кто? А спустя некоторое время хуторяне, по одному, кучками, с узлами и налегке, возвращались опять домой. С вечера будто никого не видно было в хуторе, а утром Дорохин, приглядевшись, замечал вдруг, что полоски вскопанной земли на огородах стали шире. Уже вернулись! Где-то прячутся. Не солдаты же его занимаются по ночам огородничеством!
Кончилось тем, что командир дивизии, инспектировавший оборону, застал как-то Харитона Акимыча с колхозниками ночью в хуторе и, выслушав их горячую просьбу не срывать колхоз с родных мест в весеннюю пору, сказал:
— Ладно, живите… Для вас, для таких старателей, эту землю освобождаем. Только береги людей, председатель! Дисциплину заведи военную! Маскировка, никаких хождений! За ребятишками — особый догляд! А то еще станут бегать в окопы, гильзы собирать. Малышей таких, что не нужны здесь матерям, не помогают на огородах, отправьте все же куда-нибудь.
— На полевой стан их отправим. Там, в каменоломнях, такие укрытия! Чего-нибудь вроде яслей сообразим.
— Берегите детой… Ну, желаю вам первыми среди здешних колхозов встать крепко на ноги!
— Спасибо, товарищ генерал! Были первыми и будем первыми!..
— У нас народ упрямый, товарищ лейтенант, — говорил Харитон Акимыч Дорохину. — А упрямый, скажу, потому, что дюже был хороший колхоз. У нас колхоз был не простой.
— Золотой?
— Вот именно — золотой. Передовой был колхоз на всю округу. В газетах про нас писали. Пять человек послали от нас председателями в другие колхозы — нашей закваски, нашего воспитания! Где бригадиры ни свет ни заря на ногах, ходят по полям, дело направляют? У нас. Где звеньевые рекордами гремят? Опять же у нас! Где самые боевые доярки, телятницы? Запевалы? Э-э, работали!.. Председатель у нас был из двадцатипятитысячников. Отец родной! В душу тебе влезет, расскажет, докажет, самого отсталого человека доведет до сознания!.. Какие люди были! Это меня нынче по нужде выбрали. Семьдесят восемь солдат пошло из нашего колхоза в армию, бригадиры, трактористы, вся краса колхоза!
— И я, Акимыч, пошел на фронт не из плохого колхоза, — сказал Дорохин. — Кубань. Слыхал про такой край?.. У нас там все покрупнее вашего. Степи глазом не окинешь. Станицу за час из края в край не пройдешь Такой колхоз, как у вас, это по-нашему — бригада… Семь автомашин было в колхозе. Колхозниц возили в поле и обратно на машинах. В сороковом году построили электростанцию на реке Лабе, собирались электричеством пахать… Что там сейчас, после немцев?..
Однажды ночью Харитон Акимыч пришел в блиндаж к Дорохину — его уже все солдаты знали и пропускали как своего — с бородатым, лохматым, старым на вид человеком, инвалидом на деревяшке.
— Вот наш тракторист, — представил старик инвалида, — Кузьма Головенко. Оставался дома по случаю непригодности к военной службе. Увечье получил не на фронте. В каком году, Кузьма, в тридцать восьмом? Из Кургана с базара ехал, под поезд угодил выпивши… Тракторист был так себе, получше его ребята работали, — как и я, скажем, в те годы в председатели не годился. Но теперь придется обоим подтянуться!
— Кто же из вас старше? — спросил Дорохин.
— Мне, товарищ лейтенант, тридцать два года, — ответил Головенко.
— Что же ты так себя запустил? Не стрижешься, не бреешься. Не в дьяконы ли постригался тут при немцах? — спросил старшина.
Головенко потеребил клочковатую, нечесаную бороду, глуповато ухмыльнулся, промолчал.
— Парень ждет со дня на день, — ответил за него Харитон Акимыч, — что его — за машинку и в конверт. Вернется наша МТС — судить его будут за дезертирство. Назначили его трактора угонять, с девчатами и теми механиками, что по броне остались, а он бросил машину, вернулся с дороги домой. Вот какое с ним положение… А я ему говорю: «Надо сделать, Кузьма, так: пока вернется МТС, чтоб ты уже тут отличился перед советской властью! Всю землю чтоб нам вспахал! Может, помилуют тебя». Там еще, товарищ лейтенант, мои члены правления ожидают, Марфа Рубцова и Дуня Сорокина. Как бы их пропустить сюда?
— Да что у меня тут — контора колхоза?
— Дело есть к вам.
— Какое дело?.. Ну пусть зайдут.
В блиндаж вошли две женщины: одна — лет пятидесяти, с сухим, строгим, в глубоких морщинах лицом, чернобровая; другая — лет двадцати пяти, круглолицая кареглазая блондинка, статная, с сильными, налитыми плечами. Обе, видно, принарядились в лучшее, что осталось у них: старшая — в белых носочках и тапочках, молодая — в поношенных, больших, не по ноге, грубых сапогах, но в шелковой блузке, с бусами, чуть подкрасила губы. На блузке у нее под платком, накинутым на плечи, Дорохин заметил орден Трудового Красного Знамени…
— Это Евдокия Петровна, — представил Харитон Акимыч молодую. — Бывшая доярка, трехтысячница. Между прочим — невеста. Перебирала до войны женихами — тот работящий, да некрасивый; тот красивый, да неласковый. Когда мы ее теперь выдадим замуж? А это старый член правления, и до войны была в правлении — Марфа Ивановна.
— Здравствуйте, — пожал им руки Дорохин. — Садитесь.
Встал, уступив им место на своем ложе, вырезанном из земли, присыпанном травою и застланном плащ-палаткой и шинелью. Женщины чинно сели.
— Ну, девчата, просите лейтенанта! — сказал Харитон Акимыч, тряся головой. — Да получше просите, пожалостливее!
— О чем? Чем я вам могу помочь?..
— Ты не говорил, что ли, Акимыч? — спросила старшая.
— Нет. Рассказывайте вы, по порядку.
Помолчали.
— Трактор бы нам надо, товарищ лейтенант, — начала Дуня.
— А еще что? Молотилку, комбайн? — рассмеялся Дорохин. — Вон у артиллеристов тягачи стоят без дела. Попросите — может, вспашут вам гектаров сотню. Только вряд ли вспашут. Кто же разрешит им расходовать боевое горючее?
— Нет, нам не так, чтобы на время. Нам надо трактор насовсем.
— Насовсем? Ишь ты! Ну, обратитесь к командиру дивизии, к командарму — может быть, выделят вам из трофейных тягачей. А у меня в роте какие же трактора?
— Мы тебе, Дуня, — сказал старшина Юрченко, — можем жениха хорошего выделить. Прикажет товарищ лейтенант, построю роту — выбирай любого. Только опять же не насовсем — пока здесь стоим.
— Погодите, товарищи, не смейтесь, — сказала Марфа Ивановна. — Дело серьезное. Трактор есть. Надо его вытащить.
— Трактор есть, — подтвердил Головенко.
— Откуда вытащить?
— Из речки, — сказал Харитон Акимыч. — В речке трактор, в Миусе. Утопили.
— Вот он знает место, — указала Дуня на Головенко, — где утопили.
— Знаю… Значит, товарищ лейтенант, дело было так. Когда угоняли трактора, один был не на ходу. Какая-то ерундовая неисправность, чего-то не хватало, я уж не помню чего, — в коробке скоростей какой-то шестеренки, что ли. Не то чтобы совсем утильсырье. Трактор этот я знаю. Из нашей бригады. Хороший трактор, но не ходовой. А тут горячка: «Давай, давай!» Ну, куда же давай? Зацепили его тросом, с того берега на другой, и утопили в Миусе. Магнето, динамку, конечно, сняли. Еще кое-что сняли по мелочи. Ну это мы найдем…
— Где «найдем»?
— У меня есть.
— Натаскал?
— Натаскал… Вернулся домой, пошел на усадьбу МТС, по мастерским прошел — там чего только нет! Бросили впопыхах. Смазал солидолом, уложил в ящики, закопал в землю… Спекулировать собирался, думаете? Нет. Кабы для себя — держал бы в секрете…
— Не знаю, как насчет железа, — сказал Харитон Акимыч, — а вот дерево, товарищ лейтенант, — сто лет пролежит в воде, и гниль его не берет! Отчего оно так получается? Только чтоб уж совсем было в воде. А если на земле, на воздухе и в мокроте — быстро сгниет.
— Так вы чего от меня хотите? — спросил Дорохин. — Чтобы я вам трактор вытащил? Чем?
— Вы же сами сказали про ваших пушкарей, что у них тягачи стоят без дела.
— У них — не у меня.
— Ох, какой вы! — вспыхнула Дуня. — «Не мое дело! Обратитесь к такому-то…» Нам без трактора никак не обернуться. Не посеем — жить нечем. Он же здесь, в этом хуторе, стоял, здесь его и утопили. Это место как раз перед вашими окопами, потому и пришли к вам. Если б захотели помочь… Вы свои люди тут в дивизии. Вам скорее тот командир даст тягача!
— Товарищ лейтенант! — сказал Харитон Акимыч. — Вы не обижайтесь на Евдокию Петровну. Она у нас немножко нервенная. Ее за орден при немцах три раза в гестапо таскали…
— Вот я расскажу, товарищ лейтенант, как у нас работа идет, — встала Марфа Ивановна. — Акимыч говорил, вы из хлеборобов, поймете. Двенадцать коров у нас работают. По две пары в плужок запрягаем — три плуга. И две лошади — сеялку тягают. А еще ж надо заборонить. Три гектара в день вспахать, засеять — больше мы не в силах, как ни крутись! За две недели сорок гектаров посеяли. Ну, еще сорок посеем. Что это для колхоза?..
— Вряд ли и трактор вас выручит. Неизвестно еще, в каком он состоянии. Может, придется его ремонтировать.
— Отремонтируем, — сказал Головенко.
— Когда? Вам же он нужен сейчас, к севу.
— Ничего! — сказал Харитон Акимыч. — Пусть даже до конца апреля провожжается он с ремонтом. Май — самое лучшее время по нашей местности просо сеять. Пшеницы-то на семена у нас уже почти и нет. А просо есть, соберем у колхозников. Его немного требуется. Широкорядным — пять килограммов на гектар хватит. Набузуем побольше проса — тоже хлеб. С пшенной кашей не пропадешь!
— А горючее?..
— Вот уж насчет горючего дойдем до самого командира дивизии! Неужели не пожертвует нам на хозяйство хоть сколько-нибудь горючего?..
— Я две бочки автола на усадьбе МТС закопал, — сказал Головенко.
Дорохин притушил папиросу.
— Где же вы его утопили? Ну, пойдемте, покажите.
Все вышли по ступенькам из глубокого блиндажа на воздух, выбрались из окопа, прилегли на бруствере. Была темная, звездная ночь.
— Вон там, — протянул руку Головенко.
Под кручей, на равнине, невдалеке смутно поблескивало чистое плесо неширокого извилистого Миуса, в берегах заросшего камышом.
— Там был мост. По мосту его отбуксировали на ту сторону, а потом отсюда, на тросах, тремя машинами затянули до половины речки…
— Какой там грунт? — спросил Дорохин.
— Грунт — ил, местами песок, — ответил Харитон Акимыч. — Мягкий грунт.
— Я прошлым летом, при немцах, купался там, — сказал Головенко. — Нарочно полез, чтобы пощупать, как он стоит. Засосало по брюхо. Но можно выручить. Подрыть под передком, завести бревна, набросать камней.
— Тремя машинами, говоришь, затянули? Колесниками?
— Да. И этот, что утопили, — колесный. Сэтэзэ.
— Ну, теперь не меньше трех гусеничных надо, чтобы вытащить!..
Все долго молчали, глядя в ночную даль. С противоположных высот изредка взлетали в воздух ракеты. Трассирующие пули, бесцельно, от скуки пускаемые вверх часовыми в немецких окопах, бороздили небо в разных направлениях, будто звезды, сорвавшись с места, убегали друг от дружки в какой-то игре. С луга тянуло сыростью, холодком. В расположении соседнего слева батальона, занимавшего оборону по линии железной дороги, в посадке щелкали соловьи.
— Птицам божьим что война, что не война, они свое дело делают, — заметил Харитон Акимыч.
Дуня лежала рядом с Дорохиным, касаясь его локтем, кусала сорванную на бруствере травинку.
— Но дело не в том, что тяжело тащить, — сказал Дорохин. — И три тягача можно попросить… А вы так простудитесь, Евдокия Петровна. Земля холодная.
Девушка приподнялась на колени…
— И так не годится. Видите, постреливают. Вот эти огоньки, что прямо вверх чуть поднимутся и будто на месте замрут, — это сюда.
Дуня спустилась в окоп.
— Обдумано все правильно. Можно и подкопать, и камней набросать. Одного только вы, товарищи, не учли. Немцы-то где?
— Так немцы — вот они. Ракеты пущают, — ответил Харитон Акимыч.
— Слышно им будет, если мы подгоним тягачи к самой речке?
— Еще как слышно! Вон у них кто-то железом цокает — нам же слышно.
— То-то и оно! Старый солдат, а тоже не сообразил!
— Да я уж сам поглядываю, товарищ лейтенант… Не выйдет наше дело.
— Они же подумают — танки идут! Такого огонька всыпят! Командир артполка не даст тягачи. Да я и просить не стану. Глупо просить. И командир дивизии не разрешит. Это же целая боевая операция. Надо ставить артиллерии задачу на прикрытие. Что вы, товарищи! Бросьте об этом и думать.
— А если зацепить его тросом в воде, — сказала Дуня, — а другой конец вывести подальше, туда аж?.. — махнула она рукой.
— Куда — подальше? Километра за три?
Все засмеялись невесело.
— Распроклятый Гитлер, навязался, собака, на нашу голову! — вздохнула Марфа Ивановна. — Разорил, загубил все. Начинай сызнова. Да какое сызнова! Когда сходились в колхоз — ведь у людей были лошади, инвентарь, — свели, снесли в кучу, с того и начали. А теперь — ничего нет! Ни брички, ни хомута, ни ярма.
— Нет, на этого утопленника пока не рассчитывайте. Надо искать вам другой выход.
— Выход один. Чтоб больше пахать, надо коней из сеялки выпрячь. Чтоб больше посеять, надо пахоту остановить. Как ни мудри — ничего не получается. Вот еще поставим всех, кто не занят на плугах, лопатами копать землю. Ну, извиняйте, товарищ лейтенант, что побеспокоили. Девчата! Кузьма!..
— Погодите. Чтоб Евдокия Петровна не считала меня бюрократом бездушным, я вас чаем напою. Никитин! — окликнул Дорохин ординарца. — Собери-ка там на стол.
Долго сидели гости у Дорохина в блиндаже за «столом» — кубом, вырезанным из земли посреди блиндажа, застланным вместо скатерти чистой простыней, — ели консервы, поджаренное сало, пили чай с галетами, вспоминали, каким был их колхоз в хуторе Южном до войны. Старшина поиграл на баяне…
Долго не спал после ухода гостей Дорохин. Прошел по окопам, проверил посты во всех взводах, вернулся, прилег, а заснуть не мог. Вспомнилась Кубань, бригада, трактористы, с которыми работал много лет. Разбросала война всех неведомо куда. Ни от одного не получил на фронте письма. Да и как они могли ему написать? Они не знали, где он, так же как и он не знал их адреса. Их станица освобождена, как и эти села на Миусе, лишь в феврале… Долго, не смыкая глаз, думал о Галине. Где она? Что с нею? Где была при немцах? Как пережила лихое время? Пережила ли?..
На свое письмо, посланное в станицу в правление колхоза, он еще не получил ответа. Галине не писал. Почему? Хотелось сначала узнать от других, что она жива и ждет его…
Случилось так, что дня через два Дорохин сам послал связного на полевой стан колхоза «Заря счастья» за Харитоном Акимычем и трактористом.
В роту Дорохина приходил заместитель командира батальона по политчасти и сказал ему между прочим:
— Сегодня, лейтенант, будешь спать под музыку. Где-то какую-то важную высотку хотят отбить у немцев. Воевать будут ночью. Танки пойдут туда. А шум поднимут по всему фронту дивизии — чтоб сбить немцев с толку. Артполк выставит тягачи на передовую. У тебя, у Левченки, у Нестерова будут шуметь. Готовьтесь, в общем. Достанется и вам на чужом пиру похмелье!..
Дорохин послал связного за председателем колхоза, а старшине приказал:
— Сходи, Юрченко, в артдивизион, попроси от моего имени капитана: пусть эти ребята, что будут здесь ночью демонстрировать танковую атаку, захватят буксирные тросы. Скажи — для чего. Слышал, о чем просили нас люди?
— Слышал. Достану тросы, товарищ лейтенант! — откозырял старшина. — Для Дуни — постараемся!
— Глупости говоришь! Дуня тут ни при чем.
— Так я не про вас. Про себя говорю — постараюсь для Дуни.
— А, про себя!.. Ну, старайся…
Харитон Акимыч пришел уже в сумерки с бородатым Головенко, с Марфой Ивановной и Дуней.
— Попробуем вытащить ваш трактор, — сказал им Дорохин. — Приготовьте что нужно — камни, бревна. Вот старшина дает вам в помощь двух бойцов. Тягачи придут к полуночи. А женщин я не звал. Вам тут делать нечего. Тут будет жарко! Предупреждаю, товарищи колхозники, работать будете под огнем!
— Это что ж такое случилось? — спросил старик. — Третьего дни сами сомневались — нельзя, а нынче можно стало?
— Нельзя было, а нынче можно, вот и все, что могу вам сказать.
— Да нам-то и не к чему знать. Нам свое дело справить. Ну что ж, спасибо, товарищ лейтенант! Кузьма! Ту каменную загату разберем, что ли?
— А чем подвезете камень?
— Чем подвезем?..
— Забыл сказать связному, чтоб вы с подводой прибыли. Наши лошади в хозвзводе… А вот женщины пойдут к вам в хозяйство, пусть пришлют оттуда ваших лошадей. Идите домой. Этой ночью не разрешаю вам тут болтаться. До свиданья! Желаю успеха. Юрченко, командуй!
Отпустив людей, Дорохин засветил каганец, прилег, стал читать газету и заснул. Выдалось несколько тихих часов — никто не звонил из батальона и штаба полка, не тормошили связные… Проснулся он поздно ночью. Глянул на часы, покурил. Вышел из блиндажа, посмотрел туда, где в темноте чуть поблескивало на изгибе чистое плесо Миуса. Не видно и не слышно было ничего. Оставив в своем блиндаже за себя командира первого взвода, Дорохин вылез из окопа, пошел лугом к речке.
— Хорошо работаете, — сказал он старшине, столкнувшись с ним нос к носу у берега. — В окопах ничего не слышно.
В речке бесшумно возились дед, Головенко и один боец. Другой боец подавал им камни с берега.
— Ну, что там? — спросил Дорохин, подойдя к воде.
— Н-ничего, — дрожащим шепотом ответил старик. — Самое глубокое место вымостили… Т-теперь легче п-пойдет… П-после такого купанья п-по сто грамм бы, а то п-пропадешь…
Головенко исчез вдруг под водой, но тотчас же вынырнул, забарахтался.
— Тш-ш! Что ты? Хватай за руку!
— Яма, черт!
— Т-тонуть будешь — все одно не шуми. Н-нельзя!
Головенко выбрался на берег, голый, стал прыгать — одна нога по колено на деревяшке, — размахивать руками, согреваясь.
— Заколел!
— С н-непривычки, — отозвался Харитон Акимыч. — Н-не рыбак. А я, б-бывало, чуть лед сойдет, в-верши ставлю…
— Хорошо стоит, товарищ лейтенант. Не дюже засосало. Если с места сорвем — пойдет!
В стороне еще кто-то маячил. Дорохин пригнулся, увидел на фоне звездного неба женскую фигуру, подошел:
— Это кто? Дуня? Зачем вы здесь?
— Я на лошадях приехала, за ездового.
— Где же ваша повозка?
— В хуторе. Товарищ старшина забраковал — скрипит, стучит. Носилками носят камень.
— Я им еще четырех бойцов дал, товарищ лейтенант, — сказал старшина.
— Не нужна повозка? Ну и вам тут делать нечего… Ну, какого черта стоите? — чуть не в полный голос выругался Дорохин. — Думаете, мы такими уж бесчувственными стали на войне, что нам и девушку в братской могиле похоронить ничего не стоит?..
Дуня отошла.
— Погодите. Я вас проведу через окопы. Ну, работайте, — обернулся к старшине, — да скорее кончайте. В ноль пятнадцать всех лишних — назад в окопы! Тягачи я встречу в хуторе сам, укажу им проход…
Старшина, сняв пилотку, скребя затылок, долго глядел в ту сторону, где скрылись в темноте Дорохин и Дуня.
— Товарищ лейтенант! А может, я пойду тягачи встречать? — сказал он негромко, сделав несколько шагов вслед им. Но Дорохин уже не мог его услышать.
От луговой сырости, от молодой травы, от раннего апрельского первоцветья воздух был душный, пряный, хмельной. В камышах у берегов Миуса крякали дикие утки. Испуганно попискивали встревоженные выдрой кулички. На плесе била щука. В хуторе, в садах, заливались соловьи.
…Лошади были привязаны вожжами к сломанному сухому дереву на улице. Снарядом срезало начисто верхушку, остался только ствол, голый, без сучьев. Уставшие за день работы в борозде лошади, понурившись, дремали. То у той, то у другой вдруг подкашивалась нога в колене и морда чуть не касалась губами земли. В хуторе было тихо, безлюдно. Во дворах чернели развалины хат. Кое-где среди развалин торчали, как памятники на кладбище, уцелевшие дымоходы на печах. Сады цвели.
Дорохин с трудом распутал вожжи:
— Каким-то бабьим узлом завязано…
— Да это им тут не стоялось без меня, рвались, запутали.
— Куда им рваться!.. Ну, поедешь домой?
Подсадил девушку в повозку. Кинул ей конец вожжей, зашел наперед, поправил уздечку, выдернул у одной лошади из челки репей. Держась за грядку, пошел рядом. Лошади шли шагом.
За хутором, на развилке двух дорог, — одна дорога была широкая, накатанная, по ней ночами подвозили боеприпасы и продукты на передовую, другая узенькая, проселочная, — Дуня придержала лошадей:
— Мне домой — направо. Вот по этой дорожке, в балку. Домой… Когда мы теперь наш хутор отстроим?.. Харитон Акимыч говорил: у вас на Кубани нет ни матери, ни жены. Вы ему рассказывали. Вам же все равно. Приезжайте после войны к нам жить, товарищ лейтенант!
— У меня на Кубани невеста…
— Невеста? — Шевельнула вожжами, лошади пошли. — Ждет вас?
— Не знаю. Писем не получал… Этот серый сейчас захромал или это у него давно?
— Районный был в ногу. Зажило, а хромает. Теперь так и останется.
Дорохин на ходу свернул папиросу, закурил.
— Куда же это вы решили меня проводить? До самой каменоломни? — спросила Дуня.
— Вон до того белого куста.
— То — слива, дичка. Кто-то семечко уронил, выросла. Цветет одна, при дороге… А я мечтала: вот бы хорошо, если бы вы у нас остались! Вы нас от немцев освободили, вам тут и жить! Мы бы вас уважали, дом хороший вам построили бы!
— Наше солдатское дело такое, Дуня, — далеко наперед нельзя загадывать. Не знаем, что с нами завтра будет, кто из нас до конца войны доживет…
— А приехали бы?
— Вот что дома — не знаю. Не пишут мне… Нет, все равно не приеду. Там старые друзья, кто-нибудь вернется же…
У белой, в цвету, будто обсыпанной снегом, сливы-дички Дуня остановила лошадей:
— Киньте цигарку!
Дорохин в две глубокие затяжки докурил папиросу, кинул.
Взяв вожжи в правую руку, Дуня склонилась через грядку, сильно, до боли, обняла левой рукой Дорохина за шею, жарко поцеловала в губы… Дорохин чуть не задохнулся не выпущенным из легких дымом… Засмеялась, хотела сразу — по лошадям и удрать. Но не тут-то было. Обшлаг рукава кофточки зацепился на плече Дорохина за пряжку ремня планшетки.
— Ой! — смущенно, тихо вскрикнула Дуня.
Пришлось еще склониться к нему, чтобы отцепить рукав. И еще раз поцеловала его.
— Кубань далеко! Не обидится ваша невеста. Не увидит!
Привстала на колени, дернула вожжами, свистнула. Лошади тронули шагом.
— На моих рысаках не ускачешь.
Опять засмеялась, хлестнула кнутом. Рослые, худые одры раскачались, побежали крупной верблюжьей рысью. Повозка загремела по каменистому дну балки…
Дорохин покрутил головой, пробормотал ошалело: «Ну и ну!», поднял с земли пилотку и не успевший погаснуть окурок, жадно, обжигая пальцы, затянулся. Стоял на дороге, пока светлое пятнышко Дуниной кофточки не исчезло в темноте. Повторил, улыбаясь: «Ну и ну!», и побрел назад в хутор, оглядываясь и прислушиваясь к цокоту колес в балке…
Когда тягачи подошли к берегу Миуса — уже гудело по всему фронту. Немецкие батареи били беглым огнем, вспышки орудийных выстрелов по ту сторону луга за бугром полыхали, как зарницы. Немцы били пока что не по хутору Южному, а вправо, по селу Теплому, — видимо, там почудилось им наибольшее скопление танков.
Дорохин, посвечивая фонариком, указывал дорогу:
— Держи за мною!
Отвел один тягач подальше от берега, вторую и третью машины развернул в затылок первой.
— Это ж кого мы будем на хозяйство становить? — спросил один водитель тягача. — Кто здесь старший?
— Вот председатель колхоза, — указал Дорохин на Харитона Акимыча.
Старик был уже на берегу, оделся. В воде возился один Головенко.
— Этот дед?.. Магарыч будет, председатель?
— Понимаешь, товарищ, какое положение — гастроном еще не открыли у нас в хуторе. Со дня на день ожидаем — доштукатурят потолки, люстры повесят, прилавки покрасят, навезут коньяку, шампанского…
— Я не про сегодня спрашиваю. После войны приедем — угостишь?
— Об чем вопрос! Пир горой закатим!
Водители сцепили машины кусками стального плетеного троса.
— Как там — пройдет вдвое? — спросил Дорохин Головенко.
— Пройдет… Давайте конец, — отозвался замерзающий в реке голый тракторист.
— Держи!
— Пробуем, что ли, товарищ лейтенант? — спросил, усаживаясь на место, водитель головной машины. — Нам тут долго нельзя маячить. Приказано курсировать туда-сюда.
— Пробуйте. Бородач, завязал?
Головенко пускал пузыри, нырял:
— Ух, глубоко! Киньте мне болт с гайкой. Тут петля, на болт возьму…
— Я вылез, товарищ лейтенант, — сказал Харитон Акимыч. — Невтерпеж! Ему все же не так холодно — у него одна нога деревянная.
— Эй, браток, довольно тебе нырять! Трогаем? А?
— Все… Готово!
Харитон Акимыч перекрестился:
— Господи благослови!
— А ты, дед, религиозный, — сказал Дорохин.
— Какое религиозный! Десять лет не говел. Так, прибегаю изредка.
Моторы взревели.
— Кузьма! — закричал Харитон Акимыч. — Греби прочь! Трактор вытащим — тракториста задавим!
Видно, все же крепко засосало речным илом за полтора года «утопленника» — три гусеничных шестидесятисильных тягача буксовали на месте, трос натянулся, как струна, а груз в воде не подавался.
— Стой! — закричал Дорохин. — Так не пойдет. Недружно берете. Давайте по сигналу, на фонарик, разом! Смотрите все сюда. Зеленый свет: «Приготовились!», красный: «Взяли!»
Сто восемьдесят лошадиных сил рванули разом. Что-то тронулось, забурлило в воде.
— Идет! Давай, давай!..
Моторы ревели на полном газу. Тягачи буксовали… Лопнул трос… В хуторе, в садах, разорвался первый снаряд, пущенный немцами в эту сторону.
— Перелет… Ныряй, Кузьма! — сказал Дорохин. — Вчетверо пройдет?
— Пройдет, — содрогаясь всем телом, полез в воду Головенко. — Надо было сразу вчетверо…
Второй, третий снаряды легли на лугу, но в стороне, влево, метрах в двухстах.
— Вслепую бьет, наугад, — сказал старшина. — Не видит нас.
Бух!.. Снаряд упал в реку, разорвался, взметнул большой столб воды и грязи. Головенко нырнул, долго не показывался на поверхности.
— Эй, дядя! — закричал ему водитель. — Ты не ныряй, когда в воду снаряд упадет. Оглушит, как сома!
— Не обращай внимания! — крикнул Дорохин. — Это они воду подогревают, чтоб тебе теплее было. Крепи получше! Все? По местам! Приготовились! — Переключил глазок фонарика на красный свет. — Взяли!..
Из взбаламученной, черной, чуть поблескивавшей рябью при вспышках ракет воды показались сначала труба воздухоочистителя, потом радиатор и топливный бак, облепленные водорослями.
— Идет, идет!..
Трактор выполз на берег, весь в тине, водорослях — чудо морское.
— Вытащили голубчика! — закричал Харитон Акимыч.
— Вытащили! — прыгал на деревяшке вокруг трактора Головенко. — Я боялся — порвем ось или кронштейн. Нет, не порвали!..
Дорохин шел рядом с влекомым на буксире трактором, не обращая внимания на комья грязи, срывавшиеся с колес, щупал его мокрые, облепленные тиной бока, обрывал с них водоросли. Хотел что-то крикнуть подбежавшему Харитону Акимычу — сорвался голос. Молча потрепал старика за плечо…
Немецкие наблюдатели скорректировали огонь по шуму моторов. Снаряды и мины стали ложиться ближе. Одна мина с коротким резким противным свистом шлепнулась в грязь метрах в пяти. Дорохин упал на землю, увлекая за собой старика… Мина не разорвалась.
— Все же есть у них на заводах сознательные рабочие, — сказал, поднимаясь, тряся головой, Харитон Акимыч. — Третья мина не рвется, подсчитываю.
— Тут на лугу грунт мягкий.
Тягачи остановились. Водитель головной машины подбежал к Дорохину.
— Товарищ лейтенант! Отцепляю две машины!
— Отцепляй. Один потянет трактор к ним в колхоз, а вы уходите с этого места. Довольно! Раздразнили теперь их на всю ночь!
— Спасибо вам, товарищи бойцы! — кланялся, сняв шапку, Харитон Акимыч. — Спасибо, родные!
— Магарыч за тобою, дед, не забудь!
На всем пространстве между рекой и окопами рвались снаряды. Слева, по лугу, к ним двигалась сплошная стена разрывов.
— Вот тут-то они нас и накроют!
Водитель оставшегося тягача спрыгнул с сиденья, распластался на земле.
Трах! Трах! Трах! Трах!
Харитон Акимыч, завалившись на бок в какую-то ямку, мелко, часто крестился.
— Ох, ты ж, твою так, близко положил!.. — Одновременно перекрестился. — Ох, ты ж!.. Еще ближе! — Перекрестился.
Трах! Трах!..
Как ни скучно было лежать в эту минуту на открытом месте, пряча голову от осколков за болотными кочками, Дорохин не выдержал, расхохотался:
— Прибегаешь, дед?
И вдруг — сразу утихло. Вероятно, немцы разгадали уже точное направление танковой атаки. Здесь утихло, зато справа, за селом Теплым, загремело сильнее. Била и наша артиллерия, куда-то вглубь, по немецким тылам. Застучали пулеметы, автоматы.
— Товарищи, не могу идти! — закричал где-то сзади Головенко.
— Тракториста ранило! — поднялся дед. — Кузьма, где ты?..
Старшина подвел под руку прыгающего на одной ноге Головенко.
— Деревяшку отбило…
— Посадите его на тягач, — сказал Дорохин. — По живому не зацепило? Лезь, указывай дорогу водителю.
…В хуторе Дорохин распрощался с Харитоном Акимычем.
— Ну, не будешь больше приставать к нам? Паши, сей, не поминай лихом!
— Какое — лихом! Товарищ лейтенант! Что б я тут, председатель, делал без тягла? А теперь — пойдем жить! Мы вам тут, на этой площади, памятник поставим!
— Вы еще разберитесь, что за трактор, как он там перезимовал в речке. Может, все поржавело.
— Сверху поржавело — очистим. А внутри — его же маслом смазывали… А Дуня, товарищ лейтенант, девка хорошая… Приезжай к нам. В председатели тебя выберем. Передам тебе дела из полы в полу — знаешь, как в старое время лошадей продавали?
— До свиданья, Акимыч! Трактор получил? Получил. Ну, вали домой! И не мешай нам воевать…
Вскоре их дивизию сменили, отвели в тыл, километров за восемьдесят от передовой, в резерв. Там они стояли два месяца, ремонтировались, принимали и обучали пополнение и на Миус уже не вернулись — дивизия влилась в состав другой армии.
Участвовать в июльском большом наступлении Дорохину довелось на другом фронте.
И как бывает у солдат, часто вспоминался ему хутор Южный, мечталось еще заглянуть туда после войны, встретиться со знакомыми, полюбившимися ему людьми, посмотреть, как расцветает жизнь на месте бывших развалин и окопов, найти свой блиндаж где-то в саду между яблонями, посидеть на обвалившемся, заросшем бурьяном бруствере, выкурить махорочную цигарку, подумать под песни девушек, обрывающих с веток красные яблоки, о прошлых боевых днях… Но много было потом еще хуторов и сел по пути на запад, и каждый освобожденный им клочок земли стал Алексею родным. А когда окончилась война, ему уже было не до того, чтобы объезжать все те места, что проходил он со своими бойцами. Надо было и самому начинать работать, восстанавливать разрушенное войною народное хозяйство, запахивать вчерашние окопы.
1952
«День тракториста»
В одном районе решили провести «День тракториста».
Кто первый подал эту мысль — неизвестно. Вероятно, однажды, после заседания бюро райкома, на котором поругали какого-то недальновидного, мужиковатого председателя колхоза за плохое отношение к механизаторам, кому-то из районных руководителей пришло в голову: провести бы в районе «День тракториста», чтобы возвеличить фигуру сельского механизатора в глазах общественности! Есть День железнодорожника, День авиации, а трактористов ведь тоже немало в стране, и делают они немало для государства.
Выбрали для праздника одно из воскресений в конце июня — почти свободное от тракторных работ время, междупарье. Задумано все было здорово. Место облюбовали на берегу реки, на лугу, у дубовой рощи. Трактористы — народ степной, привыкший к голубому небу и жаркому солнцу над головой, им приятнее было провести свой праздник на вольном воздухе. Выстроили на лугу нечто вроде театральных подмостков — для президиума собрания и выступления художественной самодеятельности. Сюда же выехали буфеты и ларьки пищеторга. Пригласительные билеты на праздник разослали не только трактористам, комбайнерам, механикам, но и их женам. Приглашены были также председатели колхозов и бригадиры полеводческих бригад.
Но — первый блин комом. Дальше пошло не совсем так, как было задумано. Помешал дождь: как зарядил с ночи — до двенадцати дня не прояснилось, пришлось перейти в районный Дом культуры, где в четырех стенах, перевидавших много всяких других заседаний и конференций, собрание пошло слишком официально; немного оробели и сами организаторы праздника — не попадет ли им за какой-то самовольный, неузаконенный «День тракториста»? — и в своих речах стали называть праздник просто районным слетом механизаторов, что несколько сгладило необычность этого «мероприятия»; да и много было речей, и длинны были они слишком для такого собрания-гулянья.
Но все же трактористы и комбайнеры вынесли из конференц-зала Дома культуры, где даже потолок вспотел от духоты, главное: что сегодня их день, что ради них играл оркестр, для них выступали артисты, пел детский хор, танцевали девушки-ученицы, что в числе прочих почетных профессий их профессия и они сами — не в поле обсевок.
И самое интересное, как часто бывает в таких случаях, началось уже после «официальной части», благо время для этого еще оставалось. Пока длилось собрание и выступали артисты районной самодеятельности, дождь перестал. Подул ветерок, быстро просохло. Разошлись из Дома культуры в шесть часов — по-летнему еще день. Машины, на которых приехали из колхозов трактористы, ждали их за мостом через Сейм, на поляне у дубовой рощи. Там же, накрыв свои товары клеенками, терпеливо ждали их продавщицы ларьков и буфетов пищеторга… Задымили костры, где-то заиграл баян, запели «Калинушку».
— Где же мы расположимся?
— Да вот под машиной сухое местечко, дождь не промочил. Михаил! Отгони машину дальше, а мы тут постелем брезент.
— Ну, братцы, кажись, дела у нас в районе так поворачиваются, что ежели которого из нас жинка бросила — вернется, в ногах будет валяться: «Миленький, дорогой, прости, забудь, что говорила: керосином от тебя воняет».
— Это почему ж?
— А потому, что на нас теперь особое внимание обращается. Нам почет и уважение. Сказано: первые люди в деревне — мы, механизаторы.
— Да-а… А читали, ребята, в газетах, что на Кубани делается?
— Что?
— Там сейчас проводится эта самая, как ее…
— Комплексная?
— Вот, вот — комплексная механизация.
— Это как же понимать — комплексная?
— Полностью механизируются все работы в сельском хозяйстве. Чтоб не получалось так: убираем хлеб комбайнами, а потом колхозницы вручную веялки крутят, ящиками зерно в машины грузят. Горы зерна, когда его через веялки пропустишь? Где-то поспешаем, а где-то еще адамова техника осталась, тормозит все дело.
— Стало быть — сортировки от привода, транспортеры? Чтоб и рука человеческая до зерна не касалась?
— Именно так. И в животноводстве все механизируют: подачу кормов, воды, стрижку шерсти. Стога мечут машинами, солому скирдуют машинами.
— Я прошлой осенью видел в Чижовской МТС на испытании трехрядный свеклокомбайн. Вот машинка, ребята!
— Однорядный не пошел у нас.
— Трехрядный, говорю. Новый, усовершенствованный. Хорошо работает! Пропусков почти нет, один человек успеет подобрать в рядках, что осталось. Колхозницы, как узнали, что конструктор приедет на испытание, натаскали ему цветов в подарок — еле в машине увез. Качали его там, в поле.
— Рады были?
— А как же! От самой тяжелой работы освободил их — от копки свеклы.
— Так-то так. От самой тяжелой работы освободил… Но, выходит, и от трудодней освободил?..
— Да, да, товарищи, что ж оно получится? Если и свеклу будем комбайнами убирать, где ж колхознице трудодней заработать?
— Не только жены будут прощения у нас просить за старые обиды. Все колхозницы будут кланяться: «Товарищи трактористы! Дайте же и нам где-нибудь немножко заработать!»
— Конечно! Раз полная механизация — значит, и трудодни по полеводству будут все у трактористов с прицепщиками. Навоз возить? Да мы поделаем такие платформы, зацепишь трактором — сразу двадцать тонн! Наваливать, разбрасывать — опять же машины приспособим. Прошлым летом и солому с жнивья стягивали тракторными волокушами.
— А колхозникам, которые в полеводческих бригадах, останется только воду да горючее подвозить нам на волах по очереди.
Из шуточной завязки разговора возникают большие житейские вопросы.
— А что, ребята, — говорит бригадир, — к тому идет. Я бы на месте нашего правления уже сейчас призадумался: на каких других работах в хозяйстве занять людей? Верно, ведь годика через три-четыре механизаторы заберут почти все трудодни по полеводству, это как пить дать! Но машины ведь не для того, чтобы всем колхозникам, кроме нас, делать было нечего?.. Ту силу, что освободится, надо чем-то другим занять.
— Чем же ты ее займешь?
— Вот об этом и надо думать. Есть такие отрасли, где без ручного труда никак не обойтись. Сад, например. Трактором не полезешь на дерево яблоки рвать, это ручная работа. Если зимние сорта, для долгого хранения, так и потрясти дерево нельзя, каждое яблочко надо снять с ветки рукою и осторожненько уложить в ящик со стружками. Сколько у нас в «Завете» запланировано на осень садов посадить, кто помнит?
— Пять гектаров, что ли.
— Мало! Сто гектаров надо сажать!
— Ну, это ты загнул, Иван Трофимыч. У нас и земли столько свободной не найдется.
— Все пустыри, лога, крутизны надо фруктовыми деревьями засадить! Пойдем, Никита, по колхозу, и я тебе не сто, а двести гектаров такой земли найду!
— Ну, разве что пустыри…
— И ухода за молодым садом совсем немного требуется. Самая горячая работа в саду — сбор фруктов. А она начнется не сегодня, лет через шесть-семь. В аккурат к тому времени техника в полеводстве так шагнет вперед…
— …что и Никита уже будет своим трактором из вагончика по радио управлять.
— Зачем из вагончика? Прямо из дому, с кровати. Гляну в телевизор — подходит трактор к краю загона, нажму кнопку — трактор повернет обратно, и я — на другой бок. Поставлю только будильник над ухом, чтоб звонил каждые полчаса.
— На сто гектаров, знаешь, Иван Трофимыч, сколько саженцев нужно? Десять тысяч штук. Рубля по три за дерево — на тридцать тысяч рублей.
— Свой питомник надо заложить. Через два года будут саженцы. А специалист в колхозе есть. Наш горючевоз, Назар Матвеич. Он же садовник.
— Назар Матвеич? Может! Видели, какой у него сад на усадьбе? Окулировать, глазком там или в прищеп, это он умеет. Подучить его еще маленько на курсах.
— Нет, верно, ребята, придет время, и не за горами уж оно, колхозным полеводческим бригадам нечего будет делать на поле. Или, точнее сказать, где работало сто человек, там десять управятся. А тем, которых сократили, только и останется подсобные отрасли развивать. Какое хозяйство можно построить!.. И надо бы уже сейчас за это приниматься, не терять ни одного дня! Есть и виноград такого сорта, что будет расти в нашей местности. Кто бы отказался получить такой бочоночек вина на трудодни, как у нас с автолом стоит? Ягодники надо разбить. Гектаров пять клубники под хороший урожай — мешок денег! Огородов побольше, овощей всяких. Животноводство можно раза в два против нынешнего увеличить. Есть же колхозы, где по тридцать рублей чистоганом, кроме всего прочего, дают людям на трудодень? Это там, где руководители вперед глядели!.. Давайте, товарищи, как будет общее собрание в колхозе, поставим этот вопрос от имени трактористов. Пусть-ка правление пересмотрит свои планы по подсобным отраслям. Мизерные у нас планы. Смелее можно замахиваться! Одно дело — использовать машину, выжать из техники все до дна. Это наше дело, механизаторов, мы за это отвечаем. А другое дело — уметь использовать и ту выгоду, что дает машина в большом хозяйстве. Машина тебе руки развязывает в полеводстве? — так сажай этими руками сады, строй новые фермы, плотины, пруды, разводи в прудах рыбу!..
К увлекшемуся бригадиру неслышно подошли сзади, от реки, два тракториста, мокрые по шею, с бреднем и мешком, высыпали из мешка через плечо бригадира на траву десятка два крупных живых, трепещущих карпов, карасей, линей. Рыбаков и их добычу приветствовали радостными возгласами.
— Вот такой рыбки развести бы у нас в колхозе! Да, Иван Трофимыч? — сказал один из подошедших.
— Рыбка-то хороша, но это что ж выходит, друзья, вы и на собрании не были?
— Нет, товарищ бригадир, на собрании мы сидели до конца, все речи прослушали, а как начался концерт — пошли с Петром потянуть бреденек. Мы с ним еще из дому наметили — наловить рыбки на ушицу.
— Если б такая речка, Иван Трофимыч, да в нашем колхозе «Заветы Ленина», да возле речки стать вагоном — каждый день кормили бы с Семеном рыбой бригаду.
— Ну что ж… Ножи есть? Давайте чистить. Вот в этой цибарке сварим. Сушняку надо бы еще для костра.
— Иван Трофимыч! А может, пока уха сварится — пропустим по одной, под огурчики? Рыбакам надо после купанья согреться… Ребята! У кого хороший глазомер?
— У Никиты. Лучше его никто не отобьет загонку, по прямолинейности.
— Разливай, Никита Харитонович. Смотри не ошибись. Посуда, видишь, какая неравномерная… Как в аптеке! Ну, за наш праздник, за «День тракториста»! И за тех товарищей, кто его выдумал!..
— Я, товарищи, так соображаю насчет механизации, — начал, крякнув, после небольшой паузы один тракторист, все время молчавший. — С нас директор МТС и правление колхоза спрашивают выработку, качество? Спрашивают. Законно спрашивают, так и должно быть. И мы можем спросить правление колхоза: куда деваете нашу механизацию?
— Как? Что говоришь? А куда ж они ее денут? Механизацию в карман не спрячешь.
— А так! Скажем, в прошлом году механизация была на семьдесят процентов, а нынче — на восемьдесят. Куда девали эти десять процентов? Сделали что-нибудь полезное для хозяйства? Или — на распыл пошло? Волы паслись, люди на базаре торговали?
— Правильно, Митя! Долго молчал, а дело надумал! Именно так и нужно спросить их, хозяев: куда деваете нашу механизацию?
Хохот, аплодисменты…
Одна бригада приехала на праздник в полном составе: с кухаркой, водовозом, со своими продуктами, посудой для варки пищи и даже столами и скамейками, прихваченными с полевого стана. Расположились они возле автомашины, привезшей их, воткнули в землю две железные рогатины, подрыли под ними ямку для котла; кухарка, поджав ноги, уселась на траве и стала чистить картошку. Отличие от полевой обстановки было лишь в том, что трактористы приоделись и присутствовали их жены, которых на бригадном стане обычно в таком сборе не увидишь. Но не все жены присутствовали. По этому поводу было немало шуток и зубоскальства.
— Степан! Почему твоя Маринка не приехала на «День тракториста»?
— Нездорова…
— Перепугалась, должно быть, когда ей пригласительный билет принесли: «Марине Кондратьевне Пересухиной. Райком и райсовет приглашают вас…»
— Чего же пугаться?
— Да кто его знает, зачем приглашают жен трактористов? То ли по сто грамм поднесут, то ли постыдят принародно за то, что плохо работают в колхозе?
— Да, девчата, нынче вам обошлось, а в будущем году, сказал секретарь райкома, обязательно упомянет в докладе тех жен механизаторов, что заделались начальницами, в колхозной работе не участвуют, на мужнины трудодни надеются.
Женщины протестуют. Завязывается горячий спор — кто виноват в том, что жены механизаторов мало участвуют в колхозной работе, не сами ли мужья? Кто запретил Маринке ходить на свеклу? Сам Степан. Прокормлю, мол, тебя с детишками своими трудоднями, мне в доме нужна помощница, а не в поле, чтоб уют мне создавала, когда приду на день отдохнуть.
— А что ж, и запретил, — оправдывается Степан. — Разве ж это жизнь? Прибежишь с поля — Маринки нету дома, где-то аж за Бугровыми хуторами свеклу шаруют, там и ночевать остаются, на бригадном стане. Маринка отпросится домой — я на работе. У нас с нею получалось, как у тех деда с бабкой: дедушка на печь — бабушка до бражки, бабушка на печь — дедушка по дрова.
— А ты возьми ее в прицепщицы, вот и будете неразлучны днем и ночью.
— В прицепщицы?.. Да нет, это тоже не годится… Чтоб целый день за твоей спиной, глаз с тебя не спускала?..
Когда усаживались за столы, один из трактористов этой бригады, рослый, плечистый, красивый парень лет тридцати трех, скрылся в кусты с узлом под мышкой, переоделся там и появился вдруг перед товарищами в костюме официанта московского ресторана первого класса: черная тройка, атласные лацканы, галстук бабочкой, белоснежная салфетка на руке. Его встретили громовым хохотом.
— Чего это ты таким фертом вырядился, Серега?
— Товарищ официант! Пол-литра столичной и два соленых огурца!
— Вспомнил старое.
— Какое старое?
— Так он же был официантом.
Сергей, видимо, хороший актер, комик, без тени улыбки, с серьезным, деловитым лицом обратился к кухарке:
— Лукерья Федоровна! Как у вас дела? Готово? Что будем подавать? Квисо куриное сюпрем с рисом? Соус тертер? Яйцо мирабо? Эскалоп из телятины?
— Погоди, — давясь смехом, ответила кухарка. — Мясо еще не доварилось.
— Придется подождать, товарищи, минут двадцать.
Сергей ушел за машину, где на ящиках и досках устроено было нечто вроде буфета (заведовала им жена бригадира), принес оттуда на подносе, держа его одной рукой выше головы, тарелки с хлебом, ложки, вилки, бутылки, стаканы, лихо, со звоном, ничего не разбив и не опрокинув, опустил поднос на стол, стал раскладывать приборы. Все зачарованно глядели на него.
— Да ты что, брат, в самом деле официантом был?
— Два года.
— Когда?
— После демобилизации. До сорок седьмого года.
— Вот диво! А до войны чем занимался?
— Тем же, чем и сейчас занимаюсь. Работал трактористом в Знаменской МТС Ростовской области.
— Чего ж тебя занесло не в свою борозду?
— Так, бывает…
И пока у кухарки допревало в котлах над костром «квисо куриное сюпрем с рисом», Сергей рассказал, — не все, видимо, еще знали эту историю — как его занесло «не в свою борозду» и как вынесло…
— В сорок четвертом году получил я на фронте письмо из колхоза — умерла моя мать. Больше никого родных у меня там нет. Брат погиб под Сталинградом. Подворье наше спалили фашисты… Отслужил родине до полной победы, демобилизовался в немецком городе Швибусе, выправил документы, получил отпускные деньги, а куда ехать? Подвернулся приятель, тоже из демобилизованных, Виктор Дракин, старшина. «Поедем, говорит, со мной в Саратов. Если ты к технике привержен, так в городе же ее больше: на завод поступишь или на курсы шоферов. Какого-нибудь начальника будешь возить — это дело чище, чем в тракторе ковыряться». Подумал-подумал — поехал с ним в Саратов.
На шоферские курсы не было в том месяце набора. Поступать на завод не спешили — это от нас не уйдет. Отдохнули, погуляли, пока деньги были. Потом поехали путешествовать: «Почем в Киеве синька?» — «А в Тбилиси в мухоморах не нуждаются?» Месяца три этим занимались. И познакомились в поезде с одним начальником по общественному питанию. Угостили его абхазскими персиками, имеретинским вином. Понравились мы ему. Предложил нам ехать в Москву, дал адрес, пообещал устроить официантами в хороший ресторан.
Дракин сразу загорелся: «Это дело! Всю жизнь мечтал о такой работенке!» А он, этот Дракин, кем только не был до войны: и шофером, и фотографом, и парикмахером, и артистом. Я посомневался было насчет квартиры. «О чем, говорит, горюешь, гвардеец! Мало ли в Москве вдов молодых с квартирами?» Ну, в Москву так в Москву. Поехали. Разыскали по адресу этого нашего приятеля в тресте общественного питания, дал он нам направление в ресторан «Арктика»…
— Трудно было привыкать?
— Как сказать… Названия блюд трудно было запомнить. Поначалу эскалопы с эскарпами путал. Кричу на кухню: «Два эскарпа из телятины!» Повара смеются: что за кушанье?
— Эскарп — это противотанковый ров.
— Ну да. А бегать между столиками с подносом — это я быстро освоил. Я конник. Джигитовку делал. Бутылку на голове на полном галопе удерживал. Нас ведь не сразу допустили к работе, обучили сначала на курсах. Как с посетителями обращаться: ежели, например, сидит парочка, то надо даме первой подать прибор, ей же надо и меню показать — выбирайте. А за расчетом подходить к кавалеру. Лекции читали нам про калории, витамины. Опять же, как вежливо пьяного вывести. Учили нас кой-чему и старые официанты. Вот, к примеру, как произнести такие слова: «У вас, гражданин, графинчик уже опустел? Можно убрать?» Надо так жалостно сказать это слово «опустел», чтоб он еще два графина заказал. Ну, Дракин этот мне всякие советы давал. Если, мол, видишь, что кавалер подвыпил и форсит перед дамой — приписывай смело к счету десятку-две, не будет проверять, посовестится. И прочее такое. Но я, сказать по правде, никогда так не делал. Наоборот. Заметишь — подсел к столику командировочный, может, директор МТС приехал в Москву по делам, в министерстве отчитывался, набегался, скучный сидит, устал. Подходишь и говоришь ему: «Сто грамм, гражданин, поднесу, а больше, пожалуй, не нужно, как бы под троллейбус не угодили, у нас тут на площади сильное движение». И закуску предлагаешь, какая поплотнее и подешевле. По своему карману рассчитываешь, как если бы сам приехал в Москву с честной зарплатой. Верно говорю, не обманывал, не обсчитывал. На чай брал, — что было, то было…
— И как же ты после «Арктики» в Курской области очутился? Климата не выдержал?
— Не выдержал… Подвели меня растратчики одни. Разная ведь публика ходит в рестораны. Большая неприятность вышла из-за них… Повадилась одна компания за мой столик садиться каждую ночь. Облюбовали уголок за пальмой. По пятьсот — семьсот рублей пропивают втроем за ночь, и подойдешь к ним — только и слышишь: «взял», «дал», «подкинул», «выписал с базы». Жулики какие-то при торговом деле.
Хотя нас и учили на курсах, что официантам не полагается вмешиваться в разговоры за столиками, но я как-то не вытерпел. Заказали они рябчиков жареных, того-сего, напитков всяких и, между прочим, ананасов — компот у нас был консервированный из ананасов. Принес я это все и говорю: «У вас, говорю, получается как по-писаному. Не про вас ли товарищ Маяковский выразился: ешь ананасы, рябчики жуй?..» — «О, говорят, наш официант, оказывается, Маяковского читает!» И начали меня гонять: «Перемените приборы, вилки селедкой воняют», «А соль почему мокрая? Подай сухую», «Вино не той марки принес! Мы заказывали портвейн сто семнадцать. Чем слушал?» Обидно мне стало: «Подай, перемени!» Ну что же, сам знал, какую выбирал профессию. И для того ли я четыре года воевал, три раза раненный был, чтобы такая нечисть опять плодилась на земле?.. Пошел в буфет, хлопнул с досады двести грамм. Зовет меня опять один из этой банды: «Эй, орел! Поди сюда! Закажи нам три порции блуждающих почек». Я раскрыл карточку, ищу. Другой говорит: «В меню не ищи, это очень редкое блюдо, его делают только по особому заказу. Иди к шеф-повару, закажи». Я понял — разыгрывают. Нагнулся к ним, говорю тихо: «Если желаете попробовать этого редкого блюда, гады этакие, растратчики, вот закроем ресторан, сдам выручку, чтоб мне не при служебных обязанностях быть, выйдем на улицу, и я вам там, без шеф-повара, в одну минуту всем троим сделаю почки блуждающими».
Тут они, конечно, крик подняли, директора вызвали: «Ваш официант грозится нас побить!» Стал я с ними рассчитываться — они меня под шумок накрыли на сто рублей, бутылки из-под шампанского спрятали под стол, я и не включил его в счет, так что в ту ночь я пришел домой совсем пустой, даже буфетчику задолжал. После этого случая меня в том ресторане посетители стали бояться, пальцем показывали: «Вот тот официант, что супником на пьяных замахнулся». А я вовсе и не замахивался. И хотя тех жуликов вскоре посадили, — приходил к нам следователь за справкой: часто ли кутили они у нас? — все же мне за них влетело. Строгий выговор объявил директор в приказе.
Потом еще получилось у меня там разногласие с метрдотелем. Метрдотель — это старший над официантами, наш непосредственный начальник, бригадир.
— Какое разногласие?
— По вопросу международной политики… В наш ресторан часто заходили иностранцы. Может, и хорошие люди, а может, и дрянь какая-нибудь, шпионы, клеветники. Если хорошие люди, тем паче надо с ними держаться просто, по-человечески. А метрдотель такие приказания нам давал: если садится за стол иностранец — бросай все, пусть другие посетители ждут хоть целый час, обслуживай его! Не пустили как-то в зал нашего парня, фронтовика — одет не по форме, в гимнастерке и сапогах; надо, мол, брюки навыпуск и китель. А иностранцы поснимают пиджаки, сидят в подтяжках при дамах, чуть не вовсе растелешатся — и не смей сделать им замечание. Вот я по этому вопросу и выступил на производственном совещании. Говорю: «Может, эти туристы дальше нашего ресторана никуда и не поедут, ни на заводах, ни в колхозах не побывают, значит, все ихнее знакомство с советскими людьми через нас, официантов. И поэтому нам нужно с ними держаться вежливо, но без лакейства, чтоб не судили они по нас плохо обо всех наших людях». Выступил с чистой душою, как, бывало, в тракторной бригаде давал всякие рацпредложения, а вышло недовольство. Метрдотель этот стал ко мне придираться: меньше всех у меня выручки, план, мол, не выполняю. И буфетчик взъелся на меня за то, что уличил его как-то в недоливе. В общем, вижу, какая-то ерунда вокруг меня получается. Другим официантам на кухне без очереди заказы отпускают, а я по полчаса жду у окошечка. Не ко двору пришелся. Взял расчет…
Сунулся на завод — что ж, специальности нет. Вижу — на улицах укатывают асфальт катками, машина — тот же трактор. Пошел в контору: «Не нужны вам трактористы?» — «Нет, говорят, набрали уже сполна. В деревне, вероятно, больше спросу на вашего брата…» Но Зося меня предупредила: если поступишь на черную работу и будешь приходить домой в мазуте, ищи себе другую квартиру.
— Какая Зося?
— Хозяйка квартиры. Я ей все чаевые отдавал… На гитаре она хорошо играла. Наденет голубой халатик, как заноет «Рябину» — душу вынимает!..
— Добро, что твоя Уля здесь не присутствует. При ней не стал бы всего говорить.
— Уля знает. Во сне как-то проговорился… Пошатался я недели две без работы, но потом все же этот наш знакомый дал мне еще раз направление в хороший ресторан. Ресторан — при гостинице. И там я встретил одну землячку, старуху…
Проходила в Москве сессия Верховного Совета. Часть депутатов разместили в нашей гостинице. Живут наверху в номерах, обедать и ужинать спускаются к нам в ресторан. Смотрю — села за мой столик женщина в платочке, по виду — работница с фабрики или колхозница. С депутатским значком. Читает меню. Подошел к ней: «Чего вам подать?» Выбрала она что-то из порционных. «Можно, говорю, сделаем. Но чуток подождать придется, минут пятнадцать». Донское словечко сорвалось. Она поглядела на меня. «А ты, парень, не с Дону?» — «С Дону», — говорю… «Ну, иди заказывай, подожду».
Принес обед, расставляю тарелки. «Тебе, спрашивает, сынок, дюже некогда?» — «А что?» — «Да вот кабы ты мне вечером чаю принес туда, в комнату, шестьсот четырнадцатый номер. Боюсь в лифте спускаться, как пойдет вниз — душа от тела отрывается». — «Это можно», — говорю. «Нездорова я, говорит, сегодня, не пойду вечером в театр, попью горячего и спать лягу». Поговорили мы немного, спросила она меня, из какой станицы? Про себя рассказала — кто она, откуда. Колхозница, звеньевая.
Стучусь к ней вечером с чаем, а она в номере мебель переставляет по-своему. «Чего ж вы, говорю, горничную не позвали?» — «Да они уж утром тут прибирали. Ничего, я дома, как занедужаю, начинаю стирать либо хату белить — разомнешься, выпьешь на ночь стопочку, оно и полегчает». Стал я чашки с подноса снимать. «Ох, говорит, земляк, непривычна я, чтоб мне такие казаки на стол собирали. Садись вон на диван, я сама подам, что нужно. Повечеряешь со мной?» Достала из чемодана бутылку терновки, рыбца донского вяленого, сала домашнего. Неудобно отказываться. Сел. Стала она меня расспрашивать: где я был в военные годы — на передовой ли воевал или трофеи собирал, до какого чина дослужился, какие награды имею? Дотошная старуха. Глаза черные, как паслен, и голова черная, ни одного седого волоса, а лет — за шестьдесят. Маленькая, худенькая. У меня мать была такая маленькая, чернявая…
Доложил я ей про свою службу. Чин небольшой, старший сержант, был командиром орудия, награды имею. Гвардеец. Похвалился!.. «Гвардеец! — говорит. — Тебе ли, такому молодцу, чаи тут разносить? Не гвардеец ты, говорит, дезертир! На кого колхоз свой покинул?» — «Мамаша, говорю, в столицу захотелось. В Москве ведь не грех пожить». — «А при какой такой важной должности состоишь ты здесь в столице, что она без тебя не обойдется?» Что ей ответить? Сам об этом уже двадцать раз думал… Я Москвы, по правде сказать, и не видел. В два часа ночи закрываем ресторан. Кто не доел, не допил — постоишь возле него еще полчаса. Пока отчитаешься, доберешься домой — утро. Соседи на работу идут, а я спать ложусь. Где-то заводы, строительства всякие, люди другие — ничего я этого не видел… «А как же, говорю, мамаша, будет при коммунизме? Не всем же в поле работать. Будут люди кушать в ресторанах, значит, кто-то должен и подавать им». — «Не знаю, говорит, сынок, как оно будет, как оно все устроится, но думаю, что такого безобразия не допустят, чтоб слабосильные девчата трактора крутили, а такие бугаи, как ты, вазочки с мороженым носили. Страшно смотреть, как ты берешь их своими ручищами — вот раздавишь! Кто больше сможет, тот больше и сделает — так, по-моему, будет… При коммунизме! Какое слово сказал! Много ли ты для коммунизма делаешь, что берешься о нем рассуждать?..»
И начала мне рассказывать, как разорили фашисты их колхоз и как там люди за три послевоенных года восстановили все, что было до войны; как в первую весну после немцев они одним «Универсалом» и коровьими упряжками засеяли семьдесят процентов довоенной площади; как детишки-подростки две нормы на коровах пахали; как бабы косами косили по полгектара в день. О других рассказывает, о себе — ничего. Но мне-то ясно: раз выбрали ее депутатом, значит, она там больше всех потрудилась… Поглядел я на ее руки, маленькие, черные, еще с лета загар не сошел, и на свои глянул — белые, с маникюром… И как представил я — до чего трудно было нашим женщинам в войну, сколько работы они своими слабыми руками переделали, и сейчас еще как им трудно, — таким я сам себе распоследним сукиным сыном показался…
Спрашивает она меня: «Может, ты инвалид?» — «Нет, говорю, ранения имею, но здоровье не потерял». Давай она меня опять костить! «Молодой, здоровый, живое дело в руках — тебе ли здесь околачиваться?» Говорю: «Мамаша! Мне уже и самому это все надоело, как сухой ячмень беззубой кобыле». Пожаловался ей, как иной раз обидно бывает за то, что мало уважения к себе видим от посетителей. «Сами виноваты! — говорит. — Зачем берете на чай, сами себя унижаете? Вот при коммунизме официанты в милицию будут тянуть таких, кто сунет им на чай!» — «При коммунизме, говорю, может, и милиции не будет». — «Ну, доживем до него, увидим, как будет. А пока что — строить его нужно».
Рассказал ей про свое сиротство, но и тут она меня пристыдила. «Ты, говорит, матери лишился, пока воевал, а я вот, мать, осталась — три похоронных на сыновей получила. И живу, с людьми… Что ж, тебе колхоз, где ты вырос и столько лет работал, — чужой?»
Вот такую землячку встретил… Еще раза два вечером приходил к ней. Потом закончилась сессия, уехала она домой. Я ее проводил на вокзал, передал привет тихому Дону… И с того времени совсем потерял я покой. Из ресторана этого меня вскорости уволили. Ну, тут уж сам был виноват — несколько раз являлся на работу в нетрезвом виде. Пошел подавать по кафе-закусочным, пивным. А время — к весне. Жил я в Сокольниках. Идешь на рассвете через парк домой — почка набухает на дереве, землей прелой пахнет, город спит, тишина, днем бы не услышал, а в этот час слышишь все: и как ручейки в парке где-то в балочках журчат и гуси пролетят высоко-высоко, спешат с юга в родные края — слышишь… Сны начали меня одолевать. Все вижу: вагончик полевой при дороге, костер, дымок, ребят наших вижу и трактор свой, «СТЗ», колесник, мотор номер 35587. Есть такие номера, которых во всю жизнь не забудешь. Был я в комсомоле — до сих пор помню номер билета, помню номер боевой винтовки и номер трактора, на котором начинал работать…
Однажды ночью, не заходя домой, прямо с работы, пошел на вокзал, взял билет и поехал. На билет до Ростова не хватило денег, взял до Курска. Вышел из вагона, поглядел вокруг — тоже родная земля. Я же здесь воевал на Курской дуге… Продал на базаре в Курске шубу — была у меня хорошая драповая шуба на меху, купил одежонку попроще, хватило с той шубы и на сапоги, еще и осталось, сел в пригородный и приехал вот сюда, в вашу МТС.
— Вашу, нашу…
— Да теперь уж нашу. Спрашиваю: «Нужны вам трактористы?» — «Нужны!» — говорят. Ну, а дальше что ж вам о своей жизни объяснять? Сами все знаете. И как женился и как хатой обзаводился. С Улей мы знакомы еще с сорок третьего года. Когда в Березовке на дуге оборону держали, я три месяца жил у них в хате со своими батарейцами. А не приехал сюда сразу после демобилизации, во-первых, потому, что она на мои письма не отвечала, а во-вторых, этот Дракин подвернулся: «Поедем, найдем работенку почище!..»
— Так бы и говорил. Не только то, стало быть, потянуло тебя сюда, что на Курской дуге воевал.
— Поехал Серега за дугой, а нашел тут и хомут!
— Затянули парню супонь! Довольно выбрыкивать!
— Уля затянет!..
— А почему ж она на твои письма не отвечала?
— Ну, товарищи, это уж дело наше личное, семейное.
— Не потому ли, что ты и Зиночке Михайловой писал, соседке?
— Вот они небось поделились друг с дружкой радостью, да обе и не стали тебе отвечать.
— Бывали, товарищи, ошибки в жизни, признаю. — Сергей вздохнул, встал, перекинул салфетку через локоть. — Ну что ж — приступим? Лукерья Федоровна! Готово у вас?.. Что прикажете подать на первое? Есть консоме с пашотом, есть рассольник рыбный с фрикадельками, есть суп харчо. Не надо первого? Сразу второе? Рагу из баранины? Есть, подаю. Водочку сами разольете или поухаживать?..
Пылает костер на крутом берегу реки, разгоняет дымом комаров. В гостях у трактористов — председатель колхоза Семен Мокеич Туголуков. Семен Мокеич по-честному хотел принять участие в складчине, совал не раз деньги бригадиру тракторного отряда — его вклад категорически отвергли.
— Сегодня, Мокеич, мы тебя поим-кормим. Но тебе перед нами и ответ держать!
— Это как сказать. Кому — перед кем! — отвечал твердо Семен Мокеич.
— Сегодня наш день. Как Восьмого марта, женский день, мужчина обязан женщине подчиниться, так сегодня — наше первое слово.
— Почему вы, Семен Мокеич, не выступили на собрании, не рассказали, как живете с нами, трактористами, как нам помогаете?
— Я вам, ребята, уже говорил: на прошлой неделе вставил новые зубы, не обработалось еще во рту, не могу выступать.
— Язык зацепляется за зубы?
— Не выговорите слово «механизация»?
— Вместо «механизация» получится махинизация.
— А что! Так оно у вас подчас и выходит — махинизация. Жалко, что нет здесь вашего директора, я б ему так и высказал! Черные пары, нужно и не нужно, культивируете по пять раз, эта работенка вам нравится, тут нетрудно нагнать гектары в переводе на мягкую пахоту. А доходит дело до зяби — у вас уже и планы перевыполнены, и горючее израсходовано, лимитов нет. Это что — не махинация? Гремит МТС на всю область — передовая! Самая высокая выработка на трактор! Очковтирательство, а не выработка!
— Это не от нас исходит, Мокеич. У директора свои расчеты, он за перевыполнение мягких гектаров премии получает. А мы простые люди. Ты с нами поговори.
— Простые! А вам за что трудодни пишут! Не за выработку! У вас тоже своя прогрессивка. Если нам правительство приказывает: сочетать технику с живым тяглом, так нужно делать это с толком. Пары прокультивировать — это мы сможем и на лошадях, не поспешайте поперед батька в пекло! Вы нам зябь пашите, вот! Это потруднее. Под свеклу пашите, на тридцать сантиметров, у нас для такой пахоты и конных плугов нет. Доколе это безобразие будет продолжаться! Каждый год половина площади остается под весновспашку!
— Мокеич! Есть и наша вина, не отрицаем, но вам же сказали уже: сегодня наш день.
— А ежели ваш день, так что — богу молиться на вас?
— Молиться не надо, а все-таки объясни ты, Семен Мокеич, почему так получается: в других колхозах питание трактористов обошлось за лето по триста рублей с носу, а нам насчитали за прошлый год почти по тысяче?
— Чем вы нас таким особенным кормили? Куриными котлетами, что ли?
— Такая же картошка, такой же борщ.
— Кабы такой! Как вам не стыдно было предлагать нам по восемь рублей мясо с той коровы, что сгорела, когда молния в стадо ударила? Трактористы отказались — дорого; вывезли на базар, по четыре рубля просили — никто не берет. Ну — вези назад. Переварили то мясо, перемешали с отходами — скормили курчатам на птицеферме. В «Крокодил» надо писать про такую вашу доброту!
— Приедет начальник из района — тому выписываете продукты «по себестоимости». А трактористам — втридорога.
— По среднерыночным ценам. По закону.
— Какие же среднерыночные, если на базаре по четыре рубля не берут то мясо, что нам по восемь считаете?
— Плохо получается, Семен Мокеич! Колхоз считают передовым, а трактористы отказались от общественного питания! Не по карману. Как единоличники, с узелками в поле ходим. Вам же, правлению, неприлично!
— Будете хорошо работать — буду хорошо кормить.
— Вот что! А может, давайте жребий метнем, с чего начинать? Лучше покормите — лучше поработаем.
— Питание в поле и вагон — это основное для тракторной бригады, Семен Мокеич! Без этого и бригада не бригада. Как я могу с них дисциплину требовать, если, скажем, прошел ливень и ребятам обсушиться негде, бегут домой ночевать, за десять километров?
— Есть у вас вагон, чего голову морочите!
— То не вагон, собачья будка.
— Нет, не собачья — куриная. Это нам отдали походный курятник, в котором колхоз когда-то кур вывозил в поле на черепашку.
— Трем человекам только в ней лечь.
— А прицепщикам куда деваться? Тоже живые люди.
— Осень придет, холода, дожди — за целые сутки душу негде отогреть!
— Не видали вы, что ли, хороших вагонов, что эту конуру на колесах называете вагоном? Поезжайте в «Красный Октябрь», посмотрите: за пятнадцать человек вагон, полочки, матрацы, двойные стены, утепленные, печка железная для осенних холодов, радиоприемник, библиотечка. Вот то забота о своих трактористах!
— Давай, Мокеич, сегодня, в наш торжественный день, так договоримся. Мы признаем: плохо работали. Был и брак на пахоте, и не укладывались в сроки, и с этими мягкими гектарами хитрили, нечего греха таить. Обещаем, что свои ошибки ликвидируем. Но и вам, правлению колхоза, нужно перестроиться в корне!
— Если вам еще и матрацы и радио, так меня колхозники живьем съедят! И так нареканий не оберешься: все трактористам да трактористам, помешались вы на своих трактористах!
— Кто ж может такое сказать: помешались на трактористах? Только самые несознательные элементы. И ты, Мокеич, за ними в хвосте плетешься. Не к лицу культурному председателю! А сознательные колхозники понимают — на нас все полеводство держится. И знают, что работенка у нас нелегкая. Кого никогда не увидишь с женою вечером в клубе? Тракториста с женою не увидишь. Потому что он все лето в поле живет. А легла зима — он надел опять свою промасленную робу и пошел в МТС на ремонт, до весны.
— Семен Мокеич! Вы, может, тоже такого мнения, что трактористы склочники и горлопаны? Из-за всякого пустяка, мол, скандалы поднимают. Так нас само дело заставляет скандалить! У нас в руках — дорогая техника. Если вы нам выделили на обслуживание самых последних кляч и воду или горючее не подвозят вовремя — получаются простои. А что значит простой у тракториста? Когда он спит под кустиком, а машина стоит, не он один спит — с ним тридцать лошадиных сил спят!
— А то и все восемьдесят, если дизель простаивает!
— Отношение у нас в колхозе к трактористам — прямо как при старом режиме!
— Сказал! При старом режиме трактористов не было.
— За такое отношение еще в тридцать третьем году политотделы председателям холку намыливали!
— Да вы что, ребята, в самом деле? Зачем меня пригласили до своего коша? Выпить-закусить или чтоб поругаться?
— И за тем и за другим, товарищ председатель.
— А когда ж с вами в другое время по душам поговорить? На табор к нам приедете — трактористы в борозде работают, один-двое лишь на профилактике стоят. В одиночку с вами несподручно ругаться. А тут мы все в сборе.
— Гуртом и батька легче бить!..
Парень с двумя орденами Славы и несколькими медалями на кителе защитного цвета прилег спиною к дереву, смотрит в пламенеющее небо на западе, где только что скрылось солнце за горизонтом, тихо наигрывает на баяне. Вокруг него на траве, в разных позах, сидя и лежа, расположилась вся бригада… И у другого тракториста — медали, ордена и у третьего — медали, нашивки за ранения… Негромкая песня, вполголоса: «Эх, дороги, пыль да туман…»
— А еще был у нас на Крымском фронте такой случай в сорок втором году, — начинает рассказывать баянист, когда песня умолкает. — Один «КВ» подорвался на мине. Пехота отошла, залегла, атака не удалась, и этот «КВ» остался в нейтральной полосе. Семь суток просидел экипаж в танке, на морозе, градусов пятнадцать был мороз, все ждали, когда наши попытаются опять отбить высотку, чтобы поддержать огнем с места. Немцы не стреляли по этому танку, хотели, должно быть, его целеньким захватить, — гусеницу только разорвало, — а наши думали, что экипаж погиб. И вдруг на восьмые сутки, когда пехота пошла опять в атаку, ожил «КВ»! Как сыпанул по немцам! Взяли высоту!.. Семь суток — в броне, в железе, на морозе. Вытащили ребят из машины, а они ходить не могут, ноги распухли, как колоды. Сразу отправили их в медсанбат, оттуда в госпиталь, не знаю, пришлось ли им еще воевать. Все пятеро были трактористы.
— Из трактористов хорошие выходили солдаты, — говорит другой фронтовик с медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Красного Знамени. — Это было здорово придумано! Сколько деревенской молодежи обучили управлять машинами! Что ж, парень знает технику, он что хочешь быстро освоит: и танк, и миномет, и пушку. А к лагерной жизни нам не привыкать…
— Наступали мы в Донбассе летом сорок третьего года, — начинает рассказывать третий. — Я был в танковом десанте, командовал отделением автоматчиков. Танки и мы, пехота, расположились перед вечером в посадке у дороги. Кто спит, кто оружие чистит, кто бреется. На этом месте ждать нам боевого приказа из штаба бригады. Слышим — тракторишко где-то близко жужжит, за бугром, и тут только мы обратили внимание: поле-то за посадкой вспахано, уже травой заросло, майский пар. А расстояние от передовой — всего километров десять. Показался трактор на бугру, «ХТЗ», колесный, к нам спускается, тянет культиваторы, дымит, дребезжит, за рулем — девчушка лет шестнадцати, вся в масле, в копоти, зубы только блестят. Остановила машину, соскочила с сиденья, — культиваторы разладились в сцепе, — что-то бьет молотком, ключом поддевает, силится разогнуть. Подошли мы, танкисты и я со своими бойцами, давай ей помогать. А она сердится на нас: «Чего вас сюда принесло? Не могли другого места выбрать? Вон в балке роща, там бы лучше замаскировали свои танки. Увидит «рама», засечет, прилетят, начнут бомбить, исковыряют мне все поле. Мы ж с напарницей ночью без фар работаем, еще сверзишься в воронку с трактором!» — «Не сердись, говорим, рыжая, мы гости ненадолго. К утру и след простынет». Я говорю: «Посиди, отдохни, а я разочка два обойду загон». — «А вы, спрашивает, понимаете по трактору?» — «Немножко, говорю, понимаю». — «На моем не поедете, дюже много у него секретов, все на бечевочках да на палочках держится. Этому трактору в субботу сто лет. Сама карбюратор собрала из утильсырья. Коробка скоростей такая, что едешь и души нет — вот сейчас рассыплется!» — «А чего ж вы, говорю, так запустили пар! Сорняки на семена разводите? Его пора уже третий раз культивировать». — «Пар запустили! Вот еще мне — инспектор по качеству! Вы бы спросили, как мы его пахали? Пропашешь борозду, а им, гадам подслеповатым, сверху показывается, что войска окопы роют. Как засыплют бомбами! А сколько у нас тракторов-то? МТС этой весною только начала работать. До войны две бригады обслуживали наш колхоз, а теперь — два трактора!» Починили мы ей тяги: «Поезжай, да не круто заворачивай на углах, оглядывайся». — «Вот спасибочко вам!» Подобрела. «А свечек у вас нет лишних? — спрашивает танкистов. — Дали бы мне хоть одну, а?» Надавали ей танкисты свечей фрицевских, трофейных. «Вот спасибочко!.. А автолу мне немножко не отольете?» — «Автолу, милая, говорим, не можем дать, самим нужен. В бой идем, полагается иметь запас, про всякий случай. А вот свет тебе на машине оборудуем. Почему, говоришь, ночью без света работаете?» — «Маскировка. Да, сказать, и лампочек нету, ничего нету». — «Ну вот скоро фронт продвинется дальше, будешь светить без опаски». Взялись ребята, сделали проводку, установили ей на машине две фары, одну на радиаторе, вперед, другую назад, на плуг. Уж она благодарила, благодарила!.. А по дороге, смотрим, пылит уже мотоциклист, везет нам приказ из штаба бригады. Стемнело — передвинулись на исходные позиции. На рассвете пошли в бой. Началось наступление… Как-то, уже в Венгрии, попалась мне газета «Правда Украины». Про это самое село писали, про этот район — название села мне запомнилось. Одна трактористка в первый год после освобождения вспахала на старом «ХТЗ» что-то около тысячи гектаров. Наградили ее орденом Ленина. Эта ли девушка, что сердилась на нас, — не знаю. Не спросили мы тогда, как ее звать…
Парень с двумя орденами Славы берет снова баян, пробует басы, начинает знакомую фронтовую. Трактористы, фронтовики и молодежь, еще не служившая в армии, подхватывают с середины песни: «Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Песня крепнет, ширится, голоса у ребят свежие, сильные, слышно их песню, вероятно, далеко в окрестности… Да, слышно. По ту сторону реки, за лугом, в селе откликаются девичьи голоса — поют ту же песню.
Поздно вечером секретарь райкома партии подводил у себя в кабинете с товарищами, принимавшими участие в проведении «Дня тракториста», итоги — удался ли праздник?
— В другой раз сделаем немножко не так. Сама жизнь нам кое-что подсказывает. Эти споры, здоровые взаимные претензии, что разгорелись уже после нашей официальной части, надо обострить, подогреть. Пусть поспорят трактористы с председателями колхозов, полеводческими бригадирами, побранят друг друга — ничего страшного, на пользу делу пойдет!.. Вот еще что я думаю. Обяжем всех председателей колхозов вывести на праздник вагоны, в которых живут их трактористы. Устроим на этом лугу нечто вроде выставки. Каждая тракторная бригада станет на своем месте, со своим вагоном — прямо как живут они в поле. Пусть любуются люди хорошими, теплыми, радиофицированными вагонами, пусть смеются над курятниками. Верно? Может быть, даже таблички на каждом вагоне: во сколько обходится в этом колхозе трактористам питание в день, чем их кормят.
— Но не все с колхоза требовать, — подал голос кто-то. — Надо и трактористов покритиковать. И их работу надо показать на выставке.
— Обязательно! — продолжал секретарь. — Я же не договорил. На стоянке каждой бригады сделать стенд. Диаграммы: выработка, простои, расход горючего. Но выработка еще не самое главное — какой урожай дала эта бригада колхозу? Экспонаты, образцы урожая за прошлый год. Прямо выставить снопы пшеницы, ячменя, овса. Где-то будут вот такие снопы, рукой до колоса не достать, а где-то и поменьше. Пусть люди смотрят, сравнивают, критикуют.
— Это будет очень хорошо, если так сделаем, — сказал председатель райисполкома. — Только вот еще что — речей бы поменьше. Знаешь, сколько ты сегодня говорил? Почти два часа. Утомительно. Народ, не привыкший к заседаниям, духота, разморило их в помещении, спят. Надо бы как-то короче, праздничнее.
— Да, доклад я построил неудачно, не учел особенностей сегодняшнего собрания. Нужно короче и торжественнее — согласен. А директорам МТС просто нужно огласить свои приказы к этому дню: итоги соревнования, премирование лучших механизаторов. Больше надо оставить времени для самодеятельности, гулянья. Артистов, может быть, не только своих организуем. В Москву напишем. Из Большого театра, может, пришлют к нам бригаду на «День тракториста»? Лиха беда — начало. А в общем ничего, товарищи. Удался праздник. Но в другой раз сделаем лучше!
1952
Без роду, без племени
Этих людей можно встретить на железнодорожных станциях, на речных пристанях, на перекрестках всякого рода путей сообщения.
— Куда едете, гражданин?
— В Белоречку пробираюсь. В станицу Белореченскую.
— Откуда?
— Из Саратовской области.
— Зачем приехали на Кубань?
— В колхоз какой-нибудь подамся… Недород, милый, хлебушка мало получили.
Спросишь другого, заказывающего билеты в обратном направлении.
— А вы куда?
— В Курск. Домой.
— Не понравилось здесь?
— Нет.
— Почему?
— Да что ж, от чего убегал, от того как раз и не убег. Сказывали — Кубань такой край, где никогда неурожаю не бывает, а оно и здесь то ж случилось… В колхозе был я тут в одном. Вспахали, посеяли, все благополучно, росло хорошо, — откуда ни возьмись, черепашка эта самая, начала подъедать, повредила посевы… А у нас нынче, в нашем колхозе, пишут мне, урожай сильный на все. И на зерно и на овощи. По пяти килограммов пшенички на трудодень дают. Вот какая история…
— Значит — обратно?
— Обратно…
Из дальнейшего разговора выясняется, что это у него уже не первый рейс туда-сюда. Он бывал на юге и в других местах, бывал на Дону, на Украине, оттуда тоже возвращался в Курскую область, теперь вот приехал на Кубань, но опять неудачно.
Таких непоседливых искателей богатого трудодня называют в станицах «колхозники до первого градобоя». Сами они именуют себя обычно переселенцами, хотя их кочевье по стране ничего не имеет общего с тем переселением, которое поощряется у нас и необходимо для полного освоения наших природных богатств. Едут они, не считаясь ни с какими государственными планами переселения, по своему маршруту, и не задерживаются долго на одном месте. Есть люди, сделавшие переезды с места на место, из колхоза в колхоз своего рода профессией, доходной и не особенно трудной, если не считать дорожных неудобств. Есть побуждаемые к «эмиграции» с родины причинами иного порядка.
Вот несколько типов таких «переселенцев»-перебежчиков, встречавшихся мне на Кубани.
Вокзал станции Армавир. Время — ранняя весна, на улицах под заборами лежит клочьями снег, грязный, мокрый, дует сырой ветер, холодно, а в вокзале — духота от большого скопления пассажиров.
В углу зала ожидания расположилась семья: муж, жена, четверо детей. Едут, видимо, издалека, с севера. На нем меховая куртка, сапоги из оленьей шкуры, расшитые по голенищам узорами. На детях и на жене — сибирские валенки-чесанки, каких не умеют делать на юге, мягкие и плотные, не пропускающие воду. Расположились они по-домашнему. Жена, чернобровая, высокая женщина с желтым, усталым лицом, принесла выстиранные на перроне под краном детские пеленки, развесила их сушить на батареях парового отопления. Старшие девочки, привязав пустой мешок одним концом за трубу отопления, другим за ручку поставленного стоймя тяжелого чемодана, сделали из него подвесную люльку, укачивают истомившегося в вокзальной духоте маленького ребенка. Мальчик лет трех возит по полу между узлами и чемоданами привязанную за нитку коробку из-под папирос.
Я беседую с главой семьи. Глава — молодой человек, ему, похоже, нет и тридцати, жена старше его. Молодой, но бывалый, а еще больше — хочет показать себя бывалым. Это сквозит в его развязных манерах, в напускной солидности жиденького баска, когда он подзывает носильщика и говорит: «Слушай, носильщик, четыре билета на сорок первый, плацкартные. Заплачу не по таксе. Не можешь?.. Ну и Армавир преподобный! Семь тысяч километров проехал, такой станции не видел! Не хотят даже разговаривать с людьми! Безобразие!» На руке у него маленькие дамские часики. Он то и дело отворачивает рукав меховой куртки и поглядывает на них, хотя против нас на стене висят большие круглые вокзальные часы и спешить ему некуда — сорок первый отправляется в пять вечера, а сейчас утро.
Он словоохотлив. Рассказывает, что едет из Сибири, работал там «по колхозам», мастер на все руки: столяр, плотник, бондарь, колесник. Уехал оттуда потому, что не понравился климат. Кроме того, я узнаю, что меховую куртку свою он купил в Забайкалье за золотые рубли (колхоз их занимался в свободное время золотодобычей, выделяя для того специальную бригаду), унты ему продал перед отъездом знакомый бурят, и в багаже у него едет еще много всякого добра, нажитого там.
Наружность его невзрачна. Ростом невелик, рябоват, маленький носик пуговкой, пустые, невыразительные глаза. Говор у него южный: «нехай», «аж». Не приходится долго гадать, откуда он родом, он сам говорит: «Думал было заехать на родину, да плохо с пересадками. Крюку надо давать, а потом еще автомашиной ехать — за Сальском, на Маныче, хутор Дубовский…»
Беседуем о том о сем. Не спешу признаваться, что я сотрудник газеты, но приходится к месту сказать, что я тоже бывал и в Сибири, и на Маныче, и на Дону, и на Волге, и всю Кубань объездил. Мой дорожный, видавший виды овчинный полушубок и осведомленность в географии СССР располагают ко мне парня. Он принимает меня за коллегу по образу жизни.
— А сейчас откуда едешь? — спрашивает он.
— Из Ейского района.
— Это Ейск, что на Азовском море? Слыхал… Ну как — устроился?
— Нет, — отвечаю, — не устроился.
— А как там вообще?
— Насчет чего?
— Насчет урожаю, колхозов.
— Неплохо.
Рассказываю ему, что видел в Ейском районе, какие там колхозы, доходность…
— А так, чтобы чего-нибудь особенного, выдающегося — нету?
— Ну, здесь, в Краснодарском крае, есть, конечно, колхозы и покрепче… А вы сейчас прямо из Сибири?
— Нет, я уже и тут кой-куда заглянул. В М-ской был, — называет он станицу на Туапсинской ветке. — Сегодня ночью оттуда.
— Ну, что там? — спрашиваю в тон ему.
— Да тоже ничего такого подходящего. Пять колхозов, совхоз есть… Я, собственно, чего туда заезжал? Наши дубовские люди живут там в одном колхозе, я из Сибири прописал им, что хочу переехать на Кубань, вот они, значит, мне и отбили телеграмму: «Езжай к нам, в М-скую». Зря только время провел. Надо было ехать прямо, куда наметил, не заворачивать.
— Что — не понравилось там?
— Чепуха, — махнул он рукой. — На людей никогда нельзя доверяться, пока сам не посмотришь. Кто новины не видал, тот и ветоши рад… Самое большое — шесть килограммов на трудодень. А то — пять килограммов, четыре. Обыкновенные колхозы, среднего качества. И там, где шесть, то было в прошлом году, а теперь навряд, чтоб удержались они на этой точке… А она, понимаешь, — кивнул на жену, — злится на меня: почему не остались? Семь тысяч километров проехали, а еще на каких-нибудь полтораста — двести терпения не хватает. Я ей говорю: дура, ты пойми, что мы не куда-нибудь приехали, а на Кубань. Тут можно такой колхоз выбрать — закачаешься! Есть колхозы — по пять миллионов доходу имеют. Верно?
— Верно…
— Вот. Тут есть из чего выбрать. Кубань — она издавна славится. Какая нам неволя? Будто так уж обедняли, что некуда деваться.
Жена ничего не ответила ему. Она хмуро молчала во все время нашего разговора. Нашла себе и здесь, на вокзале, женскую работу — латала какие-то тряпки, поглядывая иногда на окна, за которыми проносились без остановки составы с цистернами.
Мне интересно было услышать от этого парня более обстоятельную характеристику м-ских колхозов. Цифры распределения доходов он назвал приличные. Да я и сам бывал в М-ской не раз; знал хорошо эти колхозы. Один колхоз там действительно можно было отнести к числу «среднего качества», даже «ниже среднего», остальные же были зажиточные, крепкие колхозы с многосторонне развитым хозяйством. И у нас завязался профессиональный разговор, как у двух знатоков своего дела. Больше рассказывал он, я слушал.
— А ты что, может, поехать туда хочешь? — начал он. — Не стоит, не советую. Сказать по правде, колхозы там хорошие, но только для местного человека, который на корню сидит, а так, чтоб подработать, — негде. Нету такого колхоза, чтоб уж дюже был, как бы сказать, рынтабельный для нас. Ну вот тебе, к примеру. Есть там «Волна революции» этот самый, где шесть кило на трудодень. Так, по виду, ничего колхоз, урожайность у них, дисциплина, порядочек. Вот и ей, — опять кивнул он на жену, — понравилось там: машинами возят колхозников в поле, для женщин с грудными детьми выделили участок возле самой станицы, ясли хорошие. Ладно, согласен, неплохо это все — ясли, машины. Работать там можно с удобствами. Но получать-то что будем? Я и землякам своим сказал: тикайте, пока не поздно! По шесть кило вы тут уж не оторвете. А почему я так заключаю? Чересчур ударились они в строительство. Я как узнал, что они наметили строить: канал — в двадцать тысяч трудодней обойдется, — два коровника, свинарник, птичник, культурные табора, звуковое кино — э-э, думаю, тут дело не попрет! Со мною случалось уже такое. Не со мною лично, а с одним моим корешком, Федькой Зубовым… Приехали мы с ним, понимаешь, в Казахстан в тридцать седьмом году, в Карагандинскую область. Федор вступил в один колхоз, я — в другой, — разошлись. Федоров колхоз — махина, показательное хозяйство, постройки богатейшие, водопровод, автоматические поилки, электричеством коров доят. Вот ему это все в глаза кинулось — прямо туда понес заявление. Так его там и подоили! Дожил до отчетного года — получил от жилетки рукава. Оказывается, все это у них еще не оплачено было, кредиты брали на строительство, а их же отдавать надо, покупали за хлеб лес, железо. Неделимый фонд весь доход пожрал. Ишачил, ишачил парень лето за чужие долги — с чем пришел, с тем и ушел. А мне, понимаешь, это сразу подозрительным показалось, ихние поилки-доилки, и я туда не рискнул вступать, выбрал себе другой колхоз, попроще. Небольшой колхозик и по виду небогатый. Правление помещается прямо в жилом доме у одного колхозника, и конторы еще не построили, скот стоит в таких завалюхах, как раньше у единоличников были, камыш, солома, ни одной крыши железной не увидишь, но скота держат много и сеют много. Всю землю распахали, такая нагрузка у них на трудоспособного, как нигде, работают здорово, день и ночь. Думаю себе — тут вернее дело будет. Так и получилось. Хлебом засыпались, два гурта скота продали, строительством не занимаются, расходов никаких — все на трудодни пошло. По пятнадцать килограммов зерном получили да по семь рублей деньгами. Вывез на базар сразу двенадцать подвод муки, продал на четырнадцать тысяч, да три тыщи из кассы получил — денежную часть — и поехал. Велосипед купил себе там, ружье бельгийское за тыщу двести. И Федора два месяца на своем иждивении содержал, покуда устроился он на новом месте. Вот какая штука. Так что я уже знаю, чем оно пахнет, когда много строят.
Он подмигнул мне и продолжал рассказывать про м-ские колхозы.
— Трое наших манычских живут в этом колхозе, в «Волне революции», а двое — в колхозе «Дружба». Тоже считается — передовой. И верно, не дурной колхоз. Если бы уж, скажем, безвыходное положение — можно туда податься. Пасека у них большая, животноводство, хлеба давали по пять кило. А нынче должно больше быть — триста гектаров новины распахали. Так — все хорошо. Но руководство у них, понимаешь, опасное. Председатель — парень малограмотный, недавно выдвинули из бригадиров, а бухгалтер — пьяница горький. Прямо на работе, в конторе, пьет. Открывает шкаф, гляжу — у него там на делах полно бутылок порожних. И говорят про него — малый жуликоватый, так что может этого председателя малограмотного во всякую минуту облапошить. И может, понимаешь, колхозников крепко обидеть. Почему мне об этом подумалось? Да, видишь, и такое случалось уже со мною. В Башкирии, в тридцать пятом году. Хапнул счетовод девяносто тысяч и — был таков! Впоследствии-то его поймали, да денег при нем оставалось всего пятьсот рублей. Колхоз небольшой, фонд трудодней — тысяч сорок пять, как посчитали мы — по два рубля с трудодня украл. У нас тогда с жинкой было пятьсот семьдесят трудодней. Я делал мебель для клуба, хода бричечные, подработал неплохо. Она дояркой работала. Тыща сто сорок рублей наши ухнули! Баян можно было б купить. Я в тридцать восьмом году купил в Ташкенте — тыщу триста заплатил, а тогда они дешевле стоили. Вот, думаю себе, как бы не повторилось такое, как в Башкирии! Довольно с меня: мало радости на растратчиков работать. Председатель уговаривает: «Оставайся, пиши заявление, нам плотники и колесники позарез нужны». — «Нет, говорю, мне у вас потому не нравится, что не в центре, далеко бабе на базар ходить», — отбрехался в общем, ушел… Ну что тебе еще рассказать? Есть там «Знамя труда», садово-огородный колхоз, семьдесят пять гектаров сада. Кто не в курсе, тот, конечно, сразу кинется: такая площадь сада — это ж капитал! А я первым делом спросил: какой был урожай в прошлом году? «В прошлом году, говорят, завалились фруктами, сильный урожай был». Тогда — все. Надо воздержаться. В этом году, значит, либо будет, либо нет, скорее всего — нет. Сад, он не всегда родит, бывает, перегуливает, одно лето родит, другое отдыхает. А «Вторая пятилетка» — четвертый колхоз — хмелем занимается. Очень рынтабельная штука, знаю. Только он, понимаешь, хмель, не сразу начинает доход давать, года через три, а сначала — одни расходы. Пошел туда — оказывается, они еще только закладывают плантацию, сушилки строят, колья заготавливают. Получили пять вагонов леса, кучу денег за него надо платить. Тоже — неподходяще. А пятый колхоз — забыл, как его звать, — совсем маломощный, захудалый какой-то, туда никто из наших не вступал. Урожайность низкая, потери большие, немолоченая пшеница до сих пор в скирдах стоит. Народ там какой-то сонный. Из-за руководства, я думаю. Может, потому что парторга у них нету. Спрашиваю: сколько у вас ефремовских звеньев? Никто не знает и понятия не имеет, что это такое — ефремовские звенья? Как дикари… Вот тебе и все колхозы. Ничего особенного. Жалеть незачем. Такое мы скрозь найдем.
— Сколько времени ты прожил в М-ской? — спросил я.
— Три дня.
Оставалось только позавидовать его наблюдательности.
— Здорово ты их обследовал, — похвалил я парня. — Прямо как какой-нибудь инспектор.
— А что ты думаешь! — ухмыльнулся он. — Вот пошли меня в любую станицу, дай неделю сроку, скажи: представь по всем колхозам полную отчетность, кто чего стоит, куда хозяйство идет, заворачивает, какое там руководство, чего от него можно ожидать — все сделаю, и будет без ошибки. Оно, понимаешь, когда много их видел, сразу бросается в глаза разница и где и у кого какие прорехи. В иной колхоз придешь, как глянешь: плетни повалены, бригадные дворы разгорожены, инвентарь разбросан — ну, все сразу можно понять, что тут за хозяева премилые…
— А напрасно ты все же уехал из М-ской, — сказал я. — Смотри, как там удачно складывается: сад, потом хмель, потом еще что-нибудь подвернулось бы. Надо было тебе для начала вступить в тот колхоз, где, говоришь, бухгалтер жулик. Авось на твое счастье он в этом году еще не проворуется. Подработал бы там, а на сорок первый год — в тот колхоз, где сад, как раз под урожай. А тем временем в третьем колхозе хмель подоспеет. Так и пошел бы, как по графику.
Он принял это за шутку, рассмеялся и ответил тоже шуткой:
— Так что — вернуться, может? Нет, корешок, такого со мною еще не случалось, чтоб уехать, а потом обратно на то же место вернуться. Может, когда кончу по разу, вторым заездом, ха-ха-ха!..
— Ну, и куда же ты теперь направляешься?
Парень мечтательно улыбнулся.
— Наметил я себе один колхоз. Там, — он махнул рукой, — за Краснодаром, к Черному морю… — Приподнявшись с чемодана, на котором сидел, он вытащил оттуда толстую книгу с тисненной золотом надписью на зеленом переплете: «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», стал ее перелистывать. — В Тюмени на вокзале купил. Семь пятьдесят заплатил, не жалею. Разные описания про колхозы, которые участвовали на выставке, — про полеводство ихнее, животноводство, доходность. И адреса указаны… Выбрал я себе колхозик. Если без брехни, что пишут про него, тогда — все! Виноградники у них, рис сеют. По два литра вина давали на трудодень. Это если нам вдвоем заработать, скажем, пятьсот трудодней — тыщу литров вина получим. Слышишь, Дарья? — обернулся он к жене. — По десять рублей литр — на десять тысяч одного вина! А ты горюешь, что не остались в той станице.
Дарья по-прежнему молчала, не высказывая сочувствия к восторгам мужа.
— Если все удачно будет — куплю себе там мотоцикл. Давно мечтаю мотоцикл заиметь. Так и наметил: в сороковом году — душа долой — купить! С коляской.
— А принимают там?
— Меня скрозь примут. На мастеров нынче кризис. Я ж и бондарь и колесник. И баянист, могу играть на вечерах в клубе — это тоже ценится.
…Настроение моего случайного «корешка» упало, когда пришлось признаться, что я сотрудник краевой газеты и разъезжаю не в поисках «рынтабельных» колхозов. Предполагая побывать вскоре на Маныче, я спросил у парня его фамилию и фамилии его земляков, перекочевавших в М-скую. Не мешало заглянуть на хутор, названный им, и выяснить, почему люди уезжают оттуда.
Он несколько минут молчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил, но совсем другим тоном. У него даже голос изменился, исчезли самоуверенные солидные нотки, веселое курносое лицо стало жалким, скучным.
Мне пришлось с полчаса выслушивать его объяснения, почему он никак не может прижиться на одном месте. В Казахстане у него дети стали хворать, врачи предписали переменить климат, в Башкирии градом выбило хлеб, на Дону был сильный неурожай, на Маныче очень уж донимали засухи. Потом он вдруг вспомнил, что какой-то человек обещал ему достать билеты на сорок первый, заторопился и, так и не сказав мне фамилию, ушел. Невысокая фигура его, придавленная тяжелой мохнатой меховой курткой, затерялась в толпе.
Я подсел к его жене. Женщина в отсутствие мужа оказалась разговорчивой, охотно отвечала на мои вопросы и, видимо, была рада, что нашелся в вокзальной сутолоке человек, с которым можно было отвести душу. Она слышала всю нашу беседу.
Ее взгляды на жизнь резко расходились со взглядами мужа. Вот вкратце, что она рассказала о себе. Была она родом с Донщины, из станицы Константиновской, казачка, там и жила безвыездно все время, пока не вышла замуж за этого человека (она назвала мне его имя и фамилию — Гунькин, Егор Тимофеевич). Гунькин у нее второй муж, и он тоже женат второй раз. Времени тому, как они сошлись, уже седьмой год. Она работала тогда в колхозе дояркой. Гунькин приехал в Константиновскую с Маныча, — это было, когда он еще только начинал бродяжничать, — вступил в их колхоз, там у него умерла жена, и он посватал ее, Дарью. У нее было тогда около пятисот трудодней, получила от колхоза в премию корову, хата была своя. Пожили они там полгода, а потом он уговорил ее ехать в Башкирию. Продали хату, корову, и вот с тех пор как сорвал ее с места, так и нет им пристанища.
— Врет он вам, что град, то-се, — сказала женщина. — Ничего не было. Просто вздумается ему, что где-то лучше, и едет.
Зарабатывали они всюду хорошо, но ей уже ничто не мило, устала от бродячей, скитальческой жизни. Вот и сейчас — двенадцать суток в дороге с грудным ребенком, и другой такой, что с рук не сходит. Да и денег-то этих заработанных она не видит. Муж туговат на кошелек, больше тратит деньги на себя, а на покупки для семьи не очень расщедривается. Старшим девочкам-школьницам особенно достается в этих переездах. В прошлом году с половины зимы стали ходить в школу, и вот опять, не кончился учебный год, уехали, почти полмесяца уже в дороге, и не видно, когда устроятся на месте. Сама она старше мужа на семь лет: ему тридцать три, ей сорок. А тут еще — нездоровье…
— А когда я жила в Константиновской, про меня тоже в газете писали, — сказала она, взглянув на меня. — Приезжал к нам из редакции селькор, на карточку меня снимал. Ударницей была…
И заключила рассказ внезапной вспышкой злости:
— Я уж думала — бросить его, нехай сам веется, так надоело! За дурною головою и ногам нема спокою. Девочку только жалко. Девочка эта — его. Если разойтись — возьмет ее, а я к ней привыкла, как к своей… А может, он и от дитя своего откажется? Я еще не говорила с ним… Бросить, уехать обратно в Константиновскую, в свой колхоз! Хату вот я продала там. Ну, я думаю, можно стребовать с него через суд, а? Деньги-то я ему отдала все. Как вы посоветуете, товарищ редактор?
Я посоветовал ей так и сделать — возвратиться в Константиновскую. И если дойдет у них до суда, то взыскать с Гунькина не только деньги за проданную хату и корову, но и половину всех его мотоциклов, баянов и прочего нажитого совместно добра.
— …Вот, стало быть, товарищ, потому и ездим мы, что есть куда поехать. Простору много. Не то что в какой-нибудь Швеции или Голландии. Там, поглядеть на карту — на одном краю позавтракал, на другом — пообедал, а ужинать уж и негде, не хватает, стало быть, государства на полный дневной рацион питания, ха-ха-ха! А у нас покуда от краю до краю доедешь — одной соли пуд съешь! Земля русская велика и обширна. Как в песне поется: «Ши-ро-ка-а страна мо-я ро-одна-а-я-я!..»
— Гражданин, здесь петь не разрешается! — осаживает веселого пассажира официантка.
— Нельзя? Не буду. Не разрешается — не надо, что ж поделаешь. Ты только не серчай, дорогая.
Разговор происходит в буфете станции Кавказская. Против меня за столиком сидит, облапив кружку с пивом, мужчина лет пятидесяти, бородатый, краснолицый, в полушубке нараспашку.
— А хорошие, парень, есть места на земле! Расчудесные! Вот жил я в Омской области, Сибирь считается, на каторгу раньше ссылали туда, людей пугали Сибирью, а ничего там страшного нету. Холоднее, правда, чем, к примеру, на моей родине, в Воронеже, но терпимо. Главное дело — тихо. Если мороз градусов на сорок, то уж тишина, и ветка не шелохнет. Зато природа там, охота! Казарки табунами ходят. Объездчиков верховых выделяли от колхоза, чтоб пужали птицу дикую, а ежели не пужать, вытолочут хлеб, как скотина. А рыбы! Семь озер было на нашем участке. Усадьбы прямо к озеру выходили. И снасти не требуется, руками можно рыбу брать. Пойдет баба огород поливать, зачерпнет ведром воды из озера, плеснет на капусту, а карась этакий, в пол-аршина, хвостом — шлеп, шлеп… Почему уехал оттуда? Опять ты про это самое. У меня, парень, натура такая: не могу долго на одном месте жить, какое б оно ни было распрекрасное. Кабы в рай попал, и там бы не засиделся. Интересно, брат, поглядеть, какая где жизнь, где чего строится, а то и смерть придет — ничего не видел, как крот в норе… Мне один товарищ уж говорил: «Ты, говорит, дядя, не по закону живешь, ты не советский труженик, а летун». А я ему отвечаю: «Нет, гражданин-товарищ, неправильное твое рассуждение, не летун я, а самый что ни есть радетельный хозяин». И доказал ему на факте. «Чье, говорю, у нас вот это все: города, реки, колхозы? Народное. Кто ему хозяин? Мы все, и я, стало быть, в том числе. Должон я свое хозяйство осмотреть, где что делается, может, где непорядки какие?» Ха-ха-ха! Это тоже не каждый решится такую заботу о своем хозяйстве проявить! Труд немалый — поездить столько!
— Не все по этой причине ездят. Есть такие, вероятно, что просто высматривают, где бы с меньшей затратой сил побольше заработать.
— Правильно, и такие имеются. Ну что ж, это давно известно: рыба ищет, где глубже, человек — где лучше.
— А что бы получилось, если бы все кинулись искать где лучше?
Да что, нехорошо получилось бы, это верно… Сбились бы все в один край, самый богатый, и земной шар с места сдвинули бы. Перекос получился б на одну сторону, попадали бы все к ядреной бабушке, куда-нибудь в Индийский океан, ха-ха-ха!.. Гражданочка, дорогая! Еще кружечку. Может, у вас тут и смеяться не разрешается? Можно, только потише? Ну, хорошо. Вы уж извиняйте, такой голос у меня.
Не поймешь моего веселого собеседника. Видом своим он не похож на убежденного бродягу, бескорыстного искателя приключений. Полушубок на нем добротный, из мягких романовских овчин, хорошие сапоги, сам плотен, здоров, семья есть у него, расположилась здесь же в вокзале. Я разговариваю с ним уже часа полтора. Встретились мы возле справочного бюро, где он делал остановку, на билетах, заштемпелеванных множеством компостеров, там началась наша беседа, оттуда мы пошли в буфет выпить по кружке пива, и вот заказываем уже по третьей, а мне все еще неясно — что это за чудак.
— Нет, парень, я не из таких, что гоняются за длинными рублями. Боже упаси! Я человек трудящий. Да нынче иначе и нельзя прожить. Поездишь — поработаешь, поработаешь — поездишь. Работал я и в совхозе и на крупзаводе — там у нас, в Воронежской области. Но больше — по колхозам. В колхозе как-то развязнее, ни гудка, ни часов, дело привычное, я же все-таки сам из хлеборобов. Только езжу я просто. Не выбираю доходность, пятое-десятое. Как Колумб Америку открывал — куда глаза глядят! Увижу картину какую-нибудь, обертку с конфеты либо с папирос — горы нарисованные, пальмы, море — вот, говорю женке, где мы еще не были! Собирайся, поедем. На счастье!.. Раз не поверишь, как случилось. На станции Основа, в Харькове, прихожу в кассу, говорю кассиру: «Дайте билеты». — «Куда?» — спрашивает. «Да куда-нибудь!» — говорю, ха-ха-ха! Он глядит на меня. «Как это — куда-нибудь?» — «Да так». А мне на самом деле так пришлось. Доездился до ручки, местность незнакомая, и денег сорок пять рублей осталось. Дал я ему эти сорок пять рублей. «Считай, говорю, два взрослых, два детских, куда хватит, туда и давай». Кассир было за пьяного меня принял, потом видит — человек при памяти, взял деньги, расчел по своей таблице, дал билеты до одного разъезда. И так, понимаешь, удачно пришлось. Высадились мы на разъезде, тут и хуторок поблизости. Пошли туда — колхоз, принимают. Неплохой колхоз оказался. По семь кил получили. Год прожил там.
Наконец-то стали добираться мы до «кил»…
— Вы, гражданин, рассказываете забавные вещи, вас интересно послушать, но давайте обсудим серьезно. Когда в старое время люди кочевали, было понятно — почему.
— Я, парень, в старое время никуда дальше своего города не ездил. Не знал, что там и есть за Воронежем.
— Ну, вам, может быть, не приходилось, а вообще-то ездил народ. Нужда, безземелье, неустройство в жизни. Но сейчас — другое положение. Всюду колхозы, земли достаточно, машин много. Везде можно одинаково хорошо устроить жизнь. Зачем же искать лучшего на стороне? Что значит — хороший колхоз? Это значит — люди там крепко поработали, годами наживали хозяйство, приводили в порядок землю, строили много. А вы — на готовое едете.
— Наживали? А мы, парень, не наживали?..
Я, видимо, затронул больное место в душе воронежского Колумба. Добродушная улыбка сбежала с его лица, густые морщинки на переносице и под глазами разошлись, и я увидел его глаза — холодные, серые, трезвые.
— А я не наживал? Я двенадцать лет у отца хребет гнул да сам восемнадцать лет хозяевал. Приедешь, бывало, в город на базар, и стакана чаю в столовой не выпьешь: это ж, рассчитываешь, пятак надо заплатить. Ночей не спал. Сам себя на лобогрейке к седушке привязывал, чтоб не свалиться под косу. И кому ж, спрашивается, наживал? Куда все девалось? В колхоз отдал. Забрали все до щепки! Так что же опять я должен наживать! И тогда — я, и теперь — я? Хватит с меня, нету дураков!
— Вот так бы и говорили… Долго же вы вспоминаете, что отдали в колхоз! Десять лет прошло. Должно быть, немало было кой-чего?
— Много, мало — мне хватило бы. И детям бедствовать не пришлось бы. А теперь нет ничего. Вот, как видишь, весь тут… Ты чего спрашиваешь? Может, думаешь — раскулаченный я? Нет. Кабы кулак был — не приняли бы в колхоз. Хочешь, документы покажу? Не надо? Ну, не надо. Я колхозник с самого начала, с тридцатого года. Только мой колхоз — от того места, где восходит солнце, до того, где заходит. Как у цыгана двор. — На его лицо опять легла маска добродушной веселой разухабистости. — А впрочем, парень, об чем мы с тобой спорим? Нажил, прожил — черт его бери! Богачу-кулаку и с казной не спится, бедняк гол как сокол, поет, веселится. Было мое, стало народное, и я — народ, стало быть — хозяин. Челове-ек про-хо-одит, ка-ак хо-зя-ин!.. Дорогая! Еще кружечку!..
А вот еще один. С этим я встретился на станции Лабинской, в предгорной части Кубани, где мы вместе ожидали за вокзалом автодрезину, курсировавшую по недостроенной железнодорожной ветке в горы.
Переселялся он с Украины, с Черниговщины, в одну из станиц, расположенных в верховьях Урупа.
— Пишут — гарно там. Пять автомашин имеют, электрическую станцию строят. Худобы богато, конеферма. Серебряную медаль получили на выставке за животноводство, — говорил украинец, мешковатый, угрюмый человек лет сорока. Он сидел на рельсе, сгорбив плечи, упершись локтями в колени, накручивал на палец ус. — Брат мой там с прошлого году и еще есть наши люди… А у нас дюже бедный колгосп, прямо гола земля, як получили от государства землю, так ничего на ней и не построили…
Он пустился в такой далекий путь впервые. Это было видно по багажу. Под насыпью железнодорожного полотна, на молодой весенней траве навалена была куча хлама, привезенного с Черниговщины: поломанные табуретки без ножек, кадушки с прогнившими днищами, деревянное стиральное корыто, узлы с перинами, на узлах — большой фанерный ящик, в котором скреблись куры. И, кроме всего, привязанные бечевочками за шеи к узлам, бродили взад-вперед по траве два кота.
Жена украинца — он звал ее Настей, — полная, круглолицая, с ясными голубыми глазами, сидела на узлах и с детским любопытством, открыв рот, осматривала все вокруг: маленький маневровый паровозик, подталкивающий вагоны к разгрузочной площадке, станицу, начинающуюся сразу за вокзалом, степь кубанскую, снежные горы, белеющие вдали в светлой прорези туч.
— С головою у нас не лагодится, — стал рассказывать невесело украинец, когда я попросил его объяснить подробнее, почему у них «дуже бедный колгосп».
— Как — с головою?
— Ну, по вашему сказать, — с председателем. Один был пьяница, другой такой, что все поглядывал за ворота, с директора птахокомбината его разжаловали, так ему, сердешному, не хотелось у нас робить! А зараз там такое — черт зна що! Митька Захарчук. Где ни хозяйновал, скрозь ему люди во все боки болячек сулят. А теперь еще нам его наделили. Хотели не принять — кто его знает как? Райком ручается: он, кажут, справится, будет лучше робить… Приняли, а сами зачали тикать во все стороны, бо бачим, что дела не будет. Туда зараз хорошего хозяина нужно, чтоб сумел обернуться. За десять лет ничего не нажили, ни животноводства нема, ни огорода, один хлеб и то — кило на трудодень. Чем жить?..
И продолжал:
— Сам знаю, что не годится шукать урожаю там, где не сеяли, и нелегко было нам с места рушать, но и дома сидеть — дело не указывает. Чего доброго дождешься?.. Нас этот Митька Захарчук, голова наш новый, прямо сбил с панталыку, все намерились тикать свет-заочи, бо мы ж его знаем, як облупленного, все его похождения. В «Червоном Жовтне» был — гамазею разорил. Там такая махина стояла, на пятьдесят тысяч пудов, рубленая, под цинком. Сничтожил! Из цинку цыбарок наделал, начал цыбарками торговать — подсобну отрасль открыл! А лес порезал на дрова для конторы. В «Пятыричци» променял дизель с огорода, которым капусту поливали, на легковой автомобиль. И на автомобиле не поездил, бо он без колес и без мотора, еще на десять тысяч ремонту треба, и капуста без поливу посохла. И у нас начал такие же штуки вытворять. Перед посевной банкет устроил для колхозников, чтоб отпраздновать первую борозду. Худобы не хватает в плуги запрягать, а он зарезал на тот банкет пару волов, самых сытых, такие были — за рога не достанешь! Вот тебе и хозяин! Не поправит он дела, а совсем разорит нас…
— И другого выхода нет, только — покинуть колхоз?
— А что сделаешь?.. Он, этот Митька Захарчук, я вам скажу, родом такой. У них и батько был с придурью и дед. Батько хату продал, чулочную машинку купил, ту, что чулки вяжет, думал гроши зароблять. Без хаты остался, и машинку баба на голове у него побила, бо она была такая, як Митькин автомобиль. А дед Захарчук, тот был трохи из плотников, и як задумал богатеть, то купил водяной млын и начал прироблять до него турбину, чтоб доразу и муку молола, и карусель крутила — девчат та парубков катать за плату, — пока нырял там в речке, все устанавливал турбину, зачепился в воде мотнею за корягу и утоп. Вся семья у них такая…
— Если вам, против вашего желания, навязали его в председатели, чего ж не жалуетесь? Надо писать в область, в Москву.
Украинец промолчал.
— Неписьменный он, — вздохнула, жалостливо поглядев на сгорбленную фигуру мужа, голубоглазая Настя, слушавшая наш разговор. — Обое мы такие. Я хоть трошки музюкаю по буквам, а он — никак… — И добавила: — Ты б, Грицько, рассказал человеку, как Митька хотел верблюдов за коней выменять.
Грицько махнул рукой.
— Да тут за целый день всего не расскажешь!.. Говорит: «Дайте мне командировку, поеду на Волгу за верблюдами. Это такая скотина, что як добре нагодувать ее раз, то две недели не ест и не пьет. Останется у нас лишний корм, продадим сено и поделим гроши на трудодни». Насилу сбили его гуртом. Говорим: «Куда же мы их поставим на зиму? Они в нашу конюшню не войдут». — «А мы, говорит, прорубаем в потолке над станками дырки, щоб горб як раз в ту дырку проходил…» Черт зна, що за человек! Сказать — дурной, так не дурной, а умные не такие…
— А почему, если уж тронулись вы с места, не поехать вам туда, куда плановые переселенцы едут: в Сибирь или на Дальний Восток? Получили бы пособие от государства, колхоз там помог бы вам.
— Нет, — ответил, покачав головой, украинец, — туда мы не поедем. Туда ехать, то надо насовсем, а мы так не рискуем. У нас дома и хата осталась… Думка была такая: поживем тут год або два, а там, может-таки, скинут Митьку Захарчука да налагодится дело — поедем обратно. Десять лет работали в колгоспе — как его кинуть?.. У нас там и усадьба хорошая, и речка близко. Родня вся там, моя и ее.
Простодушное детское лицо Насти затуманилось, когда речь зашла о покинутых родных местах. Она долго смотрела в ту сторону, откуда привез их поезд, потом глянула на горы, потупилась и заморгала глазами.
Один из пассажиров, сидевших с нами в ожидании дрезины, сказал, глядя на их багаж:
— И котов везут… Тетка, зачем котов везешь? Подсобное животноводство?
— Да кто его знает, что оно за место, куда мы едем, — ответила Настя. — Мы ж сроду еще никуда из дому не рушали. Может, там, в горах, мышей богато, або крыс, або… — Она отвернулась и заплакала.
Чем богаче край почвой, климатом, урожаями, как Кубань например, тем больше скопляется там таких бродячих «колхозников», без роду, без племени, начинающих уже понемногу забывать, откуда они впервые выехали.
Принимают их в колхозы довольно охотно и без особого разбора, даже там, где нет в действительности недостатка в рабочей силе. Бывает, в колхозе расшаталась трудовая дисциплина, отсюда и нехватка рабочих рук и затруднения с полевыми работами. Но вместо того чтобы заняться как следует укреплением дисциплины, руководители колхоза ищут выхода в приеме новых членов и нисколько, конечно, не поправляют этим дела, а только больше их расстраивают, потому что эти новые члены — «сезонники» дезорганизуют хозяйственные расчеты, превращают колхоз в проходной двор.
Есть еще и такие летуны, так называемые местные — в отличие от летунов «дальнего следования». Эти перебегают из колхоза в колхоз, даже не покидая родной хаты, — здесь же, в своей станице. Делают они это обычно в начале лета — не раньше и не позже, — когда можно уже почти безошибочно определить виды на урожай в каждом колхозе и когда еще не поздно, в случае перехода в другой колхоз, разработать там к концу года приличное количество трудодней. Захватила ли буря полосою землю колхоза, повредили ли посевы наводнение, град — такой ловкач быстро ориентируется, подает заявление с просьбой исключить его, определяет, где можно ожидать наилучшего урожая — в «Заре» или в «Победе», — и вступает туда. На следующий год обстановка меняется, похоже, что здесь с урожаем будет хуже, — он вступает в другой колхоз. Существующие правила приема и исключения из колхозов особых препятствий для таких перебежек не ставят.
…Есть у меня в одной кубанской станице старый знакомый, Леонтий Петрович Кривошапка, тоже плотник и столяр, как манычский «сибиряк» Гунькин. Колхозник он из тех, которых с самого начала не приходилось убеждать в преимуществах общественного труда. Вступил он в колхоз не колеблясь, честно работает одиннадцатый год, ни разу никуда из своей станицы не уезжал. Все, что видишь в колхозе, начиная от амбаров, коровников, конюшен и кончая беседками и арками в сквере у конторы правления, сделано если не целиком его руками, то не без его участия. Мастер он отличный, работает чисто, со вкусом, к ремеслу своему родовому, перешедшему от отца и деда, относится с почтением и от других требует того же. Я, наученный горьким опытом, бывая у него в мастерской, избегаю садиться на верстак. Он этого очень не любит, сердится не на шутку, и бывает, что держит в руках — фуганок ли, киянку, — тем и достает по спине неучтивого посетителя. «Куда прешься?! Соображаешь что-нибудь? Я на этом верстаке хлеб себе зарабатываю, а ты на него чем садишься? Пустота торичеллева!» Леонтий Петрович — старик грамотный и ввертывает иногда в разговоре, к месту и не к месту, подобные словечки, вычитанные в газетах, детских учебниках и других книжках, попадающихся ему в руки.
Я бываю у него часто, всякий раз, как приезжаю в их колхоз. С ним интересно поговорить. Иногда я проверяю в беседе с ним некоторые назревающие у меня темы, рассказываю ему о своих новых наблюдениях, сужу по его замечаниям, правильно ли я схватил существо вопроса.
Разговаривал я с ним и о колхозных летунах. Мне остается здесь только привести его слова. Он, пожалуй, выразил то, что думают и говорят по этому поводу многие честные колхозники.
— Я так считаю — это, должно быть, удальцы из тех, что поначалу громче всех кричали: «Паньщина! На коммунистов заставляете робить!» А теперь им колхозы понравились. Пожили, осмотрелись: эге, брат, это удобная штука! При нашей простоте. Хвалился, говоришь, тот Гунькин, что примут его? Всюду принимали, не отказывали? Правильно, примут, у нас еще не научились таких ершей на чистую воду выводить! Хапуны! Есть и у нас похожие на него. В прошлом году, в разгар уборки, двенадцать семей снялись и уехали. Хотели было не дать им хлеба по трудодням, задержать — куда там! Как наделали тарараму — в райком, в райисполком, к прокурору! И вот опять не закаялись, еще восемнадцать семей приняли: и саратовских, и из Чкаловский области, и с Украины. Не знаю, что с ними получится. Двое уже смылись — в Грузию поехали… Почему их много стало? Да потому, что узнали лазейку. Это же никакого труда не составляет. То начинай их сажать, сады эти, виноградники, жди, пока начнут родить, разводи скот, строй пруды, электростанции, а то вон, пожалуйста, все готовое. Только и хлопот — билет купить. Один поехал, испробовал, написал куму, свату, те другим подсоветовали — так, один по одному, это дело и развивается. Колхозы богатеют, и их, трутней, возле колхозов больше летает. По-моему, это самые отъявленные людишки. Присосалась на шею народа этакая вредная протоплазма и живет, сытая, пьяная, и нос в табаке… А есть, знаешь, и такие, как раньше говорили: без царя в голове. Если его не укрепить на одном месте — сиди работай, как все, не рыпайся никуда и семью не мучай, — так он до веку сам своей жизни не устроит… Надо бы уже как-то их прикоротить, кончать это безобразие. Нехорошо получается. Коренному колхознику обидно, а им — прибыльно. Вот он, обормот, поехал за длинными рублями, так надо бы так: приехал он туда, а там — не принимаем летунов! В другой колхоз сунулся, и там то же самое: не имеем права принимать. Погоняй-ка, парень, в те края, куда назначено переселение, там и обосновывайся. А нет — возвращайся обратно, откуда начинал циркулировать. Что тебя согнало оттуда? Засуха? Бери лопату, становись в ряд со всеми, копай пруды, каналы. Нынче всюду занялись люди строительством, в пустыни даже воду проводят. Такое время замечательное, а ты блукаешь по свету, как пес бездомный, нюхаешь, где жареным пахнет. Земля плохая? Ну что ж, и против этого средство имеется, научились уже и удобрять и подкармливать. Все в наших руках. Именно — в руках, а не в ногах. Это только про волков сказано, что их ноги кормят. А человека — руки. Вот и надо заставить их руками работать. А сделать это просто — запретить колхозам принимать перебежчиков, и все. Ежели не по плану — переселенцы, — не принимать! И прекратится, придется им где ни где пускать корни. Только чтоб строго-настрого всюду одинаковый закон и без нарушений — не принимать так не принимать!
С этим предложением Леонтия Петровича можно вполне согласиться, добавив лишь одно: в тех краях, где органы власти с легкой душой «снимают с учета» колхозников, отправляющихся «циркулировать» по стране, этим же самым органам, вместо такого немудреного занятия, следовало бы почаще заглядывать туда, где «с головою не лагодится», как в том колхозе, откуда уехал со своей жинкой Настей и котами «неписьменный» Грицько.
1940
Гуси летят
Конец марта. Темная южная ночь. Поезд Москва — Сочи стоит в придонской степи на маленькой станции, где скорым и не положено задерживаться, — что-то случилось на линии.
Черные, вспаханные осенью под зябь поля. Черное, в дождевых тучах небо. У станционных построек — черные, высокие, качающиеся силуэты деревьев. Лишь на крышах вагонов белеет привезенный с севера снег.
Еще днем поезд шел по заснеженным равнинам: мела вьюга, мороз разводил узоры на окнах вагона, а в вечерних сумерках, как-то незаметно, мы расстались с зимою. Потеплело, зачернело в полях, по морозным узорам на стеклах потекли дождевые струйки. И вот здесь, уже в южной степи, — застряли. Впереди весна бушевала вовсю, где-то полой водой не то сорвало мост, не то размыло насыпь. Нас обогнал по левой колее вспомогательный поезд с железнодорожными рабочими… Обогнал, прогудел вдали — и опять тишина вокруг степной станции. Только ветер, налетая на маленький живой островок в степи, свистит в голых ветках деревьев да звучно плещется крупный дождь в лужах на перроне.
Пассажиры, быстро уничтожив в вокзальном буфете все запасы пищи и питья, не рассчитанные на проходящие ночные поезда, расходятся по вагонам. Некоторое время в поезде, тихо стоящем у высокого перрона, уютно горит яркий электрический свет, затем электричество гаснет — поездная бригада экономит аккумуляторы, — зажигаются свечи. Паровоз будто уснул, машинисты не выглядывают из будки, под топкой не видно огня. И станционные рабочие, остукав колеса состава длинными молотками, и дежурный, повертевшись возле вагонов с фонарем, будто забыли о нашем поезде, ушли в вокзал, плотно, по-ночному притворив за собою все двери.
Глухо, безлюдно, темно на мокром перроне. Дождь то вдруг зачастит крупными весенними каплями из набежавшей тучи, смывая остатки снега с крыш вагонов, то утихнет. В такие минуты из-за станции, с наветренной стороны, из степи слышатся невнятные голоса, цокот колес, тихое ржанье усталых лошадей — где-то, застигнутый в пути непогодой и ночью, движется обоз.
Под длинным навесом пакгауза дождь не мочит. Приятно пройти по твердой сухой земле. Хотя под ногами не настоящая земля — асфальт. Земля, освободившаяся от снега, размытая теплым дождем, — вон там, за железной дорогой, в степи. Это от нее доносит ветер волнующие, манящие запахи чего-то родного, далекого, полузабытого.
Не все, вероятно, чуют весенними ночами этот древний запах земли, сбросившей снежные покровы; не всех он волнует. Что может источать ароматы на голой земле, в степи, где нет еще трав и цветов?.. Может быть, это только игра воображения, и ничем не пахнет перепластованная плугами, выветрившаяся на морозах мертвая почва, а просто волнует сама весна? Волнует человека, привыкшего много лет с тревогой и надеждой подстерегать ее рождение. Ведь каждый год от жизни ждешь лучшего. А для хлебороба новый год — не первое января, а первая борозда…
Мне не хочется уходить в душный вагон. Под навесом не холодно. Шальной порывистый ветер не знобит — ласкает, бодрит. Он дует с юга, из-за моря, из теплых стран. Такой теплый мартовский «моряк» здесь, в этих знакомых мне краях, бывает, и без дождя в день-два пожирает снег на полях, как саранча траву, превращает сугробы в глубоких балках в ревущие потоки. Это он накуролесил впереди на линии и остановил наш поезд, по всему видимо — надолго.
Красные глаза семафоров охраняют аварийную дорогу. Где-то в темной дали «просится» паровоз. Входной семафор загорается зеленым огнем. На полчаса станция оживает: выходят из вокзала рабочие в брезентовых непромокаемых плащах с капюшонами, «винцерадах», как называют их на юге; пробегает, лихо перепрыгивая лужи, проклиная темень и непогоду, дежурный куда-то в хвост нашего состава. На соседний путь принимается еще один поезд с севера… Но уже поздно, пассажиры спят. Лишь один из вновь прибывших, не обращая внимания на дождь, долго бродит по перрону, настойчиво дергает закрытую дверь буфета, пытается завязать разговор с телеграфисткой через двойное окно, спрашивает у всех проходящих железнодорожников: «Который час?» — и, наконец, исчезает в вокзале.
И опять — тишина, ветер и дождь — налётами…
Хожу под навесом, взад-вперед. Эхо отдает звуки шагов в дальнем конце пустого перрона… Нет, не эхо. Прислушиваюсь. Кто-то ходит там. Еще кому-то не спится этой ночью.
На середине пакгауза сближаемся. Из темноты выступает рослая плечистая фигура в зимнем пальто с меховым воротником, в меховой шапке. Фигура какого-то солидного представителя, едущего из Москвы на юг по важным служебным делам. Лица не видно.
— Гуляете? — заговаривает фигура. — Вот застряли мы. До утра, должно быть… Закурим? Махорочки купил в буфете. Спички есть?
А голос — не солидный, молодой.
— Ночка, а? Пахнет как. Земля растворилась. Полынком пахнет.
— Агроном, что ли? Да, вот чем пахнет земля: старой дикой полынью на нетронутых целинах. Как мог я, степняк, забыть ее горьковатый, крепкий, как затяжка зеленым самосадом, неистребимый ни морозами, ни дождями аромат?
— Эх, черт, два перегона осталось. Рукой подать. Хоть пешком иди.
— Куда вам?
— Станция Луговая, — отвечает пассажир. — Почти дома. А там двадцать километров влево по проселку, хутор Незванов… И фамилия моя — Незванов, — помолчав минуту, добавляет он. — Никита Незванов… И еду незваным гостем. Не писал туда. Ну, думаю… не прогонят…
Приятно встретить в такую неспокойную дорожную ночь человека, у которого, чувствуется с первых слов, тоже чего-то тревожно на душе.
— Хорошо! — распахнув шубу навстречу ветру и скинув шапку, говорит пассажир. — Бывало, проспишь ту ночь, когда Дон вскроется — наш хутор на Дону стоит, — и будто самого главного не увидел. Весны не увидел. Вроде как был на чьей-то свадьбе и невесту не посмотрел.
Низко-низко, кажется чуть не задевая макушки деревьев, пролетают над нами дикие гуси, спешат, перекликаются, гогочут так громко, что несколько минут за их криком не слышно собственного голоса. Мы смотрим вверх, но на черном небе их не увидишь, хотя бы они летели прямо над головой. Вероятно, и птицы сверху ничего не видят — все черно; темнота и тяжелые дождевые тучи прижали их к земле, только огни семафоров на большой железнодорожной магистрали помогают им находить дорогу ночью.
— Домой полетели, — говорит мой спутник. — Хорошо было в теплых краях, а домой тянет… Им туда домой, на север, а мне — туда…
Откуда же едет он на свой хутор Незванов, и кто он, какая его профессия? В наше время не бывает людей без профессии. По одежде он не похож на демобилизованного, во всяком случае, на недавно демобилизованного. Но под шубой звенят медали.
— Давно не были дома?
— Семь лет. С начала войны.
— Воевали?
— А как же… Что смотрите — не в таком виде возвращаюсь домой, как положено солдату? Не при полной форме? Это мне так случилось уехать из Москвы, что и на квартиру, где жил, не зашел. Во избежание лишнего скандалу. Все вещи там остались, и шинель с военным костюмом бросил.
— Поздновато возвращаетесь. Должно быть, и Курильских островов прихватили? Гарнизонную службу где-то несли?
— Какие там Курильские! Нет, на Восточном фронте не был. В сорок пятом демобилизовался из Германии. Закрутило меня, завертело, да не там, в другом месте… Эх, проспал Харьков: хотел всю эту амуницию загнать на толкучке, а попроще купить. Сапоги надо. Как пойду по грязи в ботинках? Машины в такую погоду не ходят. К нашему хутору нет шоссе. Не было, может, теперь вымостили.
Отсыревшая махорка плохо горит. Мы прикуриваем погасшие цигарки, и я разглядываю при свете спичек собеседника. Молодой парень, лет двадцати семи. Приятное, открытое, скуластое лицо. Темный чуб, растрепанный ветром. Большие сильные рабочие руки, кулак — кузнечная кувалда, лошадь оглушит. На ногтях — следы маникюра.
— Два года прожил — не видал, как солнце всходит. Соседи на работу идут, а я спать ложусь. Все не по-людски. Ну — вырвался… Старуха меня доконала. Землячка одна. Прямо, можно сказать, загнала в узкое место, ни взад, ни вперед…
Не пьян ли он? Похоже — нет. Если пьян, то не от вина, а от каких-то волнующих его чувств, которыми он явно хочет поделиться с кем-нибудь.
Дождь утих. Мы проходим на открытый перрон, где у двери вокзала есть скамеечка. Я сажусь, мой спутник принимает это как приглашение тоже сесть и продолжать беседу.
— Вы из какого вагона? — спрашивает он. — Из пятого? Вместе, значит, и ехали. Проводники наши теперь заперлись там и дрыхнут, не откроют. Или, — поднимает кулак, — покрепче постучим — услышат?.. Дежурный разбудит бригаду, не уедут без нас.
И до самого отправления поезда мы сидим на скамейке и парень рассказывает о себе: откуда едет, куда, зачем, что потерял было в жизни и чего ищет.
Тучи понемногу рассеиваются, поднимаются. Кое-где в черном небе, в разрывах туч показываются дрожащие от дождевых испарений звезды. Летят над нами гуси — огромные косяки, полчища диких гусей, — гортанно кричат, спешат к плавням, к лиманам, чтобы остаток ночи отдохнуть на большой воде в глухих, нежилых местах.
Теплый ветер качает деревья, осушает мокрые ветки, осушает разомлевшую землю в степи, где не сегодня завтра, чуть прогреет солнце, пойдут гулять тракторы с плугами и сеялками.
— В аккурат к севу приду домой, — говорит парень. — Я же был бригадиром тракторной бригады. Это мое дело — выезжать сейчас с вагончиком на место… За два-три дня, бывало, до начала работы выезжаем всем табором в степь, чтоб не прозевать момент, как станет зябь подсыхать. Будто артдивизион на походе, со своими тылами. Машины идут, гудят, аж земля дрожит, плуги, культиваторы тянем, красный вагон плывет по грязи за последним трактором, водовоз дед Стратон бычков погоняет, кухарка тетя Настя с черпаком идет, девчата-прицепщицы песни поют, и Бобик бежит следом, замыкающим. Был у меня Бобик, собачонка, дворняжка, все лето жил с нами в степи. Так его ребята выучили инструмент носить. Остановится трактор посреди выгона, что-то не ладится в моторе, тракторист кричит: «Бо-оби-ик! Напильник принеси личной, тот, что с деревянной ручкой». Ну, кто-нибудь сунет ему в зубы напильник — тащит. Донесения о выработке носил в эмтээс… А то как-то волк прибился к нам, старый, облезлый, должно быть, с жеребенком или с бараном уже не справиться, так он по мышам промышлял. Трактор пашет, разрывает плугом мышиные норы, мыши бегают по бороздам, а он их ловит и ест. Ходил, ходил за «сэтэзэ», потом за гусеничным «чэтэзэ» увязался. Сообразил: там четыре лемеха, а тут целых десять, шире захват, больше ему добычи. Даже звери к технике приспособились!
А я так и вовсе к ней привык. Я возле тракторов вырос. С детства только и слышу: «коробка скоростей», «компрессия», «задний мост». У меня старший брат работал на первом «фордзоне» в нашем хуторе, в машинном товариществе, разъездным механиком был при эмтээс. От него и я научился, на практике, без курсов. Шестнадцати лет сел на машину. А в армии я в кавалерию попал, в казачью дивизию. Сначала в эскадроне был бойцом, потом в дивизионную артиллерию перевели, на тягач, в последнее время был наводчиком.
А когда ранило меня и лежал я в госпитале, там познакомился я с одним старшиной, зенитчиком, — вместе и демобилизовались, — и уговорил он меня, этот старшина, Юрка Беспалов, ехать с ним в Саратов, в город, на чистую жизнь. «До каких пор, — говорит, — будешь в деревенской глуши протухать? Ни театра у вас там на хуторе, ни ресторана с музыкой, ни подработать — оторвать чего-нибудь «налево». Какая тебя там должность ждет? Восемь наград заслужил, всю Европу прошел и опять — старшим, куда пошлют, над четырьмя тракторами? Знаю, — говорит, — возил зерно из колхозов, когда в Союзтрансе работал, видел, как вашему брату, бригадирам, достается. Председатель колхоза ругается: «Мелко пашете, выведу комиссию, составлю акт». А директор грозится: «Оштрафую за перерасход горючего!» А агроном со своими правилами лезет. Начальников — десять, а ты один. А трактористы там сейчас небось — девки да детишки. И машина такая, что никакого доходу из нее не выжмешь, не подвезешь пассажиров, разве что воробей сядет на плуг, прокатается бесплатно. Бросай, — говорит, — Никита Петрович, это скучное занятие. Если ты техникой зараженный, так ее же в городе во сто раз больше. Куда хочешь поступишь: хоть на завод, хоть в гараж, я тебя шоферскому делу обучу. Одинокий человек, ни кола ни двора, что тебя к земле привязало?»
— Родных у вас нет на хуторе?
— Были… мать умерла, брат погиб на Крымском фронте. А жену мою в Германию угнали. Полгода всего пожили мы до войны. Детей не было. И не слыхать о ней. Должно быть, погибла где-то в лагере…
Подумал я, подумал — поехал с ним… А он, этот Юрка Беспалов, кем только не был: и шофером был, и фотографом, и официантом, и переплетчиком, и парикмахером. «Вот, — говорит, — еще у кого работенка не пыльная и доходная — у парикмахеров. Хоть землетрясение, хоть светопреставление, а борода растет, бриться людям надо. Заметил, когда освобождали мы города, кто первый свое предприятие открывает? Парикмахеры и сапожники». Ухо-парень!
На завод мы с ним не поступили — завод, говорит, от нас не уйдет, надо отдохнуть, осмотреться. Я как разобрался теперь, Юрке очень выгодно было иметь приятеля, как я. У него наград — одна медаль, а у меня — пять орденов и три медали. В паре со мною куда хочешь пройдешь.
Первое время мы барахло туда-сюда возили, оборот делали: «Почем в Киеве трикотаж?», «А в Таганроге в мухоморах не нуждаются?» — короче сказать, спекулировали. Потом Юрка встретил в Курске одного старого дружка, тот работал по общественному питанию, и переводили его как раз в Москву, тоже в трест столовых и ресторанов. Стал он уговаривать и нас ехать с ним. «Устрою, — говорит, — официантами в ресторан первого разряда». Юрка сразу загорелся. «Дело, — говорит, — знакомое. Кабы не война, да работал бы я до сих пор официантом — дом бы собственный уже построил тысяч за сто». Я посомневался было насчет квартиры — где мы там жить будем? «Чепуха! — говорит. — Мало ли в Москве вдовушек молодых с квартирами? Таким ребятам, да пропадать! Ну, первую ночь, может, в метро передремлем, а потом — устроимся». А я, надо сказать, с этим Юркой уже хлебнул веселой жизни. Деньги у нас не переводятся, водка в запасе, телефоны в блокноте записаны, вечером, если скучно, позвоним туда-сюда, теплая компания собирается. Привык — понравилось. Ну — в Москву так в Москву. Поехали!
— Но для вас-то работа в ресторане — дело незнакомое?
— Как сказать… Бегать между столиками с подносом — это мне не трудно. Я же казак, в коннице служил. Джигитовку делал. Стакан с водой на полном галопе, стоп в седле, на голове удерживал. И танцор к тому же… Вот только есть вредные людишки, самые, я считаю, опасные для официантов, это которые шарики из хлеба лепят за обедом от нечего делать и под ноги бросают. Наступил я на такой шарик, поскользнулся и загремел с подносом на пол. А заказу было на подносе — рублей на триста. В первый день осрамился. Ну, перешли с Юркой в другой ресторан. Дружок-то его в тресте по кадрам работал… А обращению с посетителями — этому нас научили на курсах, там же, при тресте: если с дамой сидит гражданин, то сначала даме надо подавать тарелку, ей же надо и меню показать, вроде как к ней за заказами обращаться, а за расчетом — к кавалеру. Опять же — как вежливо пьяного вывести. Маникюр навели нам на пальцах, чтоб посетителям приятно было видеть наши руки, когда кушанье подаешь… Наука, в общем, нехитрая. Полторы тысячи га выработать за сезон, в переводе на мягкую пахоту, труднее…
Казак я, да. Только в армии я красные лампасы носил, а тут нашили нам на штаны какие-то черные полоски, тоже вроде лампасов. Брюки черные, суконные, а полоски черные, атласные, даже не поймешь — к чему. Галстук бабочкой — никто таких не носит, кроме официантов. Какие-то меченые. И кто это выдумал такое отличие для работников общественного питания?
А с квартирами устроились мы, как и рассчитывал Юрка, через женский пол. Он прямо расписался с одной девушкой, в семью вошел, хорошая девушка, Лида, веселая, простая, на «Дукате» работала, и старики приятные, гостеприимные. А я снял угол у их знакомой, Зоей Николаевны, разведенной вдовы.
Ну, на чей другой характер — жить бы можно. Юрка все учил меня, как подрабатывать. Во-первых, говорит, от чаевых, если дают, не отказывайся, не будь дураком, по мелочи может много за день накапать. Во-вторых, если видишь, что кавалер форсит перед дамой и подвыпил изрядно — приписывай смело к счету десятки три-четыре — не будет проверять, посовестится. В-третьих… ну, да что вам все пересказывать. Дело, в общем, хлебное, соблазну много. Принесешь домой кучу денег — Зося Николаевна довольна, смеется, надевает лучший свой халатик, берет гитару, песни мои любимые играет. Как запоет: «Догорай, моя лучина», — душу вынимает. И такая она красивая, Зоська, в розовом халатике — за одну ее улыбку черт знает что бы сделал. А деньги шальные, таких денег и не жалко, забери их хоть все!.. Но недолго мы и в этом ресторане поработали…
— Что случилось? Опять неловкость какая-нибудь?
— Да ничего такого не случилось. Можно сказать — сам взноровился… Повадилась ходить туда одна компания, четыре человека, из вечера в вечер. Хотя, как сказать — вечер: уже три часа, к утру дело идет, закрываем ресторан, а они сидят. И все за моим столиком располагаются. У нас же, у официантов, столики в зале поделены, как между бригадирами участки на поле. Ну — всякие люди к твоим столикам присаживаются. Иного сразу поймешь — командировочный человек, директор завода или, может, директор эмтээс, приехал в Москву по делам, устал до чертиков. Москва — она шумная, людная. Забежал к нам пообедать и все на часы поглядывает, думки его где-то в другом месте — и вечером еще, видно, делов много предстоит. Значит, рекомендуешь ему: сто грамм, гражданин, больше не нужно, а то как бы под троллейбус не попали, и закуску предлагаешь — какая подешевле и поплотнее. Прямо на свой карман рассчитываешь, как если бы сам первый раз в Москву приехал, с честной зарплатой. Жалеешь человека.
А эта компания подобралась бывалая, их жалеть нечего. Сами спрашивают, что подороже: икорки зернистой, балычка, какого-нибудь эскалопа телячьего; водку пьют не простую, а старку, либо охотничью. Рублей пятьсот за ночь просаживают. И разговор ведут промеж собою такой, что можно догадаться — не свои деньги пропивают, а государственные. Только и слышно: «дал на лапу», «взял», «подкинул», «выписал с базы» — жулики, короче говоря, при каком-то торговом деле.
Один из них вроде как фронтовик бывший — в кителе без погон, колодочка у него засаленная, и цвета не разберешь, вспоминает иногда про Вену, про Бухарест — какие там блюда в ресторанах заказывал. Ну, разно люди и на фронте воевали. Мне не приходилось долго задерживаться за границей в городах. Когда брал их, там еще жареным не пахло, только смоленым.
Так вот этот, в кителе, начал как-то рассказывать, как его за границей послали куда-то квартирьером, и он не мог достать в селе сена для своей части и вообще плохо его там приняли местные жители, не покормили, что ли, и он взял большой лист бумаги и толстый карандаш и пошел по дворам записывать людей в колхоз. Если, говорит, не представите мне того-то и того-то — к вечеру все будете в колхозе. Ну, и тут будто бы население натащило ему и пирожков, и гусей жареных, и колбас, и вина, и сена дали — лишь бы в колхоз не записал. Рассказывает и смеется — хитер, мол, русский солдат!
Хотя нам опять-таки на курсах преподавали, что официанты не должны вмешиваться в разговоры за столом, — не наше, мол, дело, о чем посетители за графином водки откровенничают, — тут я не выдержал: «Разве, — говорю, — мы для того строили колхозы, гражданин, чтобы ими за границей людей пугать?» Он воззрился на меня: «Ты кто такой?» — «Не узнаете? — говорю. — Целый месяц регулярно вас обслуживаю». — «Подавальщик?» — «Да вроде так». — «Ну, если подавальщик, так марш на кухню за заказом, а возле столика без дела не вертись». — «Ладно, — говорю, — уйду. Сам знаю, что не положено мне здесь с вами спорить… А вот если бы там, на фронте, случилось нам быть вместе — я бы вас за такую провокацию против колхозов прямо в военный трибунал потянул». Этот, которого я зацепил, обиделся было, стал ругаться, а другие смеются: «Чего ты, парень, так колхозы защищаешь? Из деревни сам? В Москву на заработки?» Отошел я от них и чего-то противно мне стало, хлопнул в буфете полтораста грамм. Зовет меня опять этот, в кителе. «Эй, колхоз «Красное дышло»! Поди сюда! Закажи-ка нам две порции блуждающих почек». Я раскрыл было карточку, другой говорит: «Там не ищи, иди прямо к шеф-повару, это такое редкое блюдо, что его мало кто и знает». Тут я сообразил — разыгрывают. «Вы, — говорю, — не купцы, а я вам не тот половой, которому раньше на потеху пьяницам горчицей морду мазали. Если вам насчет блуждающих почек надо посоветоваться, так идите к врачу». Нагнулся и шепчу на ухо первому: «А ты, гад, растратчик этакий, взяточник, если хочешь всерьез со мною поговорить о колхозах и вообще, так вот закроем ресторан, сдам выручку, выйдем на улицу, чтоб мне не при служебных обязанностях быть, и я там без шеф-повара в одну минуту сделаю твои почки блуждающими».
Тут, конечно, крик поднялся, директора позвали: «Ваш официант грозится нас побить!» — «Да нет, — говорю, — это я так, на крайний случай имел в виду…» Но до милиции все же дело не дошло: им, видно, самим невыгодно было заводить знакомство с этими органами. Стал я с ними рассчитываться — они меня под шумок накрыли на двести рублей, две пустых бутылки из-под шампанского спрятали под стол. Так что в ту ночь я пришел домой совсем сухой, даже буфетчику задолжал. И Зося Николаевна мне песен не играла, и халатик мой любимый не надела. Обвязала голову платком, будто зубы заболели, и к стенке отвернулась.
После этого случая меня посетители там стали побаиваться. «Вот, — говорят, — тот официант, который тут супником на одного пьяного замахнулся». И хотя этих жуликов вскорости накрыли на каком-то крупном деле и посадили — приходил к нам следователь за справкой: часто ли кутили они у нас? — мне все же пришлось из этого ресторана убраться…
В третьем ресторане я выступил с критикой на производственном совещании по вопросу об экономии средств. «Что, — говорю, — за порядки у нас: фарфоровая посуда с позолотой, джаз-оркестр с певицей, шик-блеск, цены по первому разряду, а горчичница одна на весь зал. Таскаешь ее со столика на столик. Нам, официантам, даже совестно за это перед гостями, замечания нам делают, почему в таком дорогом ресторане нет горчицы? Вот, — говорю — додумались на чем экономить! Да если, — говорю, — не сходятся концы с концами, так лучше закройте наш коктейль-холл, никакой от него нету выгоды. Сидит за стойкой лоботряс, ему бы, при его здоровье, дрова для кухни колоть, а он там по пять грамм разного зелья в мензурке отмеривает, болтает посудину, будто масло из градусов хочет сбить, да с таким важным видом, можно подумать, лекарство какое-то новое изобретает. И три девушки носят те коктейли по кабинетам. А их же никто и не пьет. Русские люди непривычны тянуть спиртное через соломинку. Вон где тысячи на ветер летят, жалованье ведь идет персоналу». Предложил, в общем, закрыть эту аптеку, а побольше завозить в ресторан пива, а то зачастую бывает: спрашивают люди пива — нету, кончилось. Ну и — само собою — горчичницы на каждый стол.
Предложил с чистой душою, добра желая, а вышло недовольство, обида. Коктейльщик этот жалобу подал на меня директору за оскорбление личности. Отхватил за него выговор в приказе. Говорят мне: «Ничего ты не понимаешь: коктейль-холл — это мода, к нам ведь и иностранцы заходят». И насчет горчицы замяли вопрос. Кто-то видел в каком-то ресторане за границей, что сам официант из общей баночки капает горчицу на тарелки, значит — так нужно. «Да, — говорю, — иностранцы, бывает, в подтяжках за стол садятся в общественном месте, при дамах, так и эту моду нам у них перенять, что ли?» Ну, не доказал, осталось все по-прежнему… А когда работал я бригадиром тракторной бригады, так, бывало, дашь какое-нибудь изобретение — как вакуум-бачок переделать или комбайновую сцепку укрепить — сразу его подхватят, отпечатают и в районной газете, и в областной. Из наркомзема премии получал. По всему Советскому Союзу рассылали мои чертежи. А дело посложнее, чем с горчичницами… И тут я подумал про себя: эх, Никита, Никита! Не на свое, брат, производство ты попал…
— Первый раз подумали?
— Да нет. Пожалуй, не первый… Это было зимою, перед сессией Верховного Совета. Стало быть, больше года уже работал я по ресторанам. Всего пришлось повидать за это время… Ну, что ж мы сидим здесь? В вагон пойдем, отдыхать будете? Поздно уже, заговорил я вас… А вам-то чего не спится? Может, у вас свое есть наболевшее, а я все про себя рассказываю.
Что ответить этому блудному сыну, возвращающемуся домой, Никите Незваному, как видно, хорошему парию? Конечно, есть свое. Потому и не спится. Давно уже не спится…
— Ну, ну, рассказывайте…
— Москвы я не видел, — продолжает он после долгого молчания: — Где-то есть заводы, строительства всякие, люди другие — ничего я этого не видел. Прихожу домой утром, днем отсыпаюсь. В выходной заберешься компанией куда-нибудь в другой ресторан — что ж это все мы да мы подаем — а нам? Закажем того-сего, водки побольше — так день и сгорит, будто и не жил. В кино, в театр, правда, ходил с Зосей, ну, что ж — театр, там жизнь выдуманная, той жизни для души мало. Чудно, право, сделают на сцене будто снег идет, зрители аплодируют — красиво. А когда в лесу или поле идет снег — еще ведь красивее, а никто не хлопает… Читал я в газете про одного московского каменщика — построил в Москве больше сотни домов, орден ему дали и на многих домах сделали надпись: «Здесь участвовал в строительстве дома заслуженный мастер каменных дел такой-то, здесь он ставил свои рекорды по кладке кирпичей». А мои, думаю, рекорды где? На такой работе, как у меня сейчас, проживешь век, помрешь, и ничей кобель по тебе не взвоет…
Обиднее всего бывает, когда примешь заказ, крутишься весь вечер возле столика, бегаешь с подносом, подаешь, а за расчетом, смотришь, подзывают другого официанта. Он говорит: «Так не я же обслуживал. Ваш вон официант». Даже в лицо не примечают… Я не вытерпел как-то, сказал одному: «Вы, как чистильщик сапог, — на лица людей не смотрите. Тем хоть простительно, они но своей профессии больше на нижние конечности внимание обращают, а вы что же — трудно глаза вверх поднять?» Отмочил ему, а он оказался каким-то начальником из Министерства вкусовой промышленности, и мое замечание пришлось ему не по вкусу — позвал директора ресторана, стал ему выговаривать: какие, мол, у вас официанты дерзкие. Опять мне взыскание в приказе, уже не первое. Ну, потом еще были неприятности… Так что пришлось мне и там взять расчет.
Работал в закусочной: в кафе, в одном подвале. А уже надоело это мне: шницеля по-венски, джазы с плясунами, чаевые эти самые — аж рука горит, когда берешь, и хочется швырнуть обратно, а суешь по привычке в карман… С Зосей Николаевной начали мы скандалить — все допекает меня: «Почему Юрка больше денег носит домой? Отсылаешь куда-то? Семья, должно быть, есть на стороне, да скрываешь от меня?» А, будь ты неладна! Решил было уже домой ехать, да подумалось: а к кому же я поеду? И тут нету у меня родных, и там — никого… И все-таки, что ни говори, — Москва. Лестно мне, что живу в таком городе. Хоть и не часто приходилось по улицам гулять, но как выйдешь на Красную площадь, и дух захватит: вот она, столица! Тут где-то совсем рядом большая жизнь кипит, правительство заседает, послы к нам сюда приходят. С Ивана Грозного, с Петра Первого, с испокон ведется, что здесь все дороги перекрещиваются. И я по этим тропкам хожу…
Потом я опять поступил в большой ресторан первого разряда, при гостинице… А с Юркой я расстался давно — надоело ему за компанию со мной с места на место кочевать. И вот там встретил я одну землячку.
В те дни в Москве проходила сессия Верховного Совета. В нашей гостинице тоже разместили депутатов. Обедать и ужинать спускаются в наш ресторан. Смотрю — села за мой столик старая женщина в простой одежде, в платочке, по виду — с фабрики работница или колхозница… Меню читает так, что сразу заметно — не первый раз у нас обедает. Подошел к ней: «Вам чего, мамаша, прикажете подать?» — «Принеси мне, — говорит, — сынок, бифштекс, только не по-ганбургски, а по деревенски». — «Можно, — говорю, — сделаем. Но чудок подождать придется, минут пятнадцать». Донское словечко вырвалось… Она поглядела на меня пристально. «Чудок? А ты, парень, не с Дону?» — «С Дону», — говорю… «Ну, иди, заказывай, подожду».
Принес бифштекс, подаю. «Тебе, — говорит, — сынок, дюже некогда?» — «А что?» — «Да вот, кабы ты мне чаю принес туда, в квартиру, четыреста шестнадцатый номер. Боюсь в лифте спускаться, как пойдет вниз — душа от тела открывается». — «Это можно». — «Нездорова я, — говорит, — чевой-то сегодня, не пойду вечером театры смотреть, попью горячего и спать лягу». Поговорили мы немного, спросила она меня, из какой я станицы родом, я назвался, ее спросил, откуда она, — далеко не соседи. Колхозница, звеньевая. А в депутатах с последних выборов, с сорок шестого года.
Стучусь к ней вечером с чаем, а она в номере мебель передвигает по-своему, полы мокрой тряпкой вытирает. «Чего ж вы, — говорю, — горничную не позвали?» — «Да они уж утром тут прибирали… А я чего буду делать? Я дома, как занедужаю, так начинаю стирать либо хату белить — разомнешься, разломаешься, на ночь выпьешь стопочку чего-нибудь погорячее, оно и полегчает». Кончила уборку, стал я с подноса чашки снимать. «Ох, — говорит, — земляк, непривычна я, чтоб мне такие молодые казаки на стол собирали. Тебе оно и не личит. Садись вон на диван, я сама подам, чего нужно. Повечеряешь со мной?» Достала из шкафчика бутылку терновки, рыбца донского вяленого, сала домашнего. Неудобно отказываться. Присел. И давай она меня расспрашивать: где был в военные годы, воевал ли, да как воевал, в каком чине отслужился, какие награды имею. Дотошная старуха. Глаза черные, как паслен, и голова черная, ни одного седого волоска. А лет ей, пожалуй, под шестьдесят. Маленькая, худенькая. У меня мать была такая же маленькая, под мышки мне головой не доставала.
Доложил я ей про чин и про все. «Гвардии старший сержант, — говорю. — А воевал больше крупным калибром, артиллеристом был». Про награды рассказал — какие, за что. Похвалился. Лучше б не хвалился!..
Тут она меня и взяла в оборот — за то, что сменил крупный калибр на пивные бутылки, что бригаду свою бросил. «С твоими ли вязами, — говорит, — чай тут подавать? Не гвардеец ты, а дезертир. Прости, сынок, что ругаю, но я тебе хоть и не мать, а член правительства». — «Мамаша, — говорю, — в столицу захотелось. В Москве ведь не грех пожить». — «В столицу? А при какой такой важной должности состоишь ты здесь, что столица без тебя не обойдется?» Что ей ответить? «К нам, — говорю, — в официанты и инженер один из Смоленска затесался». — «Такой, видно, и инженер, как ты — хлебороб! Нанюхал, где жареным пахнет, а как его все добыть, чтобы было чего тут зажаривать — это его не касается»…
«Ну, а как же, — говорю, — будет при коммунизме, мамаша? И об этом надо подумать. Будут обедать люди в столовых, значит, кто-то будет и подавать им. А иначе как же — вот приехали вы в город, и не приютят вас и не покормят». — «Не знаю, — говорит, — сынок, как будет при коммунизме, как оно все устроится. Но думаю, что такого беспорядка не допустят, чтоб слабосильные девчата трактора крутили, а такие бугаи, как ты, вазочки с мороженым подавали. Лучше наоборот. Ведь на твоей шее, сынок, ободья можно гнуть — выдюжишь. Аж страшно смотреть, как ты те тоненькие вазочки берешь своими пальцами… Кто больше подымет, тот больше и понесет, — так, по-моему, будет… При коммунизме… Какое слово сказал? А много ли ты сейчас для коммунизма стараешься, что берешься о нем рассуждать?»
И начала мне рассказывать, как разорили немцы колхоз, где она работает, и как люди там за три мирных года опять отстроили все, что было до войны; как в первую весну после освобождения они одним «Универсалом» и коровами засеяли три четверти старой площади. «Чудо, — говорит, — было: машин, тягла вдесятеро меньше, а до старого посевного плана только на двадцать пять процентов не дотянули». Как детишки-подростки две нормы на коровах выпахивали; как бабы косами косили хлеб по полгектара в день, как по три тысячи снопов вязали. О других рассказывает, о себе — ничего. Но мне-то ясно: раз выбрали ее депутатом Верховного Совета, значит, она там больше всех потрудилась.
И посмотрел я на ее руки, маленькие, черные, как галочьи лапки, еще с лета загар не сошел, и на свою ручищу глянул, белую, с маникюром… И как подумал я — до чего трудно было нашим бабам в войну и сейчас еще как трудно, сколько работы они своими слабыми руками переделали — таким я сам себе сукиным сыном показался!..
А она меня пилит: «До Берлина дошел, на гитлеровой канцелярии расписался, теперь можно и на печку? Холодный ты вояка!» — «Да, — говорю, — слушай, мать, мне уже и самому это все надоело, как сухой ячмень беззубой кобыле». Пожаловался ей — как иной раз обидно бывает за то, что мало уважения к себе видишь от посетителей. «Сами виноваты, — говорит, — оттого и уважения мало, что чаевые берете да обсчитываете. Вот, — говорит, — при коммунизме официанты в милицию будут тянуть тех, кто на чай им сунет, — как за оскорбление личности». — «Да, — говорю, — при коммунизме, может, и милиции не будет?» — «Ну, доживем до него, увидим. А пока что — строить его нужно».
Пожаловался на сиротство свое… Но и тут она меня сразила. «Ты, — говорит, — матери лишился и молодой жены, пока воевал. А я вот, мать, осталась — трех сынов-орлов потеряла. Старик помер, сердцем болел, не перенес горя, а я живу с невесткой и внучкой… Да что же тебе колхоз, где ты вырос и работал много лет, — чужой?»
Вот так мы поговорили. Еще раза два вечером приходил я к ней. Потом закончилась сессия, проводил я ее на вокзал, передал привет тихому Дону. Уехала она, и подумал я ей вслед: хороших людей выбирают у нас в правительство…
С того времени совсем потерял я покой. Сны начали меня одолевать. Недавно такой хороший сон привиделся! Будто убираем мы хлеб. Степь донская, без конца-краю, солнце встает над дорогой, колея накатанная блестит, как вода под солнцем, прямо в лицо лучи бьют; ветер проснулся, сушит росу, а по обе стороны дороги — пшеница, высокая, густая — ящерица не пролезет. И будто косим мы ее — я на тракторе, Мишка Корниенко, комбайнер наш, — на комбайне. А бабы идут следом да ругают нас, аж дым встает, за потери, что много колосу в стерне бросаем… А что вы думаете — вот и хорошо. Видная работа. Бывало, полют бабы, бьют тяпками засохшие грудья и клянут нас на чем свет стоит. «А чтоб тебе руки поотмахало, кто здесь пахал и боронил! Чтоб тебя дети на старости лет хлебом кормили таким, как эти грудки!» А иной раз говорят: «Дай бог тебе здоровья дожить до ста лет, кто тут потрудился для нас». А кто и потрудился? Рулевые, да я, бригадир. Хоть ругают, хоть хвалят, а все — я. Ничто твое не пройдет незаметно…
А все-таки еще оставалась необорванная ниточка. Вроде как семьей обзавелся. Жена — не жена, ну — тянет к ней. Не решался бросить ее, пока не рассмотрел окончательно, что за подругу жизни мне подсудобили. Рассказали люди, как она в военное время от семи женихов с разных фронтов деньги по аттестатам получала. И даже один из этих женихов приехал. Вижу — шелка японские у нее появились. Откуда? Я на Восточном фронте не был, не привозил такого. Потом и его самого застал. Я — в дверь, он — в окно, со второго этажа. Э, так дело не пойдет! Убьется когда-нибудь человек! «Тряпичная, — говорю, — ты душа, вертихвостка — больше ничего»…
И вот решился — позавчера было дело — прямо из ресторана на вокзал. Расчет мне заранее приготовили… Последний вечер подавал — все колодки нацепил на грудь, так что люди совестились и подзывать меня к столику — отличий как у генерала, а борщи носит…
В три часа ночи, когда на улицах пусто и просторно, прошел по центру, по Дзержинке, по площади Свердлова, к Охотному, Кремль обогнул — попрощался с Москвой. Большие дела в столице делаются, да я — то с малыми целями туда прибился…
Ну там, куда еду, — генералом буду! Там целый фронт в моих руках. Дадут колхоз: обработай землю со своей бригадой, вспаши, посей, убери. Тысячи гектаров. Чем не фронт? И от того, как вспашешь и посеешь, зависит судьба многих людей. Каждый день на глазах твоих дело растет. Там успехи нашей жизни решаются! А в Москву с урожаем надо приезжать, на выставку, в Кремль за новым орденом, если заработаешь… Трактористов молодых буду учить… Хорошие были из трактористов бойцы. Главное дело — с техникой знакомы. Хоть пулемет ему дай, хоть миномет, хоть самоходную пушку — все быстро освоит. И в поле лагерем жить привычны. До крепких морозов, до снегу, бывало, пашем. Закаленный народ… А много нас, трактористов, комбайнеров. Больше миллиона, пожалуй, если посчитать по машинам. Колхозная гвардия.
Вот так и еду. Без разведки. Никому не писал, не телеграфировал. Я же не знаю, кто там сейчас председателем колхоза, кто у нас директором эмтээс. Но есть же кто-нибудь из знающих, как я работал? Ей-богу, чаще хвалили, чем ругали. Весь колхоз меня знает и помнит. Я-то многих не узнаю. Которые детишками были, за семь лет выросли, поженились, у самих теперь дети…
И чего мы тут стоим? Неужели мост сорвало? Хоть бы знать точно — когда тронемся. Тридцать километров осталось, да там еще до хутора двадцать. А можно и напростец выйти, прямо отсюда, минуя станцию, — много короче. Если бы в сапогах — пошел бы пешком. Как я проспал Харьков? Хотел выскочить на базар, сменять с кем-нибудь ботинки с калошами на сапоги.
Но станция, притихшая с того часа, как принят был последний поезд, оживает опять. Звонит за окном в аппаратной телеграф. Слышен разговор диспетчера с соседним разъездом. Впереди на путях замелькали какие-то огоньки. Из вокзала выходит, зевая и поеживаясь со сна, начальник нашего поезда, за ним дежурный, сигнальщики.
— А тут кто сидит? — строгим голосом спрашивает главный, наклоняясь к нам с фонарем. — Пассажиры? Прошу по вагонам. Едем!
В поезде и свечи не горят. Темнота и внутри и снаружи. Идем искать с помощью главного свой пятый вагон. В узком проходе между двумя составами ветер грубо толкает в грудь, как бревном, валит с ног.
— Ну, ветерок! — говорит главный, задыхаясь и оборачиваясь спиной вперед. — Вот ваш вагон. — Стучит ключом в железную стену под окном служебного отделения, где спят проводники. — Разбушевался. Такой быстро просушит землю. Назад поедем из Сочи — сеять уже будут здесь колхозники… с лисьим воротником, в сдвинутой на затылок шапке, неся в руках, чтобы не потерять их в вязкой грязи, калоши…
Утром — уже хорошо рассвело — поезд затормозил на станции, где надо было сходить моему спутнику. Короткая остановка, одна минута.
Никита Незванов, налегке, без чемодана, с одним лишь бумажным свертком в кармане, попрощался со мной и спрыгнул на землю. Поезд делал здесь поворот по крутой дуге, и мне долго было видно из окна и станцию и Никиту, как он шагал по проселку в распахнутой шубе с лисьим воротником, в сдвинутой на затылок шапке, неся в руках, чтобы не потерять их в вязкой грязи, калоши…
Навстречу ему в ясном розовеющем небе летели дикие гуси. Тучи рассеялись, обещая солнечный теплый день, горизонт был открыт, и они летели высоко-высоко, остерегаясь охотников. Никита останавливался, оборачивался, глядел им вслед.
Счастливого пути вам, беспокойные птицы, и тебе, Никита! Больших удач тебе, друг, на родном своем производстве!
…А себе чего пожелать? А мне, если уж покинул я свой колхоз и навсегда переменил «производство» — удачно ли, неудачно, не знаю, — тоже не забывать бы, чем пахнет земля весною, о чем шумит-рассказывает весенний ветер и поют ручьи в балках. Не только о победе солнца над тьмой и холодом — в это веришь всей душой. О неутомимом труде народа на этой старой земле, видевшей много событий и человеческого горя, поют они… Хватит ли когда-нибудь уменья и сил написать о подвигах нашего народа так, чтобы не стыдно было перед ним за то, что ушел с передовой линии и не пашешь, не засеваешь сейчас эту заждавшуюся счастья землю собственными руками?..
1947–1948
Рекорды и урожай
А в нашем районе золотой звездочки за урожайность никто не получил, хотя кандидаты были. Ну — и к лучшему. Мы очень опасались, что Степаниду Грачеву наградят. Район ее выдвигал. Нет, разобрались-таки там, повыше… Заслуженного человека не отметить — это плохо, конечно, но еще хуже — не по заслугам прославить. Думаете — ему только вред, тому человеку? Возгордится, зазнается? Нет, и нам, другим прочим, — не в пользу. А почему — сейчас поясню.
Я в этом районе родился и вырос. До войны семь лет работал председателем колхоза и, как вернулся по ранению в сорок четвертом, опять заступил в тот же колхоз. Сколько секретарей райкома при мне сменилось — всех помню и могу про каждого рассказать, кто как руководил. И Федора Марковича, нынешнего секретаря, давно знаю. Так себе, не очень дельный работник. Шуму, крику много, а толку мало. Но пыль в глаза пустить умеет. Так вот я и говорю: пока у нас в райкоме Федор Маркович — пусть лучше звездочку никому не дают. И про себя бы так сказал, если б заслужил: не надо, воздержитесь, а то тут из меня святые мощи сделают.
Эта Степанида Грачева — из колхоза «Первое мая». Недалеко, пять километров от нас, соседний хутор. Мы с первомайцами соревнуемся, часто приходится мне бывать у них, так что знаю я там весь народ и все порядки ихние. Когда-то она была скромная женщина, Степанида, и по работе ничего неправильного за нею не замечалось, не жаловались на нее люди, а как получила на Всесоюзной выставке медаль за свеклу да потом еще дважды наградили ее — испортилась характером. Сама, видно, некрепко на ногах стояла, а тут ее еще и подтолкнули.
Эти награды, я скажу, на разных людей по-разному действуют. Был и у нас в колхозе бригадир-орденоносец, Иван Кузьмич Черноусов. За пшеницу получил орден «Знак Почета». Так наш Кузьмич, когда приехал из Москвы с кремлевского совещания, — сам не свой ходил по селу. Захворал от думок. Зима стояла морозная, а снегу выпало мало, за озимые тревожились, и весна была сухая, ветреная. «Что, говорит, как не возьму по двадцать пять центнеров? Я же обещание дал». Сны ему страшные снились. Будто вызывают его опять в Москву, в Кремль, и на таком же собрании, при всем честном народе, отбирают орден. А в уборочную повеселел, когда пошло зерно на весы: по двадцать семь центнеров взял… Погиб под Кенигсбергом.
И Степанида брала новые обязательства после своих орденов. В тридцать девятом году по семьсот центнеров свеклы накопала. Это все правильно, так и полагается — не стоять на месте, а двигаться вперед. Только надо не забывать, для кого и для чего твои рекорды нужны. Если район сеет сахарной свеклы, скажем, тысячу гектаров, а у тебя в звене три гектара, — это же капля в море. Ты одна своим сахаром государство не накормишь. Надо работать так, чтобы и другие прочие могли твой опыт перенять.
Оно, знаете, не только в сельском хозяйстве бывает неверное понятие о рекордах. Лежал со мною в госпитале в Саратове один танкист, шахтер из Донбасса. Много мы с ним говорили о жизни. Я ему про колхозы рассказывал, он мне про Донбасс. И хорошее вспоминали и плохое. Вот он говорит: «Бывало у нас еще и так. Вся шахта выполняет план процентов на восемьдесят, положение незавидное, прорыв, а начальство готовит к открытию партийной конференции или к какому-нибудь празднику тысячный рекорд. Создадут одному стахановцу такие условия, каких другие и во сне не видят, приставят к нему целый взвод помощников, он и отвалит тысяч пять процентов нормы. Шуму потом вокруг этого рекорда — больше чем нужно. А пользы, если разобраться, — ни на грош. Во-первых, стахановца, хорошего человека развращают. Во-вторых, вызывают недовольство у рабочих — рабочие-то знают, как было дело. А в-третьих, сами руководители не тем, чем нужно, занимаются, не туда свою энергию направляют, куда следовало бы направить». Слушал я этого шахтера и думал: точь-в-точь как у нас в районе со Степанидой Грачевой.
Район наш и до войны был средненький. Областную сводку в газете посмотришь: если не на середке болтаемся, так в хвосте плетемся. Сеяли не в срок, с сорняками плохо боролись, уборку затягивали. Бывало, едет Федор Маркович в область с отчетом, а мы все переживаем за него: вернется ли назад секретарем или, может, не только без портфеля, а и без партбилета приедет домой? От хлебозаготовок до хлебозаготовок жил человек, под страхом божьим, как говорится. Да и сейчас так живет. Оно ж это все, и поздний сев и плохая уборка, все потом боком выходит на хлебопоставках. Надо правду сказать — район-то наш тяжелый. Большой район, земли много, и земли разные: там болота, там пески, в одном месте осушать надо, в другом поливать, что в одном колхозе родит хорошо, то в другом не родит. Но все ж таки, если внимательно к каждому колхозу подойти и правильно народом руководить — можно хорошей урожайности добиться. Только надо подальше вперед смотреть, за несколько лет вперед. Мелиорацию сделать, землю в порядок привести, севообороты наладить — это не одного дня работа. А Федора Марковича как вызовут в обком с отчетом, так — выговор ему. В другой раз — строгий с предупреждением, в третий — с последним предупреждением. Куда ж ему вперед смотреть? Еще раз едет, думаем: ну, все, отслужил! Нет, опять с выговора начинают.
Вот он, наш Федор Маркович, должно быть, и решил от такой беспокойной жизни хоть отдельными рекордами прикрыть грехи. Понял, в чем тут ему выгода. Хоть упомянут в газете, откуда она родом, та прославленная звеньевая, из какого района, и то ему — отдушина. Как приедет в колхоз «Первое мая», одно твердит председателю — о звене Степаниды Грачевой, чтоб помогали им всячески. В «Завет Ильича» приедет, идет к звеньевой Марине Кузнецовой, — тоже орденом ее наградили, — только с ней и разговаривает — будто больше в колхозах и людей нет, и дела нет другого, и никаких других культур, кроме сахарной свеклы, не сеем мы.
Помогать таким людям, конечно, нужно. И я нашему Черноусову помогал больше, чем другим бригадирам. Чтоб уверовали колхозники, какую урожайность можно взять от нашей земли, если сделать все, что наука советует. Но можно так «помочь», что тот человек, ежели здравого рассуждения не потерял, и сам после не скажет тебе спасибо за твою помощь. Если несколько лет изо дня в день хвалить да хвалить человека и ни слова не сказать ему об ошибках, недоделках, о том, что жизнь наша не стоит на месте, что все у нас растет и расширяется, а стало быть, и обязанности наши расширяются, — и стахановец может закостенеть душою.
Что такое есть соревнование в колхозах? Это значит — каждый человек хочет лучше других свою работу выполнить, хочет свое лицо показать. Стало быть, надо всем давать простор. Если ты передовик — подтягивай отстающих, это самое главное. Если изобрел что-нибудь новое — всем расскажи и помоги твой опыт перенять. А так жить, как раньше жили единоличники — лишь бы мне было хорошо, а у соседа хоть пожаром гори, — так нельзя, это не по-колхозному… Был у нас когда-то на хуторе «культурный хозяин» Игнат Бугров. Опытное поле держал, чистосортные семена выводил, новые культуры сеял, а ни бубочкой ни с кем не поделялся. Завел тонкошерстных овец «рамбулье», — тогда они у нас еще в редкость были, — ни одной ярочки мужикам на племя не продал, только валашков продавал, на убой. Зайдешь, бывало, к нему в сад — ветки ломятся от фруктов, сливы, абрикосы — в кулак величиной, сорвет одну-две, угостит, а косточки — отдай. Арбуз гостям разрежет — все семечки соберет и в мешочек спрячет — чтоб не унесли. Ну, нам сейчас такой обычай ни к чему.
Я считаю, если б правильно была поставлена у нас работа со стахановскими звеньями, то их в районе бы уже сотни были. А то ведь как получается, хотя бы с той же сахарной свеклой: у Грачевой урожайность из года в год шестьсот — семьсот центнеров, а в колхозе — сто двадцать, сто. А по району в среднем посчитать — и того меньше. Будто ножом отрезано — это рекордных звеньев участки, а это — других прочих. Отчего такая разница? Оттого, что не всерьез взялись за дело, а лишь для вывески, для показа. Чтоб и у нас было на вид, как у людей: есть, мол, в районе электростанция, есть кино, футбольная команда, еще есть то-то и то-то, и знатных стахановцев имеем полдесятка, или сколько там положено их иметь. Оно-то никем ничего не положено, никто тут нормы нам не устанавливал, но знаете же, как бывает, если формально к делу подойти.
На Грачеву сейчас просто жалко смотреть, как вспомнишь, какой она была. И жалко и досадно, что человека испортили. Не так на нее досадно, как на руководителей районных. Была простая тетка, колхозница, боевая баба, беспокойная, вожак настоящий, а стала — чиновница. Она-то и сейчас боевая на язык, никому спуску не даст, затронь только, председатель колхоза как огня ее боится, но уже не туда она гнет. Свою выгоду лишь защищает.
Как прославили ее знатной стахановкой, мастером высоких урожаев, как зачастили к ней писатели, киносъемщики, академики — у нее и закружилась голова. Стала поглядывать на людей свысока. Вот тут бы ее и поправить с самого начала, невзирая на ее заслуги. Так куда там нашим догадаться! Сверху раз похвалят, а они десять раз повторят. Назвали клуб в селе именем Грачевой, школу, в которой она когда-то училась, назвали ее именем, портретов с нее всюду понавешали, с такими надписями, будто на памятнике: «Вечная слава ударнице полей!», «Гордость нашего района» и так далее. Додумались даже — прикрепили к ней секретаря, одну ученицу из десятилетки, чтоб писала за нее статьи в газеты, на письма отвечала и приезжих принимала, когда ей некогда. Звеньевая с личным секретарем — как председатель облисполкома! И она быстро этак вошла во вкус. Поставила в прихожей диван, графин с водой — вроде как приемная, а горница — то ее кабинет. Придут к ней люди — по двое-трое в горницу не пускает, пока с одним разговаривает, те сидят в приемной, очереди ожидают. Откуда она этого набралась? Побывала в области на слетах, походила там по учреждениям — оттуда, что ли, переняла? Телефон к ней на квартиру провели. Если нужно чего из района передать в колхоз, звонят ей, только с нею и советуются, ее спрашивают о положении в колхозе, через нее и все распоряжения делают, а она уже председателю их передает. Короче сказать — возомнила она себя первым человеком в колхозе и так стала командовать председателем, будто весь колхоз только для того и существует, чтобы на ее рекорды работать. Не она, с ее рекордами, для колхоза, а колхоз для нее.
Нужно ей, скажем, лишний раз прополоть свеклу — председатель, по ее приказанию, снимает людей с других работ и посылает к ней на помощь. Напали вредители на плантацию, надо быстро борьбу с ними провести — опять из других бригад и звеньев у нее люди работают, хотя в тех бригадах тоже свои посевы есть и такие же вредители их портят. Так то считается — рядовой посев, а у нее — показательный! Если подсчитать трудодни, хотя бы за прошлый год, во сколько обошлась обработка ее плантаций, так там только половина трудодней ее звена, а половина — приходящих колхозников. Это уже нехорошо, нечестно. Так же и минеральные удобрения, и тягло, и все прочее — все ей идет в первую очередь. Но другие звенья тоже ведь не отказались бы лишний раз подкормить, прокультивировать?.. И Федор Маркович смотрит на все это сквозь пальцы. И ее самое совесть не мучает. Потому что — успокоилась.
А этого сейчас уже недостаточно — показывать колхозникам рекорды с малой площади. Этому они уже верят — что земля наша способна вдвое, втрое больше родить. И про тысячу центнеров свеклы с гектара слыхали и про семьсот пудов кукурузы слыхали, читали. Разве только лишь какой-нибудь столетний дед станет возражать против науки. Теперь надо такую агротехнику показывать, чтобы всякому звену была доступна. Расширять надо дело, не успокаиваться.
Вот она едет, Степанида Грачева, на слет стахановцев, в район или в область и знает наперед, что выберут ее там в президиум, посадят на самое почетное место, все пойдет чинно, гладко, все ораторы будут о ней говорить, хвалить ее. И больше ничего не ожидает. А если бы ее там спросили вдруг: «Как же так, Степанида Ивановна, получается, такой большой опыт накопила ты по сахарной свекле и терпишь, что рядом с тобой у других прочих по сто, по восемьдесят центнеров выходит? Не болит оно разве тебе?» Нет, об этом ее не спрашивают. А надо бы спросить. Надо прямо ей сказать: «Не идут к тебе люди за опытом — призадумайся, почему так получается? Может, сама виновата, оторвалась от массы? Зазнайством своим отпугнула от себя людей? К тебе не идут — ты пойди к ним, поправь ошибку, покажи, научи, поругай кого нужно за неповоротливость, но добейся, чтобы все по-твоему стали работать. Что ж ты думаешь — из года в год брать свои рекорды на трех гектарах и на этом покончить? Этим хочешь и славу свою оправдать? Да у нас сейчас, после этой войны, пол — России людей с чинами, орденами. Если б каждый подумал: ну, все, достиг своего — так и жизнь бы остановилась».
…Вот так мы здесь урожайность повышали. Каждый год одни и те же люди у нас славятся, одни и те же колхозы впереди идут, а кто до войны отставал, тот и сегодня отстает. Потому я и говорю, что если б присвоили Грачевой звание Героя — толку мало было бы. Пошумели бы лишний раз, и все.
А вот как дали мы нынче обязательство, какой урожай должны собрать в сорок седьмом году, — за весь район дали, за всю посевную площадь, и цифры назвали по всем культурам и во всех газетах наше обязательство напечатали, — то теперь будем думать, как его выполнить. И людей будем искать. Не на одного человека будем опираться, сотни таких передовиков найдем, что поведут за собой массу. А это вернее будет, когда вся масса поднимется. Это урожаем пахнет, а не рекордами.
Да вот еще — если бы обком больше внимания обращал на наш район. С Федором Марковичем, я считаю, надо так поступить: либо заменить его другим человеком, — первый секретарь райкома — это же первая голова в районе, самая умная голова! — либо как-то подбодрить его, дух поднять. Сказать ему прямо: работай уверенно, не бойся, что снимут тебя, не поглядывай за ворота. Будешь проводить тут посевные и уборочные до старости, пока и внуков поженишь. Ремонтируй дом, который тебе дали, садик сажай, по-хозяйски; в общем — устраивайся. И в колхозах наводи порядок по-хозяйски. Не на день и не на два, а на годы. Не заглаживай по верхам, лишь бы лоск показать, а глубже вникай в колхозную жизнь, коренные вопросы решай, мозгами, в общем — пошевеливай. Тогда, может, и он лучше станет работать. Может, тот же самый Федор Маркович совсем иначе дело поведет.
1946
О людях «без стельки»
Будучи в командировке в одном сельском районе, я зашел в сапожную мастерскую райпромкомбината. Пока мастер подбивал к моему сапогу оторвавшуюся подметку, я сидел и слушал его жалобы на директора комбината. В мастерской работало человек десять сапожников. То, о чем начал говорить мой мастер, — звали его Мирон Иванович, — живо задевало всех. Речь шла о непорядках на производстве.
Райпромкомбинат в сельской местности — не бог весть какое колоссальное предприятие. Его так называемые цехи — это обычно кустарного типа мастерские с небольшим количеством рабочих. Но для своего района, при хорошей постановке работы, эти мастерские могут сделать многое — и колхозам помочь и добавить разных необходимых товаров в магазины для населения.
Об этом и рассуждал Мирон Иванович, приколачивая железными гвоздями подметку, чертыхаясь, когда концы гвоздей не загибались внутри на лапке — очень уж толсты были они.
— Нашего изделия… А замки наши вы не видели? Безопасные — никакой жулик не отомкнет. Сам хозяин с ключом не отомкнет. Защелкнул — навеки… Рашпиль тоже нашего производства. Вот полюбуйтесь, ежели понимаете. Разве можно им кожу зачистить? Насечка, как зубья у бороны. Не зачищает, а дерет. Делали — лишь бы поскорее план выполнить. А вот молоток. Стукнуть покрепче по железу — головка долой. Сами себя не можем хорошим инструментом обеспечить, что уж тут говорить о продукции, которую на продажу выпускаем!..
— А мне рассказывали другое о вашем комбинате. Хвалили как лучший райпромкомбинат в области.
— Э-э, товарищ дорогой, так то ж было в прошлом году, при старом директоре! Действительно, было чем похвалиться. Гремели на всю область. Переходящее знамя держали… Товарищ Сергеев был у нас — вот то директор! И каким, скажи, ветром занесло его сюда? Ленинградец, инженер. Воевал в наших краях, тут его ранило; вылечился в госпитале и остался у нас.
И сапожники наперебой стали рассказывать о Сергееве: как он руководил производством, как заботился о рабочих, как расширил и укрепил комбинат. До воины у них было всего три цеха, а Сергеев открыл еще десять новых цехов: и щетки делали, и хомуты, и мебель, и детские игрушки. Бумагу делали из соломы. Все инвалиды пошли работать к Сергееву, и слепым нашлась работа — веники вязали. Был в районе детдом — пятьдесят сирот погибших фронтовиков, — Сергеев взял всех ребят на полное обеспечение комбината, старших устроил учениками в мастерские. При нем райпромкомбинат занимался даже таким необычным делом, как восстановление разрушенных зданий, ремонтировал школы, больницы. Было у них большое подсобное хозяйство, давало много продуктов, рабочих кормили в столовой сытно и дешево.
— Работал он здесь, а мы дрожали за него: заберут его от нас! Орел! Ему высоко летать.
— Так и вышло. Два года всего пробыл здесь.
— Завод строит сейчас большой где-то в Донбассе…
— Станет, бывало, речь говорить на собрании — каждое слово тебе в душу вложит. Расскажет людям, что творится на белом свете, и к нашим делам подведет — для чего нужны, мол, наши ободья, хомуты: все для колхозов, для народного хозяйства. И мы, дескать, не последние винтики в государстве.
— Оно и работать веселее, когда пользу от своего дела сознаешь…
Умел поднять дух рабочего человека.
— На таких руководителях земля наша стоит!..
— А теперь у нас директором товарищ Сергеенко, — продолжал Мирон Иванович. — На каблук косячок положить? А может, набойку? Тогда уж и на другой каблук придется положить, как это говорится, для… чего?
— Для симметрии.
— Вот, вот. Давайте сапог… Был товарищ Сергеев, теперь товарищ Сергеенко. По фамилии разница небольшая — Сергеев, Сергеенко, а по делу, как небо от земли! Зайдет в цех — здравствуй людям не скажет, будто и не замечает никого. Молчит, сопит, все вроде сердится на нас. А за что? За то, что сам неудалый? Хотя, как сказать — неудалый. На дело у него способностей нет, а так чего-нибудь скомбинировать — это он умеет. И скажи, какие люди есть! Ну, не можешь сам собственной головой ничего хорошего придумать, так хоть бы по готовому ладу вел. Как настроили до тебя, так и держи. Нет, и этого не может. Или не желает. Три цеха уже прикрыл. На которое производство нет приказа сверху, считает — лишняя обуза, надо его ликвидировать. Вот гвозди. Это при нем стали такие делать. Крупные гвозди скорее делать, чем мелочь, а ему лишь бы отчитаться по весу, что выполнил план. А что мы его клянем тут и что гвоздь этот подошву рвет, обувь губит заказчику — на это ему наплевать… Бондарный цех закрыл, а дом себе под квартиру приспособил. Не то чтобы жить ему негде было — имел квартиру хорошую, но не особняк. Посмотришь на его ухватку — ничто ему не болит наше! С подсобного хозяйства возами продукты тащит. Вот и вся его забота — о своем брюхе. Загубит он наш комбинат!..
Из того, что Мирон Иванович еще рассказывал о Сергеенко, стало ясно, что у рабочих были серьезные основания тревожиться за судьбу своего предприятия. Их нынешний директор переменил в районе уже немало должностей. Работал на райбазе по заготовкам овощей — сняли, не справился. Был заведующим райсельхозотделом — сняли, с выговором. Был председателем райпотребсоюза — сняли, объявили строгий выговор, чуть под суд не угодил за самоснабжение. Еще откуда-то снимали его раза два. И вот опять назначили на ответственную должность — директором райпромкомбината.
Бывает еще у нас так, к сожалению. Человек неоднократно доказывал делом, вернее провалом порученного дела, свою никчемность, неспособность руководить людьми и занимать высокие посты, но все же его продолжают считать кадровым «ответственным» работником определенного масштаба. Хотя весь «масштаб» тут заключается лишь в том, что его то и дело выставляют из районных или областных учреждений. Но именно — из областных или районных, не ниже. Поэтому, что ли, к нему привыкают, как к «кадровику»? Какой-то гипноз послужного списка. После очередного строгого внушения за очередной развал работы в очередном учреждении товарищи в отделе кадров снова ломают голову над вопросом: куда его теперь послать, какую подыскать ему новую должность, чтобы не очень все же обидеть его, не понизить в ранге, зарплате?..
— В райсельхозотдел, в райпотребсоюз — все в рай и в рай его пихают, тьфу ты пропасть! — плюнул с ожесточением Мирон Иванович. — Архангел какой, херувим! В раю ли ему место? Выговора, предупреждения!.. Да разве его этим исправишь? К нему что ни прилепи — держаться не будет. Стельки нету. Знаете, как в сапоге: стелька — самый главный предмет. Основа. Ежели хорошая стелька, то и подметку подобьешь и союзку положишь, а ежели плохая — весь сапог не годится, хоть заново перетягивай. Так и Сергеенко наш. Хоть выговор ему, хоть два, хоть деревянными гвоздями прибей, хоть железными, вот этими костылями — ничто не пристанет. Лубок трухлый у него в середке вместо стельки… Придется, должно быть, самим какие-то меры принимать. Пойдем в райком, расскажем, что у нас тут делается. Может, он туда совсем другую продукцию представляет из наших цехов, высшего качества — по ней и судят о его работе? А как он для народа старается, того не видят. С лица только видят его. Он же и заходит в кабинеты лицом вперед и выходит, не оборачиваясь, задом дверь открывает. А мы-то здесь осмотрели его со всех сторон… А не добьемся правды в районе — поедем в обком!
Не раз думал я после этого разговора с сапожниками, что же такое стелька в человеке, по образному выражению Мирона Ивановича?
Можно, пожалуй, объяснить так. Люди «без стельки» — это умеющие внешне производить впечатление, а внутренне — никчемные работники, бездельники, болтуны. Но ведь встречаются и очень деловитые люди, энергичные, хозяйственные, а тоже с какой-то душевной пустотой. Иной раз это даже не пустота, а нечто другое, в чем тоже нужно бы разобраться поглубже: не уведет ли оно человека, при всех его благополучных на вид «показателях», куда-то совсем в сторону от больших жизненных целей советского общества?..
В одной кубанской станице работали председателями колхозов двое старых моих знакомых: Тихон Поликарпович Наливайко и Максим Григорьевич Рогачев. Оба руководили крупными богатыми колхозами. «Передовик» — колхоз, где был Наливайко, — имел годового дохода перед войной свыше двух миллионов, называли его «дважды миллионер». Колхоз «Серп и молот», где работал Рогачев, немного отставал по доходности, но тоже приближался к двум миллионам. Рогачев и Наливайко считались лучшими председателями в районе, их колхозы раньше всех кончали сев, уборку, у них больше, чем у других, распределялось хлеба и денег по трудодням.
Наливайко и Рогачев были людьми уважаемыми, и бывало, в районных организациях им прощали многое такое, за что других не преминули бы взгреть.
Если бы председатель какого-нибудь отстающего колхоза в разгар полевых работ повез в Краснодар два вагона ранней капусты и сидел там со своим товаром неделю, выжидая дождя, — чтоб прекратился подвоз и поднялась цена, — это не сошло бы ему даром. Наливайко сходило, потому что в хозяйстве у него было все налажено, были у него распорядительный заместитель, толковые бригадиры, и его отлучки не отражались на текущих кампаниях. Если, случалось, и журили его за чрезмерные увлечения базаром, то в шутливом тоне, похлопывая по брюху: «Социалистическое накопление? Красный Ротшильд! На который миллион перевалило?»
Рогачев — жилистый, худой, почерневший и высохший на степных ветрах, красный партизан, боец Первой конной — тоже был не дурак насчет купли-продажи. И о нем говорили с похвалой: «Хозяин! Копейки колхозной не упустит!»
«Не для себя — для колхоза», — этим оправдывалось все, и это мешало райкому партии глубже вникнуть в дела оборотистых председателей.
Мне, жившему ближе к ним, многое в их колхозах — и хорошее и плохое — было виднее. Чувствовалось, что у самих председателей в душе осталось еще что-то от мужика, от крестьянской ограниченности. Все — для нашего колхоза, а что за нашими межами — хоть пожаром сгори! Любить колхозное, как свое, — этому они научились. А дорожить государственным, как колхозным, — этому им надо было еще научиться.
Странная вещь: в самой богатой станице района, где было два колхоза-миллионера, учителям, врачам и рабочим МТС жилось труднее, чем в других, не столь богатых станицах и хуторах. Наливайко и Рогачев «монополизировали» рынок и завышали цены на продукты, как им вздумается. Даже в городе все стоило гораздо дешевле, чем на местном глубинном рынке, но до города — тридцать километров, за молоком туда не наездишься.
Из-за этих двух самых мощных, но не отзывчивых на общественные начинания колхозов в станице сорвалось строительство межколхозной электростанции. Наливайко и Рогачев никак не могли договориться, кому проводить свет в первую очередь, а кому во вторую — строительство планировалось на две очереди. Решили строить каждый себе «собственную» станцию. Но для маленьких электростанций трест не отпускал оборудования. Так и жили там люди при керосиновых лампах и каганцах. Не было станичного клуба, радиоузла, школы не освещались по вечерам. А хлеба колхозники получали по десять килограммов на трудодень.
Поговаривали, будто Наливайко приказал однажды чабанам перед стрижкой овец целый день гонять отары по пыльным дорогам и взлобкам, чтоб набилось песку в шерсть — для весу. Все умные хозяева, мол, делали так раньше. А Рогачев дал как-то свой духовой оркестр в соседний колхоз на похороны с почестями одного старика активиста, а потом прислал его вдове, больной одинокой бабке («чужая» — из другого колхоза!), повестку на сто рублей «за пользование оркестром».
Их звали иногда в шутку «братья Копейкины» — в станице были когда-то знаменитые купцы-воротилы Копейкины. Но теперь всем ясно, что Наливайко и Рогачев, при некоторых схожих чертах, не были все же братьями по духу. Я говорю теперь, потому что в военные годы их пути круто разошлись.
Рогачев был малограмотный человек, с трудом прочитывал районную газету и, кроме нее, пожалуй, никакой литературы никогда в руки не брал. Это был организатор-самородок, практик, доходивший до всего «нутром», выросший за годы коллективизации из рядового крестьянина в руководителя огромного общественного хозяйства лишь благодаря своей преданности делу. Сколько я знал колхоз «Серп и молот», там не было хорошего парторга, не было возле Рогачева человека, который помогал бы ему государственно осмысливать многие вещи, расширял бы его кругозор, постыдил бы его кстати и за барышничество: с кого же ты дерешь, мол, по пять рублей за арбуз — с рабочего МТС, который тебе тракторы ремонтирует?
Но руководил колхозом он все же как председатель, а не как управляющий. Созывал часто общие собрания, советовался с народом, не командовал, помнил и старался соблюдать колхозный устав. Любил Рогачев свой колхоз беззаветно. Почти не жил дома, дни и ночи проводил в поле, личным хозяйством совсем не занимался.
И если скупился и даже жадничал, выгадывал всячески, как бы положить в кассу лишнюю сотню рублей, то действительно «не для себя». Себе он отказывал в самом необходимом, боясь, чтоб колхозники не упрекнули его в мотовстве. Само правление как-то решило купить председателю выездную тачанку, а то все ездил по бригадам на случайных подводах, а больше ходил пешком: не хотел отрывать от полевых работ лошадей и расходовать трудодни на конюха.
Наливайко был другого склада хозяйственник. Этот часто говаривал колхозникам: «Я вам гарантирую, что десять килограммов на трудодень вы получите, ну и все, не мешайте мне делать, что я хочу». О колхозе он заботился, но и себя не забывал, смотрел на колхозные кладовые как на собственные, выписывал «по себестоимости» целые свиные туши, мед, масло пудами — сверх причитающегося на его председательские трудодни. Ездил без нужды ежегодно на курорт за счет колхоза. «Дорогой председатель? — говорил он на отчетных собраниях, предупреждая выступления недовольных колхозников. — Дорогой? Ну что ж, вы свои десять килограммов получите, а я свое возьму. А не нравлюсь — выбирайте дешевого. Он вам развалит хозяйство, по килограмму будете получать. Лучше будет?»
Когда стансоветские комиссии перемеряли усадьбы колхозников, выявляя излишки сверх положенного по уставу, у самого председателя колхоза тоже пришлось отрезать два лишних огорода. Было у него три коровы, полный баз овец, свиней, птицы. Жена его не управлялась одна с домашним хозяйством, держали работницу, не принятую в колхоз бывшую кулачку, старуху, семья которой вся была выслана из станицы.
Смотришь, бывало, как живет Наливайко, и думаешь: а может быть, такому председателю колхоз дорог лишь тем, что дает ему доходную должность? Может быть, только это и вдохновляет его на накопление колхозных миллионов, — что он оттуда немалую толику и для себя урвет?
С людьми он обращался неприветливо, грубо. Колхозники неохотно шли к нему со своими нуждами, боялись его, не любили. Однако ценили его хозяйский глаз, опыт, смекалку. Одни его широкие знакомства что стоили для колхоза — мог достать сколько хочешь и кровельного железа, и стекла для парниковых рам, и гвоздей.
Проработал он председателем «Передовика» пять лет. Там и застала его война. Разразились события, изломавшие все привычное, налаженное. Наступило время проверки каждого человека — способен ли он выдержать тяжелейшие испытания, как готовил себя к ним, не потеряет ли, несмотря ни на что, веру в победу? Да и нужна ли она ему, победа, настолько, чтобы он не мог жить без нее?..
Я знаю точно: Наливайко не был выходцем из кулацкой или помещичьей семьи. До коллективизации он был бедняком. Привело его к тому, к чему он пришел, не чуждое социальное прошлое, не голос крови, а — голос шкуры.
На месте секретаря райкома, отбиравшего в партизанский отряд лучших, надежнейших людей, я бы не допустил в отряд Наливайко, не доверил ему партизанской тайны. Черты собственника, стяжателя слишком явно проступали в нем. Можно ли было не опасаться, что в критическую минуту личное благополучие он поставит выше всего?.. Но в таком случае, естественно, возникал и другой вопрос: зачем же его держали председателем колхоза пять лет? И не следовало ли еще раньше призадуматься — для чего этот человек вступал в партию?..
После оккупации немцами Украины, Ростова, прорыва на Кубань Наливайко потерял, видимо, надежды на возвращение Красной Армии. Когда немцы подошли к станице, он, обвешанный гранатами, опоясанный двумя патронташами, с охотничьей двустволкой ушел ночью с партизанами в плавни. Ушел, но до места не дошел (обо всем этом партизаны рассказывали мне уже после войны, когда мне случилось опять побывать в этой станице). Присел где-то на полпути переобуться, отстал в темноте, и больше его в отряде не видели. Спустя несколько дней партизанские разведчики донесли командиру отряда, что Наливайко вернулся домой и назначен немцами станичным старостой.
Купил Наливайко «помилование» себе и даже доверие немецкого командования ценою предательства: выдал немцам партизанские продовольственные базы. Но знал он расположение не всех баз, только тех, куда сам возил продукты за несколько дней до ухода партизан в плавни.
А затем, в новой должности, Наливайко стал делать все то же, что делали и другие старосты из раскулаченных и бывших белобандитов: угонял молодежь в Германию, отмечал день рождения Гитлера, выдавал на расправу гестапо семьи партизан и коммунистов. За пять месяцев службы оккупантам он успел, беря из лагеря на работу пленных красноармейцев, построить себе новый кирпичный дом в станице, получил от коменданта «в собственность», за усердие в выполнении поставок для немецкой армии, бывшую колхозную вальцовую мельницу…
В январе сорок третьего года партизаны совершили удачный налет на немецкий гарнизон в станице, уничтожили роту эсэсовцев. Полицаев, по возможности, брали живьем. Наливайко подняли с постели в его новом доме в кальсонах и, не дав ему времени одеться потеплее, увезли в плавни. Разговор там с ним был недолог. Партизан не очень интересовали психологические подробности его падения, что и как заставило его продаться врагам родины. Экономя боеприпасы, спустили его прямо в прорубь — «именем советского народа». В числе приводивших приговор в исполнение был и Максим Рогачев.
О Рогачеве партизаны рассказывали мне много хорошего. Дрался он с фашистами честно, храбро, не щадя живота, был три раза ранен. Уходя в плавни, Рогачев отправил семью в дальнюю станицу, в горы, к родственникам, а хату свою, не дожидаясь, пока немцы, узнав, что он в партизанах, уничтожат ее, сжег сам… Хату спалил, хватило духу, а когда подошли ночью в поле к огромным скирдам необмолоченного колхозного хлеба — не выдержал. «Хлопцы! Да неужели ж не отобьем это добро назад? Это же хлеб! Сколько трудов вложено!» И пошел прочь от скирд, бросив под ноги партизанам-колхозникам зажженный пук соломы. «Не могу. Палите сами…». Однако, отойдя немного и увидев, что ветер не перенес огня с первой скирды на другие, вернулся и доделал все по-хозяйски… За боевые подвиги в отряде он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
Сейчас он по-прежнему председательствует в колхозе «Серп и молот».
Я спрашивал его, что он думает о Наливайко.
— Что думаю?.. — Рогачев крепко, непечатно выругался. — Он мне всю душу, гад, перевернул!.. До сих пор думаю: за что нас братьями Копейкиными называли? Вот родич какой!
— Ну, это ты знаешь, за что… Помнишь, как Наливайко рисом торговал?
— Как же! Выделил пятьдесят продавцов, каждому два мешка риса под отчет, командировку в зубы, и — в разные города: Таганрог, Кривой Рог, Киев, Одесса. Всю зиму возили. Пятьсот центнеров стаканами продали. Стаканами дороже выходило раза в два, чем крупным весом.
— А ты, глядя на него, муку блюдечками продавал в Харькове. Тоже держал целый штат разъездных спекулянтов. Превратили колхозную торговлю в мешочничество.
— То-то и оно — глядя на него… Не хотелось, чтоб меня худшим хозяином считали!
— А как у вас начали строить школу-десятилетку? Да заломил ты за кирпич такую цену, что дешевле его было привезти из города по железной дороге, чем у тебя купить!
— Не говори!.. Директор школы был с нами в отряде. Он мне и там за тот кирпич и снабжение учителей проходу не давал, стыдил… Вот скоро восстановим кирпичный завод — отпустим школам и больнице по себестоимости сколько потребуется. В самом деле, на чем наживались?
Бывший командир отряда Алексей Кириллович Осипов, вернувшийся из плавней в свой секретарский кабинет в райком партии, — вернувшийся, надо сказать, лучшим секретарем, чем знал я его раньше, более вдумчивым и серьезным, — говорил о Наливайко:
— Этого случая я до гроба не забуду. Как мы ошиблись в нем!.. Если бы не война, мы его, пожалуй, за хозяйственные достижения к ордену представили. Ослепил он нас своими «показателями». Ведь нам в райкоме очень трудно приходится, когда председатели колхозов неопытные, неумелые. Уполномоченных держим безвыездно в таких колхозах, звоним, нажимаем. А к этому можно было месяцами не заезжать. Это же был зубр! Хозяйство у него как часы. Забыли указание товарища Сталина, что колхоз лишь форма организации, социалистическая, но все же форма, и все зависит от того, какое содержание будет влито в эту форму… Такого шибая держали руководителем колхоза! Как мы его партийность проверяли? Опять же — по сводкам. А как он с людьми разговаривает, чему их учит, куда ведет, какой пример им подает своей жизнью — в это не углублялись… Как его назвать? Перерожденец? А с чего бы ему переродиться? Обстановка влияла, среда? Так вокруг него были советские люди и занимались все хорошим делом — социалистическим строительством. Нет, никакой он не перерожденец…
— Теперь он у тебя, Алексей Кириллович, не выйдет из головы, пока формулировку не подберешь.
— Да. Такая наша обязанность — подбирать формулировки. Вам, писателям, что: настрочил целый рассказ об одном человеке, литературный портрет, так сказать, художественные тона, полутона, а нам надо — коротко и ясно. Протокол. Иной раз исключаем из партии, надо в двух словах сказать: за что? Вот ты рассказываешь про сапожников, как они того директора назвали — «без стельки». Так этого же не запишешь в протокол… Не перерожденец он был. Таким и в партию вступал. Может, с должности председателя колхоза метил и повыше, в предрика, а там, чем черт не шутит, и в область, на какой-нибудь высокий пост?..
Труднее всего, пожалуй, «перевоспитать» карьериста, шкурника. Да и стоит ли над этим трудиться — в том смысле, чтобы уберечь такого человека от полного краха, сохранить его во что бы то ни стало в «номенклатуре», в кадрах ответственных работников? Оберегать ответственные посты разных масштабов от таких людей — задача более своевременная и важная. Вот об этом и хочется еще поговорить в этих заметках, вернувшись к началу.
В некоторых партийных организациях у нас изучают людей не по их делам, а по анкетам, дипломам, обещаниям и заверениям. Иной человек зажигательно, с пафосом говорит о необходимости быстрее двигаться вперед, к коммунизму. Говорит — а самому коммунизм представляется неким журавлем в небе, не очень рвется он к нему, не много сил тратит на это, норовит покрепче держать сегодня синицу в руках: персональную машину, отличную квартиру, высокий оклад. На словах он за демократию и критику, а на деле — самодур, не выносит критики, как черт ладана. На людях — энтузиаст, а в личной жизни — обыватель, зевающий от скуки, когда сын-ученик рассказывает ему о спорах на комсомольском собрании: «Давай, сынок, хоть дома без политики, она мне и на службе надоела…» Коммунизм для него — служебная форма, и даже не повседневная форма, а парадный мундир, звучное слово для «закругления» митинговой речи. Смысл этого слова не доходит до его сердца.
А для советских людей борьба за коммунизм — все содержание их жизни и в праздники и в будни. Чем больше пота и крови стоит народу наше дело и его защита от врагов, тем дороже цели, тем непримиримее относится народ ко всему, что мешает нашему движению вперед, к этим целям.
Об умении некоторых опытных карьеристов пускать пыль в глаза, производить внешне выгодное впечатление можно бы написать много, специальное исследование. Тут и тонкое знание никем не писанного этикета, и угодливость, принимаемая по ошибке за служебное рвение, и обыкновенное нахальство, принимаемое за напористость, и ловкачество, похожее на инициативу.
Вероятно, у них есть свои «десять заповедей». Может быть, они и не заучивают их наизусть, как молитвы в детстве, не произносят вслух, ложась в постель и восстав ото сна, но живут они, безусловно, по каким-то интуитивно выработанным правилам. Например:
Уезжая в отпуск, не оставляй заместителем человека умнее себя — могут сделать невыгодное для тебя сравнение, и твой отпуск превратится в бессрочный.
Учись. Не для расширения кругозора, а для отметки в личном деле о высшем образовании. Если поможет личный секретарь — пиши и диссертацию, пригодится!
Живи просто — проживешь лет сό сто. Побольше запрещай, поменьше разрешай. Иногда проще и безопаснее запретить какое-то «мероприятие», чем разрешить его.
Если уж провалился — старайся как можно искреннее признать все ошибки. Признавай охотно, не артачься. Падай наземь и проси прощения — в характере русских людей не бить лежачего…
А впрочем — довольно. Не к чему перечислять все заповеди, а то как бы эти заметки не превратились в руководство для начинающих пролаз.
Рано или поздно таких людей у нас распознают, и их карьере приходит конец. Товарищи убеждаются, что действительно нет «стельки», не к чему прибивать выговоры и последние предупреждения. Но между этими «рано» или «поздно» проходит иногда слишком много времени. Лучше бы раньше!
1948
«Лавулирующие»
Слышал я в народе новый глагол — «лавулировать». Новое слово, его нет ни в каких словарях. Похоже и на регулировать, и на лавировать, и на вуалировать. Но ни то, и ни другое, и ни третье. Емкое по смыслу и очень точное слово. Зашла речь об одном ответработнике, и кто-то метко охарактеризовал его этим новым словечком: «Да он не работает, а так — лавулирует всю жизнь».
Ответственные работники потому и называются ответственными, что они на своих постах должны, обязаны самостоятельно решать многие серьезные вопросы и, если нужно, отвечать за свои решения. Потому им много и дается, что с них много спрашивается. Но некоторые товарищи принимают охотно лишь материальные и всякие прочие удобства, связанные с пребыванием на ответственных постах, а «неудобства», вытекающие из необходимости что-то решать, отстаивать, согласны бы и отдать другим. Когда нужно решать — мужественно, честно, — они лавулируют. Удается им иногда лавулировать годами. На это уходят все их способности.
Стоит ли доказывать, как важна в нашей жизни правдивая информация? Вот, скажем, на каком-то участке у нас плохо. Плохо в колхозах, где-то в каком-то отстающем районе или в области. Какие-то болезни сильно запущены, перешли в хронические. Необходимо вмешательство очень умного, опытного врача.
Изложить в информации все честно и откровенно: что у нас, мол, в нашем районе, к стыду нашему, есть еще колхозы, где новому председателю нужно начинать чуть ли не с того, с чего начинали в тридцатых годах — собирать актив и учить людей ценить общественное, как свое кровное; что мы непростительно скверно используем великолепную технику, растеряли старых трактористов и каждый год сажаем на новенькие машины учеников; что в некоторых колхозах действительно образовался какой-то порочный круг: люди мало получили хлеба по трудодням потому, что мало его вырастили, а мало вырастили потому, что плохо работали, а плохо работали потому, что и в прошлом и в позапрошлом году получили мало хлеба, и кто в этом виноват, не мы ли сами, что не помогли колхозникам до сих пор выбрать хороших, хозяйственных председателей; что фактически умолот — то, что попало в амбары, — намного оказался ниже учтенного на корню урожая, опять допустили большие потери и хищения при уборке, — написать обо всем этом, рассказать честно все как есть значит признать, что ты не справляешься с порученным тебе делом, самому, так сказать, напроситься на снятие с работы или строгое взыскание.
И лавулирующий товарищ предпочитает несколько приукрашивать истинное положение вещей. Ему нужды нет, что по точной, правдивой информации были бы своевременно приняты решения на пользу дела. Им руководят не интересы государства. Ведь коль скоро дело дойдет до крутых решений, ему не избежать ответственности. Так пусть уж лучше их совсем не будет пока, решений. Удастся продержаться, высидеть в своем кресле еще годик, а там, может быть, переведут на другую работу — как-нибудь сойдет с рук. Или, возможно, обнаружатся более серьезные недостатки в другом месте. Какой-нибудь другой район, где еще хуже, чем у него, будет фигурировать в решении, как пример того, к чему приводят негодные методы руководства колхозами, и «затмит», спасет таким образом его.
Есть лавулирующие и в литературе.
Если человек по незнанию жизни пишет приторные пасторали — это явление тоже малопривлекательное, но, по крайней мере, в таких случаях автор хоть искренен: он, может быть, в самом деле, читая газетные корреспонденции лишь из передовых областей, думает, что у нас уже во всех колхозах председатели — агрономы с высшим образованием и кандидаты биологических наук и что, укрупнив колхозы, мы одним махом устранили все помехи на пути их дальнейшего развития. Судить такого незлонамеренного лакировщика можно лишь за наивность и верхоглядство.
Но когда знающий колхозы писатель, проживший несколько лет в деревне, в гуще жизни, причем далеко не в передовой области, утверждает, что в наши дни в колхозах конфликтов уже нет, остались лишь конфликты хорошего с отличным, — что это, как не сделка с совестью? Пишите, кому желательно, о контрастах, пестроте в урожаях, отстающих колхозах, а мне для моих сочинений хватит конфликтов и из истории дореволюционной деревни.
Удивительно, как он не чует своим профессиональным писательским нюхом, что он-то сам и есть персонаж для конфликтов сюжета — да еще какого! — из нашей жизни.
Был у меня неприятный, оставивший тяжелый осадок на душе, но в общем полезный, в смысле наблюдений, разговор с одним ответработником из лавулирующих.
Товарищ отвечает за большой участок работы, но не в первую голову, есть над ним начальники и постарше, с них больше спросится. Ему-то уж и вовсе ни к чему лезть «поперек батька»…
Речь зашла о низких урожаях в области, легкомысленном подходе к подбору кадров председателей колхозов и т. п. В каком-то месте наших споров о методах руководства колхозами товарищ, вопреки очевидным фактам убеждавший меня упорно, но как-то вяло, бесстрастно, отводя глаза в сторону, что положение, в общем, терпимое и дела в районах идут не так уж плохо, вдруг загорелся:
— А знаете, как ни плохо у нас — нам ведь не дадут окончательно развалить дело! В чем наша сила, сила советского строя?
Он вышел из-за стола и заговорил, как на трибуне, полным голосом, энергичным взмахом руки отрубая каждую фразу:
— У нас есть мудрая партия! У нас есть мудрое правительство! У нас есть государственный контроль! Рано или поздно нас призовут к порядку! Если мы докажем свою неспособность выправить положение, может быть, даже заменят нас другими работниками! Самая система советского строя такова, что жизнь идет вперед и только вперед! Здоровое, живое у нас всегда побеждает!
Глаза его светились радостью открытия. Лицо стало почти вдохновенным…
Вот, оказывается, чем некоторые лавулирующие успокаивают себя, оправдываются перед собственной совестью! «Советская система победит, преодолеет все! В том числе и трудности, возникающие у нас по вине таких, как я!»
Слушать эти речи из его уст было так же странно, как если бы покойник на похоронах сам себе пропел «со святыми упокой»…
Что советская система победит, преодолеет все — в этом-то никто не сомневается!
Народ наш видел и видит на каждом шагу чудеса советской системы: восстановленную в неслыханно короткие сроки и далеко шагнувшую вперед промышленность; целые районы, где еще девять лет назад села были сожжены дотла, а сейчас колхозы богатеют и процветают, будто и не было войны, оккупации. Он сам, народ, творит эти чудеса там, где руководят делом настоящие коммунисты.
Тем нетерпимее относится парод к лавулирующим горе-руководителям, по вине которых какие-то участки нашего строительства пока еще отстают.
И эта нетерпимость (вот в чем еще сила советского строя!) тоже залог того, что у нас не будет отстающих участков.
1952
В одном колхозе
В один из июльских предуборочных дней у конторы правления колхоза «Красное знамя» съехалось десятка три грузовых автомашин — из всех колхозов района. На каждой машине было полно колхозников. Но хозяевам не впервые было видеть у себя на площади такое скопление машин. Даже ребятишки спокойно поглядывали на эту выставку автомобилей разных марок. Разлегшись в стороне, в тени под деревьями, переговаривались:
— Опять договор будут проверять?
— Какой договор! Всем районом, что ли, будут проверять? Видишь, сколько машин?
— Экскурсия?
— Понятно — экскурсия.
— По полям поедут?
— Сначала по полям, потом на фермы. Посмотрят, как электричеством коров доят.
— А потом, которых пригласят, пойдут к председателю обедать…
— Не все?
— Если всех кормить-поить, так у Павла Федорыча и зарплаты не хватит.
— У нас редкий день обходится, чтоб не было гостей.
Только одна машина привлекла внимание ребят. Они подошли ближе, долго рассматривали разнокалиберные скаты, измятую, как старая консервная банка, с пробоинами, похожими на пулевые, кабинку.
— Что, ребята? — высунулся из кабинки шофер. — Такой техники еще не видели? Это машина марки «ГТТ».
— Первый раз слышим.
— То-то и оно!.. Передок и мотор немецкие, а задний мост с форда.
— «Гитлер Трумена Тащит», — объяснил один из колхозников, сидевших в кузове.
— Куда тащит? — спросила его женщина, сидевшая рядом.
— После разберемся. А пока еще поездим на них.
Из конторы правления вышли секретарь райкома Стародубов и председатель колхоза «Красное знамя» Назаров, Герой Социалистического Труда, оба высокие, в меру грузные для своих сорока с лишним лет мужчины, в защитного цвета гимнастерках, галифе, хромовых сапогах — издали по фигуре и костюму не отличишь одного от другого. Стародубов пропустил на заднее сиденье своего «газика» Назарова. Не оглядываясь, зная, что за его жестом следят, махнул рукой, сел рядом с шофером, с треском захлопнул дверцу.
— Поехали!
Взревели моторы, заклубилась пыль. Колонна растянулась на полкилометра через все село, впереди — верткий армейский «газик»-вездеход Стародубова.
— Куда? — спросил шофер, чуть притормозив на выезде из села, где расходились три полевые дороги.
— Я думаю, Дмитрий Сергеич, — сказал Назаров, — начнем с тех полей, что захватило градом. Там похуже.
— А потом — рожь Лисицина, перекрестный сев, свекла? Чтоб усилить впечатление под конец? Хитер! Ладно, давай, Степа, по средней дороге.
На выбоине, заросшей травой, «газик» сильно тряхнуло. Назаров стукнулся головой о перекладину тента, почесал лоб.
— Амортизация!.. Когда уже райком партии приобретет себе «Победу»?
Стародубов усмехнулся, промолчал.
— Нам предлагали «Победу», товарищ Назаров, — сказал шофер. — Дмитрий Сергеич отказался.
— Давали в обкоме на выбор: «Победу» или «газик», — сказал Стародубов. — Я говорю: «Мне машина для работы нужна, чтоб в любую погоду проехать, куда надо». Взял этот вездеход… А вы, трижды миллионеры, когда раскошелитесь на «Победу»? — обернулся он к Назарову.
— Должно быть, никогда, Дмитрий Сергеич.
— Почему так?
— Даже записано в решении отчетного собрания насчет легковой машины для правления. А мне что-то не хочется ее покупать. Боюсь, покажусь колхозникам каким-то чужим в «Победе». Они привыкли к моей таратайке.
— Ну, это глупости говоришь! Колхоз растет, забот прибывает, всюду нужно поспеть, нужен хозяйский глаз. Зачем тратить лишнее время на разъезды?
— Не в том суть, чтобы за полдня все бригады обскакать. В иной бригаде можно и неделю не побыть, если знаешь, что наладил там дело.
— Это-то так, конечно…
И больше ни словом не перекинулись до самой остановки на дальней границе земель колхоза «Красное знамя».
— Так вот, товарищи колхозники, — сказал секретарь райкома, когда экскурсанты сошли с машин и собрались вокруг него и Назарова, — это у них градобойные участки. Тут у них будет недобор.
— Это-то недобор?..
— Недобор, конечно, — сказал Назаров. — Присмотритесь, сколько колосков посечено, на земле лежит.
— Много лежит, но много и осталось!
— Потому много осталось, что много было, — сказал Стародубов. — Знаете, друзья, пословицу: пока толстый исхудает — из тощего дух вон.
— Нам бы, Дмитрий Сергеич, такой урожай, как у них этот недобор! — заговорила одна колхозница из приехавших на машине марки «ГТТ» из колхоза «Ударник», Христина Соловьева. — А зéмли у них, глядим, никудышные. Глина, мел. Свистульки только лепить. — Метнула горячими черными глазами в сторону своего председателя. — Что бы они тут делали, радетели наши, на такой неудоби? Как бы они выкручивались? На черноземе по семь центнеров берем!..
— Если бы в колхозе «Красное знамя» были самые лучшие земли, я бы вас не привез сюда на экскурсию, — сказал Стародубов. — Я привез вас не землею любоваться, а урожаем.
— Если на то пошло, — усмехнулся Назаров, — то можно похвалиться. Почвоведы утверждают, что хуже нашей земли нет по всей области. А на рельеф обратите внимание.
— Да уж обратили, Павел Федорыч, — подошел председатель колхоза «Общий труд» Филипп Конопельченко. — Бугры, балки, косогоры. Карпаты!.. Жалко, что не захватили на экскурсию наших трактористов. Поглядели бы, каково вот тут работать! Того и гляди, загудишь вверх тормашки с комбайном в яр!.. Небось пережогу в твоей тракторной бригаде — тонны! А?
— Третий раз приезжаешь ты к нам, Филипп Петрович, и все допытываешься насчет пережога. Нету, говорю, пережога!
— Ох, не обманешь, Федорыч! Сам десятый год председательствую. Чтоб по такому рельефу не быть пережогу?.. А спалит парень лишнего горючего рублей на пятьсот — вот у него уж и энергия отпадает…
— Как-нибудь открою тебе, Филипп Петрович, секрет, почему у наших трактористов нет пережога. Наедине поговорим. Не отвлекай, пусть люди поля смотрят.
— Ну как, товарищи, по-вашему? — обратился ко всем Стародубов. — Сколько возьмет колхоз «Красное знамя» пшенички на этом градобойном участке?
— Погодите, пройдем дальше от дороги, посмотрим… Иван Спиридоныч! Как на твой глаз?
— Что — глаз! Сын-плотник говорил отцу-плотнику: «Наплюй, батя, на свой глаз, теперь у нас аршин есть». Обмеряем, посчитаем.
Отмерили в разных местах поля несколько квадратных метров, оборвали колосья, обмяли их в ладонях, провеяли зерно на ветру, взвесили даже — кто-то из гостей захватил с собою маленькие лабораторные весочки.
— Тринадцать центнеров будет, Дмитрий Сергеич.
— А почему с тех машин не слезли? Вы зачем, товарищи, ездите по полям? Катаетесь или урожай смотрите?.. Все слезайте, смотрите, щупайте. Вам же придется дома отчитываться: что видели в колхозе «Красное знамя»?
И лишь после того как все согласились, что действительно на этих самых плохих участках урожай будет не меньше двенадцати — четырнадцати центнеров, Стародубов скомандовал:
— По коням!..
Колонна грузовиков запылила по узенькой, извилистой, — с перевала на перевал, — полевой дороге. Пошли такие рослые хлеба, что местами приземистый райкомовский «газик» совсем скрывался в них, лишь пыль курилась столбом, словно смерч шел по полям.
По сигналу Стародубова колонна останавливалась.
Экскурсанты спрыгивали на землю, рассыпались по хлебам, смотрели, щупали, обминали колосья.
— А здесь по сколько будет? — пытливо обращался ко всем Стародубов.
— Ну, здесь, пожалуй, все двадцать, Дмитрий Сергеич. Не меньше.
— А не больше?
— Да как уборка покажет. Если не прихватит суховеем. Зерно-то еще, видишь, не окрепло, молочко…
— Вопросы к председателю есть? Сколько удобрений внесено, какой предшественник, чем подкармливали эту красавицу?
— Вопросов много к нему, Дмитрий Сергеич!..
— А я думаю так, — подошел Назаров. — Мне лучше бы ответить на все вопросы там, когда в клубе соберемся. Расскажу и про нашу организацию труда и про агротехнику. А тут пусть люди смотрят, убеждаются.
— По коням!..
Возле свекловичных плантаций задержались дольше. Пышная зелень, без единой сорной травинки междурядия, дважды уже прополотые, ровные рядки — хорошо пойдет здесь свеклокомбайн… Но Христине Соловьевой приглянулось другое.
— Вот где руководители заботятся о нас, женщинах! Против участка каждого звена — шалашик. В холодочке пообедают, отдохнут. Видно, председатель сам когда-то с тяпкой работал, не забыл, как это от зари до зари спины не разогнуть?..
— Мы, Христина Семеновна, эти шалаши строили не только от солнца, — обернулся к ней Назаров, — Придет время копать свеклу, осень, ветры, дожди. Надо же где-то людям погреться.
— Ты смотри! — толкнула Христина Соловьева другую колхозницу. — Второй раз сюда приезжаю, и он уже знает, как меня по батюшке зовут!..
— А почему так расплановали? — спросил Филипп Конопельченко. — Один шалаш в том конце поля, другой — в этом?
— Простой расчет, товарищ Конопельченко, — ответил Назаров. — Если дождь захватит женщин ближе к тому краю загона — побегут в шалаш к соседнему звену. Если ближе к этому краю — сюда все прибегут.
— И что машинами возите сюда колхозниц на прополку — тоже расчет? — спросил Стародубов.
— Ну-у? Машинами возите колхозниц на свеклу? — раздалось несколько женских голосов.
— А что же такого особенного? У нас в колхозе пять машин. Пусть мы затратим тысячу рублей на горючее, зато сколько выгадаем! Отсюда до села семь километров. Туда, обратно — четырнадцать. А работать когда? Постановили на заседании правления: в шесть часов утра все машины ждут пассажиров у конторы. Кто желает ехать — садись. Пришел в четверть седьмого — опоздал, машины ушли. Так же и в обратный путь. Если хотите ехать, а не пешком идти, работайте до такого-то часа, ровно в назначенное время машины придут за вами в поле. Вдвое быстрее прополка пошла.
— Расчет! И людям выгодно.
— А как же! За ходьбу трудодни не пишут.
— Ну и как, товарищи колхозники, — повел рукой вокруг Стародубов, — сколько, по-вашему, возьмут они здесь сахарной свеклы с гектара?
— Если еще дождик-два…
— Метеорологи обещают.
— Да ежели вовремя уберут…
— А почему бы им не убрать вовремя? Дисциплина, что ли, хромает у них?
— Да что говорить, Дмитрий Сергеич! — кинул в сердцах фуражку оземь один колхозник. — Что ты нас агитируешь? Все хлеборобы, не первый год землю пашем… По триста пятьдесят центнеров будет тут на круг!
— Кабы такой урожай по всему Советскому Союзу — дома бы строили из сахара вместо кирпичей!
— Как в сказке — молочные реки, кисельные берега?..
— По коням!..
Собрание в переполненном клубе открыл Стародубов. Президиум не выбирали. Это было не собрание, а просто подведение итогов экскурсии.
— Я привожу сюда, товарищи, уже пятую экскурсию, — сказал Стародубов. — Как Назаров не жалеет горючего на прополку свеклы, так и мы не пожалеем горючего на это дело. Дадим каждому колхозу дополнительные лимиты, но чтоб все люди побывали здесь, посмотрели своими глазами, убедились! И трактористов привезем, покажем им здешние «карпатские горы» и урожаи на этих горах!.. Предоставим слово Павлу Федоровичу. Пусть он теперь расскажет, каким путем это все достигнуто: такая чистота на полях, порядок на фермах, доходы, строительство. Давай, товарищ Назаров! А потом еще поговорим.
Доклад Назарова был суховат. Цифры и факты. Он почти не заглядывал в потрепанные листки с «тезисами» — не первый раз отчитывался по ним перед таким собранием, помнил все наизусть. В нынешнем году одни лишь капиталовложения в хозяйство составляют миллион. За прошлый год колхозники получили на трудодень по четыре килограмма зерна и по шесть рублей деньгами. Сахару некоторые колхозницы получали по двадцать пять — тридцать пудов. Нынче, если выдержат план урожайности, доходность трудодня будет значительно выше. Организация труда такая-то, все делается, как положено по Уставу: главное внимание — укреплению бригад, но и звенья на пропашно-технических культурах не забыты. Из девятисот семидесяти пяти трудоспособных колхозников нет ни одного, не выполняющего рабочий минимум в трудоднях. Дневные нормы выработки на разных работах большинством колхозников перевыполняются. Весенний сев был проведен в восемь дней, ни одного гектара весновспашки, все — по зяби. Минеральные удобрения по разнарядке полностью выкуплены и завезены, даже больше завезено — за счет тех колхозов, которые отказались от них. Местные удобрения используются полностью, старого навоза не найдете нигде ни грамма: ни на фермах, ни во дворах колхозников — все вывезено на поля. Уход за растениями — строго по утвержденным агроправилам, столько-то прополок, подкормок. Озимая пшеница была посеяна перекрестным способом. Скот на фермах исключительно племенной, высокопродуктивный. План развития поголовья по всем видам скота перевыполнен на двадцать — тридцать процентов. Доходу от животноводства получено столько-то. Все постройки, что видели товарищи: коровники, конюшни — это новое, послевоенное. Немцы при отступлении взорвали либо сожгли все общественные постройки в колхозе. Сейчас большое внимание обращено на бытовое строительство. При всех фермах оборудованы благоустроенные общежития для колхозников, ухаживающих за скотом. Расширяются детские ясли, намечено сделать ясли круглосуточными, чтобы женщины, которым далеко ходить, — село ведь большое, от края до края четыре километра, — могли оставлять детей там и на ночь. На будущий год планируется постройка нового клуба — этот уже тесен — с зрительным залом на тысячу мест. Уже закуплено оборудование для радиоузла. Будет радиофицирован весь колхоз, все дома в селе и даже отдаленные бригадные станы.
Слушать его доклад было скучновато. Цифры, факты — замечательные, но будто все сделалось само собою, потому стал колхоз передовым, что все сознательно выполняют в точности Устав сельхозартели и министерские агроправила, не было будто борьбы, трудностей, помех. Он ни разу не сказал в докладе: «я», «у меня», «я сделал», только — «мы», «у нас», «мы решили». Хорошая скромность, но в ней стушевывалась руководящая роль председателя.
Мне приходилось не раз слушать в другой обстановке рассказы Назарова о колхозе, о пережитом и сделанном здесь за пять лет. Куда лучше рассказывал он об этом под настроение, в небольшой компании, нежели с трибуны, перед многолюдным собранием. Он обладал и меткой наблюдательностью, и народной образностью языка, был горяч и остроумен в споре. Но здесь, в клубе, все собрались сегодня послушать о достижениях колхоза «Красное знамя», похвалить его, Назарова, поставить в пример другим председателям, споров как будто не предвиделось. Может быть, поэтому он и сделал свой доклад без огонька.
После доклада один колхозник из гостей, не дождавшись, пока Назаров ответит на все вопросы, попросил слова.
— Не об том вы спрашиваете, товарищи, Павла Федорыча, — горячо заговорил он. — Про агротехнику нам и свой агроном дома расскажет: когда лучше гречку сеять, когда клевер косить. По книжке — так, а на деле иной раз совсем не то выходит. Живыми людьми все делается!.. Вы вот про что расскажите нам, Павел Федорыч. Сколько вы лет здесь председательствуете?
— С сорок седьмого года. С осени.
— Когда принимали вы колхоз — все так же было здесь или похуже?
Назаров улыбнулся.
— Похуже немного.
— По пятьсот граммов авансом дали за тот год — только пила душа и ела! Вот как было! — подал голос кто-то из присутствовавших в зале колхозников «Красного знамени».
— Ты нас спроси, что тут было до товарища Назарова, — поднялся другой колхозник-гость. — Мы этот колхоз знаем, как свой. Соседи, через межу. Самый отстающий колхоз был в районе! Где падеж скота? У них. Где половина колхозников минимум не вырабатывает? У них. Каждый год семян им занимали.
— Вот это-то нас и интересует, — продолжал первый колхозник. — Каким же вы чудом, Павел Федорыч, сделали этот колхоз самым богатым, что теперь вот ездим к вам любоваться вашим хозяйством? Либо, может, золото в земле нашли да сразу всего накупили, настроили? Либо, по какой-ся милости, поставки с вас не берут? А?
— Золото в нашей местности не водится. Никаких природных богатств нет. Даже воды не было. Артезианы пришлось бить. За десять километров возили воду бочками на фермы. И село-то наше называется — Сухоярово… А поставки меньше, как по седьмой группе, нам ни разу не начисляли. А нынче по девятой будем выполнять, по самой высшей.
— Ну-ну, Павел Федорыч, — поддержала колхозника Христина Соловьева, — вот и расскажите нам об этом — с чего вы начинали, как пришли сюда на разбитое корыто? Как дисциплинку подтянули, как на фермах дело наладили? Пусть наши руководители послушают, поучатся. Может, пойдет им на пользу.
— С чего начинал?.. — Назаров, простодушно-хитровато улыбаясь, почесал затылок. — Давно было, товарищи, не помню уж, с чего начинал… Принял печать от старого председателя, порожки в конторе починил, фитиль в лампе подрезал, стекло вытер. Электричества тогда не было… А еще что?..
— Ладно, ладно, — поморщился Стародубов. — Без кокетства. Не забыл, все помнишь. Расскажи людям.
— Ну-с чего начинал?.. Учили людей честно работать, поощряли передовиков, наказывали лодырей, расхитителей колхозного добра. Назначили хороших бригадиров…
— Эх! — махнул рукой колхозник «Красного знамени» Никита Родионыч Королев, бондарь, сидевший в первом ряду. — Работать умеет, рассказать про себя не умеет. — Встал. — Давайте, что ли, я расскажу? Только мой рассказ будет не про него одного. И про других председателей расскажу, каких мы повидали тут.
По залу прошло оживление. Среди гостей сидело много колхозников «Красного знамени», знавших красноречие Никиты Родионыча.
— Валяй, Родионыч, рассказывай!
— Читай по-писаному!
— Наш колхозный летописец, — обернулся Назаров к Стародубову.
— Слышал, слышал. Книгу пишешь про колхоз, Родионыч?
— Историю колхоза. А как же! После нас будут существовать внуки, правнуки, жизнью наслаждаться, механизация, электризация, вентиляция, а как же они узнают, как это все зачиналось? В армии пишут историю дивизий. А я вот в свободное время, вечерами, пишу про наших председателей — что за люди были, про все ихнее похождение. Павел Федорыч у меня под седьмым номером идет. До него шестеро перебыло… Так что, рассказывать или погодить? Даете слово?
— Даем! — враз несколько голосов из зала.
— Со стороны виднее. Родионыч лучше расскажет.
Стародубов и Назаров переглянулись.
— Пусть говорит.
— Тогда уж выйди на сцену, Никита Родионыч, чтоб всем было тебя слышно, — сказал Назаров.
Никита Родионыч вышел на сцену — колхозник лет пятидесяти, высокий, тощий, с впалой грудью, узловатыми кистями рук.
— Про всех шестерых не буду рассказывать, — начал он, — времени не хватит. Были и хорошие председатели, и плохие, и пьющие, и непьющие, и такие, что к женскому полу привержены, и наоборот — не любили некоторых бабы за то, что не обращали на них внимания. Всякие были. Один, бывало, нас на три шага вперед толкнет, другой на четыре назад осадит… Расскажу про последнего, от которого ты, Павел Федорыч, дела принимал, про Сторчакова… Это до вас было, товарищ Стародубов, — обернулся к секретарю райкома. — Тогда у нас такие порядки были в районе — в колхоз за наказание посылали людей. Если, скажем, всюду не сгодился, тогда уж его председателем колхоза. Вот так и Васька Сторчак к нам попал… Работал он в Покровском директором кирпичного завода. Вроде бы и ничего съедобного, кирпичи, глина, песок, но и там как-то занялся самоснабжением. И к тому же пьянствовал, безобразничал. Вызывают его на бюро, отчитался он о проделанной работе — что ж, снимать? Сняли. Объявили ему строгий выговор. Назначили директором завода безалкогольных напитков. Безалкогольных! Мучайся!.. Это до вас еще было, Дмитрий Сергеич, — опять глянул на Стародубова. — При бывшем секретаре. Товарищ Тихомиров — был у нас такой… Ну, поработал он, Сторчак, на этом заводе безалкогольных напитков — и там проштрафился. Какая-то, говорят, лаборатория у них там при заводе была, спирт для лаборатории выдавали. Подсобное хозяйство было, свиньи, а сала рабочим не попадало, пошло все ему на закуску. Тянут его опять на бюро. «Не исправился — теперь поедешь председателем колхоза в «Красное знамя». В Сухоярово! Там и воды не так-то просто добыть». Приехал он к нам, на отчетное собрание. Уполномоченный говорит: «Вот этого товарища вам рекомендуем». А нам так приперло — были и непьющие и некурящие, а по работе — ни рыба ни мясо. Хозяйство не в гору, а вниз идет. Да давай хоть черта, лишь бы другой масти! Проголосовали. Начал он руководить. Бьет телеграмму какому-то приятелю в Донбасс: «Почем у вас картошка?» Повезли туда два вагона. А время — декабрь месяц, морозы, картошка померзла, выкинули из вагонов да еще штраф заплатили за то, что насорили на путях. Подработали!.. Весна наступает — зяби нет, семян нет. Промучились мы с ним лето, уборку завалили, хлебопоставки сорвали — прощается он с нами. «Ну, товарищи, уезжаю. Выдвигают меня опять на районную работу».
— А куда его выдвинули, Родионыч? — голос из задних рядов. — Я что-то уж запамятовал.
— Да опять же директором какой-то конторы «Заготкождерсырье», что ли… «Прощайте, говорит. Покидаю вас». — «А как же мы тут без тебя, Василий Гаврилыч?» — спрашивают его колхозники. «Да проживете, — говорит. — Пришлют какого-нибудь дурака». Я не вытерпел, говорю: «Опять дурака?..»
Хохот в зале на несколько минут прервал речь Никиты Родионыча.
Вот, значит, распрощались мы подобру-поздорову с Василием Гаврилычем. С неделю было у нас безвластие, уполномоченный сидел тут, наряды бригадирам выписывал. Потом привезли нам Павла Федорыча. Хотя про него неправильно будет сказать, что привезли. Он сам сюда напросился. Работал он в райкоме партии инструктором — так, Павел Федорыч? И, значит, изъявил желание пойти сюда председателем. Это уже нас заинтересовало. В самый отстающий колхоз — добровольно пошел человек. Стало быть, есть у него приверженность к колхозному делу, к хлеборобству? И ничего не слышно было про него такого, чтоб где-то там чего-то натворил, чтоб снимали его. Так… Выбрали мы его, принял он дела. Ходит по селу в офицерской шинелишке фронтовой, потрепанной. Худенький такой, моложавый. Это уж он после раздобрел, у нас, когда по три да по четыре килограмма стали давать… А начал ты, Павел Федорыч, если уж все в точности говорить, с того, за что тебя в первые же дни райком чуть из партии не исключил. Помнишь?
— Да, не забыл.
— Видите? Все помнит, только рассказывать стесняется… Или, может, про это нельзя говорить тут, при беспартийных?..
— Давай, давай! — махнул рукой Стародубов. — Я не слышал этой истории.
— Так было дело, — продолжал Никита Родионыч. — Тогда у нас еще молотьба шла. В декабре месяце. Не молотьба, а загробное рыдание. По пять человек из бригады выходило на работу. Окончательно отпала энергия у людей. Видят — урожай плохой, поставки выполнили, еле хватит на семена и фураж, а по трудодням получать нечего. Но все же домолотить то, что в скирдах осталось, нужно, хоть его и мыши уже наполовину съели. Ковырялись помаленьку… Конечно, сами виноваты, что такой урожай вырастили, но опять же рассудить — при чем мы, что не было у нас хорошего руководителя? Мы от этого Васьки Сторчака слова человеческого не слышали, только: «Судить буду!..» Походил Павел Федорыч по бригадам, полюбовался на нашу работу, — центнер в день намолачиваем, до следующей зимы хватит такими темпами молотить, — пошел по селу, заглянул и к тем, кто дома сидят, не выходят на работу. А у тех — тоже положение незавидное. Сидит вдова с детишками, топлива нет, корму для коровы нет, хата раскрыта, ветер свищет. Сидит и сама не знает, зачем сидит, что высидит?.. Созывает он вечером в правление всех бригадиров и дает такое указание: молотьбу приостановить на три дня, все мужики, что выходили на работу, пусть возьмутся и покроют вдовам хаты. Выдать им лошадей, сколько нужно для подвоза соломы, и только этим пусть и занимаются — кроют хаты. И пусть подвезут торфу на топливо особо нуждающимся.
Как налетел уполномоченный! «Вы что — очумели? Молотьбу остановили! Товарищ Назаров! Тебя зачем сюда посылали! Укреплять дисциплину или разлагать?» На машину его, раба божьего, и поволок к Тихомирову… А какой у них там был разговор с товарищем Тихомировым — пусть он сам об этом расскажет, я там не присутствовал.
— История об этом умалчивает? — рассмеялся Стародубов.
— Да нет, она-то не умалчивает…
— Читай, как у тебя записано, — ответил Назаров. — Я после скажу — так ли было.
В райкоме, по слухам, хотели сразу собирать членов бюро и снимать ему голову. А потом все же сообразили, что как-то оно получится политически неверно — человек только что принял колхоз и сразу исключать его из партии… И он, конечно, стал проситься: «Дайте, говорит, еще неделю сроку, а потом присылайте комиссию, пусть проверят — прав я был или нет». Так?
— Ну — так…
— А через неделю у нас уже во всех бригадах не по пять, а по тридцать человек выходило на работу!..
— А почему? — перебила Королева, одна из колхозниц «Красного знамени». — Про это и ты, Родионыч, не расскажешь. Ты в нашей вдовьей шкуре не был. Как у нас бабы частушки поют: «Вот и кончилась война, и осталась я одна…» Пришел Павел Федорыч к нам в бригаду. Зерно чистили мы на семена и в амбары возили. Мужики все — на ответственной работе: тот кладовщик, тот весовщик, тот завтоком, тот учетчик. Сидят, покуривают, анекдоты рассказывают. А бабы — веялки крутят, зерно грузят на машину. Да еще сделали нам ящик-меру — центнер целый пшеницы влазит. Ну-ка, подними, перекинь его через борт! Животы надрывали. Поглядел Павел Федорыч на такие порядки, видим — аж поболел с лица, рассердился. Как тряхнет тот ящик оземь! Разбил в щепки. «На чью силу вы, говорит, такие короба делали? Калечить женщин? Этим хотите поспешить?» Дал чертеж, какие ящики поделать, на двадцать килограммов, не больше. И разогнал потом всех мужиков на рядовые работы. А женщин — кладовщицами, учетчицами… Эх, думаем, есть, значит, люди, которые об нашей бабьей доле болеют!.. Ну и как же нам не возрадоваться, не сделать хорошее для такого человека, для колхоза? У кого совесть не заговорит?..
— Короче сказать, — продолжал Никита Родионыч, — поставили мы две молотилки, да как ахнули в две смены — дней за двенадцать перемолотили все, что оставалось. До снегу управились. Приезжает комиссия из района, видят — ошиблись, зря нашумели на человека. Дело в колхозе, похоже, пойдет на лад…
Назаров вначале, когда заговорили о нем колхозники, несколько смущался. Он сел в первом ряду на стул, с которого поднялся Никита Родионыч, и, заметно было, не знал, куда себя девать. То ли сидеть спиною к залу, — неудобно, когда о тебе говорят, то ли повернуться лицом к людям, — тоже нехорошо, как на выставке: смотрите, мол, все на меня, какой я есть. Сейчас смущение его прошло, он поднял голову и вполоборота, через плечо, широко раскрытыми глазами смотрел в зал. Половина людей в зале были колхозники «Красного знамени». Взгляды всех были обращены к нему. На всех лицах он видел хорошие, теплые улыбки… Взволновало Назарова сегодняшнее собрание… Нет, не все делал он с расчетом. Многое — от сердца, и сам уж позабыл. А народ помнит. Пять лет проработал он здесь. Большой кусок жизни. Каждый шаг его помнят…
— Так вот с чего начинал у нас Павел Федорыч, — заключил Никита Родионыч Королев. — Понятно вам, товарищи?.. Сельское хозяйство — это такая штука: поднять дух человека — он тебе втрое больше сработает. А больше поработаем — вовремя посеем, уберем, хороший урожай получим. А от хорошего урожая еще больше дух у человека поднимается!.. И еще скажу вам про сельское хозяйство. Когда председатель в четыре часа утра на ногах — и бригадирам уже как-то неловко на мягких перинах нежиться. А от бригадиров и другим передается. Так оно и идет, беспокойство, по всему колхозу…
…Расходились из клуба все в каком-то приподнятом, взволнованном настроении. У женщин, как всегда, не обошлось без слез. Христина Соловьева, одной рукой вытирая слезы, другой влепила крепкого тумака в спину своему председателю.
— Эх!..
И в это одно слово вложила все, что пережила, перечувствовала за день.
Стародубов живо обернулся на возглас женщины.
— Так, так, Христина Семеновна! Не давай ему покоя, толстошкурому! Где ни встретишь его, на улице ли, в правлении, спрашивай: «А почему у нас хуже, чем в «Красном знамени»?»
— Да мы теперь, Дмитрий Сергеич, такие злые стали! — сразу заговорило несколько женщин. — На свою голову привезли нас сюда!..
— И к вам в райком придем, спросим: почему же вы так неровно руководите, что наши колхозы отстали?
— Что мы — у бога теленка съели?
— Руки до нас не дошли, что ли?
Стародубов, с довольным видом, смеялся:
— Так, девчата, так! Как по-морскому говорят: «Так держать!»
Но хотелось, чтобы он на прощанье сказал и Назарову что-то дружески-подхлестывающее, вроде:
— А не привыкаешь ли ты, Павел Федорыч, к тому, что все к тебе да к тебе ездят на экскурсию учиться? А тебе с твоими колхозниками некуда поехать поучиться? Разве твой колхоз — самый лучший в Советском Союзе?..
Но этого Стародубов не сказал Назарову. Вокруг Назарова собралось человек десять — председатели ближайших соседних колхозов, бригадиры, директор МТС, Христина Соловьева. Он успел сказать им: «Обедать — ко мне». Остальные — кто побежал перекусить в сельпо, кто пошел к своей машине. Стародубов взял за рукав Назарова.
— А то поле, что под Городенским, все же поздновато вспахали вы под пар. Не все, может быть, это заметили, обратили только внимание, что чистый пар, ни соринки. А чистый потому, что неделю назад только вспахано. — Засмеялся. — Верно? Меня не проведешь!
— Под выпас оставляли, Дмитрий Сергеич. Ничего не хуже будет на том поле пшеничка, посмотрите будущим летом. По толоке — пар. Верите, некуда скот выгонять. По нашему животноводству нам бы еще земли гектаров пятьсот. Где ее взять?
— Подсевать, подсевать надо побольше! Искусственные выпасы. Культурно надо хозяйствовать, не надеяться лишь на ту травку, что бог вырастит.
— Есть и искусственные выпасы — не хватает. Хотели посеять больше ржи на выпас — вы же сами попросили занять «Маяку» семян… Куда вы, Дмитрий Сергеич?
— Поеду. Степа! Давай машину.
— Да зайдемте ко мне, пообедаем! С утра не ели. Уже шестой час.
— Нет, поеду, спасибо. Отдохну часок. А вечером — заседание исполкома.
— Всегда вы отговариваетесь заседаниями. Неправда, нет сегодня исполкома! Почему же меня не известили? Я член исполкома.
— Или что-то другое, забыл. Комиссия какая-то. Нет, поеду.
— Брезгуете нашим хлебом-солью?
— Ничего, ничего, как-нибудь в другой раз. До свиданья! А ты и за столом расскажи еще им о своих методах руководства. Я думаю, сегодня день не пропал зря. Крепко запало в душу людям то, что они видели здесь. Ты уж потерпи, Павел Федорыч. Еще не раз побеспокоим тебя, оторвем от работы. Не одну еще экскурсию поводишь по своему хозяйству.
Пожал всем руки, сел в «газик», уехал…
Назаров посмотрел вслед машине, огорченно сказал мне:
— Третий год он в нашем районе работает, а ни разу не выпил у нас в колхозе и стакана молока. Ни ко мне домой не заходит, ни к себе не приглашает, когда бываю в районе. Только по обязанности встречаемся… Разойдемся — и будто чего-то главного не сказали друг другу…
Я много раз бывал в колхозе «Красное знамя» и не один вечер просидел в райкоме у Дмитрия Сергеевича Стародубова. Прилепился я как-то душою к этому району, где, при многих недостатках и недоработках, пульс жизни бьется энергично и во всем чувствуется умное, помогающее делу вмешательство «первой головы» в районе — секретаря райкома.
Но всякий раз меня неприятно удивляло, что, когда я заводил речь о колхозе «Красное знамя» и его председателе Назарове, восхищался его организаторским талантом и прочими хорошими человеческими качествами, у Стародубова потухали глаза, он скучнел, отвечал что-то вроде: «Да, да, хороший колхоз. Да, хороший председатель», и переводил разговор на другую тему. Он куда с большим увлечением рассказывал о самом отстающем в районе колхозе, — что сделал он там, прожив два дня, и какие заметил после этого обнадеживающие перемены, — чем о «Красном знамени», крепко вставшем на ноги колхозе, знаменитом на всю округу.
Что это? Ревность к делу? В этот колхоз уже не нужно посылать толкачей? Там «кампании» идут своим чередом, без уполномоченных райкома? Там ему, Стародубову, делать нечего?..
Однажды на прямо заданный вопрос Стародубов прямо и ответил мне, несколько, правда, иносказательно:
— У вас есть взрослые дети?
— Да, сын студент, на втором курсе.
— И у меня два студента… Кончили десятилетку, поступили в институт, стипендия, взрослые люди — в крайнем случае, уж и без отца обойдутся. Ты уже не нужен им… Грустно провожать выросших детей в самостоятельную жизнь…
Как-то при мне в райкоме Стародубов и Назаров стали хвалиться — в шутку — кто больше сил положил на колхозное строительство?
— Я, товарищ Назаров, — сказал Стародубов, — связан с колхозным строительством уже двадцать восемь лет!
— Как же это может быть? — развел руками Назаров. — Колхозам-то всего двадцать второй год. Мы стали организовывать колхозы в тридцатом году.
— Кто это — вы? Вы, может быть, в тридцатом. А мы, батраки и бедняки села Глебово Курской области, организовали коммуну еще в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, и я работал в этой коммуне на тракторе. Первым был трактористом в районе!
Назаров усмехнулся.
— Вот так и моим словам удивляются, Дмитрий Сергеич, когда скажу, что я колхозник с тысяча девятьсот двадцать второго года. Я родом с Кубани. У нас была краснопартизанская коммуна. Отец мой был командиром отряда, его же выбрали и председателем. Мне тогда было четырнадцать лет. Поначалу коров пас в коммуне.
— Значит, выходит, мы оба с тобой колхозники с «подпольным» стажем?
Посмеялись, вспомнили комсомольские годы, раскулачиванье, бандитизм, трудное время, когда спали не раздеваясь, с наганом под подушкой… Стародубов спохватился, встал, провел карандашом по сводке, разложенной на столе.
— Там у тебя, Павел Федорович, недовыполнение по яйцу. Нехорошо, сводку нам портишь. Передовой колхоз. Я тебя прошу. Постарайся как-нибудь к двадцатому числу.
И Назаров встал, вздохнул.
— Выполним, Дмитрий Сергеевич. Чем-нибудь заменим… Я же вам объяснял, почему мы не взяли цыплят с инкубатора. Не достроили новый птичник, не успели. А тут холода, снег пошел в апреле месяце. Зачем брать? На погибель?.. По птичьему поголовью немножко недовыполнили, зато коров — сто сорок процентов. Это же важнее. Заменим молоком… Какое сегодня число? Двенадцатое. Девятнадцатого покажу вам квитанцию.
А когда я присмотрелся ближе к делам в колхозе «Красное знамя», то увидел: нет, нужен еще этому возросшему сыну отец! Только надо бы и отцу, когда дети поступили в институт, заглядывать в свои истрепанные вузовские учебники, повторять кое-что забытое и узнавать новое, чтобы во всякую минуту знать и понимать больше, чем знают дети, обращающиеся к нему за помощью…
Стародубов увлекся подтягиванием всех колхозов района к уровню передового колхоза «Красное знамя» и делал это, надо сказать, с душой. В районе, собственно, уже и не было резко отстающих колхозов. В последние годы, при нем, председателями колхозов посылали действительно лучших людей из партактива. Было послано и несколько агрономов — не таких, что, имея диплом о высшем сельскохозяйственном образовании, не умеют запрячь лошадь в телегу, а практиков, любящих колхозное дело, организаторов. Стародубов много занимался машинно-тракторными станциями. При мне как-то он созвал совещание бывших трактористов — узнал, что в каждом колхозе есть пять-шесть старых трактористов и комбайнеров, бросивших машины и устроившихся кто кладовщиком, кто просто ездовым, — и распорядился созвать всех в райком такого-то числа, к такому-то часу. Там он подробно расспросил каждого: почему бросил он машину? Непорядки ли в МТС отпугнули, колхозы ли неаккуратно рассчитывались с ним, бытовые ли условия в бригаде были плохие? Пообещал, что займется улучшением быта трактористов и проверит по каждому колхозу расчеты с ними. Рассказал им то, что они и сами, собственно, видели: как в МТС ежегодно весною сажают на новенькие машины учеников и что из этого получается — богатейшая техника не дает и половины того, что могла бы дать в опытных руках. Постыдил, поругал их за то, что бросили свою замечательную, трудную, но почетную профессию. После совещания многие его участники вернулись на машины.
Когда приезжали мы со Стародубовым в средний колхоз, у него находилось достаточно советов и дельных предложений председателю. Там он чувствовал себя как рыба в воде — где труднее. А в «Красное знамя» он и заезжать не любил. Только и бывал там, что с экскурсиями.
Но действительно ли ему нечего было там делать?..
Да, когда клевер убирать и что сеять на искусственных выпасах — это Назаров знал не хуже секретаря райкома и любого агронома. Да, кстати, и агроном у них был в колхозе. И поставки они выполняли без особого нажима, не нужно было посылать туда уполномоченных. А вот почему бы не спросить Назарова:
— До каких пор в таком богатом колхозе у людей хаты будут соломой крыты? Случись пожару под хороший ветер — полсела сгорит. Начинал ты с того, что заставил бригадиров крыть соломой хаты вдовам, но ведь с тех пор уже прошло пять лет. Теперь уж нужно перекрывать те хаты черепицей. Агрогорода, что ли, напугали вас? Строительство агрогородов приостановлено, как несвоевременное, есть более первостепенные задачи — повышение урожайности. Да и вам, может быть, не нужно тут город строить. Но село благоустроить нужно. Вам-то ваши доходы позволяют уже заняться бытовым строительством. Миллион — на капиталовложения!..
— А почему в вашем хозяйстве такое пренебрежение к садоводству? Сады — это и богатство колхоза, и изобилие, и украшение жизни. Десять гектаров старых, запущенных, обломанных деревьев — это не сад по вашим масштабам. Двести гектаров культурного сада надо бы вам иметь!.. Бывает, конечно, что сельский хозяин увлекается чем-то одним: пшеницей, или разведением свиней, или орловскими рысаками. Может быть, он просто не ест яблок. Но председатель колхоза, где тысячи людей с разными вкусами и потребностями, не имеет права быть односторонним. У него не должно быть нелюбимых отраслей.
Или вот — самое главное. Три года уже колхоз «Красное знамя» топчется на месте в смысле урожая. Хороший собирает урожай, но топчется на месте, рост приостановился. А удобрений, и местных и химических, из году в год все больше вносится в землю. В чем дело? Подтянулись все бригады к уровню передовых и застыли? Никто больше не ищет путей к еще лучшим урожаям? Или сказывается уже сильная распыленность почвы, разрушения ее структуры? И даже введенная на полях колхоза травопольная система не восстанавливает ее в должной мере? Земли ведь в колхозе действительно выпаханы, распылены до крайности. А «карпатские горы»! Одни ежегодные смывы почвы на буграх весною какой наносят ущерб ее плодородию!
До сих пор Назаров показывал себя на деле грамотным, образованным хозяином и не одного специалиста удивлял своей эрудицией в вопросах культурного земледелия. Но его познания в агрономии — это многолетний крестьянский опыт, начитанность, добросовестное изучение всяких агротехнических учебников, журналов — и только. Это еще не творчество. Чем-то принципиально новым в земледелии колхоз, даже под его руководством, пока что не блеснул. Чтобы не зайти в тупик с урожаями, Назарову нужно упорно, напрягши все силы, искать возможности для нового рывка.
Может быть, ему следовало бы съездить в Курганскую область к знаменитому уральскому полеводу-новатору, колхознику-ученому Терентию Мальцеву? Очень важно именно здесь, в среднерусской полосе, на сильно распыленных почвах заложить опыты с севооборотом Мальцева! Самое «страшное», на первый взгляд, в агрокомплексе Мальцева — это то, что он в пять лет лишь один раз глубоко пашет землю, а четыре года сеет пшеницу и ячмень по непаханой, только взлущенной дисковыми лущильниками стерне. Как — не пахать поля? Скажи только в каком-нибудь отстающем колхозе, что можно не пахать, — разведут тебе такие сорняки, что твои джунгли! Но «Красное знамя» — передовой колхоз. Здесь земли давно уже очищены от сорняков. В колхозе есть агроном. Бригадиры достаточно подготовлены агротехнически.
Не «от бедности» ввел Мальцев такой севооборот у себя в колхозе, в Зауралье. Не для того, чтобы как-нибудь обойтись без пахоты. Для урожая. Для быстрейшего восстановления структуры почвы и, стало быть, повышения ее плодородия. И на полях, которые в его колхозе «Заветы Ленина» перестали ежегодно пахать, урожаи из года в год растут.
Посоветовать, настоять, прямо усадить в вагон и отправить нужно Назарова туда, где люди в еще более трудных природных условиях берут урожаи гораздо выше, чем его колхоз «Красное знамя»: «Тебе, Павел Федорыч, хоть ты и Герой Социалистического Труда, не зазорно поехать поучиться к Терентию Семеновичу Мальцеву. Он лауреат, кандидат в академики. Шадринский район Курганской области — место, где происходят сейчас интереснейшие события в сельскохозяйственной науке!»
…Да, уполномоченные — толкачи по текущим «кампаниям», может быть, уже не нужны Назарову. А глубокое проникновение в дела, жизнь колхоза первого секретаря — необходимо.
— Скажите, Дмитрий Сергеич, — спросил я как-то Стародубова. — Вот вы бьетесь третий год над тем, чтоб сделать район передовым, подтянуть все колхозы. Есть такие препятствия, что вы не в силах сами преодолеть? Не от вас зависит? Не местного происхождения препятствия?
— Есть, конечно.
Стародубов помолчал минуты две.
— Самое большое зло — компанейское руководство колхозами. Не мы его выдумали!.. Приезжает к нам уполномоченный обкома, требует — только хлебопоставки. Ни о чем другом и речи нет. А в это время в сельском хозяйстве целый комплекс работ. Для будущего урожая, для будущего хлеба! Что-нибудь одно упустишь из виду — все расстроится. Нажимают на нас, и мы тоже начинаем психовать, и мы также рассылаем уполномоченных: только по заготовкам, — ни зябь, ни засыпка семян, ни корма в зиму для скота — ничто их не интересует. Потом уж, когда хлебопоставки закончим, спохватимся: надо же и зябь пахать! А тут уже — дожди, морозы… По-моему, такие методы руководства колхозами устарели на сто лет!.. Может быть, кого-нибудь из секретарей райкомов они и удовлетворяют, такие методы, — тех, кто в деревне на короткое время обосновался, пережить годик-два, потом на учебу или на повышение, а после него — хоть трава не расти. Но я в деревне родился и вырос, мне спешить отсюда некуда. И в этот район я пришел поработать, а не посидеть на чемодане до следующего поезда.
Стародубов рассмеялся:
— Надо бы закреплять секретарей райкомов хотя бы на одну полную ротацию севооборота! На восемь — десять лет. Как за бригадами участки закрепляем. В колхозах боремся с обезличкой, а среди нашего брата, руководителей районного и областного масштаба, обезлички этой самой хоть отбавляй! Один сеял, другой жал, третий за всех ответ держал!..
Что еще от нас не зависит? Вот планирование. — Стародубов обернулся к книжному шкафу, достал с полки томик Семенова-Тян-Шанского из собрания «Россия» — «Среднерусская черноземная область». — Наши районы, — уезд, вернее, по-старому, — славились урожаями бобовых культур, гороха, чечевицы. — Перелистал том. — Вот даже фото есть — грузят на баржи горох. И старики вспоминают, что горох здесь сильно родил. Земли и климат, стало быть, подходящие. Да что старики! Опытная станция у нас есть — факты, доказательства за ряд лет. И нам не планируют ни гектара гороха. Планируют ячмень. А он здесь испокон веку плохо родит. Тоже есть тому доказательства. А попробуйте заменить ячмень горохом! Пишем, пишем, спорим, доказываем — как об стенку горохом! И тоже ведь — ценная, нужная культура! Но почему же так планируют? А в те районы небось, где ячмень лучше родит, горох дают. Бездушное, канцелярское планирование! На каждом шагу с такими фактами сталкиваемся.
Это один пример из сотни!..
Что еще? Ну вот — нормы горючего… Конечно, в большинстве случаев мы сами виноваты в пережоге. Плохо работаем с трактористами, в МТС безобразно обращаются с горючим, цистерны у них текут при перевозке, при заправке много проливают на землю. Но вот такой случай. Урожай в колхозе на каком-то участке небывалый — тридцать пять — сорок центнеров. Техника наша от таких урожаев отстала. Высокоурожайных комбайнов мы еще в районе не получили ни одного. А обыкновенный комбайн такой хлеб на полный хедер не берет. На полхедера косят, и то молотилка с трудом перерабатывает. Выходит, что здесь трактористу и трудодней меньше запишут, потому что он нормы не вырабатывает, и горючего он в два раза больше спалит. Директору МТС, правда, разрешается увеличивать нормы расхода горючего на отдельных участках, но не намного. А где урожай всего десять центнеров, там трактора с комбайнами бегом бегают, там — перевыполнение, экономия горючего, «передовики уборки». Дикая вещь, но выходит, что трактористу куда выгоднее убирать средний хлеб, чем очень хороший!.. А вы знаете, что у Назарова получается на его «карпатских горах»? Конечно, есть перерасход, неизбежен там, на таком рельефе, перерасход. И урожаи у него к тому же всегда такие, что комбайны бегом не разгонятся. Но, как умный председатель, он не может допустить, чтобы его тракторист корову продавал в конце года, чтоб рассчитаться за горючее. Действительно — «энергия отпадет» у ребят Знаете, что он делает? Уплачивает из колхозной кассы за трактористов, за их пережог. Или покупает горючее. Незаконно, но что поделаешь, если в наших земельных органах товарищи не продумали как следует такие вопросы?.. Вообще нужно сказать — урожай еще не стал критерием всей нашей работы. Как у нас в обкоме определяют первенство районов, скажем, на уборке? Такой-то район убрал зерновые на сто процентов — он красуется в сводке на первом месте. А убрали они быстро только потому, что нечего было там, собственно, и убирать. Колос от колоса — не слыхать голоса. Семь центнеров урожайность. И группу им установили самую низшую, и хлеба государству сдали они в три раза меньше, чем соседний район, где урожайность была восемнадцать центнеров. Так за что же они — «передовики»? За то лишь, что на неделю раньше отрапортовали?.. Много, много есть такого, что от нас не зависит. Думаю, что я бы здесь за три года больше сделал, если б не было помех.
А Назаров на такой же вопрос — о препятствиях не местного происхождения — повел разговор не о своем колхозе, а об МТС.
— Да в колхозе-то у нас сейчас ничто вроде не мешает мне. С Дмитрием Сергеичем в основном поладили. При Тихомирове хуже было. За все в районе отдувались передовые колхозы… Вот на МТС нашу больно глядеть. Что получается — ни копейки ведь не дают им на капитальное строительство! Постройки у них до войны были богатейшие. Немцы все спалили. И вот до сих пор бедствуют. Мастерской нет, есть там сарайчик, три трактора только загнать, наша колхозная кузница куда просторнее. Весь инвентарь зиму и лето — под открытым небом. Не на что построить хотя бы простенькие навесы — министерство не дает денег. Это что — государственная экономия? Не могу понять такой экономии! Сам хозяин, знаю, на чем можно натянуть, а на чем нельзя натягивать. Копейку пожалеешь — рубль потеряешь! Самоходные комбайны, молотилки, тракторные сеялки под снегом зимуют. Срок службы инвентаря сокращается в три-четыре раза. Почему раньше у мужика лобогрейка работала двадцать пять лет? Кончил косовицу, обтер ее тряпочкой, разобрал, смазал и — в сарай. А тут — сеялки под открытым небом, солнце, дождь, снег. Дисковую сеялку правильно наладить на севе, вы знаете, это же — что скрипку настроить. И вот эти скрипки — под снегом! Дерево гниет, коробится, высевающие аппараты ржавеют. Эх!.. Взять бы тем финансистам, что фонды в МТС спускают, карандаш в руки да подсчитать: сколько стоит крыша без стен, столбы, дрань и сколько стоит тот инвентарь, что можно под этой крышей спасти?.. А трактористы зимою как у них живут? Приходят на ремонт, некоторые за пятнадцать — двадцать километров, каждый день туда-сюда не находишься. Надо тут где-то и жить, так чтоб поспать в тепле, переодеться, помыться. Общежитий в МТС нет. Ютятся где попало: кто в конторе, кто в кочегарке. И разобраться — директор не виноват. Опять же — не дают ему денег на строительство. Выше головы не прыгнешь. Спрашивал я нашего директора: «Может, это ты один такой в области несчастливый? Или не умеешь выпросить денег, или рассердились на тебя за что-то, в черном теле держат?» — «Какое там один! — говорит. — Съедемся в областное управление на совещание, директора, станем спрашивать друг друга — никому почти не выделяют фондов на капитальное строительство». Но как же существовать? Как же работать? Эта «экономия» нам боком выйдет! И другие машины калечим прежде времени, и кадры теряем, старые трактористы уходят из МТС… Министр сельского хозяйства, что ли, у нас такой несмелый? Не решается обратиться к правительству, доложить все, как оно есть?..
Пожаловался мне однажды Стародубов на Назарова:
— Мужичок. Замкнулся в рамках своего колхоза, ни о чем больше знать не хочет.
— Замкнулся? Вот это на него что-то не похоже.
— Член бюро, член исполкома, а не живет интересами района. В прошлом году он вывез по хлебопоставкам авансом, в счет нынешнего года, восемьсот центнеров. Мы ему сейчас этот аванс засчитали. Но нам-то, району, не засчитывают! Да вдобавок после того, как мы уже довели планы до колхозов, получаем телеграмму: еще вам десять тысяч центнеров. В других районах с заготовками хуже — боятся, что там хвосты останутся, и в порядке страховки дают нам дополнительно. Спрашиваем: «Как же размещать их?» — «Как хотите, так и размещайте…» Говорю Назарову: «Павел Федорович! Махни-ка еще, в счет будущего года, центнеров тысячу!» Жмется… «Подумаем, Дмитрий Сергеич… Я же не директор — председатель. Что колхозники скажут?..» А мне что скажут в обкоме, если я эти десять тысяч не выполню?..
— Но если они вывезут еще тысячу центнеров, то этот передовой колхоз поравняется в выдаче хлеба на трудодень с отстающими?.. Может быть, Дмитрий Сергеич, это и есть те случаи, когда нужно обращаться в высшие инстанции? И у вас и у Назарова сколько наболевших вопросов! Вот бы вдвоем — такие практики колхозного строительства! — сели бы, обдумали все и написали — что, по-вашему, мешает укреплению колхозов.
Стародубов взял со стола книжечку: «Устав Коммунистической партии Советского Союза», раскрыл ее, полистал.
— Да… Для нас написано черным по белому: «Член партии не имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государства… Член партии имеет право… обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК…» «Член партии обязан… бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе».
Был у меня еще разговор с «летописцем» колхоза «Красное знамя», Никитой Родионычем Королевым.
— До Дмитрия Сергеича у нас и такие секретари бывали, — рассказывал Королев, — что все больше в богатые колхозы ездили. Душою отдыхали там, голова у них там от бабьего крику не болела. А мимо какой-нибудь бригады в отстающем колхозе промчатся, — сто километров в час, — люди только пыль понюхают. То — хуже. То значит — руководители боятся трудностей, не нашли общего языка с народом. Распоследнее дело!..
— А вы, Никита Родионыч, в своей «Истории колхоза» и про секретарей райкома пишете?
— А как же! Я считаю, нет горше беды колхозу — плохой председатель, а для председателя колхоза нет ничего хуже — плохой секретарь райкома. А когда и тот и другой неудалые, то колхозу, значит, беда вдвойне… Товарищ Стародубов у меня под девятым номером идет… Эх, был у нас товарищ Круглых! При немцах в партизанах погиб. Орел! Тот бы нас тревожил! Каждый день пускал бы ежа под череп нашему Павлу Федорычу!.. А про Дмитрия Сергеича не знаю, чего написать. Пока что ничего такого не заметил, ни положительного, ни отрицательного. Так вообще, по делам в районе, слышно, неплохо он руководит, а как он к нашему колхозу относится — не поймешь. Приезжает к нам с людьми, экскурсии проводит, показывает им наши достижения — вот так нужно бы вам! А нам еще ни разу не сказал — как нам нужно! Да неужто мы высшей точки достигли? Вроде как на Северный полюс пришли: куда ни глянь, все на юг дороги, назад, а вперед нету?.. Почему мы, колхозники, тревожимся об этом — что вроде приостановились мы? Так ведь мы хозяева, нам здесь жить. Может, и товарища Стародубова куда-нибудь на учебу пошлют, и Павла Федорыча заберут от нас, переведут на руководящую работу. Пока попались нам хорошие люди — хочется с ними подальше вперед продвинуться!..
А насчет того, почему между ними дружбы нет, я вам так скажу. Всегда дружат либо толстый с тонким, либо длинный с коротким, так уж оно как-то в природе устроено. А когда оба ровные — скучно им, что ли, глядеть друг на друга? Да ежели еще по уму равны — кому же у кого поучиться, кто кого должен вперед подтолкнуть?..
Но в последний приезд к ним я застал горячий спор у Стародубова с Назаровым в райкоме.
Этому предшествовали такие события.
Стародубов возвращался как-то поздно вечером из района домой. В пути, в Сухоярове, его захватил такой ливень, что даже его «газик»-вездеход забуксовал. Вдобавок спустил скат. Пришлось заночевать. От колхозников он узнал, что Назаров еще днем уехал на грузовой машине в МТС и не вернулся до сих пор — тоже, вероятно, где-то застрял. Стародубов не пошел к нему, остался ночевать в той хате, возле которой забуксовал в балочке его «газик». Это была хата бывшей звеньевой, а теперь старшей птичницы колхоза Марины Фомичевой. Соседки, узнав, что у Фомичевых ночует секретарь райкома, собрались к ним на «посиделки». Часов до двух ночи горел свет в хате, много было рассказано секретарю о жизни колхоза, много вопросов было ему задано, были и шутки и серьезные разговоры, были даже жалобы на председателя колхоза, непогрешимого и непревзойденного Павла Федорыча Назарова.
Вот после этой-то задушевной беседы с колхозницами — в домашней обстановке, не на общем собрании — и произошел у Стародубова крупный разговор с Назаровым. Я застал спор в разгаре.
— Если бы ты послушал этих женщин! — говорил Стародубов. — Эх, какой народ!..
— А что же я — не видел, не слышал их никогда? — отвечал Назаров. — По десять раз на дню с ними встречаюсь.
Оба ходили по кабинету, навстречу друг другу, по разные стороны длинного узкого стола, приставленного в виде ножки буквы «Т» к письменному столу Стародубова, — оба в офицерских гимнастерках, с орденскими колодками, оба рослые, с сильными покатыми плечами, чуть располневшие… Было у них даже в глазах какое-то сходство — живые искорки юмора, усмешливые морщинки под глазами и на висках. Только Стародубов — брюнет, с отброшенными назад длинными волосами — загорел как-то нежнее Назарова. Его лицо было матово-смуглое, словно припудренное. А Назаров, которого все же больше обжигало солнце на полях, — остриженный под машинку безбровый блондин, — был краснокож, как индеец.
— Это вам, может, в диковину. Первый раз с ними встретились. Вынужденная посадка! А я в колхозе живу. Труженицы, стахановки, болеют о хозяйстве, знаю их!
— Но ты же не даешь этим стахановкам разворота.
— Я не даю им разворота?..
— Погоди, не сердись!.. Что-то мы, Павел Федорыч, с тобою вместе проглядели. А раз ты ближе всех к этим людям, то, значит, ты в первую очередь и проглядел… Скажи, какая бригада у вас самая передовая?
— Третья бригада, Николая Грачева. Мы вам представляли материалы по проверке соревнования.
— Да нет у вас соревнования!
— Как — нет соревнования? Все бригады имеют договора, есть проверочная комиссия, по три-четыре раза в лето проверяем!..
— Не в договорах, не в бумажке дело!.. А чья бригада у вас самая отстающая?
— Васюкова Михаила, шестая.
— И какая же разница между ними по урожайности зерновых, между третьей и шестой?
— Восемьдесят килограммов.
— Меньше центнера?.. Не намного отстал Васюков от Грачева. Какая же это отстающая бригада?
— Значит, моя вина в том, что у нас в колхозе нет отстающих бригад?..
— Я был бы полным идиотом, Павел Федорыч, — рассмеялся, остановившись против него, Стародубов, — если бы упрекнул тебя в том, что у вас нет отстающих бригад. Не в том беда, что нет у вас отстающих бригад, а в том, что нет резко вырвавшихся вперед! Дошло?.. А звенья на свекле? Еще не подсчитали вы урожай, знаю, но тоже небось не будет большой разницы между худшими и лучшими? Поравнялись? Да?..
Стародубов спорил с азартом, горячо жестикулировал, иногда даже, остановившись, пристукивал кулаком по столу, но был весел, вероятно, от сознания своего превосходства в споре, ощущения найденной твердой точки опоры. Назаров хмурился, раздраженно курил одну за другой папиросы, поглядывал на Стародубова исподлобья. Когда тот посылал в его адрес резкое слово, у Назарова даже дрожали губы от обиды… Отвык, отвык Павел Федорович от критики! Сколько лет уж все к нему да к нему ездили люди учиться.
Он долго собирался с мыслями, прежде чем ответить секретарю райкома.
— Я, Дмитрий Сергеич, — сказал он, — с первых же дней, как пришел в колхоз председателем, решил: нужно кончать с этим очковтирательством! Утешаемся рекордами с трех гектаров, а на остальных тысячах гектаров государственного плана урожайности не выполняем!
— Правильное решение… Только зря ты называешь вообще всякие рекорды очковтирательством. Поначалу нужно было, хотя бы на маленьких участках, показать колхозникам: вот что может дать наша земля, если применить передовую науку и приложить руки!.. Ну, может быть, потом где-то кто-то превратил это в очковтирательство…
— Да не где-то! У нас, в нашем районе было два прославленных звена — в колхозе «Вперед» Агриппины Плотниковой и в колхозе имени Чкалова Ефросиньи Сомовой. Только и было чем похвалиться! Шуму, треску вокруг этих звеньев! На всех слетах только и разговору о них. А в целом район три года подряд плана хлебопоставок не выполнял!.. Я пришел в колхоз и сказал женщинам: будем бороться за урожай сообща. Минеральных удобрений завезем вдесятеро больше, всем хватит! И не лазьте вы, пожалуйста, в уборные за фекалием. Этого вам еще недоставало!
— Вот насчет фекалия я с тобой вполне согласен. Действительно, этого только не хватало нашим колхозницам — фекалий собирать! Как будто не можем заменить его другими удобрениями. Химикатами можно заменить. И так у девчат мало женихов, а тут еще какие-нибудь хулиганы пустят похабные частушки про них по селу!..
— Да, да, так и я им сказал: сами себя не жалеете, так мы вас пожалеем. И чтоб не грызлись, не ссорились вы между собой из-за лишней пары волов и центнера навоза — вот вам всего поровну. Никаких никому привилегий!
— Ссору утишил и соревнование загубил…
— Загубил соревнование?.. Такое соревнование, как было, — это кустарничество, Дмитрий Сергеич! Знахарство! Колдовала каждая что-то на своей делянке.
— А чем ты его заменил — то соревнование?.. И у вас были рекордсменки, не такие, может быть, знаменитые, как Плотникова и Сомова, но тоже для своего времени сделали немало. Что ж, выходит, при высокой механизации, когда трактористы все площади засевают и убирают и когда председатель сам не профан, лучше других знает агротехнику — такие колхозницы выключаются из соревнования? Ох, что-то не так!..
Стародубов сел за стол, помолчал с минуту.
— Марина Фомичева говорит: «Много бы вы, командиры полков да батальонов, навоевали без нас, сержантов?» Слышишь? Армейские порядки знают! Всего за войну насмотрелись, наслушались. «Кто, говорит, на фронте бойцов в атаку поднимает? Сержанты! Армия без сержантов — не армия». Да… Очень обижалась на тебя Марина.
— За что?
— За твою доброту. Да сядь, не ходи, мельтешишь перед глазами!.. «Семь лет, говорит, работала я звеньевой, и людьми руководить немножко научилась, и к полю привыкла, и на курсы меня пять раз посылали, агротехнику учила, а теперь меня Павел Федорыч старшей птичницей назначил. «Отдохни, говорит, не век тебе с тяпкой гнуться». — «Да не хочу я отдыхать! Ликвидировали звенья на зерне, правильно ликвидировали, мешали они механизации — так дайте мне бригаду! Васюков Михаил, говорит, в шестой бригаде не бригадир, а нарядчик. Что Павел Федорыч ему прикажет — выполнит, а своей головой ничего нового не придумает. Дали бы мне эту бригаду да вот этих девчат, которых я семь лет учила, — их тоже рассовали кого куда: ту амбарщицей, ту учетчицей, — да съезжу в Москву в академию, узнаю, чего там нового по агротехнике выдумали, пока я тут кур не по специальности щупала. Может, какой академик шефство возьмет над нами. И — сделали бы! Показали бы людям, что нет конца-краю колхозному урожаю!.. Павел Федорыч, говорит, таких, видно, помощников любит, чтоб много не рассуждали. Лишь бы бригадир не безобразничал, не пил водку в неположенное время, да рано вставал, да все его распоряжения выполнял в точности, не перечил ему…»
— Ерунду городит Марина!
— Не знаю. Женщина она, видимо, наблюдательная… Это очень хорошо, Павел Федорыч, что нет у тебя отстающих, — продолжал Стародубов, — всех ты подтянул. Но кто-то же должен опять вырваться вперед?.. Ну вот, в самом деле — достигли вы общего высокого урожая, но это же не предел, все понимают. И вот с этого трамплина какая-то бригада у тебя захочет сделать новый большой скачок. Захочет испытать у себя более сложный агрокомплекс, нежели та агротехника, которой все сейчас у вас придерживаются. Что ж, на первых порах, может быть, этой бригаде придется больше помочь. Больше тягла им дать, — обработка полей у них сложнее, — и семян дать им больше — норму высева, может быть, они увеличат. И даже удобрений, может, лишних попросят у тебя. А главное — больше внимания этим людям, зачинщикам. А на свекле остались звенья. Может быть, какое-то звено захочет показать всем, как по тысяче центнеров с гектара можно брать, а не по триста? А ты скажешь: «Очковтирательство! Особые условия!» Нет! Это — маяк!.. Другое дело, что нельзя баловать передовиков «вечным первенством», нельзя давать соревнованию закостенеть. Вырвалась одна бригада вперед, проверили урожаем ее опыты, убедили людей, что это всем доступно, — сразу же подтягивай к ней все остальные бригады. А потом — опять рывок вперед! Так, по-моему, а?..
Назаров присел к столу.
— На низком ли уровне, на высоком ли уровне — застой есть застой, дорогой Павел Федорыч. Опасное дело! В самом лучшем нашем показательном колхозе жизнь остановилась! За три года урожаи не выросли ни на полцентнера! Вопрос для специального обсуждения на бюро. Будем тебя ругать! Да и самим придется признать, что прошляпили, проглядели… Добрый ты человек, Павел Федорыч, — усмехнулся Стародубов. — За доброту тебя колхозники и полюбили. А теперь, вот видишь, обижаются… Народ, знаешь, любит, чтоб его и пожалели и подтолкнули, когда надо, легонько. А ты говоришь: «Не нужно! Не надо мне ни отстающих, ни рекордсменов! Все за всех обдумаю и сделаю сам!» Задавил все и вся собственным авторитетом… Может, золотую звездочку, кроме тебя, десятки людей в колхозе желают носить? И докажут делом, что достойны носить?..
Загорелое лицо Назарова то бледнело как-то плитами, то багровело до такой степени, что казалось, вот-вот брызнет кровь из кожи на скулах. Рука его, лежавшая на столе с зажатой в пальцах потухшей папиросой, дрожала.
— Не думал я об этой звездочке, Дмитрий Сергеич, и не об авторитете думал, когда загонял последние оборотные средства в суперфосфат да в семена клевера, — сказал он. — Мне в то время нужно было платить полмиллиона просрочки за Сторчака и всех прочих, кто до меня разваливал колхоз. Ладно, думаю, напишу в Совет по делам колхозов, войдут, может, в положение. А без урожая нам — не жить!..
— Верю, верю. Павел Федорыч, — положил ему руку на плечо Стародубов, — что ты ночей не спишь, думаешь о том, чтоб колхозу было лучше. Но сам всего не поднимешь. Тем умная голова и умна, что понимает — всего за всех сама не обдумает. Ты же фронтовик, знаешь: веди бой главными силами, а разведку вперед всегда пускай!.. Вот повешу замок на кабинет, приеду к тебе в колхоз еще дня на три, походим вместе по хатам, поговорим с людьми — найдем у тебя не одну новую Марию Демченко!..
Назаров встал, с треском отодвинул кресло, опять заходил по кабинету.
— Нашел бы и сам! Что ж я — людей своих не знаю? Знаю таких, что поедут поучиться и на Урал и на Дальний Восток, куда угодно, где только можно хороший опыт перенять. И сам бы поехал, да не знаешь, за что хвататься!.. Вы бы когда-нибудь захронометрировали рабочий день председателя колхоза, чем он занимается. Много ли времени у него остается подумать о самом главном?.. Председатель должен и от науки не отставать и от людей не отрываться. А нас мелочи заедают!.. Ведь о чем только не приходится хлопотать председателю колхоза: и где гвоздей добыть на строительство, и чем крыши покрыть, чем коней ковать, во что запрячь? На иного председателя посмотришь, так это же не председатель и даже не завхоз — экспедитор! Куда там ему соревнованием заниматься! Дни и ночи мотается по разным конторам, снабам, ищет, достает, выпрашивает, выменивает. Уголовное дело на любого председателя колхоза можно завести — как он это все добывает. И без блата не обходится и без взяток. От хорошей жизни, что ли, пооткрывали мы свои заводы? Кирпич палим, уголь древесный выжигаем для кузниц, мазь колесную сами делаем. И колеса делаем, и дуги гнем, и веревки вьем. Не колхоз, а какой-то кустпромкомбинат! Вот разгрузите меня от всего этого — больше буду заниматься урожаем!.. А как же вы разгрузите? Хорошо, закрою я кирпичный завод. И людей оттуда всех пошлю в полеводческие бригады. Но откуда же нам возить кирпич на строительство? Нам его много нужно! Из Курска, за сто пятьдесят километров? Дорого обойдется!
— Построим такой завод, Павел Федорыч, что всему району хватит кирпичей!
— Давно надо было! Местную промышленность надо развивать, Дмитрий Сергеич! Ваша обязанность об этом подумать! Завалите магазины и хомутами, и колесами, и мебелью!..
— Вот с твоей помощью все обдумаем. Ты тоже член бюро. Но эти колеса увозят нас в сторону.
— Нет, Дмитрий Сергеич, это очень серьезное дело! Как в паутине бьемся! Отпадут эти доставальческие заботы — наполовину очистятся мозги для других мыслей!..
Назаров присел на подоконник, распахнул створки окна. С улицы, вероятно, похоже было, что в райкоме пожар — табачный дым повалил из окна клубами.
— Где же ты раньше был, товарищ секретарь райкома? — заговорил после большой паузы немного успокоившийся Назаров, перейдя с вежливо-холодного «вы» на «ты». В глазах его заиграли усмешливые огоньки. Кажется, впервые за все мои встречи с ними он назвал Стародубова на «ты». — Это же счастье наше, что у тебя скат спустил в Сухоярове!.. Ни разу не задержался у нас на часок, не поговорили по душам… В собственном соку варюсь!.. Невзлюбил ты чего-то наш колхоз.
— Я невзлюбил ваш колхоз? Глупости!
— Ты тоже, видно, добренький. Бедных любишь, а богатых нет. А оно, видишь, и у богатых свои болезни… По обязанности ты, Дмитрий Сергеич, все делал, что нужно, и хвалил нас, и возил к нам людей поучиться, а душа твоя к нам не лежала… Или, может, я тебе не приглянулся?
— А что ты — девушка? Любоваться тобою? Не приглянулся!..
— Да нет, бывает так… Может, не нравилось, что я сам по себе существую, никогда ни в чем помощи у райкома не прошу? Так мне помощь нужна, может, не такая, как другим. Если мне неисправный комбайн вывезли на участок из МТС — я с таким пустяком в райком партии не побегу, как-нибудь сам добьюсь, чтоб исправили!..
Спор угасал. Я ушел в гостиницу за чемоданом — из райкома отправлялась машина в К-скую МТС, куда и мне нужно было съездить. Когда я зашел в кабинет Стародубова минут через двадцать, оба сидели на высоком подоконнике, свесив ноги, и предавались фронтовым воспоминаниям.
— Так, значит, ты на Крымском фронте был в кавдивизии генерала Книги? — разминая в руках папиросу, говорил Стародубов.
— Ну да. В Михайловке стояли, во втором эшелоне. Ждали прорыва. Потом нас спешили.
— А я был в восемьдесят второй бригаде, в морской пехоте. Ротой командовал. Так мы же вместе в Керчи дрались! Рядом!..
— Рядом, рядом… Ты знаешь, Дмитрий Сергеич, как мне в эту войну пришлось. Уже после Крымского фронта, в другой армии. До Берлина прошел с родным братом в одной дивизии! И — не встретились. В разных полках были. После войны уже списались: ты в какой дивизии служил? В такой-то. И я в такой-то! Как же так?.. До сих пор не могу с ним повидаться. Инженер. Работает начальником строительства в Казахстане…
В дверь заглянули посетители, ожидавшие приема. Стародубов спрыгнул с подоконника.
— Ну, до завтра, товарищ Назаров! Приеду на три дня. А к субботе готовь доклад на бюро: «О мерах дальнейшего повышения урожайности и продуктивности животноводства в колхозе «Красное знамя».
— О животноводстве мы вроде не говорили…
— Ничего, ничего, там поговорим. Походим по фермам, без экскурсии, вдвоем… И не обижайся на меня. Мне народ подсказал, и я тебе подсказываю. Давай поработаем так, чтоб никакие летописцы не смогли написать про нас: «Были, мол, у нас такие-то товарищи, с виду не хворые, при здоровье, а ничего особенно примечательного не сделали».
— Сам того боюсь, Дмитрий Сергеич! — усмехнулся Назаров. — Как бы не попасть в историю не с того конца!.. Никита Родионыч наш? Тот запишет!
— Запишет!..
Посмеялись.
— А вот подкалываешь ты меня зря: «Вынужденная посадка. Это вам, может, в диковину, а я — то в колхозе живу»… А я не живу в колхозе — что поделаешь? Такая моя должность. У меня двадцать три колхоза. Ночую дома. А дом в райцентре, не в колхозе. Может, и секретарю обкома прикажешь в колхозе жить?..
— Так и меня не упрекайте: ты ближе к ним живешь, ты в первую очередь проглядел. Я — ближе, а вам — с горы виднее. Вот и подсказывайте нам, куда двигаться? Зачем время терять?
— Да, время терять не нужно… А землю я тоже люблю, товарищ Назаров, как и ты, хоть и не в колхозе живу. И все, что на ней растет… И, может быть, не так люблю то, что сегодня на ней растет, как то, что завтра вырастет!..
Крепко пожали друг другу руки на пороге. Стародубов сел за стол…
…Звонил телефон, заходили очередные посетители, забегали заведующие отделами с проектами резолюций и докладных записок, помощник приносил только что доставленные, с мокрыми еще наклейками, телеграммы из области. Рабочий день секретаря райкома продолжался.
1952
Об инициативе и талантах
Однажды на областном совещании передовиков сельского хозяйства, во время перерыва, в курилке, где встречаются и собираются в кучки знакомые из разных районов, я услышал такой разговор.
— А какая, Кирилл Петрович, по-твоему, самая главная задача у хорошего председателя колхоза? — спрашивал секретарь райкома партии Чугуев у одного делегата совещания, старого, с пятнадцатилетним стажем, знаменитого на всю область председателя богатого передового колхоза Омельченко. — Самая что ни есть главная задача? То, за что больше всего будет впоследствии председатель в ответе перед народом, перед своим колхозом. Перед историей!.. Ну, так что самое, самое главнейшее?..
Омельченко, подозревая какой-то подвох в вопросе секретаря, не торопился с ответом, обдумывал, что сказать, прочищая спичкой засорившийся чубук трубки.
— Что главное?.. Много у нас главного. За что ни возьмись, все главное… Вести хозяйство планово? Многоотраслевое развитие? А? Севообороты? Чтоб не запустить землю?
— Да, это очень важно — не запустить землю. Маркс говорил: каждое поколение должно оставлять землю следующему поколению улучшенной и обогащенной, как хороший отец семейства оставляет детям приумноженное наследство. А еще?
— Что еще?.. Воспитание людей? Работа с активом?..
— Вот, подходим к этому! А конкретнее? Кого именно должен воспитать хороший председатель колхоза?..
— Кого? Честных тружеников, советских людей… Что-то не пойму я тебя, Николай Егорыч, — развел руками Омельченко. — О чем говоришь?
— Хороший председатель колхоза, — Чугуев взял за лацкан пиджака Омельченко, — должен, обязан воспитать, вырастить и хорошего заместителя себе. Понятно?
— Ну, это ты, Николай Егорыч, преувеличиваешь. Так нельзя механически подходить. Почему самая главная задача — вырастить заместителя? Заместителя вырастишь, а пшеничку не вырастишь — тоже толку мало, не похвалят.
— Ладно, не будем механически подходить. Но согласен, что это очень важная задача?
— Согласен. Они и есть у нас, заместители. У каждого председателя колхоза есть заместитель.
— Какие заместители? Я имею в виду такую смену, чтоб без тебя дела в колхозе нисколько не ухудшились. Есть? Вырастил такого человека? На всякий случай. Ну, не будем загадывать о чем-нибудь нехорошем. Скажем, возьмут тебя за твои заслуги живьем на небо, как Илью-пророка. Подлетит к правлению огненная колесница: «Собирайся, Кирилл Петрович, довольно тебе тут мучиться с посевными-уборочными, поедем туда, где нет ни уполномоченных, ни телефонограмм, ни выговоров, одни банкеты и благодарности!» — и умчался наш новоявленный святой товарищ Омельченко, только пыль по небу. Кто за тебя останется в колхозе? В ком ты там уверен, как в самом себе? Есть такой человек, что сможет не хуже повести дело, чем ты, а может, даже и лучше?..
— Так вот, говорю, есть у меня заместитель — Крышкин Иван Архипович. Ты его знаешь. Работает неплохо…
— Как заместитель. Распределили обязанности, ты даешь ему поручения — он выполняет. В общем, помогает тебе неплохо в роли заместителя. Большего ты с него пока и не требуешь. А самостоятельно сможет он работать? Не пошатнутся в колхозе дела, если ты совсем отстранишься и Крышкин останется за тебя?..
— Как сказать… — Омельченко почесал затылок. — Для председателя он, конечно, слабоват. Кругозора не хватит.
— Значит, не заменит тебя?
— Не заменит… Да ты, Николай Егорыч, так поворачиваешь разговор, что мне вроде самого себя приходится хвалить. Неловко.
— Крышкин слаб, так. А другие твои помощники? Из бригадиров, заведующих фермами некого выдвинуть в председатели?
— Почему некого? Будет нужно — кого-нибудь выдвинут.
— Но есть из них такой, что отлично справится с обязанностями председателя?.. Ну, вот ты, примерно скажем, Суворов. А есть у тебя Кутузов? На которого бы можно вполне положиться, что не подведет?
— Не знаю… Бригадиры у нас хорошие. На животноводстве тоже ребята толковые. Но это все же одна отрасль, не весь колхоз-махина. На ферме справляется, это он в силах охватить, а колхоз завалит — и так может случиться.
— Вот видишь. Значит, не вырастил себе надежного заместителя? А ведь на самом деле, без шуток: ну выдвинут тебя завтра начальником областного Управления сельского хозяйства, или на учебу пошлют на три года, или райком найдет нужным перевести тебя в другой, отстающий колхоз, чтобы ты его вытянул, и ты, как дисциплинированный член партии, обязан будешь подчиниться. А свой колхоз на кого оставишь?
Омельченко, не найдя, что ответить Чугуеву, тяжело вздохнул под громкий смех окруживших их делегатов.
— Нет, смеяться тут нечему, товарищи, — продолжал Чугуев. — Вопрос очень серьезный. Мы как будто даже забываем, что все мы смертные люди и каждого из нас в любую минуту может либо какой-нибудь зловредный вирус укусить, либо черепицей с крыши по голове стукнуть… Да, Кирилл Петрович, вот как оно нехорошо получается. Не любишь ты, значит, свой колхоз.
— Что? Я не люблю свой колхоз? — уж с обидой в голосе стал возражать Омельченко.
— Да, не любишь. Как же так — за пятнадцать лет не вырастил себе заместителя! Значит, тебе безразлично, что станется с вашим хозяйством и как там будут жить люди без тебя. Пока ты на посту главного руководителя, ты, конечно, справляешься. Ночей недосыпаешь, всюду твой хозяйский глаз — потому что с тебя спрос. Опять же тебе и почет за достижения колхоза. Звание Героя получил. «Пока я председатель, не навлеку сраму ни на колхоз, ни на себя. Пока я там. А после меня — хоть волк траву ешь!» Так что ли?..
Я, вступив в разговор, взял сторону секретаря райкома, и мы вместе стали донимать начавшего уже выходить из себя Омельченко.
— Это, конечно, эгоизм в высшей степени — не думать о том, что будет на земле после меня, и не заботиться о смене.
— Он, видите ли, решил, что его никем нельзя заменить, — продолжал Чугуев подкалывать председателя колхоза. — У него талант! Организатор-самородок! Редкий талант! А других таких талантливых людей он возле себя не находит. «Не охватят колхоз-махину». Почему же не научишь, как охватить? Тебя что, никто никогда ничему не учил? Сразу, с первого дня, стал таким уважаемым Кириллом Петровичем, каким мы тебя сегодня знаем?
— Да что вы напали на меня! — сердито возражал Омельченко. — За пятнадцать лет не вырастил такого, как сам! А если нету таких?
— Вот, вот! Какое самомнение! Культ собственной личности.
— Да погодите, я себя не превозношу, я просто хочу сказать, что в природе не бывает двух людей, в точности похожих друг на друга.
— А мы не требуем, чтобы твой заместитель был такой же рыжий, как ты, и ростом с тебя — великан. Пусть черненький и маленький, пусть рябой, косой, лысый, кучерявый, лишь бы дело в колхозе повел не хуже.
— Да как же я могу поручиться за кого бы ни было, что он будет не хуже меня работать?..
— А надо, чтобы смог поручиться! Без такой уверенности в заместителях нам и жить нельзя.
Омельченко, обороняясь от Чугуева, напал на меня:
— А вы-то чего к Николаю Егорычу подпрягаетесь? Оглянитесь на свой Союз писателей! У вас-то каково насчет смены? Хуже еще, чем в колхозах! Много выдвинули вы новых Чеховых, Горьких?
— Ого! — воскликнул со смехом Чугуев. — Да ты зазнался, Кирилл Петрович! С Горьким себя равняешь?
— Не равняю, но, по-моему, и в литературе можно так вопрос поставить: каждый знаменитый писатель обязан вырастить себе на смену из молодых хотя бы одного такого, который бы не хуже его книжки сочинял!
Собственно, трудно было сразу возразить Омельченко. Поскольку речь зашла о талантах, в чем же особые трудности «выдвижения» новых талантов в писательском деле? И являются ли литературные дарования в природе более редкими, чем, скажем, большие организаторские таланты?..
Но Омельченко пошел уже в контратаку и на Чугуева.
— А ты-то сам, Николай Егорыч, вот уже пятый год работаешь у нас. Если заберут в Москву заместителем министра культуры, на кого оставишь район? Как думаешь, второй секретарь товарищ Бугров справится за тебя?..
Чугуев прокашлялся и нетвердым голосом — заметно было, что кривит душой, лишь бы не проиграть в споре, — ответил:
— Справится, конечно.
— Ой ли?..
— Был у тебя, Кирилл Петрович, хороший заместитель, не хуже тебя повел бы дело, да упустил ты этого человека, — вмешался в разговор один из слушателей нашей беседы и тем выручил Чугуева и меня.
— Кто был?
— Румянцев, агроном, который потом в МТС ушел, а сейчас в Селищах колхоз поднимает.
По лицу Омельченко пробежала тень. Упоминание о Румянцеве было ему, видимо, неприятно.
— Вот и хорошо, что отдали мы его. Из наших кадров — на помощь другим. В Селищах тоже нужен способный председатель.
— Зачем ему агроном? — подал голос еще кто-то из делегатов совещания, собравшихся вокруг нас. — Омельченко сам себе агроном.
— Ты такое скажешь, Васьков! — обернулся Омельченко. — Будто я агрономов не признаю, выживаю их из колхоза. Что ж, у меня нет сейчас агронома? Есть агроном.
— Это Пучинкин-то? Ну, какой он агроном! Мальчик на побегушках.
— Вот Румянцев — то был агроном! Готов был головою отвечать за урожай, но и требовал, чтоб не мешали ему. Уж если скажет: вот так нужно! — ничем его не собьешь. С тобой ему, конечно, трудновато было.
— Не ужились вы с ним. Два медведя в одной берлоге.
— Вот еще что, видишь, отражается на воспитании заместителей! «Два медведя»!..
Зазвонил настойчиво звонок из президиума, перерыв окончился. Делегаты, докуривая и бросая в урны папиросы, пошли в зал, стали рассаживаться по своим местам.
Этот разговор на совещании передовиков сельского хозяйства, в полушутливой форме о серьезных вещах, долго не выходил у меня из головы. Неужели действительно появление и рост новых талантов — дело зависящее только «от природы», и ничем ему нельзя помочь? Нет, нельзя согласиться с этим!
Инициатива… Много ли мы за последнее время пишем о ней. Разумная инициатива масс и руководящих работников в сочетании с государственной дисциплиной и социалистическим планированием. Возможно ли такое сочетание? Конечно, возможно. В боевых действиях войск на фронте инициатива командиров уживается ведь с подчинением единому стратегическому плану операции.
Но на чем может человек проявить инициативу? Только на самостоятельном ответственном деле. Нельзя сделать человека парашютистом путем чтения лекций о парашютном спорте, не заставив его ни разу выпрыгнуть из самолета с парашютом. Конечно, поначалу, при неудачном приземлении, не обойдется и без синяков.
Я знал одного секретаря обкома партии, который сам был настолько инициативен, что и крошечного места не оставлял возле себя для инициативы других. Как говорится, «яблоку негде было упасть» от его инициативы. И получалось, что он — сам, быть может, того не сознавая — глушил инициативу своих помощников и специалистов. И это происходило, как ни странно, не от бюрократизма и консерватизма, а от его собственной могучей неуемной инициативы — одного из лучших, в общем, человеческих качеств.
Будучи очень энергичным по натуре, он успевал раньше других подумать обо всем решительно, что входит в круг деятельности отделов обкома, Управления сельского хозяйства, промышленных трестов и всех остальных областных учреждений. Раньше других — это, конечно, еще не значит — лучше других. Но дождаться глубоко обдуманных, обоснованных предложений от специалистов у него просто не хватало терпения. А потом, когда вспыхнувшая в его голове мысль становилась уже увлечением и весь аппарат обкома начинал работать над ее претворением в жизнь, спорить с ним было трудно.
Он был на видном посту, ему вполне хватило бы славы руководителя большой партийной организации и уважения, воздаваемого ему по этой должности. Он был первым секретарем обкома. Но ему, вероятно, хотелось быть первым буквально во всем. Однажды, вместо того чтобы дать задание конструкторам срочно изготовить приспособление к комбайну для подъема полегших хлебов, он заперся на три дня в своем кабинете, велел доставить ему нужные материалы и инструменты и сам, тряхнув старыми познаниями в области механики и слесарного дела, изготовил модель подъемника. Подъемник удался, и его даже передали для выпуска на местные заводы. Патент на него он, конечно, не взял. Он достаточно вознаградил себя тем, что продемонстрировал свою модель на совещании конструкторов и постыдил их за неповоротливость и незнание нужд колхозов.
Коммунисты невесело шутили: «Вениамин Павлович подает нам пример «совмещения профессий»: он и секретарь обкома, и секретарь горкома, и главный агроном области, и начальник всех строек, и художественный руководитель театра, и главный архитектор города, и редактор областной газеты. Комсомол и пионерскую организацию только не подменил — возраст не позволяет».
Есть начальники, с которыми трудно приходится бездельникам, а людям деловым и творческим легко и радостно работать. Есть и такие, приноровившись к которым, бездельники благоденствуют, а хорошим работникам приходится туго. С Вениамином Павловичем трудно было и тем и другим. Не доверял он людям, слишком низкого был мнения о способностях своих помощников и считал, что все они годны лишь для роли простых исполнителей.
Зимним утром часов в восемь — зимою в это время еще темно — идешь, бывало, по городу мимо Дома Советов и видишь: в кабинете первого секретаря обкома уже светится. И ночью до часа-двух горит свет в окнах его кабинета. Правда, светится кое-где и в других окнах, но, может быть, лишь потому, что сам первый секретарь еще не уехал домой и ему может понадобиться какая-нибудь справка? А на столе перед этим засидевшимся в обкоме до третьих петухов страдальцем завотделом — «Граф Монте-Кристо» или трудный кроссворд из прошлогоднего «Огонька»? Да и чем другим заниматься ему, если всё за всех всегда обдумывает и решает сам Вениамин Павлович и иных решений вопроса, кроме собственных, не признает?..
В некоторых партийных организациях у нас пропагандистская работа превратилась в школярство потому, что главной целью стало количество проведенных занятий, прочитанных лекций (сводка!), а не воспитание людей.
В кружке изучается история партии. Это история огромной борьбы ленинизма за чистоту революционных идей Маркса, за пролетарскую революцию в России, за построение коммунизма в стране победившей революции. Слушателям все это преподносится как дела «давно минувших дней». Вот так боролись в прошлом большевики с классовыми врагами трудящихся и со всякими фальсификаторами марксизма. Но ведь и сегодня, в нынешних наших делах, всем нам нужно быть большевиками! Революционная непримиримость к помехам на пути нашего строительства, бесстрашие в своих принципах, когда твердо уверен, что они отвечают интересам партии, служение делу, а не лицам, сознание большой ответственности перед народом за каждый свой поступок — эти качества обязательны для коммуниста.
А то ведь бывает и так. Человек окончил высшие теоретические курсы, перечитал и вызубрил главные места в трудах классиков марксизма-ленинизма, по диплому — ученый-марксист, А в практических делах — беспринципная тряпка, отгородившийся от народа семью дверями бюрократ, подхалим, перестраховщик? Но что такое, скажем к примеру, перестраховщик? Так мы привыкли называть некоторых работников, без зазрения совести получающих зарплату за то, что ничего не делают, ничего не решают. Наше ухо притерпелось к этому, довольно мягкому, не очень обидному слову. Пора бы его «уточнить», найти ему синонимы покрепче. В существе явления здесь обыкновенная трусость. Перестраховщик носить звание ответственного работника не прочь, так как с этим связаны и известные блага жизни, но ответственности боится как огня. Интересы дела у него на втором плане, на первом — личное благополучие. Стало быть, если называть вещи своими именами, перестраховщик — это жалкий, вечно дрожащий трус. И шкурник. Обыватель с партийным билетом. И во всяком случае, будь он «по теории» хоть доктором марксистских наук, его «практика» не имеет ничего общего с большевизмом.
Политическое воспитание не ограничивается лекциями и семинарами, одной лишь, так сказать, школьной стороной дела. Политически воспитывается человек при хороших руководителях всей своей жизнью, деловыми заданиями партии и борьбой за выполнение этих заданий. Так растила партия кадры хозяйственников, полководцев, дипломатов, организаторов. Политическая закалка кадров — это и есть испытание делом на труднейших участках.
И нельзя сейчас строить пропагандистскую работу лишь на изучении истории, прошлого нашей партии, не обращаясь к сегодняшним делам, к сегодняшним новым задачам и новым трудностям строительства коммунизма.
Как можно изучать бессмертный труд Ленина «Государство и революция», не делая из него практических выводов для улучшения работы управленческих аппаратов?
Или как можно читать, может быть, даже заучивать наизусть такие строки Ленина и не вдумываться в них глубоко: «Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и больше, помощников из педагогов-практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть, их опыт показать и учесть». Эти слова были сказаны Лениным в статье «О работе Наркомпроса» и адресовались непосредственно руководителям-коммунистам, работавшим в данном наркомате. Но ясно, что эта ленинская заповедь относится ко всем руководителям вообще: находить себе многих помощников, все больше и больше; уметь им помочь работать, их выдвинуть; только такой руководитель, организатор и воспитатель новых талантливых организаторов имеет право на руководство.
Кто склонен всю политическую работу с людьми сводить лишь к чтению лекций о происхождении жизни на земле, тот, если подсказать ему, что надо больше внимания обращать на хозяйство, с охотой совершенно откажется вообще от всякой пропаганды и воспитательной работы, только запчастями, шифером, шлакобетоном и будет заниматься. Но и тут не жди от него добра. Механическое мышление в любом деле не приводит к правильным методам.
Я слышал в одном районе, как колхозники называли своего секретаря райкома вот так, шутя, как Вениамина Павловича, «главным районным агрономом», и не сразу понял, в похвалу это было сказано или в осуждение.
Может быть, за то назвали его так, что он лучше любого специалиста разбирается и в полеводстве, и в животноводстве? Оказалось, нет, за другое. Это прозвище у колхозников он получил, к сожалению, не за отличное знание сельского хозяйства, а за стиль работы.
От партийных работников сельских районов требуется знание агрономии и всех прогрессивных новшеств в этой науке, чтобы они разумно руководили людьми, сеющими хлеб. Пока секретарь райкома не изучит глубоко колхозное производство с его особенностями по разным зонам, принципы организации труда, планирования, экономику колхозов, все новое, что дала передовая наука и колхозная практика в земледелии, — не может он стать хорошим руководителем партийной организации. У него на каждом шагу будут сомнения, колебания, грубые промахи и ошибки. Он не способен заметить ростки нового и вовремя дать им ход, так как сам еще не понимает смысла и пользы этих новшеств. Он не может давать толковых советов людям. Да и у него просто не будет авторитета, если колхозники заметят, что он профан в сельском хозяйстве.
Но само собою разумеется, что, если бы даже секретарь райкома лучше всех в районе знал колхозное производство и агрономию, все равно подменять хозяйственных работников и специалистов он не должен. Да и не выйдет из этого ничего хорошего. «Подменить» всех хозяйственников, при известной твердости характера, он сможет, но заменить — вряд ли.
Мало толку от таких методов руководства, когда секретарь райкома разъезжает по колхозам и, совершенно не считаясь с мнением директора и старшего агронома МТС, не интересуясь, что думают по этому поводу агроном колхоза и местные старые опытные хлеборобы, самолично планирует размещение культур на полях, «дает команду» начинать сеять гречиху или, наоборот, приостанавливает работы, запрещает или разрешает пересев поврежденной блохой и долгоносиком сахарной свеклы и т. п.
В среднем по размерам районе центральной области насчитывается 20–25 колхозов, две-три МТС, 50–60 тракторных бригад. Сеют колхозы по две-три тысячи гектаров. В уборке на полях района работают 100–120 комбайнов. Пользуйся секретарь райкома для передвижения но району хоть вертолетом — не успеет он за день побывать возле всех сеялок или комбайнов и лично проверить и наладить их работу. Если направить весь партийный аппарат района «уполномоченными» на уборочные и посевные агрегаты, на огороды, фермы, строительные площадки в колхозах — все равно не хватит сил. Значит, успех дела — в хороших кадрах председателей колхозов, агрономов, механиков, трактористов, комбайнеров, бригадиров, в политически-трудовом воспитании этих кадров.
У меня есть знакомые секретари райкомов, которые совершенно забросили работу с людьми, решив, что хозяйством можно заниматься «без политики».
Сидишь на пленуме райкома или на собрании районного партактива и слушаешь речь такого секретаря. Он говорит подробно об очень нужных и важных в сельском хозяйстве вещах — о зеленом конвейере, об удобрительных смесях, о подкормках, о воздушно-тепловом обогреве семян, но почему же только о них и говорит? Речь первого секретаря райкома ничем, собственно, не отличается от тех речей, что произносили обычно на таких собраниях начальники районных сельхозотделов. А ведь он партийный работник. Есть же какие-то особенности в его работе, отличные от функций других должностных лиц в районе?..
Перед партийными работниками сельских районов поставлена задача — в короткий срок резко увеличить производство в колхозах зерна, овощей, мяса, молока. Но ведь райком сам не пашет и не сеет, это делают колхозники, рабочие МТС.
Я думаю, когда в обкоме партии слушают отчет секретаря райкома о выполнении всякого рода хозяйственных планов и поставок, не мешало бы так же, не менее строго, спрашивать у него, сколько он за то время, что работает в районе, вырастил в колхозах новых талантливых организаторов хозяйства, мастеров земледелия, животноводства. То есть, сколько он вырастил, воспитал таких людей, которые в свою очередь способны вырастить и двести пудов пшеницы с гектара, и пятьсот центнеров сахарной свеклы, и полтораста ягнят от ста овец, и двадцать пять поросят от свиноматки в год. Ведь это и есть строители нашего хозяйства! Как можно забывать главное в партийной работе — человека? Самый лучший, конечно, вид заботы о человеке в нашем государстве — это создать изобилие всяких продуктов и промышленных товаров. Но ведь само изобилие-то делается человеком! Мало преподать с трибуны собрания партактива правильные агротехнические советы — надо, чтоб было их кому на месте, в колхозах, выполнять!
Партийные работники в силу особых сложностей их дела стоят всегда перед соблазном залезать в функции других работников, ведомственных специалистов, чей круг деятельности более четко очерчен и ограничен. Они как бы «отдыхают» в этой ясности и конкретности чужих специальностей от своего собственного дела, настолько трудного и всеобъемлющего, что даже учебников по нему нет. По агротехнике учебники есть, по партийной работе — нет.
Один мой знакомый председатель колхоза говорил:
— Терпения у них не хватает. Вырастить во всех колхозах такие кадры не только председателей, но и бригадиров, заведующих фермами, которые бы совершенно не нуждались в подсказках, когда сеять хлеб и как коров доить, — это же дело долгое, одним днем его не провернешь. И она, эта работа с людьми, такая незаметная. Никак ее в сводке не отразишь. «Насколько выросли колхозные кадры в районе за истекшую десятидневку? Каков процент прироста у них смелости и самостоятельности?» Что ответишь на эти вопросы? Подбирай кадры, изучай их, возись с ними, воспитывай! Да еще не каждый секретарь райкома годится в воспитатели. Одними выговорами ведь не воспитаешь, как делают иные, тут еще что-то нужно уметь. Так проще — оседлать телефон и «давать команду» в колхозы: «Оставлять сахарной свеклы на каждом погонном метре по шести растений!», «Не позже такого-то числа всем приступить к продольной и поперечной культивации междурядий картофеля!», «Запретить уборку семенных участков пшеницы до полной спелости!». Когда перебросит такой «сам себе агроном» тракторы с комбайнами из одного колхоза в другой, так хоть чувствует, что сделал что-то за день, практически поработал.
Но это все не объясняет еще полностью вопроса.
Есть у нас категория людей, которых мы привыкли называть конъюнктурщиками. Эти люди даже партийные решения читают и понимают как-то по-своему, вдумываются не столько в прямой смысл решений, сколько в так называемый «подтекст», ищут этот «подтекст» даже в количестве строк, отведенных тому или иному вопросу.
В партийном документе, опубликованном в газете, задачи хозяйственного строительства заняли, скажем, три страницы, а полстраницы отведено вопросам партийно-политической работы. Конъюнктурщики так и понимают: значит, хозяйственными делами надо сейчас заниматься в шесть раз больше, чем политической работой.
Этим мыслителям невдомек, что настоящую политическую работу невозможно отделить от хозяйственного строительства. Также невозможно и противопоставить одно другому. Это категории не антагонистические, наоборот, неразрывно связанные едиными целями. Имеется в виду, конечно, настоящая политическая работа, а не болтовня, лишь попусту отрывающая людей от дела. Не бесхребетное культурничество, а именно политически-деловое воспитание людей на определенных ответственных участках хозяйственного строительства. Такая работа с коммунистами, активом, колхозниками, рабочими МТС, в результате которой вырастают смелые, инициативные передовики производства, — наша опора, авангард во всех хозяйственных делах.
Если что и можно, в смысле вреда делу, «противопоставить» хозяйственной работе, то лишь плохую массовую работу — бездушную, формальную, для отчета, «отзвонил — и с колокольни долой».
Но болтуном может оказаться и хозяйственный работник: управляющий конторой, директор, начальник главка и даже министр. Можно и на очень практической должности «руководить» трескучими, но бессодержательными приказами, общими нудными указаниями и требованиями «мобилизовать», «усилить», «развернуть».
Так чтό лучше, а что хуже: формальная, бездушная массовая работа при деловом хозяйственном руководстве или наоборот? Можно ли тут найти какой-то эквивалент замены одного другим, если одно из двух составных хромает? От чего меньше вреда — от пустоты и невежества в речах партийного работника или от этих же качеств в приказах и распоряжениях хозяйственника?..
Право же, если допустить возможность противопоставления партийно-политической работы хозяйственным делам, можно договориться до совершенных глупостей.
Но хуже всего вот что. Когда конъюнктурщик берется за хозяйственные дела, он и здесь кидается лишь на внешне показательную форму. И здесь он способен извратить и опошлить самую замечательную идею.
Дается сверху предложение насчет какого-то агротехнического приема, повышающего, скажем, урожайность овощей. Речь идет об одном лишь приеме, далеко не исчерпывающем всего агрокомплекса возделывания овощей, да и высокий урожай только лишь овощей еще не решает полностью задачу изобилия продуктов земледелия. Но конъюнктурщик поднимает вокруг этого предложения такой шум, будто это спасение от всех бед, ключ ко всем нерешенным вопросам колхозного строительства. Всю зиму на всех собраниях и конференциях только и разговору — о новом способе высадки овощей, в торфоперегнойных горшочках. Очередная ударная «кампания». Но ведь этого мало — правильно высадить овощи. Надо еще суметь вырастить их, суметь их вовремя и без потерь убрать. И надо раскачать заготовительные и торговые организации, чтобы они были готовы к приему богатого колхозного урожая, чтобы ни один центнер овощей не сгнил в кучах на бригадных дворах, чтобы в отдаленных от городов колхозах не кормили капустой и огурцами коров и свиней, чтобы все это попало в магазины и на рынки, чтобы всюду действительно было изобилие дешевых первосортных овощей. Работы здесь для районного руководства на целый год, а не на одну кратковременную «кампанию». Но… Сколько было в последнее воскресенье на рынке возов и грузовиков с помидорами и капустой и на сколько подешевели овощи в сравнении с прошлыми годами — об этом райком не отчитывается по сводкам перед обкомом. Это «трудно поддающиеся учету» вещи. И не было еще таких случаев, чтобы какого-то секретаря райкома наказали за дороговизну овощей на рынке. А сколько высажено овощей в горшочках — это легко и просто укладывается в сводку. До осени далеко, поругают ли осенью — неизвестно. А вот это сейчас на виду. За перевыполнение плана могут даже и похвалить. Стало быть, нужно и «нажимать» пока на это дело, особо не мудрствуя и не заботясь о дальнейшем, об изобилии овощей.
Живуч проклятый формализм! Видимо, еще и потому живуч, что для некоторых бесталанных руководителей — он что для слепого стенка. Уловил по известным признакам, что такому-то вопросу придается большое значение, — ну и пошел, держась за эту стенку; все внимание только этому делу, остальное — на задворки. А это «остальное» ни много ни мало — девяносто девять процентов всех очень важных и неотложных вопросов партийной работы и колхозного строительства.
Квадратно-гнездовой способ посева разных пропашных культур — большой важности дело. Но этот способ не сам по себе повышает урожайность, а через улучшение обработки междурядий. Улучшается же она потому, что здесь открываются большие возможности для механизации и тракторными культиваторами можно всюду успеть три-четыре раза за лето обработать междурядья вдоль и поперек. Почти полная механизация обработки больших, особенно на юге, площадей пропашных культур высвобождает много рабочей силы в колхозах, которую можно повернуть на другие дела: разведение садов и виноградников, на строительство, на развитие подсобных отраслей.
Но приходилось видеть в иных районах возмутительные вещи. Пропашные посеяны квадратно-гнездовым, междурядья же не обработаны, сорняки выше человека. Просматриваешь годовые отчеты колхозов: трудодней в полеводстве и огородничестве затрачено столько же, как и раньше, механизация не увеличилась. Для чего же весною секретарь райкома «нажимал» изо всех сил на квадраты? Квадраты ради квадратов? Ради красивой сводки: «Посев таких-то культур произведен на сто процентов квадратно-гнездовым способом»? Посеял — и на этом прекратил свои «заботы» о внедрении новой агротехники.
Такой секретарь райкома раньше, бывало, во время хлебозаготовок переключал всех и вся на очистку и вывоз зерна на элеваторы, о других срочных полевых и хозяйственных работах в колхозах запрещал и думать. Зябь в эти «штурмовые» по хлебу пятидневки и декады не пахали, озимые не сеяли, корма для скота не заготавливали — будто мы одним днем живем и в будущем году нам уже ни хлеб, ни мясо, ни молоко не потребуются. В оркестре при хорошей игре каждый инструмент издает именно те звуки, которые ему отведены в общей симфонии, и в нужное время, и нужной силы. А тут секретарь как бы схватил одну какую-то трубу, самую громкую, бас или контрабас, как они называются у музыкантов, — и дует в нее, заглушая все прочее. И мелодия получается — хоть святых выноси.
Но вот в чем главное. Чему он, такой секретарь, учит свой районный актив? Какие кадры растит у себя в аппарате и других районных учреждениях? Может ли такой партийный руководитель — сам формалист и, по сути дела, конъюнктурщик-очковтиратель — воспитывать у других людей, у своих сотрудников творческую смелость мысли, инициативу, настоящую, а не показную деловитость, честную принципиальность, самые ценные качества человека, занимающего ответственный пост на государственной службе? Вряд ли способен он воспитывать эти качества у других, поскольку у него самого-то их нет. Вблизи таких людей не создается — прибегнем к агротехническому термину — благотворный микроклимат для расцвета талантов.
Знал я еще такого секретаря обкома. Много повидавший в жизни, неплохо разбиравшийся в людях и несколько скептически-холодный в обращении с окружающими, он не любил угодников и подхалимов, едко подшучивал над ними, а не подхалимов, не «молчаливых», работников с головой на плечах и самостоятельным взглядом на вещи, пытавшихся иногда даже возражать ему кое в чем, совершенно не терпел. С течением времени число таких дельных работников в аппарате обкома и других областных учреждениях уменьшалось. Либо они сами вынуждены были просить о переводе куда-нибудь в другую область, либо их откомандировывали, «по согласованию», в распоряжение министерств и главков. Освободившиеся штатные должности, естественно, занимались другими лицами, которые, учитывая печальный опыт предшественников, не решались уже ни в чем перечить секретарю обкома Лобову, держались «ниже травы, тише воды».
Не питал Лобов теплых чувств к подхалимам, с неприязнью и брезгливостью относился к «флюгерам», семь раз на неделю менявшим свои убеждения и «научные теории», и все же такие люди благополучно уживались возле него и даже численно множились. Он, Лобов, сам своей нетерпимостью к инакомыслящим и развел вокруг себя этот «холуизм», над которым порою издевался на заседаниях бюро или пленумах обкома.
Заведующий городским отделом коммунального хозяйства в порыве служебного усердия и угодничества заасфальтировал часть переулка, в котором занимал квартиру Лобов, — от главной улицы до секретарского особняка и чуть дальше, на несколько метров, чтобы только хватило «ЗИСу» развернуться по ровному. А еще метров сто переулка до другой мощеной улицы так и остались без асфальта, в колдобинах. Лобов, вернувшись из отпуска и увидев перед своим домом такой совершенно «крокодильский» факт подхалимского недомыслия, возмутился, вызвал незадачливого благоустроителя в обком, поносил последними словами, заставил в течение суток заасфальтировать переулок до конца, вспоминал потом этот случай на сессиях городского и областного Совета, цитировал под громовой хохот зала строки Щедрина из «Истории одного города». И все же этот завкомхоз остался на своем месте, даже взыскания не получил. А заместитель председателя облисполкома по строительству — хороший работник, заботливый хозяин, которого всегда в семь часов утра уже можно было видеть на лесах какой-нибудь стройки, заслуженный, авторитетный в народе человек, командир партизанского отряда во время Отечественной войны — однажды крепко поспорил с Лобовым по поводу генерального плана восстановления и реконструкции двух городов области, не согласился с понравившимися Лобову проектами, довел спор до Москвы, добился пересмотра одобренных в обкоме проектов и… поплатился за это трехмесячным отпуском и пособием на лечение, которых не просил, а затем переводом на другую работу, более легкую и соответствующую его слабому здоровью, — на должность директора лесостепного государственного заповедника.
Начальник метеорологической службы области Метелкин, следуя строжайшему указанию не давать в районы прогнозы погоды, не завизированные в обкоме (чтобы не «демобилизовывать» районных работников), дошел до того, что и в обком стал приносить лишь такие прогнозы, какие желательно было иметь Лобову. Если там принималось решение об увеличении площади посевов такой-то культуры, Метелкин давал прогноз, из которого явствовало, что погода для посева и роста этой культуры в весенние месяцы будет самая благоприятная. Если из обкома сыпались в районы телеграммы с требованием немедленно приступить к севу проса и гречихи, Метелкин, со своей стороны, не обращая внимания на холода и даже заморозки, предсказывал резкое повышение температуры в ближайшие дни. Если в обкоме поговаривали о том, что надо бы в этом году начать уборку сахарной свеклы несколько раньше, чем начинали ее обычно, — пойти заведомо на некоторое снижение урожая на первых убранных плантациях, потому что в сентябре корни еще растут и прибавляют в весе, но застраховаться таким образом от больших потерь при затянувшейся уборке, — Метелкин, в подтверждение необходимости таких мер, обещал раннюю и очень дождливую осень. Следовало бы решения принимать, исходя из обстановки, а тут прогнозы подгонялись под уже принятые и проектируемые решения.
Не то сам Лобов разгадал наконец технику составления Метелкиным его всегда приятных начальству прогнозов, не то кто-то из сотрудников бюро погоды написал на него заявление в обком, — Лобов хохотал до упаду, окрестил Метелкина «чемпионом области по холуизму», потешался над ним всласть, отвел ему целых десять минут в своем отчетном докладе на партийной конференции, опять с цитатами из Щедрина и Гоголя, сделал из него посмешище на всю область. Но с работы его все же не сияли. А начальник Управления сельского хозяйства Чеканов, который не удовлетворялся ролью простого собирателя сводок для обкома, пытался разрабатывать какие-то новые вопросы организации колхозного производства и даже выступать со своими предложениями в печати, опытный агроном с двадцатипятилетним стажем, желанный гость в каждом районе, где люди ценили его советы и уважали за смелое обращение с шаблонами, человек, который иногда отваживался и особое мнение записать на бюро обкома, — недолго продержался на посту. Всего лишь полгода поработал он с Лобовым. При первой же возможности его откомандировали «на укрепление кадрами» в новую соседнюю область.
Умен был Лобов. Это чувствовалось и по его содержательным выступлениям на пленумах и конференциях, и по тому, как он решал вопросы на бюро, и по его проницательному взгляду на людей. Интересно, что кадры секретарей райкомов у него были подобраны действительно по деловому принципу. Тут он не терпел краснобаев и очковтирателей, мирился даже с некоторой строптивостью и самостоятельностью районщиков. Понимал, что без хороших секретарей райкомов область ему не поднять.
Но почему же он держал в областных аппаратах малоспособных работников? Почему не гнал подхалимов, терпел этот «холуизм» в своем ближайшем окружении? Чем это объяснить?.. Подхалим противен, если смотреть на него, а если не смотреть, отвернуться и только слушать ласковое журчание его голоса — совсем не противно, даже приятно? Умный спорщик раздражает, а подхалим как-то успокаивает нервы. А может быть, из ревности к чужому авторитету не выносил он присутствия рядом с собой людей с ясной головой и незаурядными организаторскими способностями? Или при всем том, что он работал сам энергично и даже как будто старался поднять область, где-то в глубине души у него было холодное равнодушие к делу, которым он руководил? И совершенно безразлично было ему, кто здесь останется за него, в случае если его переведут на другое место? Кто из его воспитанников будет вершить здесь дела за первого секретаря, кто за второго — это его нисколько не интересовало и не заботило. «После меня — хоть трава не расти». Пусть хоть Метелкина назначают заведующим сельхозотделом обкома.
Бывает и хуже, чем с Лобовым. Способный и энергичный работник, что называется, видный деятель, как бы нарочно окружает себя бездарными, бесцветными людьми в роли своих помощников. Для того чтобы на их фоне его блистательная персона еще ярче сияла, что ли? И держит в первых заместителях, а затем рекомендует на самостоятельный пост человека, который заведомо провалит дело.
Мало этому деятелю, что его хвалили, когда он работал здесь. Хочется ему, чтобы его еще не раз вспомнили, когда он будет переведен в другое место. «Вот был у нас товарищ Н., золотая голова! А этот, что теперь на его месте, и подметки его не стоит!» Для сравнения оставляет за себя никчемного работника. В жертву тщеславию приносятся государственные интересы. Но такой «подбор» заместителей настолько уж чужд духу нашей жизни, что об этом даже как-то горько и стыдно писать.
…Вспоминается рассказ, как в некой стране неглупые хозяева одного концерна устроили испытание директорам заводов. Все директора получили одновременно отпуск, а затем, когда они вернулись, часть из них была уволена. И, как ни странно, уволили именно тех «незаменимых», без которых дела на заводе заметно пошатнулись. А те директора, длительное отсутствие которых совершенно не отразилось на работе завода (значит, подобрали хороших инженеров и приучили их к самостоятельному ведению дела), остались на своих местах, с повышенными окладами и благодарностью от компании за образцовую организацию управления производством.
Партийная работа имеет ту главную особенность, что ее не назовешь ни профессией, ни специальностью. Это выборная работа. Ведь может случиться, что районная партийная конференция и пленум райкома изберут секретарем райкома заведующего конторой «Союзпечати» или директора совхоза, если коммунисты сочтут, что именно ему по праву, по его человеческим и деловым качествам, надо бы руководить партийной организацией.
Партийная работа не специальность, и секретарь может не быть агрономом или инженером, но ему приходится руководить и агрономами, и инженерами, и врачами, и учителями, и литераторами, и художниками, и рабочими, и колхозниками.
И еще особенность: партийных работников не часто премируют и награждают орденами; производственников, специалистов — чаще. Такова уж благородная задача у партийных работников: самим оставаясь как бы в тени, находить, выдвигать и поощрять таланты во всех областях нашего хозяйственного и культурного строительства, растить их, любоваться ими, открывать им широкую дорогу в жизнь и радоваться их успехам, как своим собственным.
Мне могут возразить, что не следует принижать роль партийных работников. Зачем же им, мол, «оставаться в тени»? Я говорю это иносказательно.
Не найдется, пожалуй, у нас в стране человека, которому неизвестно было бы имя Валерия Чкалова. А кто помнит имена его учителей-инструкторов, выпускавших Чкалова в первый самостоятельный полет? Все знают замечательного советского педагога и писателя А. Макаренко. А кто знает имена школьных и житейских учителей самого Макаренко? Кто знает имена учителей Паши Ангелиной, генерала Ватутина, Олега Кошевого? Не будь Дмитрий Фурманов писателем и не сделай режиссеры Васильевы по его книге фильм «Чапаев», мало бы кто знал сейчас про комиссара чапаевской дивизии.
Хотел бы или не хотел этого воспитатель, он всегда в силу особенностей его великой, но скромной работы несколько «в тени» рядом с теми, кого он выпускает в самостоятельную жизнь, на трудовые и боевые подвиги.
Через руки воспитателя пройдут сотни людей. Пусть десять из них выкажут незаурядные способности, а один станет большим ученым, художником, полководцем или государственным деятелем. И этот один своими подвигами «затмит» всех. Что ж, обижаться на это? Воспитатель может прославиться, лишь когда он сам в своем деле исключительный талант и к тому же способен талантливо рассказать о своей работе, как Макаренко или Фурманов.
Работа с кадрами, воспитание людей — главная задача партийных работников, потому что партия существует и работает не ради самой себя, а ради жизни всего народа.
Строитель наслаждается видом растущих заводских корпусов, новых жилых зданий, вокзалов, театров, воздвигаемых по его проектам. Энергетик, которому не дают спокойно спать огромные, не используемые до сих пор людьми и в миллионной доле силы солнечного тепла и ветра, вкладывает свою душу в новые испытательные установки. Нет большей награды для хорошего агронома, как увидеть в середине лета на полях пшеницу, выросшую вровень с его плечом, с колосом крупным и тяжелым, как виноградная кисть.
И партийный работник находит во всем этом радость и удовлетворение. Но первая и наивысшая радость для него — видеть рост людей вокруг себя, расцвет человеческих талантов во всем их многообразии. И от него требуется умение так руководить этими талантами, этими людьми, чтобы каждый работал в полную силу, вдохновенно, с зорким видением наших ближних и дальних великих целей.
Вот что говорил Ленин о талантах в статье «Как организовать соревнование?»: «…организаторская работа подсильна и рядовому рабочему и крестьянину, обладающему грамотностью, знанием людей, практическим опытом. Таких людей в «простонародье», о котором высокомерно и пренебрежительно говорят буржуазные интеллигенты, масса. Таких талантов в рабочем классе и крестьянстве непочатый еще родник и богатейший родник».
Еще раньше, в 1905 году, Ленин так говорил о молодых кадрах революционеров-организаторов:
«Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстреливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что людей нет. В России людей тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз смелее вербовать молодежь, не боясь ее».
Хороший секретарь райкома никогда не пожалуется на помощников, на свои колхозные кадры. Тем он и хорош, что умеет находить среди малопримечательных на первый взгляд людей талантливых организаторов, вожаков, больших мастеров своего дела, прирожденных строителей и загружать их трудной, но интересной, ответственной работой в полную меру их сил.
Очень нужны нам металл, хлеб, уголь, машины, строительные материалы. Мы должны стать самой богатой страной в мире, и чем скорее, тем лучше. Что бы мы ни делали, все сводится к этому — к могучему укреплению экономики нашего государства. Но решение всех хозяйственных задач — в человеке, в кадрах. Главный материал, с которым имеет дело партийный работник, — это человеческий материал. Для него это, если уж переводить на производственный язык, и материал, из которого он строит, и инструмент, которым строит. Кому что: художнику любоваться своей картиной, конструктору — своей новой машиной, а партийному работнику — людьми. И в общем партийный работник «не в убытке». Двойная радость: и за плоды трудового творчества наших людей, и за самих людей.
И тот партийный руководитель, который отдает всю страсть души этому делу, который любовно растит вокруг себя таланты, растит их на больших ответственных делах, где есть простор для умной и смелой мысли, растит терпеливо, не избивая за невольные ошибки, взыскивая за них с отеческой строгой доброжелательностью, настойчиво и мудро направляя эти таланты на верный путь, который именно в этом, в лепке человеческих душ и характеров, находит свое «профессиональное» наслаждение работой, — тот руководитель сам являет собой благородный и светлый, очень нужный в нашей жизни большой талант.
1955
О совещаниях, каких еще не проводили
В зрительном зале драмтеатра проходил областной слет передовиков сельского хозяйства. Партер, балконы — все, до последнего кресла, было занято председателями, бригадирами, животноводами, механизаторами из лучших колхозов области. Поскольку это было совещание передовиков, разговор, естественно, шел больше о достижениях. Каждый выступавший начинал с рассказа о производственных победах его фермы, бригады, колхоза и кончал обязательствами добиться еще лучших показателей.
В перерыве я вышел в сквер у театра. Подошел колхозник, видно не из делегатов слета, с мешком, одетый не по-праздничному, подсел ко мне на скамейку, скинул тяжелый мешок на землю.
— Это что ж тут за собрание идет? — спросил он, указывая на загромоздившие всю площадь у театра грузовики и легковые машины.
Я сказал ему, что за собрание.
— Передовики? Хорошо. Вон сколько машин! Народу-то привезли! А из отстающих колхозов не пускают туда представителей?
— Не знаю, — ответил я. — Вообще-то пройти можно, но куда вы свой мешок с покупками денете? Неудобно — с мешком.
— Да нет, я — то не пойду туда. Какой я представитель! Мне на вокзал надо. Домой еду. Трамвая жду. Просто — интересуюсь… О чем же они там совещаются?
— Ну, как еще больше поднять урожайность, доходы.
— Это дело. На месте никому нельзя топтаться, надо двигаться вперед. Передовики… — колхозник вздохнул. — А об отстающих там речи нет?
— В докладе была речь о них. А в прениях, конечно, передовики больше о себе говорят.
— Ну, ясно. Своя рубашка ближе к телу. Какая им печаль об отстающих. Они свои трудности перебороли… А нас, только и знай, в газетке поругивают, да уполномоченные шумят на нас. А сюда, — он кивнул на подъезд театра, — не приглашают. Передовики… Отделились от нас, как святые от грешных.
Я спросил, из какого он района и много ли у них там отстающих колхозов.
— Точно не скажу сколько, но есть. Да вот взять наш колхоз. Как началась война, с того самого времени и не видели мы хорошей жизни. Поедешь к соседям — другое царство-государство. Денег получают помногу, горы леса навезли из Кировской области, новые дома строят. А у нас — одни долги да просрочки. Их, соседей-то наших, и война как-то стороною обошла. Не при большой дороге. А наше село было на самой передовой. Четыре раза фронт через наше село перекатывался туда-сюда. Ни одной коровы, ни одной хаты в селе не уцелело. Так и пошло с первых послевоенных лет: соседи три шага вперед сделают, а мы — полшага, они еще пять шагов, а мы — шаг. Как отстали с самого начала, так и до сих пор. То председатели были пьяницы, нечистые на руку, а теперь вот и хороший человек попался, три года уже у нас, видим, старается, ночей не спит, и башка у него вроде варит, и к людям хорошо относится, а вот — не получается. Никак не вылезет из нужды.
Показался из-за угла трамвай. Колхозник встал.
— Все с передовиками совещаются, все с ними. А кабы я сейчас вот зашел туда да попросил слова, так, гляди, и не дали бы. Засмеяли б. Куда ты, мол, в калашный ряд! Ты на эту трибуну и взойти недостоин. Тут одни передовики собрались, люди знаменитые… А что же нам, незнаменитым, делать? Как нам от нашего позора избавиться? Собрали бы нас, ну, если недостойны с передовыми колхозниками в одном помещении сидеть, — собрали бы отдельно, без почестей, без музыки, может, и не в театре, а где-нибудь за городом, в лесу, и поговорили бы с нами. Да чтоб не ругали нас, а послушали. Мы бы рассказали! Кто лучше нас знает про нашу жизнь? Никакой передовик не болеет так о нас, как мы сами. Они забыли то время, когда сами копейки на трудодни получали… Второй номер. Мой. На вокзал. Ну, до свиданья!
И, взвалив мешок на плечо, он заспешил к трамваю.
…В самом деле, почему мы проводим в районах и областях только вот такие совещания — передовиков сельского хозяйства? Почему перед принятием каких-то новых решений о деревне мы держим государственный совет только с представителями передовых, лучших колхозов страны?
Из кого министерства составляют комиссии для подработки того или иного вопроса по сельскому хозяйству? Из представителей известнейших, а стало быть, богатейших колхозов страны. К голосу каких председателей колхозов прислушиваются больше руководители области, района? Конечно, к голосу выдающихся хозяйственников и организаторов, людей заслуженных, отмеченных наградами. Кто же будет принимать во внимание предложения и советы такого председателя, где урожай низкий, и скот голодает, и денег в банке на счету — ни гроша?
А почему бы и не принять во внимание?..
Разные есть отстающие колхозы. Есть такие, где надо немедля сменить руководство, председателя и бригадиров, и дело, может быть, пойдет. Но есть и другие причины отставания.
Я знаю немало хороших людей в должности председателей плохих колхозов. Послали их туда три-четыре года назад, работают они честно, добросовестно, бьются изо всех сил, но вот — «не получается». Почему? Об этом надо их самих расспросить получше.
Если бы отстающих колхозов у нас в стране был только один процент, и то мы должны принять какие-то специальные решения о них. Один процент — это сотни тысяч колхозников. Сотни тысяч людей, желающих и имеющих право, как и все, жить хорошо.
Надо бы держать совет о деревенских делах не только с передовиками сельского хозяйства, но и с отстающими.
У богатых колхозов — свои проблемы, нужды, запросы. Им — построй побольше консервных заводов невдалеке от их садов и огородов, дай стройматериалы в неограниченном количестве, оборудование для мастерских, чтоб ремонтировать технику собственными силами, дай набор новейших машин для комплексной механизации — все возьмут, деньги у них найдутся. У них и организационные задачи иного порядка. И где работы на колхозных полях и фермах высоко оплачиваются, там колхозники не очень дорожат уже и своим подсобным хозяйством.
Перед отстающими же — другие проблемы. Валить эти разные проблемы в одну кучу — все равно что посадить за стол человека, который три дня не ел, и такого, что недавно сытно пообедал, и предлагать им одно и то же угощенье в одинаковом количестве.
Почему бы не проводить время от времени в областях и, может быть, при министерствах сельского хозяйства совещания с представителями отстающих колхозов? Не «собрания лодырей» с вручением им рогожных знамен — боже упаси! Никому не придет в голову возрождать эти осужденные в свое время идиотские формы «массовой работы». Нет смысла, конечно, приглашать на эти совещания заведомых бездельников или пропойц, кандидатов в отставку — ничего умного от них не услышишь. А пригласить бы именно вот таких председателей, бригадиров — честных трудяг, но у которых «не получается». И поговорить с ними по душам. И не надо удаляться в дремучий лес с такими совещаниями. Провести их в тех же помещениях, где и слеты передовиков созываем, но без музыки, без фанфар, без приветствий от пионеров. Очень серьезные и деловые совещания. Даже, может быть, без строгого регламента для выступающих. И конечно, без шпаргалок, этого бича многих наших собраний. Создавать на этих совещаниях особую атмосферу дружеского участия и искреннего желания глубоко выяснить все болезни и нужды экономически слабых колхозов, чтобы люди рассказали откровенно обо всем до конца — что мешает им поднять отставшие в свое время по ряду причин и продолжающие отставать до сих пор колхозы.
Многое зависит от председателя, от его энергии, способностей, душевных человеческих качеств, многое, но — не все. Есть предел его возможностям — вот это он в состоянии осилить, сделать сам, с помощью партийной организации и колхозного актива, а это уже — вне его возможностей, ключ к решению этих вопросов не в его руках и даже, может быть, не в руках районных и областных организаций. Здесь нужны меры высшей компетенции, какие-то большие организационные изменения, что-то новое в методах руководства колхозным строительством или, во всяком случае, в методах подъема экономически маломощных колхозов.
Может быть, этому «без вины виноватому», отстающему колхозу мешает продолжающееся администрирование местных властей и сельскохозяйственных органов, навязывающих ему сверху шаблонные рецепты на все случаи жизни?.. Старый, известный далеко за пределами своего колхоза председатель да еще, может быть, Герой Социалистического Труда — это фигура солидная, уважаемая, с ним считаются, он уже убедительно доказал фактами колхозных урожаев и доходов, что если иногда и «своевольничает», то — к лучшему. А у молодого председателя, недавно посланного, ничего видного еще не совершившего, — какие у него есть основания и право спорить, артачиться, делать на полях и на фермах что-то не совсем в точности так, как предписано из областного сельхозуправления или райисполкома?..
Может быть, не изжитый до конца формализм, губительный во всяком деле, а в руководстве сельским хозяйством особенно, связывает творческую инициативу колхозников, не дает возможности и посланным председателям в полную силу проявить свои организаторские способности? Может быть, местами соревнование районов и областей в выполнении планов и обязательств превращается в своего рода спор, в погоню лишь за лучшими показателями на сегодня — без особой заботы о том, что последует завтра?.. И все, что мешает и передовикам быстрее развиваться и богатеть, с особенной силой бьет по хозяйственно слабым колхозам?
Но я не собираюсь предугадывать вопросы, которые могут быть подняты колхозниками на таких совещаниях. Не в этом цель статьи. Ни один журналист, ни один писатель, как бы пристально ни занимались они деревенскими темами, не вскроют и не охватят в своих статьях всего того, что могут рассказать сами практики колхозного строительства.
Много у нас проводится всяких собраний, совещаний, в том числе и ненужных, лишних, зря отнимающих у людей рабочее время, пожирающих огромные суммы государственных денег. Бывают совещания и просто вредные — так как они создают видимость какого-то дела. Но думается, что от таких совещаний — с представителями отстающих колхозов, — если провести их не формально, не боясь отступления от шаблонов и искренне желая докопаться до причин неурядиц в этих колхозах, польза была бы немалая.
Ведь действительно «своя рубашка ближе к телу», и никто так много и упорно не думает о преодолении отставания, как сами отстающие.
1960
Писатели и читатели
В июньской книжке журнала «Новый мир» была напечатана статья Николая Дубова «Как губят море». Горячо написанная, снабженная убийственными фактами статья крепко запомнилась читателям журнала, и все недоумевают — почему на нее до сих пор нет ответа? В статье шла речь о хищническом истреблении рыбы в Азовском море.
Писатель Н. Дубов, видимо, серьезно изучил вопрос, обстоятельно ознакомился с материалами, касающимися ограбления этого некогда богатейшего по своим рыбным запасам моря. Отдельные места в его статье прямо-таки вопиют. Цитирую их.
«Что сказали бы о мясозаготовителях, которые в припадке рвения перерезали бы не только выделенных для того коров, но и всех телят и быков-производителей?..
Не вызывает сомнений усердие работников Министерства рыбной промышленности — они хотят выполнить план. Но хотят ли они снабжать население рыбой?
С 1945 года число хамсово-тюлечных неводов непрерывно растет… Море сплошь утыкано, перегорожено ставными неводами у берегов, то есть в местах нереста и нагула. Невода с делью в 6 миллиметров гребут все, что не может проскочить в крохотную ячейку. Практически только планктон благодаря своим микроскопическим размерам спасается от этого ставникового бедствия. Рыбаки с яростью, чуть не со слезами вычерпывают из ставниковых котлов живой «студень» — личинок, мальков ценной рыбы. Это повторяется и возрастает из года в год…
Подорванный промысел крупной рыбы не дает уловов? Дави хамсой и тюлькой, выполняй план!.. «Давили» усердно, но уловы падали, и еще разительнее падал выход товарной рыбы. Давили так усердно, что подорвали даже запасы хамсы, которые исчислялись миллионами центнеров, и тогда министр рыбной промышленности Л. А. Ишков дал указание ловить «нитку» — малька хамсы, которую рыбаки с тех пор называют «ишковкой»…
Зачем, во имя чего вычерпывается из моря огромное количество бесполезного для человека, но необходимого для крупной рыбы корма? Как можно терпеть, чтобы вместе с бесполезной тюлькой вычерпывались из моря почти начисто личинки, молодь красной рыбы, крупного частика, в том числе и выращенные рыбоводными заводами?! Во имя плана? Но план лишь тогда план, когда он имеет в виду не только сегодня, но и завтра и послезавтра…»
В разделе статьи «Наука на задворках» Н. Дубов пишет:
«Ежегодно АЗЧЕРНИРО дает прогнозы промысловых запасов и желательные нормы вылова. Эти рекомендуемые учеными нормы никогда не утверждаются министерством, а всегда значительно повышаются. Ближайший пример. По прогнозу АЗЧЕРНИРО, бычка в 1955 году следовало выловить 150 тысяч центнеров. Министерство установило план в 240 тысяч центнеров. Его перевыполнили. Можно было выловить и 300 тысяч, можно, наконец, выловить всего бычка за один сезон. Азовское море мелкое, оно как тарелка. При современном вооружении рыбодобывающих организаций и за один год из него можно выгрести все живое, поразить всех грандиозным перевыполнением плана и… превратить богатейший водоем в пустыню».
Николай Дубов сообщает, очевидно, на основе научной статистики, что Азовское море, пресное, неглубокое, щедро награжденное от природы изобилием кормов для рыбы и прекрасными нерестилищами, давало некогда «урожай» в 80 килограммов рыбы с гектара, в то время как самые богатые открытые моря мира дают: Японское, например, — 28–29 килограммов, Северное — 24,5 килограммов. Азовское море служит также местом откорма для части черноморских рыб — сельди, кефали и других.
«В самый «уловистый» 1936 год, — пишет Н. Дубов, — Азовское море дало свыше трех миллионов центнеров рыбы, причем большую половину улова составляли ценные породы — лещ, судак, осетровые, прозрачные от собственного жира рыбец, шемая, знаменитая керченская сельдь и другие. Однако эти деликатесы современному потребителю более известны по литературе и меланхолическим воспоминаниям пожилых людей, чем по собственному опыту».
Современный потребитель — этому и я свидетель — видит сейчас на рыбных рынках Таганрога, Азова и других приморских городов только кучи этой самой тюльки — «ишковки», которую еще иначе называют: «жуй-плюй». «Безоглядное выгребание» из Азовского моря всего живого дало уже свои отвратительные результаты.
Прошло со времени напечатания статьи Николая Дубова более трех месяцев. Молчание. Мы не видим ни на страницах «Нового мира», ни в другом каком-либо печатном органе ответа министра рыбной промышленности СССР на эту статью. В чем дело?
Неужели, товарищ Ишков, вас не взволновала статья Н. Дубова? Не задела за живое, не обидела? Одни подзаголовки в статье чего стоят: «Промысел или истребление», «Министерское браконьерство»! Ведь вас же оскорбили, прямо или косвенно назвали браконьером, «безоглядным выгребателем» рыбы из морей, у которого «усердие превозмогает рассудок» (вспомним, кстати, также статью в «Правде» за 16 июня эстонских писателей Ю. Смуула и Р. Сирге «Синее поле», где речь шла о подобных явлениях и в водах Балтики)… «Цирковые номера»! «Усердие превозмогает рассудок»! Да за такие дерзости когда-то, в старое время, вызывали на дуэль! Ну, сейчас на дуэль не вызовешь, но можно вызвать автора на бюро, — если он написал неправду, оклеветал работников Министерства рыбной промышленности и вас, возглавляющего эго учреждение. А если статья правильно освещает поднятые вопросы, то надо же гласно довести до сведения общественности о принимаемых вами мерах к исправлению положения. Молчать в таких случаях просто даже как-то неприлично. Ненароком еще примут ваше молчание за барское пренебрежение к печати.
Азовское море, как и всё в нашей стране, принадлежит народу. Это наше общественное добро. Велик ли, мал удельный вес этого моря в общем улове рыбы по стране — все равно это частица нашего общенационального богатства. Море это не только дает рыбу потребителю, оно также кормит десятки тысяч людей, состоящих в рыболовецких колхозах. Колхозы живут не одним днем. Они хотят быть уверенными в прочных доходах и на будущий год, и на десятилетия вперед. Море — это их «синее поле», которое не должно истощиться никогда.
Одна из примечательнейших черт нашего времени — возросшее и все более возрастающее в каждом человеке сознание хозяина страны, чувство коллективной хозяйской заботы и ответственности за все, что строится и делается в нашем государстве. И вы с этим явлением, товарищ министр, обязаны считаться. Народ вправе потребовать от вас сохранности и приумножения (а не бессмысленного уничтожения, ради лишь сегодняшнего дня, без всякой тревоги о будущем!) врученных вам природных богатств нашей страны. Может быть, вы позабыли, что каждый из нас, людей не причастных к руководству рыбной промышленностью и вообще к какой бы то ни было руководящей должности, — такой же хозяин всех морей, рек и озер Советского Союза и рыбы, водящейся в них, как и вы, министр?
Вы молчите, не отвечаете ни в какой форме, ни письменно, ни устно, редакции журнала — приходится пробавляться слухами. Говорят, что вы на каком-то совещании в министерстве признали статью правильной, но тут же сказали: «А в общем, те сотни тысяч центнеров рыбы, что дает Азовское море, плана не решают — надо теперь нажимать на промыслы в океане». Печальные слухи! Есть ведь и в океане свои, разработанные учеными-рыбоводами правила хозяйственно-бережливого обращения с запасами рыбы в воде. А мы, читатели статьи Н. Дубова, уже знаем, что означает в вашей практике это лихое словечко — «нажать»!.. В одном из писем-откликов на статью Н. Дубова, полученных редакцией «Нового мира», сообщается, что и на Черном море творятся такие же безобразия, как и на Азовском. Камбалу ловят главным образом в весенние месяцы и на местах икрометания, когда она имеет наихудшую упитанность. Дельфинов истребляют в массовом количестве в летние месяцы — во время спаривания и щёнки, — вылавливают множество беременных самок и маленьких детенышей. Почти не стало уже ценнейшей рыбы — кефали. Периодически то запрещается, то вновь разрешается очень вредный на Черном море траловый лов рыбы.
Чего-чего только не передумаешь об этих вещах, пока руководящие работники Министерства рыбной промышленности загадочно молчат!
Может быть, это грабительское отношение к морям объясняется очень простой причиной грубо-карманного характера — определенный круг лиц в министерстве и трестах получает премии за перевыполнение планов? Кому — премии, кому — беда!..
А может быть, есть нечто превыше ваших сил и прав, товарищ Ишков, и вы молчите потому, что считаете неудобным доводить это до сведения общественности? Скажем прямо: вы получаете ежегодно твердые планы вылова и заготовок рыбы по всем морям Советского Союза, которые обязаны точно и неуклонно выполнять. За невыполнение вас, конечно, не похвалят. Рыба — это немаловажный продукт в продовольственном балансе страны. Но рыба ведь нужна нам и завтра, и послезавтра. Мы же не можем, в погоне за благополучными процентами выполнения плана сегодня, допускать беспардонное браконьерство на наших водоемах, угрожающее полным их истощением в ближайшие годы!
Бывает же так, что сама жизнь подсказывает необходимость внесения каких-то коррективов в наше социалистическое планирование. Надо только решиться подать голос — авось и не снимут с занимаемой должности за попытку по-государственному пересмотреть некоторые утвердившиеся в нашей жизни догмы. Но мы не помним, не читали в печати, не знаем таких фактов, чтобы вы, товарищ Ишков, выступили на пленуме ЦК или на сессии Верховного Совета с какими-либо претензиями к планирующим органам. Есть основания полагать, что вы и там молчите, — как молчат о своих несчастьях безгласные рыбы в подведомственных вам морях. Молчите, вытянувши руки по швам, и неукоснительно «выполняете»…
Думается, что сейчас настало такое время, когда надо безжалостно смещать людей с занимаемых ими постов, примерно наказывать и заменять другими работниками главным образом не за то, что они чего-то не выполняют, а за то, что выполняют тупо, по-фельдфебельски, не утруждая мозгов, не осмеливаясь даже послать в вышестоящий орган честную, правдивую информацию о положении дела. В нашем огромном хозяйстве, в случае недостаточно продуманного планирования чего-то, всегда может то там, то там возникнуть какая-то неслаженность, несуразность, какой-то просчет, угрожающий серьезными последствиями для той или иной отрасли. Эти ошибки можно своевременно исправить, — если внимательно прислушаться к голосам снизу, с мест. Но надо же, чтобы было кому подавать голос!..
Чем дольше молчат руководящие работники Министерства рыбной промышленности СССР о статье Н. Дубова, тем яснее становится, что редакции журнала нечего, пожалуй, и ждать от них толкового ответа. Да и по характеру дела ответа только от министерства будет уже недостаточно. Вряд ли сами руководители этого министерства способны оценить в полную меру вред, наносимый ими государству, и объективно определить для самих себя достойную меру наказания за одно из самых тягчайших преступлений перед народом — за хищническое уничтожение природных богатств Советского Союза, богатств, которые принадлежат не только нам, ныне живущим людям, но и будущим поколениям, потомкам нашим.
В том же журнале «Новый мир», в № 5 за текущий год был напечатан очерк А. Безыменского и И. Вайнберга — «Дорогу техническому прогрессу!». В очерке шла речь об очень серьезных болезнях производства и ненормальностях в руководстве коллективом на Московском заводе внутришлифовальных станков (ЗВШС). Очерк трудно пересказать. Это целое литературное произведение, с обстоятельной деловой стороной, с подробным описанием работы завода, отдельных его цехов, с цифровым анализом движения производства, и в то же время — с живыми типичными характерами, яркими литературными портретами людей, запоминающимися диалогами, сценами. По важности поставленных вопросов (касающихся к тому же не только ЗВШС), очерк принадлежит к весьма нужной нам сейчас проблемной литературе.
Редакция журнала, дабы избежать возможных неточностей или искажений фактов, провела обсуждение рукописи очерка перед его напечатанием. Были приглашены работники завода, около десяти человек: главный технолог, главный механик, начальник отдела труда и зарплаты, инженер по труду, старший конструктор и другие товарищи. Стенограмма обсуждения — вопль души людей, которым уже невмоготу. Все в один голос отметили, что авторы даже недостаточно остро написали очерк об их заводе.
Суть дела вкратце сводится к следующему. На заводе, выпускающем уникальные, высокой точности станки, именуемые в технике прециозными (от внутришлифовальных станков, которые когда-то делал завод, сохранилось только его название), процветает дикая ежемесячная штурмовщина. Вот что показывает «кардиограмма» ЗВШС. В прошлом году за первые декады шести месяцев первого полугодия выпущен тридцать один станок, за вторые декады — двадцать семь, за третьи — девяносто семь. Во втором полугодии за первые декады выпущено четыре станка, за вторые — девятнадцать, за третьи — сто сорок восемь. Заводской коллектив способен творить чудеса — «4» и «148»! Но руководят этим коллективом безобразно. На заводе отсутствует элементарная культура производства, грубо нарушаются правила охраны здоровья рабочих, высокая техника сплошь и рядом уживается с «дубинушкой», технический прогресс, если можно так выразиться, в загоне. Перспективным конструированием станков никто не занимается, конструкторский портфель пуст. За полтора года директор ни разу даже не заглядывал в конструкторское бюро.
Директора Я. П. Яковлева зовут на заводе «Я в квадрате» — за его самовластие и самовлюбленность, за полное пренебрежение к какой-либо коллегиальности в работе, за размашистое, шумливое, не дающее ходу ни чьей инициативе, и довольно-таки безалаберное руководство. У директора отсутствует контакт с технической мыслью на заводе (ему эти тонкости незнакомы), техническую интеллигенцию он вообще третирует, излюбленная его форма общения с подчиненными — нагоняй, а самые употребительные слова в разговоре с ними: «выгоню!», «подавай заявление!», «уволю!».
Вот сценка из очерка:
«Директор поручил начальнику отдела получить в министерстве письмо, которое должен был подписать заместитель министра. Начальник отдела звонил по телефону несколько раз — все нет и нет заместителя министра. Ехать недалеко, а незачем.
Через некоторое время в отделе послышался телефонный звонок. Знакомый голос директора ЗВШС спросил:
— Приехал ваш начальник из министерства?
— Да он и не уезжал, — ответили ему, не зная, в чем дело.
Директор велел позвать к телефону «виновного».
— Где письмо, болван?
Начальник отдела, оглушенный этим приветствием, хотел что-то вымолвить, но директорский бас продолжал грохотать:
— Не нужны мне твои объяснения, дважды ты болван, не нужен ты мне вообще, не ходи больше ко мне!»
Вот такой нрав у Якова Петровича Яковлева. Заметим между прочим, что начальник отдела, которого ни за что ни про что обозвали «дважды болваном» — пожилой человек, работает на ЗВШС двадцать три года, член КПСС. При обсуждении рукописи очерка в редакции журнала он просил не называть в печати его фамилию — вероятно, он сам стыдится собственной слабохарактерности и робости, не позволяющей ему дать директору хорошей сдачи за «болвана» и прочие подобные словечки.
Вот другая сценка:
«Как-то главный механик завода товарищ Нижегородцев пришел к директору подписать разрешение на отпуск. Поскольку Яков Петрович во всем советуется с секретарем партбюро, он при Нижегородцеве и многих других товарищах, присутствовавших в это время в кабинете, позвонил Арутюну Согомоновичу Вартаняну:
— Тут пришел Нижегородцев, просится в отпуск. Как ты думаешь, подписывать ему заявление? Я думаю, то ли есть он на заводе, то ли нет его — один толк. Пусть едет.
Вартанян одобрил решение директора: надо же о людях заботиться…»
Т. Нижегородцев работает на ЗВШС семь лет, инженер, член КПСС с 1924 года.
Дорисовывая портрет Я. Яковлева, авторы очерка пишут дальше:
«Директор стремится всячески унизить человеческое достоинство руководящего персонала ЗВШС, кричит на инженеров и у себя в кабинете и в цехах, при рабочих.
Случайно ли это? Нет, не случайно. Грубое поведение тонко рассчитано.
Во-первых, директор показывает себя перед рабочими этаким «отцом-командиром», которому нечего скрывать. Ругая в открытую инженерно-технических и административных работников, он хочет продемонстрировать свою требовательность. Во-вторых, в поисках дешевой популярности среди рабочих директор противопоставляет тружеников цехов инженерно-техническим «бездельникам». Если бы не «они», он бы, Яковлев, творил чудеса. А раз это так, должно стать ясным, что виновниками всех неполадок, отсталых конструкций и всего прочего являются «помощнички», а отнюдь не он, директор».
Бывшего секретаря партбюро завода А. С. Вартаняна авторы очерка назвали «карманным секретарем», за что тот крепко на них обиделся (сейчас т. Вартанян работает заместителем директора по снабжению — давняя его мечта, — а секретарь партбюро на заводе новый, т. Нефедов). Но, видимо, основания для такой остроты у писателей были. Вартанян во всем и всегда поддерживал директора, не мешал ему разгонять кадры, швыряться людьми, зажимать критику, всячески оскорблять своих подначальных, и лишь иногда в очень мягкой просительной форме уговаривал его чуточку бы попридержать язык.
«Поведаем, — пишут А. Безыменский и И. Вайнберг, — что сказал в нашем присутствии А. Вартанян первому секретарю Кировского райкома партии В. Колосовой.
Сколько он людей ни оскорблял, никто не пишет заявлений. Только Рафальсон написал в райком, но уже после того, как его уволили с завода. А вот Нижегородцев грозился написать, но приехал из отпуска и не написал. Что ж, я его за ухо буду тянуть?»
Тот самый начальник отдела, который просил не обнародовать его фамилию, получив «дважды болвана», пришел к А. Вартаняну.
«Секретарь партбюро, сокрушенно качая головой, произнес в пространство:
— Видите, как тяжело работать. Опять обидел он человека. Сколько раз я с ним уже говорил, опять придется поговорить…
Самое главное произошло, когда пострадавший уходил. Стоя в дверях, он умоляюще вымолвил:
— Только учтите, Арутюн Согомонович. Я не жаловаться приходил. Я не жалуюсь…
В ответ Вартанян отчеканил:
— Не волнуйся. В партбюро не приходят жаловаться. В партбюро приходят делиться…»
«Вот она, — пишут авторы очерка, — «философия» карманного секретаря партбюро. К нему приходят не жаловаться, а делиться. Он должен выслушивать, но не действовать. Соболезновать, но с директором не ссориться. Со всеми беседовать, но ни за кого не беспокоиться. Разговаривать, но не искоренять безобразия. Как двусмысленно звучат эти слова: «не волнуйся!» Ты ко мне пришел с разговором о человеческой боли, о людских поступках и проступках? Не волнуйся, все равно я не буду волноваться. Не волнуйся, я все равно ничего не сделаю…»
«— А не подавляет ли Яковлев подчиненных? — спросили у Вартаняна.
— А если инициативы у них нет? Если подавлять нечего? — вопросами на вопрос парировал Вартанян.
— И все-таки? Подавляет или нет?
— Было, было! — подхватил Вартанян. — А теперь он уже жалуется, что я его по рукам и ногам связал, в теленка превратил. Прихожу к нему недавно, смотрю — он крестится, на меня глядя. Что такое? Молюсь, говорит, чтоб громкого слова не сказать… Здорово я с ним поработал! — удовлетворенно закончил разговор секретарь партбюро ЗВШС».
Вот так обстояло дело с партийным руководством на заводе в дни написания очерка «Дорогу техническому прогрессу!».
Авторами очерка был предъявлен также серьезный счет Министерству станкостроительной и инструментальной промышленности и Главстанкопрому. Много лет уже работники министерства дают обещания заводу помочь ему в том-то и в том-то и обещания в большей своей части остаются невыполненными. Каждый раз разговор о неотложных нуждах завода заходит как о чем-то совершенно новом, неизвестном «наверху», хотя в архивах заводоуправления можно подобрать документов с обещаниями и заверениями министерства уже на целый том.
Прошло четыре месяца. Редакция журнала «Новый мир» не получила никаких откликов на очерк ни от заводских организаций, ни от Кировского райкома партии, ни от министра станкостроительной и инструментальной промышленности А. И. Костоусова. Как будто все то, о чем писалось в очерке — пустяки, не заслуживающие никакого внимания. Да приблизительно так, собственно, и было сказано новому секретарю партбюро т. Нефедову в Кировском райкоме партии: очерк, мол, это литературное произведение, можно не спешить с его обсуждением. Так и т. Нефедов в свою очередь заявил секретарям партийных организаций цехов: «Новый мир» — это не официальный орган, это беспартийный (?) журнал, нечего особенно волноваться по поводу художественного очерка, напечатанного в нем.
Но на заводе все же заговорили об очерке. Коммунисты требовали от партбюро обсуждения. На рабочих собраниях также раздавались голоса об этом. Заводская многотиражка «Кировец» давала дельные статьи инженеров и рабочих под рубрикой «Обсуждаем очерк Л. Безыменского и И. Вайнберга», в которых авторы не только соглашались с очерком, но и приводили новые факты безобразий на заводе.
Наконец, 6 августа (а очерк, напоминаем, был напечатан в майском номере журнала) состоялось расширенное заседание партийного бюро завода, посвященное обсуждению нашумевшего очерка. После горячих прений, подтвердивших, что журнальный очерк попал точно в цель, партбюро приняло решение (цитирую дальше по газете «Кировец»), «в котором отмечается, что очерк А. Безыменского и И. Вайнберга правильно указывает на ряд недостатков в работе завода, на неверный стиль хозяйственного руководства и недостаточный контроль, осуществляемый партийным бюро за хозяйственной деятельностью администрации.
Партийное бюро обязало директора завода т. Яковлева в корне изменить стиль своей работы, всемерно поднимать ответственность руководителей цехов и отделов за порученное им дело, предоставляя им больше инициативы и самостоятельности в решении вопросов», — и т. д.
На заседании бюро присутствовала первый секретарь Кировского райкома г. Москвы т. Колосова. Не выступала. Присутствовала также инструктор Московского горкома КПСС т. Оранжереева. Тоже не выступала. Сидел на заседании партбюро и заместитель министра станкоинструментальной промышленности т. Тараничев. Не проронил ни слова.
Заводское партийное собрание утвердило решение партбюро.
А дальше начались странные вещи.
Двадцатого августа состоялась читательская конференция на заводе по очерку. Многие товарищи из тех, что наиболее остро говорили о недостатках на заводе, были в отпуске либо в командировке. Некоторых не оповестили. Через несколько дней в газете «Кировец» появилась заметка о конференции. Переписываю ее целиком. Она говорит сама за себя, и внимательный читатель многое поймет между строк.
«С конференции читателей.
20 августа на заводе состоялась читательская конференция по обсуждению очерка А. Безыменского и И. Вайнберга «Дорогу техническому прогрессу!», опубликованного в пятом номере журнала «Новый мир» за 1956 год.
Конференция прошла исключительно активно. Это вполне естественно, так как в очерке авторы пытались доказать полное отсутствие технического прогресса на заводе, что не соответствует действительности, а также наносит обиду коллективу рабочих и инженерно-технического персонала, немало трудившихся над техническими производственными проблемами.
Конечно, наш завод имеет много недостатков, которые нужно изживать; особенно большой недостаток — штурмовщина. Однако авторы не заострили внимания на основной причине штурмовщины — плохой работе литейного цеха, на его хронической болезни, излечить которую завод сам не в состоянии, а отметили ее лишь в ряду других неполадок.
Итогом очерка является одно заключение авторов: директор завода не дает дорогу техническому прогрессу, что звучит по меньшей мере смешно и несправедливо, о чем много говорили выступавшие.
В целом, вместо того чтобы поднять энергию масс на борьбу за дальнейший рост завода, очерк подавил эту энергию. Все выступавшие товарищи резко критиковали авторов за ошибки очерка и его тенденциозность.
Однако, к удивлению присутствовавших, в заключение авторы не осознали своих ошибок и, не взирая на критику, заявили: «Вы можете говорить что угодно и сколько угодно, а в очерке все написано правильно».
Этим пренебрежением к критике они вызвали лишь возмущение присутствовавших, после чего конференция приняла решение послать коллективный протест против очерка в Союз советских писателей.
Е. Шилова, П. Можайкин, Ф. Демин».
Четыре члена партийного бюро ЗВШС товарищи Яковлев, Вартанян, Нефедов и Котова (заместитель секретаря бюро), голосовавшие на расширенном заседании партбюро шестого августа за решение, в котором очерк признавался правильным, здесь, на читательской конференции, подняли руки за «коллективный протест». Там, на бюро, они, вероятно, голосовали правой рукой, а здесь — левой.
Пишущий эти строки не был на ЗВШС. Перед ним только документы. И — некоторый житейский опыт. Бывал он во всяких переделках, насмотрелся всяческих чудес, видел вещи и похитрее.
Совершенно очевидно, что обсуждение очерка на ЗВШС зашло в такую стадию, когда заводской общественности нужна помощь извне. Без этого там все необходимые выводы сделаны не будут. На критику пущена в ход уже «контркритика», нажаты все педали, подкручены все винтики. Картина довольно знакомая — по некоторым другим образцам. Между прочим, и сама оттяжка обсуждения очерка почти на четыре месяца — это тоже очень тонко рассчитанный прием. Страсти, разгоревшиеся было в первые дни после появления очерка в журнале, постепенно утихли, кто надеялся на какие-то скорые и существенные перемены на заводе, убедился, что этого не так-то легко добиться, вера в действенность подобного рода литературы («беспартийный» журнал!) поколеблена — теперь можно двумя-тремя умелыми ходами повернуть настроение совсем в другую сторону.
Все более или менее ясно.
Но вот что самое главное в этой истории с очерком А. Безыменского и И. Вайнберга. Поразительно — почему же все-таки молчат Министерство станкоинструментальной промышленности и руководящие партийные органы — Кировский райком и Московский горком КПСС?
Предположим, что Безыменский и Вайнберг оклеветали директора ЗВШС Яковлева и незаслуженно оскорбили бывшего секретаря партбюро Вартаняна и вообще в своем очерке оболгали действительность: передовой завод обрисовали отсталым, достижения выдали за недостатки, выдумали какие-то несуществующие болезни, тенденциозно подтасовали и исказили факты и т. д. Так надо же выступить в защиту оклеветанных товарищей! И довести до сведения читателей журнала истинное положение дел на заводе. И надо привлечь Безыменского и Вайнберга к ответственности за беспричинное охаивание советских граждан. Есть для этого более прямые и откровенные ходы, чем через читательскую конференцию. Нельзя же молчать и бездействовать! И если кое-кто из высокопоставленных товарищей, с непривычки, действительно считает несолидным для себя отвечать на очерки «какому-то» «Новому миру», литературно-художественному журналу, то можно послать письмо в официальный орган: в «Правду», «Советскую Россию» или в один из журналов ЦК — «Коммунист» или «Партийную жизнь». (В скобках скажем, что «Новый мир» называется не только литературно-художественным, но и общественно-политическим журналом Союза писателей СССР, так что он по праву может заниматься не только «беллетристикой», но и подобного рода «Заводскими буднями».)
Но если в очерке описана правда — тоже, тем более, нельзя бездействовать и молчать.
Ничего нет зазорного для руководящих товарищей в том, что писатели обращают их внимание на некоторые незамеченные ими пока факты, подсказывают им какие-то новые мысли. Эти мысли надо принять, развить, обобщить кое-что, довести до логических выводов. Авторы очерка «Дорогу техническому прогрессу!» подняли, кроме вопросов производственно-технического порядка, много вопросов моральных, душевных, но не всё договорили до конца. И обстановка на заводе не показана достаточно ясно, не все вскрыто глубоко, не всем явлениям найдены причины, не все вещи названы своими именами. Вот тут бы и доделать кое-что за писателей.
В одном из писем, полученных редакцией «Нового мира» от читателей, выражается неудовлетворение именно тем, что авторы очерка, вскрывая серьезные болезни в жизни коллектива завода, остановились где-то на полпути.
Что заставляет старого кадровика завода, коммуниста, пришедшего в партком со слезами обиды на глазах, говорить, что он «не жалуется»? За жалобу ему еще «влетело» бы? От кого? В какой форме? Как это получается, что директор советского завода, вроде старого хозяйчика, угрожает людям: «уволю!», «выставлю за ворота!», «рассчитаю!»? И если люди боятся его угроз, значит, он их приводит, может привести в исполнение? Кто же позволяет ему бесчинствовать? Так ли надо понимать единоначалие — как право плевать в душу подчиненным, швыряться ими, безапелляционно понижать их в должности, сыпать направо и налево выговорами (которые, в конце концов, могут превратить послужной список человека в «волчий билет»), увольнять «в двадцать четыре часа» или доводить рабочего или инженера всякими иезуитскими способами, вроде «деловых обид», до того, что он сам убежит с завода куда глаза глядят? Где же общественные организации, где их контроль над действиями хозяйственников-единоначальников, забота о нуждах трудящихся, правовая защита их интересов? Что сковало общественную активность коллектива и способность его противопоставить самодурству одного человека свою организованную волю? Что согнуло спину тому старому служащему завода, который безропотно принял «дважды болвана» и не ответил на эти слова по крайней мере тем же? Где его гордость, человеческое достоинство? (Кстати говоря, наглецы обычно не очень храбры; они чувствуют, видят по характеру человека, кому можно пустить безнаказанно «болвана», а кому нельзя. Не так уж трудно, набравшись мужества, сбить с них это разухабистое свинство.)
Не есть ли это самое главное в ликвидации тяжелых последствий культа личности — разогнуть спины вот таких людей, чьи души не выдержали, не устояли в борьбе с произволом некоторых комчванов, грубо попиравших ленинские нормы нашей советской жизни?
«Культ личности, — писала «Правда» 28 марта этого года, — способствовал распространению порочного метода в руководстве партийной и хозяйственной работой — голого администрирования, воспитывал пренебрежение к идущей снизу инициативе…
В результате культа личности развивались такие уродливые явления, как замазывание недостатков, лакирование действительности, очковтирательство. У нас есть еще немало подхалимов, аллилуйщиков, людей, привыкших говорить по шпаргалкам, воспитанных на подобострастии и чинопочитании. Выкорчевывание и преодоление этих вреднейших пережитков культа личности составляют нашу безотлагательную задачу».
Но как, каким именно путем надо их выкорчевывать? Мы до сих пор боролись с бюрократами, комчванами, зажимщиками критики мерами, так сказать, усовещевательного характера. Стыдим их, уговариваем, главным образом через печать, измениться в лучшую сторону. Высмеиваем их в фельетонах, сатирических рассказах, пьесах. Помогает это пока что мало. Иной бюрократ даже с удовольствием почитывает «Крокодил» на сон грядущий — смешные картинки, веселенькие заметки, есть иногда даже над чем посмеяться, и главное, задевает это все только одного того человека, про которого написано, а остальным бояться нечего — их фамилия, занимаемая должность и адрес не указаны в заметке. На тысячу лет хватит «Крокодилу» вот так, поодиночке, возиться со своими клиентами.
Одних усилий печати в борьбе с бюрократизмом и всеми вытекающими из него прелестями — недостаточно. Надо создавать такие условия жизни, при которых бюрократам просто невозможно было бы усидеть на своих местах, организовывать вокруг них такую обстановку, чтоб земля под ними горела.
Но тут уже писательских прав не хватает. Тут нужны какие-то меры государственного порядка.
Много хорошего появилось в нашей газетно-журнальной публицистике за последнее время. Отделы публицистики стали в толстых журналах чуть ли не самыми интересными, во всяком случае, — боевыми, острыми. Много больших, жизненно важных вопросов подняли в печати журналисты, писатели. Но как иной раз туго движется дело! Бывает — пишем, пишем и статьи наши уходят, как вода в сухой песок. Или есть еще такая поговорка: как об стенку горохом.
Все помнят, как долго, два с лишним года, «Литературная газета» добивалась положительного решения вопроса о совместном обучении в средних школах. Общественность горячо поддерживала писательский орган, из Министерства же народного образования и Академии педагогических наук приходилось чуть не клещами вытягивать более или менее членораздельные отклики на статьи учителей, писателей, родителей.
2 августа этого года «Литературная газета» напечатала большую статью Б. Бродского на жгуче-злободневную тему нашей жизни — «Высшая школа и ее питомцы». В своей статье Б. Бродский, исходя из положения, что «вуз — это не только рассадник знаний, но и школа гражданственности, питомник демократических навыков нового общества», поднимает вопрос о возвращении к свободному посещению лекций, как было когда-то в старых высших учебных заведениях (не все старое — плохо!). Доводы Б. Бродского в пользу такого порядка посещения лекций — весьма убедительны.
«Достоинством свободного посещения лекций, — пишет он, — является то, что этот организационный принцип даст возможность углубленно заниматься отдельными областями знаний, стимулирует самоопределение студентом своих научных интересов и, что особенно важно, вырабатывает у него навыки самостоятельной и сознательной работы».
Возможно, если принять предложение Б. Бродского, последует несколько больший отсев студентов на первых курсах? Да, возможно. Но студенты это уже не дети, взрослые граждане. Если отсеются бездельники, не желающие в вузе приучаться к самостоятельной работе, которым и в двадцать с лишним лет на каждом шагу нужны няньки, наставники, опекуны, — туда им, в конце концов, и дорога. Зачем насильно вдалбливать человеку в голову науку, к которой он, может быть, кроме отвращения, ничего не питает? Какой же из него выйдет впоследствии врач, учитель или инженер — без любви к профессии?
А как будет с преподавателями? Не произойдет ли тут катастрофы? Вдруг совершенно опустеют залы некоторых аудиторий? Да, возможны и такие неприятности для кой-кого.
«Добровольно, — пишет Б. Бродский, — никто на скучную, серую, начетническую лекцию, каких у нас еще много, не пойдет, и тогда никакие связи, былые заслуги не удержат в вузе преподавателя, которого студенты не слушают».
Автор цитирует в своей статье К. А. Тимирязева, придававшего огромное значение влиянию студентов на преподавателей. Тимирязев писал, что подобная форма критики «преподавателей учащимися является более рациональным средством влиять на уровень преподавания, чем даже участие учащихся, через своих представителей, в выборах и прочей деятельности факультетов…»
Да, преподавателям придется бороться за аудиторию, как у нас говорят, «работать над собой», не халтурить, не пересказывать попросту учебники, делать свои лекции интересными, содержательными, действительно обогащающими студентов знаниями, — иначе очутишься не у дел и на твое место сама жизнь выдвинет другого человека, настоящего труженика науки и талантливого воспитателя молодежи. Что ж, все это только к лучшему.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать еще одно место из статьи Б. Бродского:
«Однажды — был такой случай — лектор по тетрадке прочел о том, что, согласно Гегелю, во главе государства «должен стоять монах». Один из студентов поинтересовался, как же происходит назначение или выборы такого главы государства, ибо у монаха, по-видимому, не бывает наследников. Лектор ответил: «Гегель был идеалист и в детали не входил». (Впоследствии выяснилось, что попросту машинистка, перепечатывавшая конспект, пропустила букву «р» в слове «монарх».) Таких преподавателей, — уверенно заключает автор, — введение свободного посещения лекций выметет, как метлой».
Если вдуматься, какое ответственнейшее место в нашей жизни на фронте идеологии и развития науки занимают вузовские преподаватели, учителя и воспитатели целого поколения молодежи, если представить себе весь масштаб вреда, причиняемого нам в этой области бездарными начетчиками, трусливыми попугаями и просто невеждами с мозгами, заплывшими жиром, — не так трудно понять, что Б. Бродский в своей статье поднимает вопросы чрезвычайно важные.
Вот с таких вещей практически и начинать бы дальнейшее расширение демократизации различных форм наших общественных отношений!
Прошло более месяца со дня напечатания статьи — никаких откликов от Министерства высшего образования в редакцию «Литературной газеты» не поступало. Всех волнуют вопросы, поставленные автором статьи «Высшая школа и ее питомцы», — кроме министерства, занимающегося вузами. Может быть, там статью Б. Бродского просто еще и не читали?
В двадцать третьем Ленинском сборнике, на страницах 7–9 приводится замечательная переписка В. И. Ленина с Г. М. Кржижановским и Н. Н. Вашковым по поводу статьи последнего. Инженер Н. Н. Вашков, заведовавший в ВСНХ электроотделом, напечатал в газете «Экономическая жизнь» статью «Электрификация России», прочитанную Владимиром Ильичем, при всей его занятости массой очередных государственных дел, видимо, с глубоким интересом и вниманием.
Ленин дал такую телефонограмму в ВСНХ:
«Электроотдел В. С. Н. X. тов. Вашкову.
Копия: тов. Кржижановскому.
(1 августа 1921)
Чрезвычайно благодарен Вам за статью «Электрификация России» в «Экономической жизни» от 10 июля.
В высшей степени важно, чтобы подобного рода сведения были время от времени помещаемы и в «Экономической жизни» и в общей прессе. Прошу Вас прислать мне, если у Вас имеются, следующие дополнительные сведения…»
Дальше шло много вопросов, интересовавших Владимира Ильича.
Ответ Г. М. Кржижановского Ленину начинался такими словами: «Дорогой Владимир Ильич! Ваше письмо Вашкову и на меня и на него произвело одинаковое впечатление: «если бы у нас побольше было таких читателей!..»
Партия всеми мерами поднимает политическую активность народных масс.
Мы, литераторы, осознаем свои задачи в этом деле так. Надо нам обращаться к самым насущным вопросам сегодняшней жизни, не страшась остроты и сложности затрагиваемых проблем. Если мы хотим по-настоящему помогать партии в быстрейшем восстановлении ленинских норм и принципов партийного и государственного строительства, то надо лезть за темами для боевой публицистики в самую глубину жизни. И надо нам, конечно, писать гораздо больше, чаще подавать свой голос на страницах газет и журналов.
Но надо, чтобы и читатели не молчали!
1956
С фронтовым приветом
Пассажирский поезд шел из Киева на запад, но был еще далеко от фронта. Таким ходом, каким двигался он, осторожно переползая временные мосты и свежие насыпи, подолгу простаивая у семафоров и на каждом разъезде пропуская вперед эшелоны с военными грузами, ему оставалось сутки, а то и двое тащиться к фронту. Перед глазами пассажиров расстилались запаханные поля, проходили кое-где по дорогам тракторы с повозками, груженными семенами, встречались бороновавшие и сеявшие на коровьих упряжках люди. Был май месяц.
В вагон набилось полно пассажиров, военных и гражданских. Люди лежали и на полу под полками, и на багажниках под самой крышей. В проходах еле можно было протискаться между узлами. Проводница на станциях, отбиваясь перед закрытой дверью вагона от наседавших новых пассажиров, кричала со ступенек:
— Некуда! Проходите дальше!
— Да мы постоим где-нибудь.
— Негде, негде! Свои от самого Киева стоят, как гуси, на одной ноге. Сколько можно стоять на одной ноге?
— Так хоть меня пропустите. Я же отсюда, из вашего вагона. На базар ходил.
— Отсюда? — проводница подозрительно оглядывала молодого красноармейца с рыжими редкими, торчащими по-кошачьи во все стороны усами, недавно, видимо, отпущенными, и обращалась за подтверждением к пассажирам: — Наш?
— Наш, наш! По усам приметили. От самого Фастова едет.
Следом за бойцом в тамбур прорывались две-три женщины с мешками. С каждым перегоном становилось все теснее.
От тесноты и духоты разговоры в вагоне велись в несколько повышенном тоне.
— Слышь, парень! — кричал кто-то сверху бойцу, пробиравшемуся на свое место по спинам и коленям пассажиров. — Продай усы на мочалку. Приедем в полк — в баню схожу.
Кто-то тянул кого-то за сапог с багажной полки.
— Вот же совесть у человека! Третьи сутки спит, сгниет скоро со сна, а тут уже ноги опухли от стоянья. Эй, друг, проснись! А ну-ка, давай поменяемся местами. Встань, разомнись маленько.
Двое бойцов, умостившись рядом на одной полке, никак не могли уснуть и толкали друг друга.
— Какого черта вертишься? Лег, так лежи тихо. Вертится и вертится, будто шило у него в спине. Чего тебе — жестко? Может, перину подостлать?
— Да котелок ползет.
— Котелок! А ты и догадался, что подложить под голову. Конечно, две пустые посудины одна на другой лежать не будут. Повесь его, возьми вот скатку.
И лишь в тех купе, где пассажирам удалось разместиться удобнее, слышались спокойные дорожные беседы: о втором фронте, о рыночных ценах в Донбассе и Днепропетровщине, о хороших и плохих продпунктах, щелканье костяшек домино о крышки чемоданов, смех и даже песни.
откалывал кто-то под аккомпанемент балалайки в дальнем конце вагона.
Капитан Спивак возвращался после ранения на фронт в часть. Сделав постель на второй полке из шинели, полевой сумки и вещевого мешка, он лежал, закинув длинные ноги на подпорку багажника, и то глядел часами в окно, то спал, то принимался в десятый раз перечитывать газету, купленную в Киеве. У капитана болела голова от сутолоки в переполненном вагоне. Спивак воевал третий год, но за всю войну ехал железной дорогой в пассажирском поезде впервые. Так пришлось ему, что весь свой путь — с Украины через Перекоп в Крым, оттуда на Кавказ, с Кавказа на Волгу и с Волги обратно на Украину — он проделал пешком, воевал больше в степях и лесах, минуя большие города, а если проходил города, то когда они еще горели и у разрушенных вокзалов слышались не паровозные гудки, а винтовочные выстрелы. Железные дороги он запомнил такими, какими они были до войны: чистые, с запахом свежей краски выгоны, электрический свет в каждом купе, действующие в обоих концах вагона умывальники, вежливые проводники, точное, минута в минуту, движение поездов. Он даже спросил по старой памяти проводницу, входя в вагон: «Курящий?», на что та, удивленно взглянув на него, ответила сердито: «Курящий. Еще спрашивают… Откуда едете, товарищ капитан? Не с Дальнего Востока?» Спивак, ко многому привыкший на фронте, не привык к прифронтовым железным дорогам просто потому, что не имел еще с ними дела. Он лежал и возмущался про себя тем, что в глухой степи у семафоров поезд простаивает часами, а на станциях с базарами никто не может сказать, через сколько минут дадут отправление, только доберешься до выхода — гудок; сердился на окно, будто вросшее в раму, — три года, должно быть, не открывалось, и ремни оторваны, потянуть не за что; морщился, потирая пальцами жесткую щетину на подбородке, — негде побриться, нет воды в умывальнике.
В купе под его полкой сидели: молодой боец с рыжими усами, старуха с девочкой лет четырех на коленях, возвращающиеся из эвакуации куда-то к границе, две женщины средних лет, одна, судя по ее рассказам о школах и учениках, учительница, едущая с назначением Наркомпроса куда-то на работу, другая — жена майора, ездившая навестить мужа в госпитале, старик лет семидесяти в красноармейской шинели, купленной, вероятно, у какого-то бойца или подаренной ему кем-то, и два инвалида — один без руки, другой на костыле, с обезображенным багровыми шрамами лицом, слепой. Инвалиды заняли места в углу у окна, держались обособленно, тихо, немногословно разговаривали о чем-то своем, не вмешиваясь в общую беседу. Однорукий, видимо, не привык еще к своему увечью. Слепой крутил ему папиросы и вскрывал финкой консервные банки — у него на ощупь это получалось лучше, чем у товарища с одной рукой. Зато однорукий бегал на остановках за кипятком и молоком, читал слепому газету, помогал ему выходить из вагона.
Из-за стука колес до слуха капитана Спивака доносились снизу лишь обрывки разговора, не задерживающие его внимания.
Закрывшись газетой от солнца, светившего в окно, и поводя взглядом по лицам пассажиров, Спивак прикидывал мысленно, сколько времени будет он еще ехать в этом вагоне, сколько километров предстоит ему трястись на перекладных машинах к фронту и где он может найти сейчас свою армию; вспоминал жену и детей, которых удалось ему повидать дома после госпиталя, перебирал в памяти некоторые встречи и разговоры в родном селе на Полтавщине, откуда ехал сейчас; доставал из вещевого мешка домашние сдобные коржики и от нечего делать жевал их, запивая теплым прокисшим молоком из фляги.
На какой-то непредвиденной остановке из вагона вышло много народу, в купе стало вдруг просторно и тихо. Поезд стоял на перегоне, в лесу. Спивак тоже вышел, походил по насыпи, спустился к ручейку, протекавшему под железнодорожным мостом, разделся до пояса, умылся и, вернувшись в вагон на свою полку с посвежевшей головой, стал внимательнее прислушиваться к беседам внизу. Поезд не двигался, колеса не стучали, шум не мешал следить за нитью разговора.
Говорила одна из женщин, учительница. Речь шла о довоенной жизни, о войне, потерях. Женщина рассказывала о своей семье:
— Нас было три замужних сестры и четыре брата. Братья и я с меньшей сестрой жили вместе со стариками. В разных квартирах жили, но в одном доме. По праздникам всегда сходились обедать к старшему брату Дмитрию. Восемнадцать человек садилось за стол. Все знакомые завидовали нам: какая хорошая, дружная семья. Отец наш был машинист-железнодорожник, а братья работали на заводе. Сестры учительствовали. Хорошо жили. И что же осталось от нашей семьи? Старшая сестра, с детьми и мужем, погибла в первые дни войны в Ковеле. Дмитрий ушел в партизаны, никаких вестей нет о нем, осталось трое детей. Отец погиб на железной дороге при бомбежке. Еще от одного брата нет вестей, прислал последнее письмо из-под Смоленска при отступлении, и больше ничего не слыхали мы о нем. И я от своего мужа не получаю писем уже полгода. А меньшую сестру Варю, которая со мной жила, известили ошибочно с фронта, что муж ее убит. Год жила одна, потом вышла замуж за другого. И муж недавно вернулся — инвалид, без ноги: попал под Минском в окружение в сорок первом году, остался в лесах, партизанил там. От второго мужа у Вари есть уже ребенок, от первого — двое. С кем жить, кого бросать?..
— У меня, мадам, трое сыновей было, — сказал старик в солдатской шинели. — Один, меньший, воюет, а двух уже нет. Старший в Крыму погиб, другой в госпитале умер в нашем городе, на моих руках. Вот память о нем осталась, шинель его ношу… Я, знаете ли, перед войной совсем было собрался уже на отдых. Сыновья выросли, все при месте, получают приличное жалованье. Говорят мне: «Папаша! Нам совестно, что ты такой старый, а работаешь. Переходи на пенсию, купим вам с матерью домик на окраине с садочком (мы в Нежине жили), будем помогать вам гуртом — прокормитесь. Много ли вам нужно?» И я так думал — много ли нам, старикам, нужно? В аккурат весною сорок первого года стали подыскивать такой домик с хорошей усадьбой, чтоб можно было пожить в нем на старости лет тихо и спокойно, как на курорте. И вот остался — ни сыновей, ни дома. И трое маленьких внучат на моих руках. Об отдыхе теперь нечего и думать. Жить надо. Тянуться в нитку, а жить и работать. Не для себя, так для внуков. Моя кровь. Кто их в люди выведет? Не отдавать же в детдом при живых дедушке-бабушке. Одна надежда на третьего — может, Саша вернется. А мне уж немало, семьдесят второй пошел. Я сам по специальности портной-закройщик. Работа не тяжелая, но слабость одолевает. Как будто ничто не болит, а силы нет. По разным домашним предметам замечаю, как я ослабел за последнее время. Ведро угля весит, скажем, пуд, а мне оно уже за трехпудовое показывается. Также, если идти на большое расстояние, ходок я уже плохой. А прожить мне надо теперь самое малое еще десять лет, чтобы внуков воспитать. Старшему восьмой год. Когда он ума наберется? Да и еще, может быть, привезу малышей… Я сейчас еду дочку разыскивать. У нас еще дочь была, вдова, с двумя детьми, в Изяславле. При немецкой оккупации как в воду канула. Еду навести справки. Может, выехала куда-нибудь, а может, погибла — она была член партии. А может, ее самой нет в живых, а внуки в детдоме каком-нибудь… Вот так. Думал: пожил, потрудился, детей вырастил — можно и помирать. А оно само дело заставляет еще жить. Я уж и курить бросил. Сорок лет курил трубку — бросил. Не из экономии денег, а просто ради здоровья. Стал даже гимнастикой заниматься, по системе Мюллера. Потихоньку от старухи. Увидит, подумает: захотел старый хрыч помолодеть. А что ж, приходится всякими способами сил набираться. Знаменитый ученый Мечников, говорят, простоквашей свой век продлил, по стакану простокваши ежедневно натощак выпивал — для уничтожения каких-то микробов в желудке, от которых прежде времени старость наступает. Ну, у нас коровы нет, а на базаре покупать простоквашу дорого, так, думаю, может, хоть от холодных обливаний кровь будет лучше циркулировать. Насчет микробов — не спорю, возможно, что именно от них организм портится, но, по-моему, старость еще и от застоя крови…
Никто в купе не посмеялся над семидесятидвухлетним физкультурником, и он сам рассказывал о своих немудреных изысканиях в области продления человеческой жизни серьезно, без улыбки.
— Вам, папаша, надо пожить не только для внуков, — сказала жена майора. — Интересно и самому увидеть, как будет восстановлено опять все, за что ваши сыновья положили головы.
— Интересно, конечно, — согласился старик. — Нам-то оно уже не ново, мы знаем, какой была жизнь до войны, а все же увидеть ее еще надо… Но мне кажется, мадам, что Днепрогэс скорее построят заново, чем моя внучка Катя забудет о бомбежках. До сих пор кричит ночью во сне: «Мама, летит! Мама, летит!»…
Спивак лежал, слушал и отмечал про себя, что, видимо, чем ближе подходит дело к концу войны, тем больше люди думают о личных судьбах, о разбитых семейных очагах, о легших на плечи народа тяжелых задачах восстановления, о поправимых и непоправимых последствиях войны. Много похожего на этот вагонный разговор он слышал и дома, в селе.
— Как хочется уже спокойной, мирной жизни! — сказала, вздохнув, жена майора. — Не просто хочется, чтобы кончилась война, а хочется именно, чтобы вернулось все, как было раньше.
— Так не будет теперь, — ответила учительница.
— Почему?
— Точно так не будет. Мы с вами — не те. Я чувствую по себе, что уже не буду такой веселой и беззаботной, какой была до войны.
— Я говорю, гражданка, о простых вещах: мне хочется увидеть опять громадные привозы на базарах, хлеб двадцати пяти сортов в булочных, продавцов в накрахмаленных халатах, фонтаны в скверах, милиционеров в белых перчатках.
— Это-то будет…
Инвалиды, пользуясь остановкой, обедали за столиком в своем углу, разговаривали вполголоса о чем-то фронтовом: вспоминали какого-то лейтенанта Кудрю, которого контузило в то время, когда он сидел в блиндаже и ел колбасу, поджаренную на сале, и с тех пор человеку отшибло аппетит на все мясное; говорили о боях под Каневом, о какой-то переправе, о забытых где-то вещах и документах.
— Куда едете, ребята? — спросил старик в шинели. — Видно по вас, что отвоевались уже, а путь держите на запад.
— Были на его родине, — указал однорукий на слепого, — в Дарнице, за Киевом, а теперь едем ко мне в село.
Однорукий уложил остатки провизии в вещевой мешок, смахнул рукавом гимнастерки хлебные крошки со столика. Слепой скрутил две папиросы — себе и товарищу.
— Приехали в Дарницу, — стал рассказывать однорукий, — пришли на ту улицу, где он жил, он-то не видит, что там, а я смотрю — ни одного дома целого нет. Он говорит: «Считай, третий от угла». А где он, третий? Кучи кирпичей. Походили, походили, встретили одного его знакомого. «Нет, говорит, Петро, твоей родни никого». У него там мать была и сестренка — погибли. Дарницу крепко бомбили: мост близко, переправа — заманчивое место. Воронка на воронке. Ну, что ж, говорю, поедем, Петро, ко мне, будешь у меня жить. Я от своих письма получал на фронте, мои живы. Поедем, говорю, брат сержант… Мы с ним в одном расчете были, пулеметчиками. Два года вместе воевали. От Владикавказа до Канева дошли. Он меня от смерти спас. Вынес меня, раненного, когда пулемет наш разбило снарядом. Самого в ногу осколком задело, а меня не бросил, вынес в балку. А потом вернулся обратно и попал под танковую атаку, тут и его покалечило. Так как же нам теперь расстаться?.. Мы в госпитале далеко были, на Черном море, в Сочи. По пути к нему первому заехали. Ну, раз такое несчастье у человека, нет ни дома, ни родни, поедем, значит, ко мне. У меня мать — хорошая женщина. За то, что меня в бою не покинул, от смерти спас, она его, как родного сына, примет. Проживем как-нибудь. Я грамотный, шесть классов окончил, обучусь писать левой рукой, буду работать в колхозе учетчиком. Ему тоже дело найдется. Пусть сидит дома на хозяйстве, хату стережет. Получит пенсию, колхоз будет помогать. За что человек потерял здоровье? За весь советский народ.
Поезд, сильно рванув, тронулся. Опять застучали колеса на стыках рельсов, все быстрее и быстрее, громче и громче. Разговор стал доноситься до Спивака невнятно. Что-то говорил другой инвалид, поворачивая слепое, изуродованное шрамами лицо к товарищу; говорил солдат с рыжими усами; что-то рассказывала старуха с девочкой на коленях, — капитан улавливал лишь отдельные слова.
Под стук колес и покачивание вагона Спивак стал опять дремать, потом перестелил под собою поудобнее шинель и плащ и заснул еще на несколько часов.
Проснулся он от шума и смеха под вечер, на следующей большой остановке. Люди внизу сидели другие. Где-то сошел старик в солдатской шинели, высадились инвалиды, не видно было учительницы. Пассажиров не убавилось, в вагоне стало еще тесней, но лица были новые: какие-то молодые женщины, одна в белом берете, другая в вязаном пуховом платке, бойцы в форме пограничников, железнодорожники из ремонтной бригады.
Беседой и общим вниманием в купе завладел новый пассажир — рослый краснощекий человек лет тридцати, в сером костюме, в шляпе и в спущенных гармошкой хромовых сапогах с подвернутыми голенищами. Пассажир живо подхватывал любую тему разговора, обнаруживая большую осведомленность и в рыночных ценах, и в марках немецких бомбардировщиков, и в женской психологии, сыпал беспрерывно прибаутками и анекдотами, от которых одни смеялись, а другие морщились и отворачивались.
Спивак смутно припомнил, что видел сквозь дремоту, как этот парень лез в вагон, проталкивая впереди себя женщину в белом берете, волоча бесцеремонно, прямо по ногам пассажиров, чемоданы.
Укладывая тяжелый чемодан на багажник, парень в шляпе ворочал его одной рукой и чуть не уронил. Спивак обратил внимание, что правая рука его была искривлена в кисти, но почему-то решил, что это у него не от ранения, а какое-то старое, еще, может быть, довоенное увечье или природный изъян. За эту свою поездку домой Спивак много встречал в тылу фронтовиков, уволенных по чистой. Он узнавал их по остаткам военной формы, по вылинявшей гимнастерке или пилотке, по выправке, медалям, гвардейскому значку, с которым многие и дома не хотят расставаться. Таких фронтовых отметин не видно было у пассажира.
Прислушиваясь к разговорам новой компании внизу, Спивак несколько раз уловил брошенное парнем в шляпе выражение: «Все равно война», — ходячее выражение, которого он терпеть не мог, и, нахмурившись, отложив в сторону газету, взятую было опять из-под головы, повернулся на бок, лицом внутрь купе. Он почувствовал, что не выдержит и вмешается в вагонную беседу, принявшую совсем другой тон, чем несколько часов назад. Неприязненно глядя сверху в затылок пассажира в шляпе, склонившегося к женщинам, Спивак решил про себя: «Еще три раза скажет: «Все равно — война», — слезу с полки».
Разговор шел (рассказывал пассажир) о том, как в каком-то хуторке на Киевщине матери, чтобы спасти своих дочерей от мобилизации в Германию, сами якобы заставляли их приглашать к себе единственного оставшегося у них мужчину, парнишку лет семнадцати. Целью было — получить медицинское свидетельство о беременности, освобождавшее женщин от мобилизации. Тому прошло уже два года. Пассажир рассказывал со смехом. Теперь, мол, на хуторе сплошная родня — братишки да сестренки по отцу. А парня угнали в Германию. Других спасал, сам не спасся.
Женщина в белом берете спросила: что же будет, если этот парень вернется из Германии домой? Как все устроится? Ну, на одной, может быть, женится, а с другими как?
— Спишется на войну, — рассмеялся пассажир. — Мало ли каких случаев не бывает сейчас. Поладят как-нибудь. Сейчас ревновать не приходится, при таком недостатке мужчин. Надо поделиться друг с дружкой теми, что остались. Война!
«Раз», — засек про себя Спивак.
Пассажир долго разбирал, бросая игривые взгляды на женщин, различные варианты, как можно поладить. Особенно часто оборачивался он к пассажирке в белом берете, слушавшей его не без интереса.
— Сколько ж их, бедных девчат, угнали немцы! — вздохнула старуха. — У меня сестра в Полтаве — двух дочек угнали у нее и внучку. А другая внучка только тем спаслась, что бешеная собака ее покусала. Доктор знакомый делал ей уколы и справку выдал. Не взяли, осталась дома. А тех не слышно… Спасут ли их наши, когда дойдут до Германии? Там же сейчас что делается, бомбежка какая! Содом-Гоморра! Вот так пропадет дите на чужбине безвестно, и все будешь ждать: может, вернется?..
Поезд стоял на какой-то небольшой станции с разрушенным вокзалом и сухими, опаленными огнем тополями вокруг кирпичных развалин.
— Опять застряли, — сказал кто-то. — Не обгоняет никто, и встречного не слышно, а стоим.
— Жинка дежурного молоко продает, — сказал боец с рыжими усами. — Еще не расторговалась. Один пассажирский поезд в сутки: не продать сегодня, до завтра прокиснет.
Все рассмеялись. Улыбнулся и Спивак.
За окном послышался продолжительный свисток главного.
— Поехали!
— Расторговалась?
— Кончила. Выручку подсчитывает…
— Раз поехали, то надо по сему случаю закурить, — сказал пассажир в шляпе, вытаскивая из кармана портсигар и сложенную гармошкой в длину папиросы газету.
— Да хоть бы не все разом! — взмолилась старуха. — Стоял поезд, не могли выйти на двор покурить, а тронулся, опять за цигарки. Дышать уже нечем!
— Ничего, мамаша, самосад-корешки прочищает грудь-кишки, — сказал боец с рыжими усами. — Это вроде дезинфекции. Всех клопов и вшей поморим в вагоне, ежели имеются таковые.
Пассажир в шляпе был, видимо, разъездным агентом по снабжению какого-то завода или треста. Судя по его рассказам, он много краев объездил: Донбасс, Харьковщину, Запорожье, Киевщину, много видел и слышал. Но видел он все как-то однобоко, лишь с интересующей его стороны: со стороны гостиниц, вокзалов, ресторанов. Харьков после немцев в его описании выглядел городом частных кондитерских и пивных: «Чего хочешь подадут, хоть птичьего молока, но, конечно, денежки надо иметь». В Киеве дешевая водка, нигде на Украине дешевле не найдешь. В Ворошиловграде ему удалось ловко устроиться с билетами на московский поезд: познакомился с одной железнодорожницей, которая говорила ему, что он очень похож на ее мужа, мобилизованного на восстановление дорог в прифронтовой полосе, — теперь билет оттуда в мягкий вагон обеспечен на любое число. Харьков, кроме кондитерских, понравился ему еще банями своими.
— Бани там — красота! Зайдешь в номер — как в квартиру: две комнаты, вешалка, диван, столика только нет посредине с самоваром. Семейные номера. Приводи в номер кого хочешь. Раньше не было их, а сейчас разрешили… Война! Все равно!..
— Два! — отметил, раздражаясь все больше, Спивак и, кажется, произнес это вслух, потому что парень в шляпе, подняв голову и посмотрев на него, спросил:
— Что говорите, товарищ капитан?
— Ничего, — ответил Спивак. — Километры считаю. Продолжайте.
Но пассажир, заметив пристальный взгляд капитана, стушевался. Рассказав еще один безобидный дорожный анекдот, к которому нельзя было придраться, он умолк, достал из чемодана книжку, принялся читать. Спиваку, обдумавшему хорошую отповедь неприятному пассажиру, стало даже досадно, что тот молчит и не повторяет больше своей поговорки. Заряд пропадал даром.
Поезд опять остановился. За окнами послышались выкрики: «Пирожки с маком! Яичек вареных! Семечек! Кому семечек?» Усатому бойцу удалось наконец, поддевая снизу финкой, открыть окно. Пассажир в шляпе высунулся, подозвал девочку, купил у нее семечек, стал угощать женщин. Все принялись грызть, собирая шелуху кто в горсть, кто в носовой платок. Пассажир, читая книжку, плевал прямо на пол, однако не на видное место, а за чемодан. Кто-то сказал: «Проводница будет ругаться, что насорим». Парень махнул рукой: «Ничего, тут и без нас уже сору по колено. Выметут. В военное время за это не штрафуют». «Можно считать, — три», — решил Спивак и нагнулся с полки.
— Вам, гражданин, я вижу, хуже будет жить, когда кончится война.
— Почему? — поднял голову пассажир.
— Отпадет ваша поговорка. Потеряете почву под ногами.
Упершись в края полок, Спивак спрыгнул вниз. Сесть было негде. Женщины подвинулись, уступая ему место. Капитан присел на край старухиного фанерного чемодана, поставленного на попа в проходе у столика.
— Что это у вас, молодой человек, за выражение: «Война, все равно война!» — приступил Спивак к пассажиру. — Только и слышно. Я засек: за час три раза сказали. Если посчитать, что вы восемь часов спите, а шестнадцать на ногах, — сорок восемь раз в день повторяете эту глупость. В месяц — тысячу четыреста сорок раз.
Парень в шляпе заметно растерялся перед внезапно спрыгнувшим сверху, будто с неба свалившимся капитаном с двумя орденами, с сединой в коротко остриженных волосах и с сердитыми сверлящими глазами на худощавом желтоватом лице. В проходе показались головы пассажиров из соседних купе, услышавших завязку интересного разговора.
— Что оно означает, это выражение? — продолжал Спивак, упершись взглядом в переносицу парня, — «Война — все равно». Почему все равно? Кому все равно? Как это понимать — конец, что ли?.. Мой братишка мог сказать — все равно погибать, когда не осталось ни одной ленты и пехота не подошла, а немцы уже вот они, ползут обратно в свои окопы, за пулемет хватают. «Погибать, так с музыкой!» — и кинул гранату в ящик с минами. А к чему ваше выражение относится? Война! Вы эту войну пережили, выстрадали? В мутной воде рыбку ловите? Тоже, видно, по недостатку мужчин, взяли на себя обслуживание — Харьков — Ворошиловград — Днепропетровск — Полтава?..
В вагоне послышался смех. Парень в шляпе, стремительно атакованный капитаном, попытался возражать.
— Нет, ошибаетесь, товарищ капитан. Я был на фронте.
— Были? Где? Что-то непохоже… Война, молодой человек, большое слово, и лепить его ко всякой пакости мы никому не позволим. Были? Не по-фронтовому что-то рассуждаете. Плюй, пачкай, безобразничай — все равно война. Это — мародерское рассуждение.
Разговоры в вагоне утихли. В соседнем купе заплакал ребенок. На него зашикали со всех сторон.
«Война — все дозволено», — продолжал Спивак. — Даже в самые тяжелые дни, когда отступали мы, когда к Волге нас прижимали, и то за такой лозунг следовало бы… — капитан замялся.
— …морду бить, — подсказал кто-то из-за перегородки, где расположилась команда бойцов, едущих из госпиталя в часть.
— Вот еще! Тоже выразился — куль-тур-но! Помолчи! — одернул его другой.
— А чего ж ему, кобелю жирному! Ну, ухи драть.
— …следовало бы судить военным судом, как за фашистскую пропаганду, — договорил Спивак. — Даже тогда. Если бы не мы немцев, а они нас зажали там и оставалось бы нам месяц, неделю, день существовать, и то бы мы их прожили по-человечески, а не по-скотски.
Спивак встал, взял с полки фуражку, надел.
— Жаль, что вышли эти инвалиды и старик, что здесь сидели. Они бы вам разъяснили, что такое война и можно ли это слово трепать кому не лень, в похабных побасенках, на каждом шагу.
Отовсюду послышались одобрительные восклицания. Видимо, не одного Спивака раздражала болтовня пассажира в шляпе.
— Правильно, капитан!
Пассажир в шляпе сидел красный, смущенный, растерянно хлопал глазами.
— Я, товарищ капитан… Может быть, не так сказал… Ошибся немного, — забормотал он.
— Да, да, совсем немного, — сказал, усмехнувшись, Спивак, — как тот дьякон на венчанье, что вместо «Исаия, ликуй» запел: «Який черт мене наддав в другой раз жениться».
Неожиданная шутка и улыбка капитана вызвали громкий смех вокруг. До сих пор он говорил так сердито, что люди, слушавшие его с интересом и явным сочувствием, поглядывали на него, однако, с опаской.
— Может быть, ошибся… Поговорка пошла такая. Все говорят сейчас… Конечно, если вдуматься, это выражение неправильное. Признаю свою ошибку. Но и вы напрасно горячитесь, товарищ капитан. Вы меня первый раз видите. Нельзя так. — Парень встал, полез левой рукой в карман брюк, вытащил бумажник. — Вы думаете, я войны не видал? Вот, пожалуйста, — он протянул Спиваку пачку бумажек.
— Да, — сказал Спивак, развернув и читая документы. — Воевали. В сорок втором на Юго-Западном? И на Карельском были? Воевали, так. А за что воевали?.. И на Западном были? На трех фронтах?.. Ну, что же, — сказал он, помолчав с минуту и возвращая пассажиру документы. — Что вам ответить?.. Про сундук адмирала Лазарева слыхали? Адмирал Лазарев сказал как-то одному своему офицеру: «Вы похожи на этот мой сундук. Три кругосветных плавания сделал со мною, но как был сундук, так и остался сундуком»…
Поезд замедлил ход, подъезжая к станции. Спивак поправил ремень, одернул гимнастерку, стал пробиваться к выходу.
В тамбуре он столкнулся с шедшим навстречу главным кондуктором.
— А, главный! Очень приятно, — сказал Спивак тем же раздраженным тоном, каким только что отчитывал пассажира. — Пора бы уже, товарищ главный, таблички прибить: «Для курящих», «Для некурящих», а? Как вы думаете? Посоветуйте вашему начальству. Зачем откладывать? Пустили первый поезд по линии — сразу и таблички на место. А почему мы, товарищ главный, без воды едем? Три часа простояли на станции под водокачкой и не набрали воды в баки. Все равно — война, да? Можно не умываться? Вы сами-то умываетесь или тоже отложили это дело до капитуляции Германии?
Главный, ошарашенный рассерженным видом капитана, выпучил глаза и развел руками. Спивак, не дождавшись от него ответа, выпрыгнул на перрон.
Долго смеялись в вагоне:
— Горячий капитан!
— От еще там на начальника станции налетит!
А Спивак ходил по перрону взад и вперед вдоль состава, бормотал: «Дурак! Для таких разве земля отвоевывается? Три фронта… Сундук!..» — и, вдыхая с наслаждением смолистый запах молодой хвои, доносимый ветром из сосновой рощи, понемногу успокаивался.
Вечерело. Солнце заходило в тучку. Паровоз отдыхал на малых парах. На станции было тихо. Щелкали соловьи в роще. Дежурный, проходя куда-то по путям, сказал, что дальше бывают частые бомбежки и, если следующая узловая станция не примет их, придется, возможно, здесь и заночевать.
— Ночевать так ночевать, — ответил Спивак. — Если б можно было надеяться, что разбудите, так вон там в кустиках и заночевать.
Дежурный засмеялся:
— Гудок дадим.
— Черта его услышишь, ваш гудок. Бывало, пушка рядом бьет и то не просыпаешься.
— А вы, если хотите, товарищ капитан, — сказал, остановившись, дежурный, — идите ко мне на квартиру. Вон хатка. Там уж не проспите. Буду отправлять поезд — разбужу.
— Ладно, — махнул рукой Спивак, — у меня в вагоне есть место. Переночую. Спасибо…
Спивак ходил, думал и удивлялся сам себе: с чего это он стал такой вспыльчивый? Домой ездил, в свой район, где работал последнее время перед войной в райкоме партии, и там не развлекся, не отдохнул. Нервы, что ли? Или, может быть, не надо было ездить домой, не отрываться уж до конца войны от солдатчины? Да нет, оно-то не вредно посмотреть тыловую жизнь. По крайней мере, будешь знать обстановку на случай, если жив останешься и вернешься домой… Его ведь, пожалуй, демобилизуют после войны. Офицер он не кадровый, из запаса, возраст — под сорок. Хватит и молодежи по штатам мирного времени. А может быть, скажут — послужи? Ну, что ж, кем не был он! Был трактористом, парторгом колхоза, инструктором райкома, а в армии, если оставят, может быть, дослужится и до генерала… Спивак усмехнулся. Вряд ли. До генерала еще далеко. По мирному времени не скоро дослужишься. Это нужно, чтоб опять такая война повторилась, еще года на три. Ну их, эти войны, не надо и генеральского чина, пусть лучше отпустят в колхоз!..
Из села пришли женщины с молоком, теплым, парным, вечернего удоя. Возле вагонов открылся базар. Спивак съел большой пирог с фасолью и выпил бутылку молока. Захотелось ряженки, не нашел ни у кого.
— Что у вас, девчата, нет моды ряженку делать? — спросил он женщин. — Не умеете? Вот буду ехать из Берлина домой, заеду к вам на день — научу. Так научу, как моя жинка делает, — вилкой, как творог, можно есть!
— Приезжай, приезжай, товарищ капитан! — защебетали женщины. — Хоть и не на день, насовсем приезжай — примем.
— Нам такие капитаны нужны!
— О-о, нам капитанов давай побольше!
— Да куда он нам, бабы, — он сивый уже!
— Сивый, да с орденами.
Сивый — сказала! А твой какой был? А твой лысый был. На сивого все ж таки приятнее поглядеть, чем на лысого.
— Приезжай, товарищ капитан, не слухай ее, насмешницу!
Разговорившись с женщинами, Спивак совсем повеселел.
Паровоз задышал чаще и громче, заглушая шум ветра в высоких тополях у перрона и щелканье соловьев в роще. Из станции вышел дежурный с жезлом, торопливым шагом прошел вперед вдоль состава.
— Принимают. Отправляю.
Кто-то скомандовал:
— По ваго-на-ам!
Женщины замахали вслед поезду белыми платками, в которых приносили на станцию пирожки.
Поезд медленно двигался по свежей, недавно отремонтированной насыпи. Спивак долго сидел на ступеньках вагона, курил, глядел на темнеющие тучи на западе и степь, пока небо и земля не слились во тьме и не видно стало даже телеграфных столбов, проносившихся в стороне за посадкой.
Капитан Спивак был ранен четвертый раз за войну, лечился в своем областном городе Полтаве, а после госпиталя ему дали отпуск на десять дней. Так пришлось ему, на третьем году войны, побывать дома, чему очень завидовали его товарищи, когда он вернулся в свою часть. С этой частью он прошел от Волги до Днепра в должности агитатора полка.
За то время, пока лежал он в госпитале и заезжал домой, армия продвинулась далеко вперед, не оставив, конечно, адреса, где ее искать — в Румынии или Чехословакии. Доехав поездом до последней станции, которой оканчивалась восстановленная линия, Спивак несколько дней еще мотался на попутных машинах по окрестностям, разыскивая политотдел армии, свою дивизию и полк. В полку у Спивака был земляк, односельчанин, человек, с которым он вышел из одного колхоза, комбат Николай Петренко. Спивака взяли из колхоза на районную работу в райком партии, а Петренко, из того же колхоза «Большевик», — в райземотдел, районным агрономом. В армию они уходили вместе, по первой мобилизации.
Пока Спивак сам обдумывал еще все виденное и слышанное дома, он на вопросы товарищей, как там идет жизнь в тылу, отделывался шутками.
— Не горюйте о тыловой жизни, — говорил он. — С непривычки кой-кому плохо покажется. Нас тут избаловали аттестатами: вещевым довольствием удовлетворен полностью, мыльным довольствием по такое-то число, табачным по такое-то. Вынь да положь наркомовскую норму. Никаких забот о хлебе насущном. А там тебе жинка опять даст такого удовольствия, и вещевого, и мыльного, и всякого прочего, что не раз заплачешь о наших интендантах, которых ругаем сейчас на чем свет стоит, если не выдадут в срок коробку спичек. Скажет — туфель нет, не в чем в люди выйти, мука кончилась, дров достань. У меня чистого отпуска, без дороги, оставалось шесть дней. Ехал, думал: схожу на охоту на уток — три года в руках двустволку не держал, — да и не пришлось. Два дня огород копал с жинкой, заставила, не посмотрела на капитанские погоны: «Ничего, говорит, ты офицер наш доморослый, колхозный, тебе не зазорно», — два дня хворост из лесу возил на топливо, два дня по родичам ходил, — так и отпуск кончился. Не горюйте. Гуляйте, козакуйте, как запорожские сечевики, пока держит нас нарком на своем иждивении.
— Как жизнь идет? — отвечал другим. — Да вот так. Ты здесь командир роты. Бойцы у тебя всякие, есть и молодые и пожилые, но все-таки народ строевой, может выполнить любую задачу. А там дадут тебе бригаду — деда Панька, из которого еще до войны песок сыпался, бабу Явдоху, молодицу семидесяти лет, солдаток таких лихих, что ты ей — слово, а она — двадцать, как запустит длинной очередью, и не переждешь, да детишек тех, что, когда мы уходили на войну, еще без штанов бегали. Вот и воюй. Это тебе и плугатари, и косари, и посевщики. Или назначат тебя директором МТС. Тракторы твои, скажут, вон лежат в бурьянах. Собирай по всей степи по колесу, по шестеренке. От одного найдешь блок без поршней, от другого поршни без шатунов. И чтоб через месяц выполнил план ремонта. Скажешь: да лучше я еще пять раз Днепр с боем форсирую, чем будут меня тут на бюро райкома каждый день без бою контузить до полусмерти!
О железных дорогах говорил:
— Движение, конечно, уже налаживается. Но если нервы слабые, то лучше пока не ездить, подождать. Во-первых, если беспокойно спишь и ходишь во сне в атаку, то убьешься с багажником. Во-вторых… Ну, а во-вторых, что ж? Раз убьешься, значит — все. Похоронят где-нибудь на глухом полустанке, и домой не доедешь.
Долговязый, немного сутуловатый, нервный, вечно хмурый, как будто сердитый, капитан Спивак над чужой шуткой посмеяться любил, сам же, если чудил, никогда не смеялся, поэтому подчас трудно было разобрать, чему он в своих словах придает значение, а что у него просто балагурство. Он был резок в спорах, Грубоват с товарищами, друзей в полку у него было немного. Его запальчивость при неизменно нахмуренном выражении лица — и в минуты веселья и в минуты злости — делала Спивака похожим, как говорили, на бомбу замедленного действия — не угадаешь, когда и от чего может вдруг взорваться. Но ничего не прощают человеку на фронте так снисходительно, как резкость и несдержанность, лишь бы он делал свое дело. На фронте не любят лентяев. Как агитатора Спивака в полку ценили. Его лекции и беседы с офицерами и солдатами пользовались успехом. Большой ученостью и красноречием он не блистал, но умел выразить мысли сильно и доходчиво и заинтересовать слушателей. Боевая репутация его была безупречна. Три четверти своего времени он проводил в стрелковых ротах, являясь в штаб лишь по вызову заместителя командира полка по политчасти для составления пятидневных политдонесений. В бою Спивак был желанным гостем каждого батальона. Комбаты приглашали его к себе перед какой-нибудь большой операцией наперебой.
Все заметили, что Спивак вернулся из дому еще более хмурым и раздражительным, чем был. Одни относили это на счет возможных семейных неурядиц капитана, другие говорили: «Что это за отпуск десять дней — разбередили только душу человеку». Лишь комбат-2, старший лейтенант Петренко, знавший хорошо своего приятеля, мог разгадать его состояние: Спивак, вероятно, задумался над чем-то увиденным дома. Несколько дней, проведенных на родине, действительно растревожили его, но не в таком смысле, как полагали некоторые: заскучал, мол, человек. Просто с кем-то о чем-то не доспорил там.
Полк свой Спивак догнал на ходу. На этом участке фронта еще велись наступательные действия. Дивизия шла в первом эшелоне. С Петренко ему не удалось сразу поговорить подробно обо всех домашних делах. Он встретился с ним на коротком привале на совещании у командира полка, передал письма из дому, обещал в тот же день побывать в его батальоне, но не побывал, пошел сначала в первый, где накануне погиб в бою комбат, знакомился там с новым пополнением и командирами, пришедшими в полк без него, назначил новых агитаторов. Потом провел день с автоматчиками, день — с артиллеристами. Во второй батальон он пришел уже после небольшого боя за один хутор, когда полк получил новую задачу: окружить и уничтожить противника в селе Липицы, важном пункте немецкой обороны на этом участке.
Ночь была непроглядно темная. Вечером, когда бойцы обедали и отдыхали в хуторе, названия которого никто не запомнил — не то Янчин, не то Яничкин, — над степью разразился ливень с холодным ветром и грозой. Вода шумела в балке за хутором, как река. Разведчики доносили, что возле села Липицы вода выжила немцев из наскоро сооруженных ими окопов: видно было при вспышках молнии, как они, вылезая на брустверы, выкачивали воду из блиндажей пожарным насосом. Ливень бушевал недолго. Ко времени выступления батальона погода утихла и потоки сбежали. Ручей в балке перешли вброд — вода не достала и по колено. Но тучи еще не рассеялись. В небе не видно было ни одной звезды. Еще глухо ворчал в стороне гром, трудно отличимый от орудийной канонады. Изредка поблескивала молния, освещая на миг движущиеся по полю без дороги неуклюжие фигуры бойцов в мокрых, вздувшихся горбом на спинах плащ-палатках.
Колонна шла целиной. Ноги не вязли в грязи, а лишь оскальзывались на мокрой траве. Трава была невысокая, но густая, с сочными мясистыми — чувствовалось под сапогом — листьями. По такой траве и в сушь было бы скользко идти. Капитану Спиваку, шедшему рядом с колонной, почудился среди грубых запахов обкуренной дымом костров и мокрой от дождя и пота солдатской одежды какой-то тонкий аромат. Он поднимался от земли. Спивак нагнулся, сорвал на ходу пучок травы, растер в ладонях ее мохнатые влажные листочки, понюхал. Кто-то из бойцов тоже нагнулся, за ним другой, третий.
— Мята, — сказал один негромким тенорком. — По мяте идем. Э-эх! Хорошо пахнет.
— Мята, — удивленно подтвердил другой тихо: по колонне приказано было двигаться без лишнего шума. — Да сколько же ее здесь! Откуда взялась? Дикая, что ли?
— Нет, не дикая, — сказал первый. — Посев. Ее нарочно сеют, как пшеницу.
— Для чего?
— А для всего. Лекарство делают из нее. Зубы у тебя болели когда-нибудь? Есть такие капли, мятные, на зубы. И в конфеты подмешивают, для запаху. Она доходная штука, эта травка. Мы тоже сеяли в колхозе, гектара три. Что-то много выручили: тысяч несколько. Э-эх, пахнет как! Рви в карманы побольше, чай будем заваривать.
— Посев, значит. Вон как! Да оно и видно — сколько идем, все — мята. Значит, ее тут и при немцах сеяли. Полюбилась.
— Нет, должно быть, еще колхозная. Она долголетняя, от корня отрастает.
— А может, помещик сеял? Тут же до тридцать девятого года еще паны были.
Колонна остановилась. Дорогу преградила широкая водомоина с крутыми берегами, образовавшаяся в степи от дождей. Кто-то заметил в темноте большой белый камень и стал подкатывать его к водомоине, но передние уже одолели ее — кто перепрыгивая с разгона, кто сползая на дно в грязь и выкарабкиваясь на кручу на четвереньках. Не ожидая задних, догонявших колонну бегом, пошли дальше. Небо стало проясняться, в разрывах туч показались звезды. С севера дул резкий, холодный ветер, какой иногда в мае, после жарких, почти летних дней и теплых гроз, нагоняет внезапно на цветущие сады ночные заморозки. В стороне села Липицы слышались изредка короткие сонные пулеметные очереди и дрожало в небе под тучами зарево от ракет. Под ногами идущих был тот же мягкий, скользкий душистый ковер.
— А один колхоз у нас, — стал тихо рассказывать товарищу тот солдат, что говорил про мяту, — гектар роз посадил. Все смеялись: пустяками занимаются, бабье занятие — цветочки сажать. А они, знаешь, какую деньгу огребли за те розы?
— Букеты продавали, что ли?
— Нет, тоже сдавали государству. По-простому, видишь, как назвать розу — ну, цветок, и все. А по-научному называется — фиронос. Из тех лепесточков розовое масло давят. Пуд масла, говорят, всего-навсего можно собрать с гектара, зато цена ему — десять тысяч.
— Ого! Вот бы таким маслицем кашу заправить.
— Не ел бы. Не годится в пищу. Что к чему. Как духи, например. Жидкость — тот же чистый спирт, а пить не станешь, отвратительно. Несъедобное…
— А оно, знаешь, неплохо, — продолжал громче после недолгого молчания тот же боец, обладатель мягкого певучего тенорка, — иметь в большом хозяйстве, промежду пшеницы, гречки, подсолнуха, и такого посеву сколько-нибудь, всего понемножку: одно не уродит, другое уродит, чем-нибудь да и оправдаешься. Вот сеяли мы еще в колхозе коляндру. Тоже называется — фиронос. Ну, эту я не знаю, для чего ее употребляют. Вонючая, спасу нет. Клопами воняет. За километр места, как подходишь к ней, начинаешь чихать. В молотьбу хоть противогаз надевай. А тоже…
— Отставить молотьбу и разговоры! — сказал вполголоса вынырнувший откуда-то сбоку, из темноты, комбат Петренко. — Вы, хлеборобы, гречкосеи! Дома будете заниматься молотьбой.
— Есть отставить молотьбу, — прошептал разговорчивый боец и умолк.
Несколько минут батальон двигался в полном молчании. Тишину нарушил сам же комбат.
— Не коляндра, а кориандр! — бросил он негромко через плечо, прибавляя шагу, чтобы догнать голову колонны. — Это кто там об эфироносах говорил? Завалишин? Ко-ри-андр. И не фироносы, а эфироносы, — так называются эти растения. Понятно? Потому что содержат в себе эфирные масла, которые в парфюмерной промышленности употребляются. Это валюта, золото. А пуд розового масла стоил до войны не десять тысяч рублей, а если уж хочешь знать точно — пятьдесят пять тысяч. Не растягивайсь! Шире шаг, задние! В балку придем — покурим.
Спивак невольно улыбнулся этому замечанию комбата.
— Уточнил, агроном!
Батальон шел в обход Липицы. С места взяли влево, с тем чтобы, пройдя восемь километров от трех курганов у развилки дорог — отметка на карте 174,3, повернуть круто вправо и выйти в тыл противнику. Прошли посевы мяты, пересекли два узеньких клина озими, уперлись в густые заросли дикого терновника, поискали обхода — ни вправо, ни влево нет им конца, — пошли через колючие кусты напролом, накинув капюшоны плащ-палаток на головы, чтобы не выцарапать ветками глаза. За терновником вышли на вязкую пахоту. Здесь все задышали тяжелее. Пахота была свежая. Кто-то из жителей этих дочиста ограбленных гитлеровцами деревень еще вчера днем или прошлой ночью пахал здесь, — уже слышен был гул пушек на востоке, немцы впрягали последних лошадей в обозные тачанки, угоняли скот, приказывали всем, грозя расстрелом, уходить в лес, а он, прячась в глухой степи со своей лошадью и плужком, пахал, отдавая дань весне и вековечным привычкам крестьянина… Грязь на рыхлой, размоченной ливнем пахоте успела загустеть на холодном ветру. На сапоги налипало по пуду земли. Бойцы, многие из которых несли на плечах «максимы», длинные тяжелые противотанковые ружья и батальонные минометы, с трудом вытягивали ноги из грязи, шатались от усталости. Спивак опять услышал голос Завалишина:
— Наилучшая техника — самоходная пехота. Ночь-полночь, грязь по колено, вода по ноздри — пошел, никаких гвоздей! Ни скаты не спущают, ни подшипники не горят.
— Тш-ш! — зашипел на него младший лейтенант Осадчий, заменивший командира четвертой роты лейтенанта Метревели, раненного в бою за хутор и эвакуированного в медсанбат. — Это кто там, опять Завалишин? От, який же ж балакучий!
От головы колонны отделилась темная фигура.
— Стой!
Спивак узнал по голосу Петренко. Комбат отошел немного в сторону от бойцов и присел. Спивак подошел к нему.
— Это кто? — спросил Петренко. — Капитан?.. Как думаешь, Павло Григорьевич, прошли мы восемь километров?
Спивак и Петренко, когда бывали вдвоем, позволяли себе вольность называть друг друга не по чинам, а по имени. Спивак звал Петренко Микола Ильич, а чаще просто Микола, Петренко Спивака — всегда по имени-отчеству: Павло Григорьевич.
— Восемь километров? — сказал Спивак. — Пожалуй, прошли. Вышли в девять, а сейчас, — он посмотрел на светящиеся стрелки ручных часов, — десять пятьдесят пять. Да, прошли. Ты что смотришь, Микола?
— Три кургана должно быть здесь, по карте. От них — поворот. Вон там что-то, не разберу, не то туча, не то они.
Спивак, подобрав полы плаща, опустился на корточки. Темное небо почти сливалось с черной землей. Линия горизонта терялась в тучах, еще закрывавших часть неба.
— Откуда такая привычка, Микола, — спросил, усмехнувшись пришедшей вдруг в голову мысли, Спивак. — Если высматриваешь что-нибудь ночью, то на землю ложишься? Это привычка степного человека, хлебороба. Да? Вот так, бывало, пасешь волов на толоке в майские ночи, залезешь на старую скирду, зароешься в солому, угреешься и заснешь. Проснешься — нету волов, ушли. Скатишься со скирды, ляжешь на землю и высматриваешь: где же они есть, черти рогатые? Против неба их лучше видно. Сморишь — двигается что-то по Охримовой озимке, рога будто качаются. Скорей туда, пока дед Охрим не занял! А дед уже сзади подбегает да как врежет тебя арапником по ногам! Ты пас их, Микола? Вот вредная скотина! Взбредет ему в башку, что где-то трава вкуснее, наметит себе азимут — и идет и идет, хоть черта ему дай. Я раз аж за двадцать километров нашел их, на хуторе Капустином.
— Ты что-то тоже начал, Павло Григорьевич, про волов, про озимку, — сказал Петренко. — Дома побывал?
— А как же, побывал, — ответил Спивак, и в голосе его еще слышалась непогасшая улыбка. — Видал, как люди сеют. За чепиги подержался…
Впереди небо чуть осветилось, под тучами заиграли бледно-голубые зарницы — что-то загорелось там. На светлом небе невдалеке выступили три горба — три степных сторожевых кургана.
— Они, — сказал Петренко и встал на ноги. — За мной, шагом марш!
Под ногами пошла опять какая-то крепь: старые, сухие, ломкие бурьяны с молодой порослью между ними.
В неглубокой лощине, у заброшенного степного колодца со сломанным журавлем, Петренко остановил батальон и рассредоточил его поротно.
— Ложись! Командиры рот — ко мне! Горбенко, Незамаев! Лейтенант Добровольский, дайте им еще трех автоматчиков. Разведать окраину села. Тут, вероятно, у них тоже окопы. Вот там какой-то черт трассирующими бьет. К дороге пройдите. Возьмите ножницы, может быть, проволока есть.
Растянувшись на земле, Петренко достал из кармана табак и обрывок газеты, свернул папиросу и, накрывшись плащом с головой, закурил первый раз за ночь. Справа и слева от него веером — голова к голове, ноги врозь — легли подошедшие за получением боевого приказа командиры рот. Где-то сзади шелестели катушкой телефонисты, тянувшие линию от КП[7] полка.
…Пока Петренко, ориентируясь на смутно выступавшее в темноте высокое здание на окраине села, чуть видную при вспышках ракет церковь, ветряк на выгоне, намечал, откуда наступать ротам, куда выдвинуть пулеметы, какую задачу поставить автоматчикам, Спивак с парторгом батальона, пожилым, усатым, огромного роста младшим лейтенантом Родионовым, бывшим одесским грузчиком, собирал агитаторов. И в пятой и в шестой ротах не осталось ни одного из старых агитаторов, которых готовил и назначал еще Спивак.
— Кого же можно выделить? — спросил он парторга. — Что у тебя за пополнение? Есть подходящие ребята?
Родионов назвал несколько фамилий командиров взводов, недавно принятых в партию, командиров отделений — комсомольцев и рядовых бойцов, награжденных в последних боях.
— Ну, давай по одному.
Парторг стал вызывать из рот намеченных. Спивак беседовал с ними.
— Новичок? После ранения. Ну, у нас-то новичок? Вот я ж и говорю… А где воевали? На Южном и на Четвертом Украинском? Хорошо… А в гражданке где были? Какая специальность? Техник по холодной обработке металлов. А-а. Не знаю, незнакомое дело. По холодной обработке?.. Это не то, что говорят, — холодный сапожник? Нет… Ну, вот: боец вы, значит, грамотный, обстрелянный, кандидат партии — назначаю вас агитатором. Справитесь? Что будет непонятно — помогу. Только тут, смотрите, холодная обработка не пойдет. Тут горячая нужна. Отзвонил и с колокольни долой — не годится… Ну, ложитесь, поспите пока здесь, поговорим еще.
Другого спрашивал:
— Отступать приходилось?
— Приходилось, товарищ капитан. Из Керчи в сорок втором. На Кубани у казачек совестно было кружку воды попросить…
— А наступаешь откуда?
— От Туапсе. Ростов брал. Киев брал.
— Так. Семья какая? Сколько вас, сынов, у батька воюет?
— Воюет нас, братьев родных и двоюродных, одной фамилии Осиповых, всего восемнадцать человек на сегодняшний день, товарищ капитан.
— Снайпер?
— Занимаюсь, когда в обороне стоим.
— Счет есть?
— Двадцать семь на сегодняшний день. Стреляю, товарищ капитан, бронебойно-зажигательными. Если упал и одежа на нем горит, — значит, точно, убил.
— Хорошо. Образование какое? Семь классов. Комсомолец? Ну, будешь агитатором во взводе. Будешь учить всех воевать, как сам воюешь. Ложись пока… Только в беседах с бойцами, товарищ Осипов, меньше употребляй таких выражений: на сегодняшний день, сконцентрировать внимание, мобилизовать усилия. Говори просто, как дома с братьями или с матерью разговаривал. Ты же никогда не говорил матери так: «Мама, я хочу на сегодняшний день жениться», а? И здесь особенно не закручивай… А если зададут тебе какой-нибудь трудный вопрос, что не сможешь сам ответить, — насчет изоляционистов в Америке или польского эмигрантского правительства в Лондоне, — в гапоны не лезь. Обратись или к парторгу, товарищу Родионову, или к комбату, или ко мне, когда буду у вас, — мы разъясним. Лучше честно признаться: не знаю, товарищи, выясню — отвечу, чем напутать чего-нибудь.
Смысл поговорки капитана «не лезь в гапоны» знали лишь те, кому он рассказывал ее происхождение. Остальные по тому, каким тоном и в каком месте речи употреблял ее Спивак, догадывались, что она означала — не залезать в дебри. Это была любимая поговорка Семена Карповича Сердюка, секретаря райкома партии на родине Спивака и Петренко, много лет работавшего у них до войны и после немцев опять вернувшегося в район. Когда-то партком одного совхоза в их районе объявил выговор старому рабочему-коммунисту за ошибки при проведении беседы на тему о кровавом воскресенье. Дело разбиралось на бюро райкома. Выяснилось, что рабочий был политически малограмотен и спрашивать с него за теоретические ошибки было нелепо. Секретарь парткома совхоза говорил: «Но я же его предупреждал: ты не лезь особенно в попа Гапона, в зубатовщину, ты просто расскажи рабочим, что произошло в этот день в Петербурге». По предложению Сердюка выговор сняли. Он хохотал на бюро до упаду, переспрашивая секретаря парткома: «Как, как ты сказал: не лезь в Гапона?» С тех пор это и стало его поговоркой: «Я же тебя предупреждал: не лезь ты, пожалуйста, в гапоны!»
Собрав человек пятнадцать агитаторов, Спивак сказал им:
— Дело подходит к границам, товарищи. Не знаю, как у кого, но у меня лично неспокойно будет на душе, если те фашисты, которые жили в наших городах и селах, видели наш чернозем, ели наш хлеб, виноград, вишни, сало, вернутся домой. У свиньи память на палку короткая. Есть пословица: не помнит свинья полена, а помнит, где поела… Я недавно из тыла приехал. Знаете, что сейчас на думке у каждого человека, что кладет первый кирпич на развалинах? Ну, думает он, другим разом ншим часом, построить бы такую жизнь, чтоб еще лучше прежней была. И главное — чтоб удалось закрепить ее теперь навечно. Люди, прожившие два года под фашистами, просят нас бить их так, чтоб никогда не вернулись они к нам, чтоб никогда вовеки не повторился этот ужас, что пережили там. Наши дипломаты попробуют договориться с союзными державами насчет послевоенного устройства мира: как сделать, чтобы фашизм не воскрес. Об этом будет речь на мирной конференции. Ну, не с нашими солдатскими нервами ехать на ту конференцию. У нас на сегодня, пока пушки гремят, дипломатия простая — окружать и уничтожать, не выпускать фашистов живыми за границу, а кто и уйдет — там догнать их. Вот она, задача наша: прихлопнуть их в этом селе. Дивизионная разведка доносит, что их тут набилось, как блох в старой кожушине. Бегут, но все-таки оставляют заслоны, чтоб задерживать нас. Тут у них что-то вроде опорного пункта. Узел дорог. Машин, говорят, много стоит, танки даже есть. Все в порядке. Это не хутор Яничкин, где десять факельщиков захватили. Так вот надо, чтобы все здесь и остались. Понятно? Батальон ваш будет действовать на очень важном участке. Когда их нажмут с той стороны, все кинутся к выходу в тыл и будут пытаться пробиться. Не пустить! Как бы ни напирали — не пустить! Чтоб ни один не унес костей. Вот на это настройте сами себя и разъясните бойцам. Мешков, котлов побольше — такой приказ по всей армии. Сегодня и мы «котельщики». Небольшой, правда, котел, не Корсунь-Шевченковский, но каши наварить в нем можно. Вопросы есть? Как с боекомплектом? Противотанковые гранаты имеются? Патронов у бронебойщиков достаточно? К нам, возможно, и артиллерия подойдет, но лучше рассчитывать пока на свои силы. Бой будет жаркий. Вот все, что я хотел сказать вам, товарищи агитаторы. А вы передайте своими словами бойцам. Какими словами — это уж ваше дело. Выбирайте такие, чтобы доходили до сердца. Сейчас можно отдыхать. Утром увидимся. Узнаю по телефону в штабе полка, какие там новости но радио, расскажу вам.
Родионов собрался в шестую роту, где трое бойцов заявили ему на походе о своем желании вступить в кандидаты партии и просили дать им рекомендации.
— Кого принимаешь? — спросил Спивак.
Родионов назвал фамилии. Двое из названных были старые бойцы.
— Подожди минуту, — сказал Спивак. — Этим и я дам рекомендацию. Хужматов — это тот, что из полковой разведки к вам перевели? Который плохо видит ночью? А Коробов — ручной пулеметчик? Ну, я же их знаю, как тебя. На одной лодке Днепр переплывали.
Накрывшись плащом с головой и присвечивая карманным фонариком, Спивак написал в блокноте две рекомендации, вырвал листки, подал их Родионову.
— Если ты будешь в шестой роте, то я пойду в четвертую к Осадчему… Ты, Родионов, не лезь там, куда не нужно, не горячись особенно. Замкомбата нет, и не скоро, вероятно, дадут, не раньше, как с пополнением. Столько политсостава выбыло из строя, что майор Горюнов уже ругается. «Буду, говорит, взыскивать с вас за ранения, как за дисциплинарные проступки».
Петренко отдавал последние распоряжения:
— Кто первый ворвется в село, зажгите обязательно стожок соломы, только не с краю, а подальше. С краю — своих же будете освещать. Трофеями не увлекаться. Если попадутся какие-нибудь склады, выставлять охрану, остальным — дальше. Ты, Осадчий, будешь идти правофланговым, смотри не ошибись: в третьем батальоне есть трофейные пулеметы, не посчитай их по звуку за немецкие. Мой капэ здесь. Передвигаюсь к тому высокому дому. Всё. — Петренко зевнул. — Можно разводить роты. Если будут какие-нибудь изменения после разведки, сообщу связными.
Ротные, пригибаясь, чтобы не маячить над бурьяном, пошли к своим подразделениям. Один из них, молодой командир четвертой роты, младший лейтенант Осадчий, пройдя немного, остановился, вспомнив что-то, бегом вернулся к Петренко, присел возле него на корточки.
— Товарищ старший лейтенант! Дайте мне пару серничков.
— На что тебе серники? — уже сонно спросил Петренко.
— Да солому ж запалить. Вы всегда наказуете: «Обдумайте все до мелочи», вот я сгадал про эту мелочь, что у нас серников нема, а кресалом пока выкрешешь…
— На, — вытащил из кармана и подал ему зажигалку Петренко. — После боя отдашь… Значит, надеешься первый войти?
— Та вже ж. Взводом командовал — не отставал; думаю, товарищ старший лейтенант, что и с ротой не осрамлюсь.
— Добре. Посмотрим. Ступай.
Спивак подошел к Петренко, не стал его беспокоить, молча сел возле него.
В балочке у колодца остались Петренко, резервный взвод автоматчиков, батальонный писарь Макар Иванович Крапивка, известный в полку исполнитель цыганских романсов под гитару, телефонисты и связные от каждой роты. Все спали, кроме телефонистов и автоматчиков. Ближе к утру становилось холоднее, даже морозцем потянуло в воздухе. Спивак сильно продрог и старался не поддаться дремоте, чтобы не застыть совсем. Храп Петренко не вызывал в нем зависти. Если солдаты умаялись без сна за последние несколько суток, то комбат, который так же мерил с ними ногами все километры и имел много дополнительных забот, сокращавших и без того короткие часы передышки между боями и маршами, устал тем более. Ему необходимо было отдохнуть. Спасительная привычка — засыпать мгновенно, невзирая на холод и неудобства, пользуясь каждой свободной минутой.
Разведка не принесла ничего нового. Село с этой стороны казалось неукрепленным. Ракеты, постукивание пулеметов — все это было на том краю, откуда готовились атаковать немцев другие батальоны. В одном месте на выгоне разведчики наткнулись на окопы, но они были пусты: возможно, дождь и здесь выжил немцев из окопов и заставил перебраться в хаты. Но в окраинных хатах, осмотренных разведчиками, тоже не оказалось ни немцев, ни жителей. Проволочных заграждений перед селом не было.
— Добре, — сказал хриплым со сна и от сырости голосом Петренко. — Добре, да не совсем. Ничего вы не узнали. Не такой дурак немец, чтобы не прикрыть себя с тыла. Шагом марш, обратно! Если не успеете вернуться к началу атаки — один с донесением ко мне, остальным присоединиться к любому подразделению.
После ухода разведчиков Петренко уже не ложился. До начала наступления оставалось два часа.
— Ну, Павло Григорьевич, — повернулся он к Спиваку, — что же там, дома? Расскажи.
Спивак придвинулся ближе.
— Прочитал письма?.. Живы-здоровы. Моя при немцах у сестры в Золотоноше спасалась. Твоя в Алма-Ате была. В колхозе работают… Пацанов твоих видал…
— Жена прислала карточки, — сказал Петренко. — Не узнаю. Меньшόго совсем не узнаю. Какой-то взъерошенный, сердитый.
— И он тебя не узнáет. Сколько ему было, когда уходил ты? Год? Не узнает, конечно… Нет, хлопец веселый. То он так вышел на карточке… Братуха погиб, Микола, Иван наш, — сказал Спивак, помолчав.
— Иван? Ваш? Жена пишет — Иван убит, а чей — не назвала по фамилии.
— Извещение получили. На Житомирском направлении погиб… Взводом станковых пулеметов командовал. Как-то так получилось, что вырвался он вперед, а пехота не подошла. Один боец из номеров остался в живых, рассказал, как было, — сам бросил последнюю гранату в ящик с минами. Награжден посмертно орденом Красного Знамени… Написали, где и похоронен…
Спивак называл имена убитых на фронте, погибших в партизанских отрядах и казненных гитлеровцами общих знакомых: колхозников, учителей, районных работников. Петренко угрюмо молчал. Из письма жены он уже знал о многом.
— Буря прошла по земле. В каждой хате — горе… А кто жив — на местах. В колхозе нашем председателем опять Лука Гаврилович. Первым секретарем райкома Семен Карпович. В райисполкоме — Федченко.
Невдалеке от разговаривавших зашумел сухой бурьян. Что-то тяжелое шлепнулось в темноте на землю, брякнула винтовка. Спивак привскочил:
— Кто там?
— Свои, товарищ капитан! Я, связной четвертой роты Завалишин.
— А что ты там делаешь?
— Да упал.
— Как — упал? Шел, шел и упал? На ходу спишь, что ли?
— Провод тут протянули эти вертушники, будь они прокляты! Зацепился.
— Провод?
Завалишин подошел ближе.
— А то что за тобой тянется по земле? Нагнись. Вон по бурьяну шелестит. Обмотка? А говоришь — провод. Эх ты, солдат! Сам себе на ноги наступаешь… Не помрешь ты своей смертью, Завалишин, как я вижу. Если не убьют тебя на фронте, так дома, когда вернешься, жинка на радостях меж коленей задушит.
Завалишин сел на землю, обтер рукавом затвор винтовки, положил винтовку возле себя, стал перематывать обмотку.
— Да нет, товарищ капитан, обмотка — само собой, а там я таки за провод задел… Не задушит, товарищ капитан, у меня жинка старая… Эх, коленку зашиб, чтоб им ни дна, ни покрышки!
Помолчали немного.
— Разорили район, — продолжал Спивак. — Колхоза нашего не узнать. Постройки спалены, земля в бурьянах. Из семи автомашин только радиатор от «ЗИСа» в гараже валяется. На фермах — один молодняк, заново разводят скот. На три миллиона убытков подсчитано. А что люди пережили и переживают, того ни в какие суммы не оценишь…
— Ну все-таки, что там делается сейчас? Как сев идет? Посеют?
— Да, посеют. Справятся… Говорят — дадим хлеб Красной Армии, воюйте. Украина вступает в строй — государству легче будет. Там уже и зимою везли хлеб и картошку в фонд РККА. Но я как посмотрел, Микола, на наших кормителей, на этих солдаток и детишек, на районных наших работников, в каких условиях приходится им восстанавливать хозяйство: ей-богу, тот же фронт, ничуть не легче… Посеют. И тракторы, какие ни есть, пашут, и лошади, которых наши ветлазареты побросали, работают, и коровами пашут, и лопатами копают землю. При мне сев ранних зерновых кончили. С посевной справятся. В прополочную и уборочную — тут будет, конечно, потруднее.
— А что, товарищ капитан, — спросил Завалишин, — неужели не закончим войну и к уборочной кампании?
— К уборочной? Кто его знает, как оно пойдет. Дела впереди много. Украину прошли — это не конец. Лучше на скорый конец не располагать, чтоб не расстраиваться… Ты, Завалишин, откуда сам родом? — спросил после минутной паузы Спивак.
— Из Курской области, товарищ капитан.
— В ваших местах тоже фашисты побывали?
— Побывали, негодяи. Пишут мне из дому — камня на камне не оставили. Все пожрали, повывезли. Оголодили народ. Очень бедствуют колхозники.
— А как думаешь, Завалишин, через сколько лет восстановим все, как было?
Завалишин подумал.
— Как вам сказать, товарищ капитан… Я же не то чтобы настоящий хлебороб. Я по сельскому хозяйству не совсем в курсе дела. Вот давеча товарищ старший лейтенант поправил меня насчет фироносов, так я же лично их не сеял. Я в колхозе плотником работал. И отец мой был плотник, и дед плотник, мы с предков к мастерству привержены… Отец мой, как помирал, говорил: «Всем сучкам прощаю, еловому — никогда!» — так, значит, они ему допекли за всю его жизню. Самый вредный сучок — еловый. Ни за шерстью, ни против шерсти его не загладишь. Стругаешь, стругаешь, к концу уж дело подходит, а он, проклятый, возьмет да и выкрошится либо выскочит из очка… Плотник я, товарищ капитан. За всех не скажу, как там бригадиры и животноводы поведут дело, ну по своей отрасли могу дать ответ. Я и сам об этом думал частенько, как стал получать письма из дому да узнал, что там немцы натворили… С тридцатого года работал я в колхозе до самого сорок первого. Почти двенадцать лет. Что я сделал за это время? А вот что сделал. Двадцать два дома колхозникам срубил, три коровника-стандарта построил, два свинарника, клуб, баню, гараж на четыре машины сделал, мельницу под жерновой постав, птичник, ну, а по мелочи — парниковых рам, ящиков для повозок, грабель, лопат — этого и не перечтешь. Так вот теперь я и думаю, товарищ капитан. Сделал я будто много, а работал — как сам свою ухватку знаю — не спеша. Было мне, когда стал у нас колхоз, тридцать лет. Куда спешить? Вся жизнь еще впереди. Обтешешь бревнышко, примеряешь, посидишь, покуришь, на природу полюбуешься. Зимою тоже не так чтоб уж очень нажимали. Полевые работы закончатся, и нам, мастерам, неохотно самим топорами тюкать. Ползимы погуляешь, по деревенскому обычаю; ближе к весне возьмешься за ремонт инвентаря, а строительство все в летнюю пору. А теперь если не погибну тут да скоро закончится война, то будет мне, товарищ капитан, уже сорок пятый год. Дети уже у меня взрослые. Теперь надо поторапливаться. Оно-то, конечно, неплохо для детей потрудиться, чтоб хоть дети пожили в добре, так мне же и самому охота достигнуть его опять.
— Значит, будешь нажимать?
— Обязательно.
— Скорее восстановим, чем строили?
— Ну, ясно. По готовой модели, товарищ капитан. Этого же не бывает, чтоб вот, скажем, я, плотник, не бондарь, кадушек не делал, ну, взял да и попробовал, сделал одну — за день, скажем, а другую стал бы делать да два дня провозился. Наоборот; первую за день, а вторую за полдня… Я так думаю, товарищ капитан, что ежели дадут мне еще помощника, подходящего под мысли, такого, что тоже по топору соскучился, так мы с ним возьмемся да годика за три и оттяпаем все, как было.
— Да, хаты, коровники — это, конечно, быстрее восстановим…
Спивак долго свертывал закоченевшими пальцами папиросу, слюнил и склеивал прорывавшуюся бумажку.
— Развалины эти двояко действуют на людей. Кто слаб характером — того пугают, кто покрепче — тот работает сейчас так, что искры из-под рук сыплются, с каким-то прямо ожесточением. Этому я верю, Завалишин, что ты, если бы сменил винтовку на топор, задал бы жизни всем сучкам!.. Знаешь, Микола, кто меня особенно порадовал в районе?
Спивак раскурил под полой плаща папиросу и взял ее в ладони, сложенные фонарем.
— Кто?
— Директор нашей МТС, Петро Акимович Ромащенко. Молодец! Работает куда лучше, чем до войны работал. До войны что у него было, по сравнению с другими МТС? Ничего особенного. Середка на половинке. Сам он, помнишь, все болел, на юг просился, с желудком что-то у него не ладилось, вόдами все лечился, пополам — полстакана боржома, полстакана водки. А сейчас работает как зверь. Ну, просто сказать — чудеса делает человек. Было раньше семьдесят тракторов, а сейчас собрал из кусков сто семнадцать машин, сорок семь тракторов даже другим МТС передал. Мастерскую за две недели восстановил. Не было нефти для двигателя в мастерской — переделали дизель на газогенератор, чурками обходятся… Кадры у него такие же, как и везде: стариков вытащил тех, что уже по нескольку лет на пенсии жили, девчат, детишек на машины посадил, — но настроен у него народ по-боевому. Соревнование с другой МТС заключили, уже два раза взаимопроверку делали. Воскресники проводили, хаты строили рабочим. Ромащенко, он же, знаешь, когда-то печником был, так вспомнил и старую профессию, сам на воскреснике печки в хатах клал. Когда мне рассказали в колхозе, как хорошо тракторы работают, — девчата первого года практики по восемь гектаров пашут, — как они спасают на севе колхозы, как сам директор ночей не спит, по бригадам мотается, помогает моторы запускать и плуги налаживать, так я его там встретил на улице и прямо расцеловал… А совестится немножко перед фронтовиками. Какое-то у него неправильное представление о роли тыла. Парень нашего возраста, ему бы тоже в армии служить, ну, оставили, забронировали. Год за Волгой был, полгода в резерве где-то состоял. Не воевал, короче сказать. И вот это его теперь смущает. Война, по всему видно, к концу идет, а он ни одного фашиста собственноручно не убил. Но я ему так сказал: «Слушай, говорю, Петро Акимович, орденом Ленина и за военные, и за гражданские подвиги награждают. Это такое отличие, что не разберешь, где человек его получил — на фронте или в тылу. Вот поработаешь еще, проведешь первым в области уборку, дадут тебе орден Ленина — считай себя фронтовиком»… Эх, и выпили ж мы с ним, когда я уезжал!
— Пополам?
— Чистого. Девяносто шесть градусов. В аптеке достали. Он меня и на станцию отвозил.
— А Максима Бабешко помнишь? — продолжал Спивак. — Старого партизана, орденоносца, того, что в Юрковке председателем сельсовета работал? Тоже не так, чтобы очень хорошо шли дела у него. Все женился, переженивался, били его за мобилизацию средств, за мясопоставки. Этот даже не в середняках ходил, совсем считался отжившим. А сейчас как будто омоложение сделали человеку. Командиром партизанского отряда был. Два эшелона пустил под откос. Захватил у немцев большой обоз, скота много угнал в лес. Все старое геройство в нем проснулось. Назначили его директором совхоза, — при мне сев зерновых кончил на довоенной площади. Этими же быками, что у немцев отбил, и сеет. Партизанскую медаль получил и второй орден Красного Знамени. Я ему говорил, когда встретились в райкоме: «Вот, говорю, Максим Корнеевич, какое, оказывается, средство, чтоб первый орден не тускнел, — второго надо добиваться!..» Кадры, Микола, есть в районе. Не столько, как раньше, но есть. Фронтовиков много уже вернулось. В колхозе «Ударник» все три бригадира как на подбор: лейтенанты и старшие лейтенанты. Уходили рядовыми и сержантами, а вернулись офицерами. Кто без руки, кто на костыле, но марки не теряют: в форме ходят, на заседаниях правления встают, когда отвечают на вопросы, бритые, подтянутые. А председатель тоже инвалид, капитан. В общем, можно сказать, дело налаживается. Разрушения, конечно, большие, но жизнь уже теплится…
— Все хорошо, Микола, — продолжал, помолчав немного, Спивак. — Конечно, как хорошо? С довоенным не сравнить. Ну, две МТС уже работают в районе, колхозы восстановили… У нас в «Большевике» одна только бабка Солоха завела себе при оккупации единолично лошадь — трехногую раненую клячу подобрала и вылечила, — и когда стал опять колхоз, то заупрямилась, не хотела отводить ее на бригадную конюшню. Пришлось напомнить ей, как она жила до войны: сколько тонн хлеба получала по трудодням, сколько сахару давали ей в премию за свеклу: два мешка рафинада всегда стояло у нее в каморе. Поплакала, говорят, немножко над кобылой и повела ее на общую конюшню. Сейчас работает в третьей бригаде… Двенадцать лет прожили люди до войны в колхозах, убедились на опыте, что лучше. Каждый мечтает, как бы поскорее вернуть все, что было раньше… Но обстановка сейчас там очень усложнилась. И дело не только в хозяйственных трудностях. И вот мне не понравилось, что некоторые работники там не совсем разбираются в новой обстановке…
Видимо, только сейчас, когда Спивак начал рассказывать подробно о делах в районе, мысли его стали приходить в порядок. Он говорил с долгими паузами. Петренко не часто задавал ему вопросы, чувствуя, что тот сам выскажет все главное.
— Не укладывается кой у кого в голове происшедшее. Были фашисты — темная ночь. Пришла советская власть — день. Пусть пока еще на развалинах, но день… Победы дорогой ценой добываются. Каждый человек должен чувствовать, что вернулись правда, закон. Очень вдумчиво надо ко всякому вопросу подходить. И нельзя допускать, чтоб какой-нибудь недоумок омрачал сейчас людям радость от наших побед. Нигде нельзя допускать — ни в одном колхозе, ни в одной семье!..
— Есть разве такие случаи?
— Есть… Я еще, когда мы отступали, опасался этого. Вот, думаю, ушли мы до самой Волги, — какую территорию оставили, сколько миллионов людей страдает под немцем, а потом еще найдутся такие ухари, что станут упрекать их: почему не эвакуировались все поголовно, или еще что-нибудь выдумают… Мы-то можем понять, как было дело с эвакуацией. Сами отступали, знаем: утром дорога открыта, а через два часа доносит разведка: танки немецкие впереди в двадцати километрах. Всяко было…
— Ты что имеешь в виду, Павло Григорьевич?
Спивак так долго не отвечал, что Петренко задал ему другой вопрос:
— Кто у нас в колхозе были полицаями?
— Трое было. Максим Юхно, Панас Горбач… Юхно свой отцовский дом занял, где бригада была, ходатайствовал все в районе, чтоб и мельницу ему вернули. А Горбач уже в военное время отбывал где-то принудиловку за воровство, с немцами пришел… А третий был Колька Кравченко.
— Какой Кравченко? А-а! Вот тот хлопец, что на конеферме у нас молодняк объезживал?! — воскликнул Петренко. — Тренер наш? Ну-у! Этот Колька?
— Он самый… Спроси, чего его черти туда понесли? Молодой парнишка, в колхозе и вырос. Чем ему советская власть не угодила? Говорят, от Германии хотел спастись. Как раз угоняли в Германию молодежь, а он, чтоб и его не забрали, записался в полицейские. И батька, старый дурень, не отговорил. Думали, как раньше было в деревнях, — десятских звали полицейскими: повестки разносить, на сходки сгонять. Потом видят: нет, другое. Винтовки дают. Батька говорит: «Нет, сынок, это не то. Не палку дают, а винтовку. Будешь в своих братьев стрелять». А Колька и сам уже видит, что не то, да поздно. Ходил по селу при оружии, пленных конвоировал, арестованных охранял в комендатуре. Но люди, кого ни спроси, все его защищают: «От него, говорят, ничего плохого мы не видели». Рассказывают такой случай. Приехал комендант собрание проводить, велел согнать народ к пяти часам вечера, а двое девчат опоздали на несколько минут, так он приказал дать им по двадцать пять плетей. И тут как раз подвернулся Кравченко на глаза, ему и приказал. Повел их Кравченко в контору, в пустую комнату, — сами девчата мне рассказывали, — говорит им: «Ну, вы кричите погромче, а когда выпущу вас отсюда, — плачьте», — и давай стегать плетью по лавке. Месяца два послужил полицейским и сбежал. Где сейчас — неизвестно. И вот теперь на стариках такое пятно — семья полицая.
Петренко хотел еще что-то спросить у Спивака, но тот, не слушая товарища, продолжал говорить, возбуждаясь собственным рассказом:
— Трудно было, Микола, жить людям при немцах… Сорок две души девчат и хлопцев угнали в Германию. Боюсь даже и рассказывать тебе, кого именно… Опытницу твою, Марину Колодяжную…
— И Марину?
— Да. Надю Бабичеву, Ольгу Зикун, Наташу Курепченко. У Ивана Шалыги двоих увезли, сына и дочку. Кое-кто получал письма от своих, когда были еще в оккупации. Из нашего района все в одном месте — в Кельне, на заводах, но и тем, кому удалось остаться дома, не лучше было. Били колхозников. Комендант с надсмотрщиком приезжали на мотоцикле в поле, пороли за невыполнение нормы. Да что — порка. Какой-нибудь Горбач или Юхно могли походя застрелить человека: «за саботаж», и все! В колхозе «Рассвет» повесили бригадира Зинченко, орденоносца, и орден прикололи к рубахе. Неделю висел. В районе вешали, на площади перед кинотеатром…
Пасечник наш, дед Прокоп, когда немцы пришли, знаешь, что со страху сделал? Свинью в комендатуру пожертвовал. Теперь ему за ту свинью проходу не дают: «Вражий пособник». Он мне признавался: «Что ж, говорит, Павло Григорьевич, — за детей боялся. Видимая смерть страшна. В район как пойдешь, видишь — возле кино висят. А у меня ж дочки-комсомолки. Зарезал свинью поросную, отвез. Так-таки и отдал им, вроде взятки. Отдал, да и думаю: ну, я сегодня отдал сам, добровольно, а завтра же все равно они заберут у всех колхозников и свиней и коров. Какая разница?» — «Разница, — говорю ему, — Прокоп Игнатьевич, конечно, есть. Разница в том, что поклонился ты врагам, а другие и перед виселицей не кланялись, гордость свою не теряли. Ну, я бы все-таки, говорю, тебя за это строго не наказывал. Как батюшка в церкви духовное покаяние накладывает за грехи, так я бы наложил на тебя трудовое покаяние. Осталось на пасеке двенадцать ульев, спас — хорошо. Давай так работать, чтобы года в три-четыре опять стала у нас пасека ульев триста, как до войны, чтоб мед тоннами качать, чтоб опять у нас все цвело, росло, радовалось и чтоб забыть нам об этих фашистах на веки вечные, будь они трижды прокляты!..»
— Большой это вопрос, Микола, разобраться в каждом человеке, как кто вел себя при немцах, — продолжал Спивак. — И я бы с этого и начал, если бы послали меня сейчас на работу в какой-нибудь освобожденный колхоз. Были и такие, что охотно становились на должность, а некоторых люди выбирали. Знаешь, кто у нас был бригадиром на огородах при немцах? Мирон Маковец, тот, что инспектором по качеству работал когда-то. Выбрали сами колхозники. Не хотел, отказывался долго — уговорили. «Не тебе, Мирон Фомич, кому-то другому надо становиться, все равно. Ничего, говорят, ты нас не обидишь, и мы тебя не подведем». Ну, работал подневольно. Приказы выполнял. Но над людьми не издевался. Так же, как и в колхозе, подбирал каждому посильную работу, освобождал больных, для кормящих грудью выделял участки поближе к дому. Хотя из подпольщиков он ни с кем связан не был, никто его не знал и не подсказывал ему, что надо делать, и сейчас лишним старик не хвастает, но действовал прямо как подпольщик. Листовки наши у него в бригаде читали открыто, помощь красноармейским семьям оказывали сами от себя, из общей кучи. Вот управляющий «общиной» Тимоха Козинский…
— Козинский был управляющим? Тимофей Маркович? Животновод наш?
— Он самый. Этот — скотина оказался. Служил не за страх, а за совесть. Мы, дураки, в свое время не поинтересовались даже выяснить в Андрюковском совхозе, что он за тип и почему ушел оттуда.
— Где он? Сбежал с немцами?
— Нет. В Степановке захватили всех: его, Юхно и Панаса Горбача…
За спиной Петренко зашевелился на земле телефонист, забормотал глухо в трубку, прикрывая ее ладонями:
— «Резеда» слушает… Ну, слушаю. «Акация»! Я — «Резеда». Слушаю. Чего дуешь — горячо? «Резеда» слушает!.. Сам спишь, чертов глухарь… Ничего особенного. Тихо. Немножко потрескивают… Нет, туда к вам.
Петренко повернул голову.
— Что там? Не меня?.. Узнай — сорок семь там?
— Зачем он тебе? — спросил Спивак.
— Обещал подкинуть пару пушек от Соловьева.
— А-а, это не лишнее. К Соловьеву танки не полезут через яры. А сюда могут бросить, на прорыв.
— «Акация», позови сорок семь… «Акация»? Я — «Резеда». «Акация»! Сорок семь дай… Нету, товарищ старший лейтенант, — сказал телефонист. — К соседу справа пошел. Есть сорок пять.
— Начальник штаба? Давай.
Петренко взял, не поворачиваясь, левой рукой через плечо трубку.
— Да, слушаю. Он, да… Ничего нового. Тихо и темно… Подсвечивают, да не нам… За центром… Ветряк вижу… Точно по отметке, как же. Передвигаюсь к большому дому. Да, дорога моя… Нет, все время здесь… Я хотел узнать… Да, да… Будут к рассвету? Хорошо… Придут, говорит, к утру, — сказал Петренко, передавая трубку телефонисту. — Не спать, Писарев, над аппаратом. Почему не отвечаешь «Акации»?
— Я не сплю, товарищ старший лейтенант. Он сам спит, тот телефонист, на капэ, Нежевенко. Или, может, не слышит. Его под Яничкиным землею в окопе привалило, может, оглох на пол-уха. Двадцать раз кричишь ему, а он дует в трубку, чай студит.
— Ну, рассказывай, рассказывай, Павло Григорьевич.
— Так вот, Микола, — продолжал Спивак, — будь я сейчас председателем колхоза, я бы так рассудил: мои люди, мне с ними и работать. На общем собрании спросил бы о каждом человеке. Мы же не были дома, не знаем, не видали. А народ очень люто настроен против предателей. Никого не утаят. Брат брату не спустит. Но не дал бы никому и старые счеты сводить под шумок. Что может быть тяжелее обвинения — немецкий пособник? Сам бы проверил. Я своим людям — председатель, голова, отец, мне с ними жить. И ей-богу же, еще веселей пошли бы и посевная, и прополочная, и уборочная… А таких работничков, вроде Прокопчука, что приезжал в наш колхоз, я бы просто в шею гнал. Таких представителей посылать сейчас в колхозы по важным кампаниям — это все равно что лошадиного фельдшера назначить главным хирургом в госпиталь для тяжело раненных…
— Ты, Павло Григорьевич, рассказываешь так, будто я был с тобой дома и все подробности знаю, — сказал Петренко. — Какой Прокопчук? Когда приезжал? За что ты его ругаешь?
— Ну, какой у нас Прокопчук? Один он в районе, Васька Прокопчук, председатель райпотребсоюза. Приезжал по подготовке к весеннему севу. Не до войны, вот теперь, после освобождения. Не знаешь этого болтуна? Насчет себя объяснял солдаткам: «Меня, говорит, потому забронировали, что я незаменимый работник». А они ему: «А наши что ж — заменимые? Наши другого сорта, похуже? Потому и попали на фронт?..» Ну, что тебе еще рассказать о нем? Как он трофеи собирал да хотел с деда Тышка немецкие штаны снять? А деда Тышка ты же знаешь, — его только затронь. «Вот, говорит, нашел трохвей — штаны! Может, и постолы мои заберешь за трохвей — они из румынского ранца сделаны?» Связался, понимаешь, дурень с дедом из-за тряпки. У человека гитлеровцы корову съели, хату спалили, одежду всю забрали, просто нечем ему грешное тело прикрыть, а он его укоряет: «Понравилась, видать, тебе ихняя форма? Прицепил бы еще орла на шапку». А дед ему: «Сам, говорит, прицепи его себе на то место, которым…»
— Хватит, понятно, — махнул рукой Петренко.
— А если понятно, так чего ж ты до подробностей допытываешься?..
Где-то в темноте на земле проснулся и подал голос жаворонок. Ему ответил другой невдалеке. Небо было по-прежнему черное, и проблеска зари не заметно было еще на востоке, но ранние птицы готовились уже встретить утро. Ни Спивак, ни Петренко даже не пошевелились, чтобы глянуть на часы. Не первую ночь проводили они без сна в степи, давно привыкли определять время по звездам, росе, свежести воздуха, птицам. Близился рассвет. По каким же признакам они, жаворонки, узнают приближение утра? Может быть, тоже по звездам? А может быть, они слышат то, чего не слышит ухо человека: щебетанье птиц где-то там, далеко на востоке, где солнце взошло раньше?..
— Вот так бы я начал, Микола Ильич, если бы вдруг по щучьему веленью, по моему хотенью-нехотенью, не знаю, перенесло меня вдруг отсюда, из этой балочки, в колхоз. С людей бы начал. Волы и коровы не сами пашут, их человек водит за налыгач. Поднять дух того человека, так он тебе на радостях вдвое больше сделает. Верно?.. Ну, наш председатель, Лука Гаврилович, этим вопросам большого значения не придает. «Чи пособник, то и пособник. Про мене, мое дило — посивна». Спокойный человек. И война на него не повлияла. Как с гуся вода. Да что тебе и о нем еще надо рассказывать? Сам знаешь его достаточно. Еще когда я с ним работал парторгом, — бывало, газету не заставишь его прочесть. «А ты, говорит, для чего существуешь? За что трудодни получаешь? Должен прочитать и рассказать мне самое основное». Старый председатель, хороший хозяин, купить-продать чего-нибудь — тут его и десять спекулянтов не обведут, огрех на пахоте за три километра видит, что где посеять, как посеять, чем убрать — зубы на этом проел. Ну, и только. Какие были фермы у нас — ведь всех телят и жеребят знал по имени-отчеству: от какой матки, от какого производителя, даже какого числа родилось и когда поносом переболело. Но о детях — не спрашивай. Пришли как-то к нему наши пионеры проситься, чтобы подвез в район на слет, а он им говорит: «Чего вы ко мне пришли? Вы ж из «Перемоги». У вас своих четыре машины есть. На своих и погоняйте». Они говорят: «Да нет, дядя Лука, мы не из «Перемоги», мы из вашего колхоза, из «Большевика». Позвали меня в свидетели. Ох, и поиздевался я тогда над ним! «Пионеров же, говорю, у нас меньше, чем телят, как же ты их не знаешь, Лука? Это же твои будущие стахановцы, трактористы, бригадиры. Телячий, говорю, уклон у тебя!» Ну, такой он и сейчас. Потолстел, брюхо отпустил. Если б был возле него всякую минуту толкач, может, направил бы ему таки мозги в нужную сторону хоть на старости лет. Додумался, понимаешь: жинку полицая Юхно кухаркой в тракторную бригаду назначил. «Ну что ж такого? говорит. Она и до войны кухаркой пять лет работала. Офицерам немецким готовила, и то угождала». А Мотька Переяслова, которую Юхно плеткой бил, семена на плечах таскает в степь, в ту же тракторную бригаду… Марко Недоступ при немцах, рассказывают люди, открывал кожевенный завод на паях с Юхно, дом новый за время оккупации построил. Сейчас помощником бухгалтера в колхозе работает. И Лука Гаврилович даже не прислушивается, что люди о нем говорят. А люди говорят: «Противно заходить в правление, когда там эта сытая рожа, Недоступ, сидит. На чем наживался? На нашем горе…» Оно, видишь ли, так: если этим вопросом не заниматься, то обязательно будут ошибки в обе стороны, — на кого-то напраслину возведут, а какой-то гад сбережет шкуру и опять станет под наш цвет подкрашиваться. А вопрос-то нелегкий. Телят, жеребят считать, конечно, проще. Вот это мне и не нравится в Луке. Вернулся человек в свой колхоз, после немцев, после фронта, после всех ужасов, что пережил народ, и продолжает работать так, будто ничего особенного не случилось, будто на десять минут из конторы в уборную выходил… Что за черт, озяб я, Микола! — передернул плечами Спивак. — До костей пробирает. Снег выпал, что ли, где-то?
Он полез рукой под плащ за спину, нащупал там флягу, перетянул ее по ремню наперед, поболтал.
— Погреемся?
Петренко равнодушно отнесся к бульканью жидкости в фляге товарища. Он перед боем не пил никогда.
— Не хочу. Пей сам.
— Ну, добре, после выпьем. На зорьке будет еще холоднее…
Спивак подержал с минуту флягу в руке, потом все-таки отвернул пробку-стаканчик, наполнил ее и выпил.
— Кхм!.. Никогда, говорят, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня… Да, Микола, обстановка там сейчас сложная, — продолжал Спивак. — Встречаешь человека, Федота какого-нибудь или Малашку, смотришь на них, беседуешь с ними и думаешь: Федот, да не тот. Сколько, думаешь, вам, милые мои, яду в душу пытались влить без нас. Два года дети в школу не ходили, газет советских вы не читали, брехали вам тут всякую ерунду про «новые порядки». А, с другой стороны, думаешь: а сколько ж насмотрелись вы такого, чего нам и на фронте не пришлось увидеть? Завалишин, ты не спишь?
— Нет, товарищ капитан!
— Ты, Завалишин, конечно, правильно говоришь о себе. У тебя душа солдатская, простая. Ты три года в честном бою провел. Тебе только шинель скинуть — и опять стахановец. Ну, там сейчас, после того, что пережили люди, надо к каждому особый подход найти…
Одно дело было вдохновить человека, когда вокруг него все цвело и радовалось, когда хлебом хата была под потолок засыпана, дети его росли в счастье и довольстве. Тогда комбайны и тракторы за нас наполовину агитировали. А сейчас, может быть, та стахановка и мужа, и сына потеряла, и дочка у нее в Германии, и сама за войну постарела на десять лет. Где те тонны и миллионы, что нам помогали? Наживать надо заново… Помнишь, Микола, как мы работали в тридцатых годах? Были в селе коммунисты: кто в кооперации служил, кто на почте, кто в собственном хозяйстве работал. Партия сказала всем: вступайте в колхозы и ведите за собой народ. Я года три подряд так и не помню, высыпался ли я вволю, ложился ли когда-нибудь раньше трех часов. Совещания, собрания, беседы, доклады. Вот тебе квартал, или бригада, или стодворка — отвечаешь за нее партбилетом. Так, бывало, прежде чем выйти к людям, десять раз сам себя проверишь: а что ты скажешь на такой вопрос, если зададут его тебе? А что на этот вопрос ответишь? Ну уж зато знал я свою стодворку, как собственную семью, потому что у каждого человека по двадцать раз дома бывал, и обедал, и чай пил, и просто так заходил, детишек понянчить. Знал и то, почему Манька Петрушева своего Микиту день и ночь пилит, не позволяет ему в колхоз вступать: потому что в первую бригаду их записывают, а в первой бригаде Надька Скибина, с которой Микита два года до женитьбы гулял. Значит, только и дела, что перевести их во вторую бригаду. Крепко работали с народом. Сама обстановка заставляла. Начало! Все было еще впереди: комбайны, колхозные сады, театры, миллионные доходы. Надо было вложить людям в голову нашу мечту, убедить их, что именно так все и будет, если станем на колхозный путь. Впоследствии, конечно, пошло дело легче, когда жизнь доказала, что большевики умеют осуществлять задуманное… И вот кое-кто сейчас живет там старой памятью о довоенных богатствах. Семен Карпович за все время, как освободили район, один раз только был в нашем колхозе. Люди ждут секретаря райкома, самого товарища Сердюка, или же председателя райисполкома, главу советской власти, чтоб приехали к ним, поговорили по душам, разъяснили наболевшие вопросы, а они присылают Ваську Прокопчука, которому я бы тут не доверил и дивизионную газету бойцам прочитать. Он, сукин сын, по-писаному и то наврет. Такого добавит от себя, что вместо «помогай товарищу в бою» получится: «спасайся, кто может».
— А почему Сердюк не ездит к нам? — спросил Петренко.
— Да вот, должно быть, считает по-старому: передовой колхоз, председатель опытный, справится… Оно-то, сказать правду, Семей Карпович и раньше не особенно любил ездить. У него свой стиль работы, диспетчерский: позвонить, накрутить хвоста, дать установку, не выходя из-за стола. Больше телефон любил, чем «эмку». А сейчас даже и «эмки» нет у них — какая-то румынская тележка без рессор, одна на двоих с председателем райисполкома Федченко. Ну и все-таки положение сейчас такое, что я бы, несмотря на отсутствие транспорта, вот эти телефоны, которые остались кое-где в сельсоветах, совсем бы поснимал к чертовой матери и в болото закинул, чтобы, кроме живой связи с колхозами, никаких эрзацев не было у них под рукой!.. Что ж, однако, наши фрицы делают? — приподнялся Спивак на колени, глядя в сторону села. — Не слышно и не видно ничего. Или они уже смылись отсюда? Нет, с той стороны стреляют. Может быть, не так их много здесь, как нам донесли?
— Пойдем узнаем, — сказал Петренко. — Мне эта тишина не очень нравится, Павло Григорьевич.
— Да и мне тоже, — ответил Спивак.
Спивак глянул на часы. До артподготовки оставалось двадцать минут. Бой должна была открыть полковая и дивизионная артиллерия. Помолчали немного, один — собираясь с мыслями, чтобы досказать, другой — думая об услышанном от товарища. Завалишин лежал рядом, на боку, облокотившись.
— Бывает еще у нас в колхозе твой заврайзо, Василь Петрович Никитченко, — продолжал Спивак.
— Никитченко? Вернулся? Он разве не в армии был?
— Вернулся. Вместе с Сердюком приехал. Этот бывает часто, на неделю раза два-три. Прокопчук, тот временно наезжал, уполномоченным по подготовке к севу, а Никитченко постоянно прикреплен. Руководителем агитколлектива числился по Алексеевскому кусту. Но настроение у него не подходящее для хорошего агитатора. Он как вернулся из эвакуации, как глянул, что немцы натворили в районе, — фермы разрушены, скота нет, севооборот поломан, — как упал духом, так до сих пор еще в чувство не пришел. Ходит, вздыхает над каждой воронкой. «Вот тут, вспоминает, коровники стояли на пятьсот голов, с водопроводом, с электродойкой… Тут электростанция была, пять колхозов обслуживала. Тут ветлечебница… Когда мы это все восстановим?» Ходит, ноет, будто вчера это случилось, а его настроение, конечно, по детонации и колхозникам передается. Он характером на нашего Луку Гавриловича немного похож. Тот — в жеребят, в телят, а этот — в планы, в графики. Ему тоже люди все на одно лицо. Будет целый день сидеть в правлении колхоза, график сева пропашных составлять, вздыхать над счетами, два быка на три бригады делить и не поинтересуется узнать, получают ли солдатки пособие, кому какая помощь оказана из колхозных средств, пишут ли письма домой фронтовики, что пишут. А если станет доклад делать о весеннем севе, то расскажет о чем хочешь — о поперечном бороновании, о распашке углов, о волокушах, о чистиках — то, что колхозники и без него десять раз знают, а когда уже разойдется народ, тогда спохватится: «Эх, забыл сводку сообщить — Одессу ж взяли!..» Я этого Никитченко помню еще с тех пор, когда он секретарем ячейки в «Молоте» работал, — встречались с ним на совещаниях в политотделе. Как станет, бывало, докладывать, тошно и нудно слушать его. «Я, говорит, сегодня намечал по плану посетить восемь колхозников на квартирах. План я перевыполнил: посетил девять и с одним на улице побеседовал». Начальник политотдела спрашивает его: «О чем же ты с ним беседовал?» — «Да, так, вообще: о Парижской коммуне, о починке сбруи…» Холодный сапожник! Я, Микола Ильич, холодных сапожников не люблю, вот тех, что на улицах сидят под зонтиком и на лапке подметки подбивают. Мне один сукин сын починил раз сапоги в Полтаве, два квартала прошел — вся нога вылезла в носок. Передок обрезал. Подслеповатый был, что ли. Новые хромовые сапоги испортил. Так я их с тех пор боюсь…
Хороший работник у нас там — второй секретарь райкома. Новый человек, недавно прислан. Стародуб Иван Ильич. Высокий такой, черный, на армянина похож. Я его один раз только видел в райкоме, но слышал о нем хорошего очень много. Говорят, как приедет в колхоз, прямо идет к какой-нибудь старухе в хату, или на ферму, или в степь, в бригаду, а в правление — уже после всего, к вечеру. Сам ходит без провожатых, чтоб никто не мешал ему ориентироваться. В «Зирке», говорят, когда приехал он туда первый раз, пристроился к нему один такой провожатый, завхоз, давай ему, как новому человеку, рассказывать, где у них семена хранятся, какие трофеи подобрали, сколько лошадей раненых вылечили, сколько повозок немецких отремонтировали, зовет его к себе пообедать, а Стародуб идет не туда, куда его завхоз тянет, а по своему маршруту. Зашел к одной старухе: пятеро сыновей на фронте, старика партизана немцы повесили, а хата — как спалили немцы верх, так до сих пор половина крыши недокрыта, потолок течет, на полу лужи, дров нет, сыро, холодно. Ну, Стародуб тут же заставил этого провожатого самого крыть хату. «Незачем вам, говорит, товарищ завхоз, ходить за мною по пятам, время терять зря. Я сам найду, где у вас амбары и конюшни. Оставайтесь здесь и отремонтируйте женщине хату». Завхоз говорит: «Я пришлю завтра кровельщиков». Стародуб: «Нет, говорит, это долгая песня. За полгода не собрались прислать, и еще столько же времени пройдет. Кройте сами». Не кричал, говорят, не ругался, но так посмотрел на завхоза и посулил ему за невнимание к семьям фронтовиков чего-то такого, что тот мигом очутился на крыше. Бригадир подавал снопы снизу, а тот крыл. И дров они же привезли. Переполошил людей. Думали похвалиться достижениями, угостить гостя, посидеть с ним, побеседовать, а он их — на крышу да в лес по дрова… Второй месяц всего работает у нас, а уже старый и малый знают его в тех селах, где он побывал. Но у них с Семеном Карповичем как-то так поделена территория, что он больше бывает в зареченских колхозах и в Сенгилеевке.
— Ты, Павло Григорьевич, говорил с Сердюком обо всем этом, что мне рассказываешь? — спросил Петренко.
— Подробно не пришлось. Заходил три раза в райком, все народ у него, занят был, не хотелось при людях говорить. А перед отъездом меня Ромащенко позвал к себе…
— Будущий его орден обмывали?
— Да, задержался немного. Не рассчитал время. Как раз до второго звонка… Я, Микола, прямо тебе скажу, — продолжал Спивак. — Очень приятно мне было увидеть всех старых работников на местах. Толково это было придумано — насчет сохранения кадров: Федченко в райисполкоме, Семен Карпович в райкоме, Никитченко в райзо. Люди знают хорошо район, им не нужно три месяца в курс дела входить. Ни одного дня не был район без советской власти после немцев… Знаешь, как они возвращались? Вместе с войсками, следом за передовой. Целым обозом ехали. На хуторе Красном помогали саперам чинить мосты, переправы наводили. А Ромащенко прямо на танке, вместе с автоматчиками, ворвался на усадьбу МТС… И конюх старый в райисполкоме, дед Буцик, и машинистка у нас в райкоме та же самая, Нина Игнатьевна, с той машинкой, что все вместо буквы «р» мягкий знак выбивает — «пьотокол». Хорошо — ничего не скажешь. Но вот что некоторые продолжают работать точь-в-точь по-старому, — это нехорошо… Если раньше первый секретарь райкома не бывал в каком-нибудь колхозе два-три месяца, то еще не беда — там парторганизация имелась, человек двадцать, актив был большой. А теперь где он, тот актив? В нашем колхозе два коммуниста осталось. Все воюют. Весь цвет села ушел в армию. Одна голова за десять голов должна думать… Посеять, конечно, посеют, Микола. План выполнят, тот, что дали району по их тяглу. Может быть, даже и перевыполнят. Но можно разно посеять. Можно посеять так, что по пятьдесят пудов урожая соберешь, а можно и по сто, по сто двадцать взять. Один колхоз вовремя сев закончит, другой до самых жнив дотянет. И начнет с первого же года хромать на все четыре. Наш-то не отстанет. У нас Лука Гаврилович хозяйственник такой, что из любого положения вывернется. Он и своих выездных лошадей в плуг отдаст, пешком по бригадам будет ходить, сам такие прицепы к тракторам повыдумает, что один старый «ХТЗ» двадцать борон за гусеничный дизель потащит. А в некоторых колхозах, знаешь же, какие сейчас председатели. Выдвиженцы. Ни в политике, ни в хозяйстве еще как следует не разбираются. Им помогать надо на каждом шагу… Разно, Микола, можно повести дело. Можно в десять лет вернуть людей к довоенной жизни, а можно и в три года, как вот Завалишин собирается коровники отстроить.
— Знаешь что, Павло Григорьевич, — сказал Петренко. — Напиши Сердюку письмо. Нельзя же так: побывал, уехал и не поговорил с ним. Не мне учить тебя, партийного работника. Выбери время и напиши вот это все, что рассказал… А не то — давай вместе напишем. А?
Спивак подумал.
— Давай напишем… Только как же это все изложить? У меня, знаешь, на бумаге не так крепко получается, как на словах. Не всякое выражение можно в письме употребить. Или, может, не надо ругаться? Я его все-таки уважаю, Микола, Семена Карповича. Он меня в комвуз из колхоза посылал, учил уму-разуму, в райком меня выдвигал. Это первый мой наставник, крестный батько мой. Я два года строгий выговор носил от него за перегибы… Помнишь, как мы решили обменяться лошадьми с колхозом «Маяк», чтобы изжить с корнем чувство собственности у колхозников: чтобы не бегали двадцать раз в день с поля на конюшню погладить бывшую свою кобылу? Да как вывели лошадей в Широкую балку, где назначен был обменный пункт, так чуть мамаево побоище не получилось, — хорошо, что Сердюк вовремя разогнал нашу ярмарку. Я Семена Карповича за то любил, что длинных речей он никогда не произносил и не мучил людей до утра на заседаниях, а в двух словах решал вопросы. У него голова не глупая, у старика, немножко только тяжеловат на подъем.
— Тяжеловат, да, — сказал Петренко. — Вот это и беда.
— Добре, давай напишем, — загорелся Спивак. — Пусть это будет вроде товарищеского письма с фронта землякам. Напишем так: район, мол, наш, Семен Карпович, небольшой, ничем особенным не знаменитый, салют за него Москва не давала, когда освобождали его, но все-таки хочется нам, фронтовикам, видеть его сейчас передовым районом. Так? Наш ведь район, дом наш… Мечтаем мы, что, когда придем домой, вы нас уже белыми пирогами угостите. Ни у кого ведь не тоскует так душа по запаханным полям и цветущим садам, как у солдата. Правильно, Завалишин?
Завалишин не спал, внимательно слушал всю беседу капитана с комбатом.
— Правильно, товарищ капитан, — отозвался тот. — У солдата душа не каменная…
Спивак глянул еще раз на часы.
— Точно. Ноль-ноль. Сейчас начнут.
И не успел он договорить — за селом разорвались первые снаряды, прилетевшие с той стороны, откуда готовились наступать главные силы полка. Звук отстал от разрывов на несколько секунд. Еще было тихо. Видно было, как рвутся снаряды, — беззвучные, быстрые, как зарницы далеких молний, вспышки, — а над головой в посеревшем небе еще заливались жаворонки, и из садов на окраине села доносилось соловьиное тёхканье. Потом загудело. Снаряды ложились километрах в четырех. Из-за дальности расстояния ухо не улавливало отдельных разрывов, слившихся в сплошной гул.
Спивак с Петренко и Завалишин разом встали на ноги.
— Ну, кончили, — сказал Спивак. — Поговорим еще после. Написать надо, конечно. Напишем.
Проснулся и встал на ноги, пошатываясь, словно пьяный, командир взвода автоматчиков лейтенант Добровольский. Поглаживая бритую, мокрую от росы голову, не совсем ясно понимая со сна, что происходит, он спросил:
— Немцы? Куда бьют? По третьему батальону?
— Какие немцы, — ответил Петренко. — Артподготовка… Подберите пилотку, а то затопчут.
Писарь Крапивка, не поднимая головы с земли, перевернулся со спины на бок, пропел осипшим баритоном: «На заре-е ты ее не буди-и…» Телефонист у аппарата переменил позу — одну ногу, затекшую, вытянул, другую поджал, умостился поудобнее на локте, монотонно проговорил в трубку: «Акация», «Акация», гутен морген! Я — «Резеда». «Резеда»! «Резеда»! Проверка линии. Проверка линии! Черт глухой!..»
Ровно пятнадцать минут, как и было определено по приказу, сверкало, грохотало, гудело за селом в полосе немецких укреплений. Немцы не отвечали. На исходе пятнадцатой минуты, когда огневой шквал стал утихать, бухнуло первое немецкое орудие из села. Разрыв блеснул далеко за горизонтом — били по батареям. Одновременно в той же стороне, где блеснул разрыв немецкого снаряда, взвились высоко в небо три ракеты и, описав крутую дугу, рассыпались над степью красными искрами.
Комбат Петренко, бывший колхозный агроном, третью весну уже встречающий на поле боя, стоял, молча вглядываясь в предрассветный сумрак перед собою, будто стараясь заметить колебание травы и определить, где находятся в эту минуту его роты, подбирающиеся к селу. Он был невысокого роста, почти на голову ниже Спивака, широкий, крепкий в плечах. Спивак развязывал закоченевшими пальцами тесьму плаща под подбородком, чтобы скинуть его. И ночью мало гревший капитана плащ был теперь совсем бесполезен ему — в бою Спивака всегда, даже жарким днем, пронимала нервная дрожь.
— Ты куда сейчас? — спросил его Петренко.
— К Осадчему, — ответил Спивак.
И все постороннее — дом, колхоз, Семен Карпович, весенний сев — вылетело у них из головы.
…Военные романисты пишут иногда в своих произведениях: «Между двумя длинными очередями по цепям наступающих гитлеровцев он вспомнил тенистый сад на берегу Днепра, Владимирскую горку в Киеве, где ходил с девушкой, любуясь на тихий закат», и тому подобное. Вряд ли случается так в действительности. У бойца на фронте достаточно бывает времени, чтобы вспомнить не раз и Днепр, и тенистый сад под окнами любимой, но не тогда, когда противник уже в ста метрах. В бою у хорошего солдата мысль одна, простая, рабочая, как у мастера-токаря, задумавшегося над замысловатой деталью, — как это сделать? Как выполнить боевой приказ, врага уничтожить, а самому остаться в живых? Не потому не вспоминает он о доме, ворвавшись в немецкие траншеи и замахиваясь гранатой в щель блиндажа, что плохой семьянин, а просто — недосуг…
— Подождал бы немного, Павло Григорьевич, — сказал Петренко. — Может быть, не к Осадчему лучше сходить тебе, а к Мазнюку.
— А я подойду ближе, там посмотрю, сориентируюсь.
— Ну, иди… Я тоже скоро буду подвигаться. Ты без ординарца? И без автомата даже. Лейтенант Добровольский! Дайте капитану одного автоматчика.
Заметно светлело. По балочке, почти скрывавшей человека, Спивак с автоматчиком шли во весь рост. Дальше они пошли согнувшись, участили шаг, стали перебегать от куста к кусту. Петренко, всматриваясь в окутанную не то туманом, не то дымом занимавшихся пожаров окраину села перед собою, слушая выстрелы и ожидая связных из рот с первыми донесениями, бросал искоса взгляд в ту сторону, куда пошел Спивак, пока капитан и автоматчик не скрылись в сером тумане.
Давно уже потеряли Спивак и его земляк Петренко счет боям, в которых приходилось им участвовать за войну. Война — не беспрерывная атака, даже если идет наступление. Не всегда одна и та же дивизия, один и тот же полк пробивают бреши в обороне противника, атакуют, штурмуют, берут крупные населенные пункты. Бывает, главную тяжесть боев выносит сосед справа или слева: он атакует, вбивает клинья, путает карты противнику, создает для него угрозу окружения, а здесь, перед фронтом другой наступающей дивизии, немцам, чтобы не очутиться в мешке, не остается ничего другого, как снимать оборону и бежать. Здесь наступающие части двигаются форсированным маршем, походными колоннами, как на маневрах, и больше всего боятся, как бы не оторваться от немцев и не очутиться в неловком положении, без противника перед собою.
Случалось и Спиваку с Петренко целыми неделями идти без больших привалов и дневок, не встречая ни разбитых танков, ни трупов на дорогах, видя только следы недавнего пребывания врага в селах: догорающие пожары. Однако за все время с ноября 1942 года — оба они наступали от Волги — приходилось им много раз участвовать и в больших боях. Один орден Спивак получил за Савур-Могилу, другой — за Черкассы. Петренко получил орден Красной Звезды за корсунь-шевченковское побоище.
Бой за Липицы начался и закончился так, как начинались и кончались десятки многих других боев. Было достаточно и неразберихи в первые часы, пока не рассвело совсем и не рассеялся густой туман, поднявшийся от размоченной проливным дождем земли. Было много неожиданностей и ошибок, исправлявшихся тут же, в ходе боя. За главными укреплениями перед селом наступающая пехота наткнулась еще на две линии окопов. В самом селе дзоты встречались на каждом перекрестке улиц, а в садах бойцов подстерегали засады автоматчиков. Липицы — большое село, районный центр — обороняли два немецких егерских батальона, сильно потрепанные в последних боях, потерявшие много живой силы, но сохранившие достаточно огня. У них было даже несколько танков.
Когда в шум боя на восточной стороне влился солидный неторопливый разговор «максимов», а потом раздалась сорочья трескотня автоматов — сошлись, — Петренко услышал вдруг и перед собою звонкую дробь немецких станковых пулеметов и автоматные очереди. И здесь, в тылу у немцев, имелось, как и думал он, сильное прикрытие, с которым его разведчики ночью разошлись. Пулеметы били с ветряка, из окопов у ветряка на выгоне, из большого дома справа, оказавшегося двухэтажной вальцовой мельницей, из длинных кирпичных амбаров слева за дорогой.
Вот тут-то начал Петренко управлять боем по-настоящему, слыша и видя противника: заново ставить задачи ротным командирам и минометчикам, перебрасывать свои пулеметы. Первые часы боя он находился на КП с телефонистами, связными и автоматчиками, подвигаясь балкой к мельнице, потом пошел в пятую роту лейтенанта Мазнюка, оседлавшую главную дорогу из села в тыл, и оставался в этой роте до конца боя. Как и предполагалось, немцы, не удержавшись на восточной окраине и в центре села, бросились садами и улицами на запад, и всю тяжесть боя с этого момента принял на себя батальон Петренко. Пришел взвод бронебойщиков, подброшенный ему из резерва командира полка. Прискакали артиллеристы с двумя 45-миллиметровыми орудиями. Пространство между вальцовой мельницей справа и кирпичными амбарами слева, с дорогой посредине, стало местом яростных контратак немцев…
Были контратаки с ходу, валом, — егери первый раз бежали стадом, охваченные паникой; их рассеяли по садам, и с полчаса они где-то там собирались: слышны были в тумане голоса немецкой команды и пистолетные выстрелы. Были в этом бою напряженные минуты, когда постороннему наблюдателю могло бы показаться: вот-вот еще немного, еще чуть нажмут гитлеровцы — и прорвутся. Случалось: у одного пулеметчика, раненого или убитого, как раз, когда немцы уже выходили из садов на открытую площадь, разжимались пальцы, державшие рукоятки пулемета, и клонилась к земле голова, а у другого что-то заедало в «максиме»; немцы в наступившей тишине поднимались во весь рост, но то ли от трехэтажной ругани пулеметчика, то ли от яростных взглядов комбата, обращенных в его сторону, пулемет снова начинал работать, закрывая образовавшуюся брешь.
Такая критическая минута была, когда фашисты бросили на пятую роту Мазнюка четыре танка через сады и по улице. Густые кусты на усадебных межах хорошо маскировали бойцов и орудия. Танки шли, не видя их, ворочая башнями, строча вслепую вокруг себя из крупнокалиберных пулеметов маленькими снарядами-пулями, которые оглушительно-звонко, как пистолетные выстрелы над ухом, рвались, задевая за траву и ветки кустов. Танки были не тяжелые, какой-то невиданной бойцами марки, устарелые чешские или французские, но все же — танки.
Бойцы лежали на своих местах, изготовив гранаты. Кто-то крикнул в короткие секунды тишины между очередями крупнокалиберных пулеметов: «Хлопцы, это не «пантеры»! Хлопцы, это не «пантеры»!» Другой голос ответил ему: «Чего обрадовался? Ну и поцелуй их в… если не «пантеры».
Один танк подбили артиллеристы в упор, с расстояния метров в пятьдесят. Он загорелся, остановившись у сарая с соломенной крышей. Пламя перекинулось на сарай. В дыму, окутавшем двор, не видно было, успел ли экипаж выскочить. Второй танк, шедший прямо по улице, подорвали передвижной миной, привязанной к кабелю, два бойца-истребителя, спрятавшиеся в окопчиках за невысоким каменным забором. Он остановился, растянув за собой гусеницу, зарылся в грязь катушками, накренившись набок. Бронебойщики зажгли его попаданиями в моторную часть. Выскочивших из люка танкистов уложили возле горевшей машины автоматчики.
Два танка, шедшие сзади, круто развернулись и ушли обратно в село. Больше их не видели. Покинутые экипажами, совершенно исправные, они были захвачены после боя соседом справа, третьим батальоном капитана Соловьева. Ему и записали их на его боевой счет, чем Петренко был очень обижен и из-за чего даже, обычно спокойный и сдержанный, поругался после в штабе полка с Соловьевым, назвав его «барахольщиком»…
Липицы, за которые шел бой, солдаты увидели часов в семь, когда рассеялся туман. Село, раскинувшееся в длину километра на четыре, выступило на взгорье, видное из края в край, облитое нежаркими лучами утреннего солнца, все в садах. Сады цвели. Деревья стояли белые, словно запорошенные снегом. Солнце золотило мокрые соломенные крыши хат, играло зайчиками в лужах на улицах. Длинные тени ложились по земле от высоких тополей.
Ни собак, ни петухов не слышно было в селе в это утро. Рвались во дворах мины и снаряды, обжигая, ломая калеными осколками ветки деревьев. Жители попрятались в погреба. Не видно было даже скворцов, самых веселых и шумных весенних птиц, пересмешников, научившихся за войну подражать свисту падающих мин и пулеметной дроби.
Местами горели зажженные снарядами хаты. Над макушками яблонь, усыпанных бело-розовыми и белыми цветами, поднимались красные языки пламени. Не кизячным дымом летних печек тянуло в воздухе, а гарью пожаров…
Было в этом бою много и таких случаев, над которыми солдатам хватило бы потешаться надолго, если бы с каждым днем свежие впечатления новых боев не вытесняли из памяти вчерашнее…
Автоматчик Петрусевич пробрался вперед в один пустой сарай, откуда удобно было простреливать открытую усадьбу и улицу перед ним. Лежа внизу и стреляя через окно, он не обратил внимания, что на чердаке этого же сарая сидит немецкий автоматчик.
Долго эта «комбинированная» огневая точка озадачивала всех: нижний этаж ведет огонь по врагам, верхний — по нашим, — чья же она есть, собственно? — пока наконец Петрусевич догадался по звуку автомата, что за напарник сидит у него наверху.
Став на пенек и продрав дыру в хворостяном необмазанном потолке, пока автоматчик строчил и не слышал шороха, Петрусевич увидел немца и не придумал ничего другого, как схватить его за ногу. То ли у автоматчика патроны кончились, то ли с перепугу не сообразил он стрелять в Петрусевича через потолок, а может быть, выпустил автомат из рук и не смог его достать, — ни тот, ни другой огня не открывали. Пенек, на который стал Петрусевич, опрокинулся, когда немец дернулся. Петрусевич повис в воздухе на ноге автоматчика.
Молодой, еще не открывший счета, но жаждущий славы боец хотел справиться с немцем сам: или привести в роту «языка», или в крайнем случае застрелить его, но его автомат болтался на шее стволом вниз и никак нельзя было направить его в немца без риска выпустить его ногу.
Долго они возились так. Наконец Петрусевич не выдержал, стал кричать: «Ребята-а! Помогите-е! Немца держу-у!..»
Глазам бойцов, проникших в сарай, представилось диковинное зрелище: из дыры, проломанной в потолке, высовывалась нога в немецком сапоге — широкое голенище раструбом, — а на ней, раскачиваясь, как маятник, висел, ухватившись не за сапог (из опасения, как бы он не скинулся), а за штаны немца, маленький легкий Петрусевич, злой от неудачи, с лицом, разбитым в кровь кованым сапогом, теряющий последние силы.
У Петрусевича после этого и на другой день еще тряслись руки, как у контуженого, — не мог прицелиться из автомата. А немец, когда стащили его с чердака, не стоял без подпорки, валился наземь, — пришлось сдать его санитарам.
На парторга батальона Родионова, заменившего раненого пулеметчика в одной покинутой хозяевами хате, обрушился развороченный снарядом угол. Родионов, мужчина богатырского сложения, выдержал без особенных повреждений тяжесть, навалившуюся на него, и даже сам, без помощи, выбрался из-под кучи земляного кирпича, глины, бревен и соломы.
Но у хозяев на чердаке хаты было спрятано от немцев ведро с сахарной патокой. Надо же было случиться, что ведро свалилось как раз на голову Родионову. Пока руки его были прижаты чем-то внизу, патока вся до капли медленно вытекла ему на голову, пропитала всю гимнастерку, белье и проникла даже в сапоги до портянок. Вылез он из-под развалин хаты черный, как марокканский воин, весь облепленный соломой.
Солдаты, глядя на младшего лейтенанта, валились от хохота, переставали следить за противником, явно теряли боеспособность. Командир роты посоветовал ему удалиться. Родионов, ругаясь, как может только ругаться одесский портовый грузчик, ушел в тыл, в кусты, к резерву, и там автоматчики, помирая со смеху, скребли с него патоку финками в котелки, рассчитывая на свободе извлечь из нее сор и напиться всласть чаю.
Долго после этого случая ходила в батальоне поговорка: «Эх, чайку попить, да не с чем!» — «Как не с чем? Пойдем младшего лейтенанта поскребем и попьем».
Завалишин, идя к комбату с донесением, захватил по пути в плен немца. Как выбрался он из села в этом месте — уму непостижимо было. На стыке четвертой и пятой рот, по краю чьей-то большой усадьбы, росла колючая мелколистая акация — живая изгородь, такая густая и с такими длинными шипами на ветках и стволах до самого низу, что, казалось, мышь не пролезет здесь. А немец пролез. Завалишин заметил его, когда тот полз уже по бурьяну на выгоне. Он обстрелял врага, заставил его встать, поднять руки вверх, обезоружил и привел на командный пункт.
— Вот! Товарищ капитан давеча говорил про меня, что я на ходу сплю, а я на ходу «языка» захватил, — сказал с гордостью Завалишин.
Не то было смешно, что Завалишин на ходу «языка» поймал, — сам немец был смешон: маленький, щуплый, как подросток, лысый, в очках, но с драчливо засученными по локоть рукавами кителя. У фашистов такой обычай — ходить в бой, засучив рукава. Может быть, этим они подчеркивают, что война для них — профессия: идут, как рабочие-мясники утром на бойню. О здоровом, рослом солдате ничего не скажешь: вид получается довольно внушительный, когда наступает цепь таких мясников, но плюгавому сморчку, какого пригнал Завалишин, засученные рукава были совершенно не к лицу.
Немец, дрожа от страха и озираясь по сторонам, бормотал, тыча себя пальцем в грудь: «Их бин егер, егер», — объясняя, что он не офицер, а рядовой солдат, а бойцы, обступившие его, хохотали, потешаясь его видом.
— Эй, вояка, зачем рукава засучил? На кулачки хотел биться?
— В психическую собрался?
Любит солдат посмеяться. Казалось бы, совсем не место веселью там, где снаряды роют землю, и пули свистят, и смерть неотступно ходит за человеком. Но не все же время думать о ней, о смерти, будь она неладна!
Уже немало бойцов вынесли санитары из батальона в балку, где стоял ночью со своим КП Петренко и где развернулся после его ухода перевязочный пункт. На зеленой траве валялись окровавленные портянки, рваные рубахи, куски бинтов. Раненые, способные двигаться, обступили старый колодец со сломанным журавлем, опускали в него котелки, привязанные к поясам, жадно пили нечистую, с затхлым запахом воду и поили лежавших на земле товарищей.
Солнце поднялось высоко и пекло по-летнему. Подсыхающая земля паровала. В степи струились в воздухе над горизонтом «барашки».
Подъехали с кухней командир хозвзвода и повар, остановились у колодца, начали раздавать пищу раненым.
Петренко с пятой ротой был уже в селе. Взяв из двух рот по взводу бойцов, он послал их с пулеметами вперед по дороге, приказав окопаться на гребне, откуда могли подойти резервы на помощь окруженным в селе гитлеровцам.
Исход боя был уже решен. Немцы не вырвались. Сады и улицы были завалены трупами в зеленых, измазанных грязью кителях. Танки больше не показывались. Огонь утихал. Только в районе четвертой роты упорно оборонялась засевшая в мельнице группа автоматчиков со станковыми пулеметами…
Петренко как расстался со Спиваком на рассвете, так и не видел его до сих пор. Он спрашивал о нем прибегавших из рот связных.
Завалишин доложил комбату:
— Был в четвертой роте, видел его с младшим лейтенантом Осадчим тогда еще, как немца захватил, а после не видел… Беспокоитесь, товарищ старший лейтенант, об землячке? Ну, я думаю! Земляк на фронте — все одно что брат. Да еще какой земляк — из одного колхоза! Вот как довелось вам воевать — на пару… Эх, мне бы такого землячка! Я бы за него и в атаку ходил, жалел бы его.
Петренко, нахмурясь, ответил Завалишину украинской пословицей:
— Не вжалеешь батька в наймах. Слыхал такое?..
Но Спивак был жив и невредим. Он все время находился в четвертой роте, которая, как и обещал Осадчий, первой ворвалась в село, быстро очистила от противника одну улицу, но затем попала под сильный пулеметный и автоматный огонь с мельницы и вынуждена была залечь.
Один станковый пулемет, строчивший из-под крыши мельницы, замолчал после того, как туда угодил тяжелый снаряд и разворотил половину крыши. Два пулемета вели огонь из узких амбразур со второго этажа. Автоматчики стреляли с обоих этажей, из окон. Место перед мельницей было открытое — улица и большой голый двор.
Судя по утихавшей перестрелке в центре села — оттуда доносились только одиночные винтовочные выстрелы, — бой кончался. Где-то добивали гитлеровцев, выкуривали их из хат и погребов, забирали в плен. Оставалась мельница. Вызывать на нее огонь артиллерии, когда рота находилась тут же, в ста метрах, и село наполнялось уже своими войсками, было рискованно. А в плен сдаваться немцы, видимо, не желали.
Спивак лежал с Осадчим в кустах за дорогой, за развалинами какого-то каменного сарая, обдумывая, как бы покончить поскорее с этим последним убежищем гитлеровцев в селе и пообедать.
— Не хотят в плен. Не хотят, сволочи, заводы нам восстанавливать и шахты откачивать, растак их! — выругался Спивак. — Какие-то белоручки попались. Надо что-то придумать… Не повезло нам сегодня, товарищ Осадчий. Там уже, вероятно, трофейный шнапс раскупоривают, а мы лежим… Чего он, Петренко, не подкинет хотя бы пару бронебойщиков? Связные есть? Напиши ему.
Но не успел Осадчий достать из полевой сумки карандаш и бумагу, — сзади них послышался шелест травы. Оба разом обернулись и увидели ползущих солдат с длинными, как шесты, ружьями. Не двух, а восемь бронебойщиков прислал Петренко.
— Товарищ капитан! — задыхающимся шепотом начал приползший первым сержант. — Товарищ младший лейтенант! В ваше распоряжение. Четыре расчета…
— Добре, — сказал Осадчий. — Патронов много?
— Не так чтобы много, но штук но десять осталось… Куда бить, товарищ младший лейтенант? По окнам?
— По окнам… Только надо смотреть куда. Они не сидят на месте. Даст очередь из одного окна и бежит до другого. И амбразуры есть у них по углам… Вы по автоматчикам патроны не тратьте, вы мне станковые пулеметы подавите.
С мельницы, видимо, заметили движение в кустах за развалинами сарая. Струя разрывных пуль брызнула по камням. Все пригнули головы. Мелкий осколочек камня больно черкнул Спивака по щеке. В цепи лежавших в саду бойцов кто-то громко всхрапнул, словно во сне, перевернулся с живота на бок, разбросал ноги ножницами в неестественной позе и так застыл.
— Ранен? — спросил Спивак, заклеивая поднятым с земли листочком тополя царапину на щеке.
Сосед повернувшегося на бок бойца подполз к нему, всмотрелся в его мутнеющие глаза, приложил ухо к груди, послушал.
— Убит.
Бронебойщики тихо расползлись по местам, указанным командиром роты, и, наблюдая безотрывно за мельницей, стали вести редкий огонь по черным провалам окон и амбразурам, из которых показывались стволы пулеметов.
Рядом со Спиваком, за камнями, лежал командир третьего взвода старший сержант Разумовский, молодой красивый парень с писаными девичьими бровями, большими черными задумчивыми глазами, харьковчанин, по гражданской специальности электрик.
Когда Спивака отвозили зимою раненого в медсанбат, Разумовский был еще рядовым бойцом, бесстрашным в бою, не знавшим усталости в походах, от которого никто никогда не слышал жалоб на фронтовые тяготы. Он пришел в полк из партизанского отряда, действовавшего в Харьковской области, пока она была оккупирована, и расформированного при соединении с Красной Армией. Первое время Разумовский в полковой разведке и показал себя прекрасным лазутчиком, но оттуда его пришлось перевести в роту, когда выяснилось, что бесполезно ждать от него живого «языка» — всегда в той группе разведчиков, с которой уходил Разумовский, случались «несчастные» происшествия с пленным: то начал кричать, заткнули ему рот тряпкой и нечаянно задушили, то шальной пулей зацепило, не довели. Для разведки он оказался слишком зол.
На днепровской переправе он заменил убитого сержанта, принял на себя команду отделением и так и остался отделенным, без звания. За бои на правом берегу (в отсутствие Спивака) Разумовский, уничтоживший ручными гранатами в одной хате девять гитлеровских солдат, был награжден орденом Красной Звезды, аттестован старшим сержантом и получил назначение на должность командира взвода.
Спивак помнил задушевные беседы зимою на походах с этим молчаливым, задумчивым чернобровым парнем. С тех пор как начал он получать письма из дому, с освобожденной Полтавщины, и узнал, что его жена и дети спаслись, Спивак, встречаясь с Разумовским, чувствовал всегда какую-то неловкость перед ним за свое счастье. У Разумовского вся семья погибла в Харькове, никого не осталось у него, ни одной души родных во всем свете: погибли мать, жена, две сестры, брат…
— Большой перелом в войне наступил, товарищ капитан, — высказал как-то свои мысли агитатору полка молчаливый Разумовский. — По всему видно — врагу уже не воскресать. А на душе — не легче. Даже как-то тяжелее становится… Я боюсь, товарищ капитан, того дня, когда скажут — конец войне, мир, нельзя больше их бить. Что я буду тогда делать? Я от одних думок с ума сойду…
Спивак всю ночь, пока шли они колонной по глубокому снегу, рассказывал Разумовскому о тяжелой судьбе многих знакомых ему людей, находивших в себе мужество вынести такие удары и продолжать жить и делать свое полезное человечеству дело. Рассказывал об одном полковом враче, старом буденновце, дважды потерявшем на своем веку семью: первую его жену и двух маленьких детей убили в двадцатом году махновцы на его родине в Мелитопольщине; вторая жена и взрослые дочь и сын погибли в первый день Отечественной войны во Львове. И врач — в пятьдесят лет белый старик — ходил не горбясь, за обедом твердо отодвигал от себя лишнюю стопку, курил не больше, чем всякий курящий человек, делал трудные операции, подбадривая раненых излюбленной своей поговоркой: «До свадьбы выздоровеете, юноша!» — заказывал знакомым врачам в тыл большие списки литературы, по которой следил на фронте за всякими медицинскими новинками, и даже собирался вернуться после войны к каким-то научным исследованиям.
Разумовский сказал тогда Спиваку:
— Если останусь жив, приеду к вам в колхоз, товарищ капитан. Примете? Мне теперь после войны ехать куда глаза глядят. Построим электростанцию, буду работать у вас электриком… А может быть, останусь на пожизненную в армии…
Спивак поглядел на лежавшего рядом Разумовского, уже дважды предлагавшего начать штурм мельницы, и вспомнил, что он еще не поздравил его с орденом. Потянувшись к нему, он взял его за руку выше кисти, крепко сжал ее, потряс.
— Что, товарищ капитан? — повернул к нему лицо Разумовский, вопросительно подняв тонкие брови над большими лучистыми глазами.
— Со звездочкой! Поздравляю с орденом.
— Спасибо…
— Братишка мой погиб, Ваня, — тронул опять за руку Разумовского Спивак. — Был дома — извещение получили.
— Ваш? Где погиб?
— На Житомирском направлении.
— Недавно, значит?
— Зимою. Награжден посмертно орденом.
Спивак рассказал, как погиб его брат.
— Ты какого года рождения?
— Девятнадцатого.
— А он двадцатого был. На год моложе тебя…
Сзади опять зашуршало. Подползал на четвереньках командир взвода противотанковых орудий.
— Товарищ младший лейтенант! В ваше распоряжение!
И пушки направил в четвертую роту Петренко, чтобы бить из садов прямой наводкой по мельнице. Вероятно, командир полка уже звонил и возмущался проволочкой, не дававшей возможности подвести итоги боя и сообщить комдиву, что с немцами в Липицах покончено. Но у артиллеристов оставались только бронебойные снаряды.
— Что ж бронебойные, сорока пяти, по этим стенам! Если бы осколочным, да в окно, да чтоб разорвался там…
— Сделаем так, товарищ Осадчий, — сказал Спивак. — Ты оставайся здесь с двумя взводами, а мы с Разумовским, под их музыку, — кивнул на артиллеристов, — махнем через дорогу. — Спивак заметил среди бойцов третьего взвода солдата, с которым беседовал ночью. — Агитатор? Тебя, кажется, я назначал? Товарищ Андрюхин? Вот и хорошо. Пойдем вместе агитировать.
— Хотите переговоры с ними повести, товарищ капитан? — спросил Осадчий.
— Ага. Гранатой по зубам… Что ж лежать? Измором их брать, пока патроны у них кончатся? Потерь все равно не избежим. Будут вот так по одному выщелкивать. Перемахнем, что-нибудь сообразим там. А ты — отсюда. Как увидишь, что мы уже там, поднимай своих и — к стенам. Первый этаж низко, можно прямо в окна прыгать. Так, Разумовский?
Разумовский молча кивнул головой и передал негромко по цепи взводу:
— Приготовиться к атаке! Гранаты!
Сколько раз слышал и сам произносил эти слова Спивак, а всегда от них у него начиналась нервная дрожь. Напрягая челюсти, чтобы не цокнуть зубами, он сказал артиллеристам:
— Когда перебежим, прекратите огонь. Или так: скроемся за мельницей — еще два-три снаряда дайте по второму этажу, и все. Понятно?
Спивак знал, что он не трус, помнил, что он дрожал так же и волновался, бывало, и перед докладом на многолюдном колхозном собрании — от возбуждения, — и все-таки досадовал на себя. Ему казалось, что все бойцы видят, как он нервничает.
Осадчий передал первому и второму взводам:
— Приготовиться к атаке!
Сколько сидело в мельнице автоматчиков, пять или десять, или больше, трудно было разобрать из-за того, что они переходили с места на место и стреляли из разных окон. Стреляли немцы с выдержкой, редко, короткими очередями, экономя патроны, растягивая свой последний час. Пока артиллеристы, замаскировавшись где-то сзади в кустах и деревьях, изготавливались к бою, бронебойщики удачным попаданием в амбразуру то ли разбили пулемет, то ли вывели из строя его расчет — один перестал стрелять…
Спивак лежал и думал: вот самая трудная минута в бою — поднять людей с земли под дулами направленных на них автоматов. Не большое пространство — улица метров в шестьдесят, а легче пройти пешком от Москвы до Владивостока, чем перебежать ее. Он учил ночью агитаторов подбирать такие слова, чтобы доходили до сердца бойцов. Какими же словами поднимет он сам людей? Или, может быть, не нужно больше никаких слов? Бойцы слышали: «Приготовиться к атаке». Теперь они лежат и смотрят на своих командиров. Разумовский бросится, не задумываясь, в любое пекло, лишь бы там сидело побольше фашистов. Из его бойцов добрая половина — бывалые солдаты, старые знакомые Спивака. Что им говорить? Что кто-то из них в эти минуты последний раз видит солнце и небо? Что один из них успеет добежать до спасительного «мертвого», не поражаемого сверху пулями пространства под стенами мельницы, а другой ляжет на дороге, обняв землю, а кто именно ляжет, решит случай, тот самый слепой случай, который отводит иной раз пулю на полсантиметра от сердца, и человек остается жив. Это они и сами знают. Что, несмотря ни на что, надо добежать, потому что никак иначе не доберешься до гитлеровцев, не желающих сдаваться? Тоже знают. Такая она и есть, война. Самое трудное — сойтись с врагом грудь на грудь для рукопашной схватки, в которой никто никогда не побеждал русского солдата.
При первых хлестких выстрелах маленьких противотанковых пушек Спивак, чуть побледнев, приподнялся на руках, глянул на Разумовского:
— Пошли! За родину, товарищи!
И, сгибая вдвое свое длинное тело, побежал через улицу с такой быстротой, с какой бегал, может быть, только в далеком детстве наперегонки — не оглядываясь, слыша за собой, сквозь поднявшуюся пальбу из мельницы, топот многих пар тяжелых солдатских ботинок, хриплое дыхание бойцов и чью-то длинную и складную, как молитва, ругань: «…В Гитлера припадочного, со всем его синклитом, в Геббельса горбатого, растак вашу, гады вонючие, паразиты проклятые, в сердце, в кишки!» У солдата хватало духу бежать и ругаться одновременно, и, вероятно, ругань даже помогала ему в эту трудную и страшную минуту.
Не добежали до мельницы двое. Один, раненный, дополз до каменного забора и согнулся под ним, корчась от боли, обрывая на себе гимнастерку, другой остался лежать недвижно ничком посреди дороги, раскинув руки…
За мельницей, со стороны глухой стены, не оказалось никаких укрытий — голый, уезженный подводами двор. Лаз в стене был — большая дыра от снаряда.
Швырнув в нее по гранате, Спивак с Разумовским, а за ними и бойцы кинулись в какой-то темный, заваленный старым железом, дровами и ящиками подвал. В это время Осадчий, услышав взрывы гранат за мельницей, поднял остальных бойцов и побежал с ними к главному входу. Артиллеристы прекратили огонь. Начался рукопашный бой в отделениях мельницы, на лестницах, в коридорах и проходах между элеваторами и зерноочистками, таких тесных, что не хватало место размахнуться прикладом, — бой непродолжительный, но жестокий.
В больших домах с путаным расположением комнат бойцы дерутся особенно яростно, — может быть, потому, что здесь им всюду мерещатся засады, и возросшее чувство опасности, подстерегающей их на каждом шагу, взвинчивает злость. Тут уж, когда враг в последнюю минуту бросает автомат и поднимает руки вверх, у редкого бойца хватает выдержки, чтобы не заколоть его или не обрушить ему приклад винтовки на голову с бесполезным уже для него советом: «Раньше надо делать это, гад!..»
Когда пересчитали трупы гитлеровцев в мельнице, оказалось, что было их там двадцать человек, в том числе один капитан, три лейтенанта и четыре унтер-офицера. Вспоминая сообща, после штурма, ход боя, удалось довольно точно и без споров установить, кто сколько заколол и застрелил, кто убил лейтенантов, кому на какое количество надо увеличить его боевой счет. Одного лейтенанта застрелил Осадчий, другого агитатор Андрюхин, третьего, яростно оборонявшегося, закололи вдвоем командир отделения Крыжний и боец Абросимов. Капитан не достался никому.
Спивак бросился в мельницу с одним пистолетом, без автомата. Немецкий капитан лежал с тремя егерями за станковым пулеметом на втором этаже. Спивак разрядил свой пистолет еще внизу по автоматчикам, потом дрался каким-то железным прутом, попавшимся ему под руку в машинном отделении. Поднимаясь по шаткой лестнице на второй этаж, он сорвался с верхней ступеньки, сильно расшибся при падении на цементный пол, и когда вскарабкался опять наверх, там уже орудовали со своими бойцами Осадчий, Разумовский и Андрюхин.
На его глазах капитан, бросив пулемет, застрявший в амбразуре, вскочил на подоконник и, отстреливаясь из пистолета, ранил двумя пулями Разумовского. У Осадчего разряженный пистолет болтался на шнуре сбоку, а в автомате что-то заело. Андрюхин открыл какой-то запасный ход, ведущий вниз, и в нем наткнулся на трех немцев — одного застрелил в упор, с двумя схватился врукопашную.
Спивак метнул с порога в капитана прут — не попал. Капитан навел было пистолет на Спивака — тот отскочил в сторону и пригнулся. Тогда немец, вероятно, боясь ошибиться счетом израсходованных патронов, поднес пистолет к лицу, сунул дулом в рот и выстрелил. Это был последний выстрел в мельнице.
Андрюхин сбросил вниз убитых на лестнице фашистов и взбежал опять с винтовкой наперевес наверх. Осмотревшись вокруг сумасшедшими глазами, он увидел, что колоть больше некого, вытащил из кармана платок, смочил его в крови лежавшего на полу вниз лицом раненного в грудь и в живот Разумовского, надел платок на штык и, выставив винтовку в окно, помахал импровизированным красным флагом, давая знать, что с мельницей кончено…
У маленькой, ничем не выделяющейся среди других строений хаты, облюбованной писарем Крапивкой под штаб батальона, куда связисты тянули уже провод, Спивак встретился с Петренко, — грязный, потный, уставший, будто целый день на жнивах скидал с лобогрейки, хромающий от боли в ушибленной коленке. Расставались ночью — не прощались, а встретились — обнялись.
— Чего хромаешь? — спросил Петренко. — Ранен? Опять в госпиталь хочешь? Куда ж это годится? Только из госпиталя и обратно туда?
— Нет, не ранен, — успокоил друга Спивак. — Ушиб ногу. Врача не надо, синяк и опухоль небольшая. Пройдет. Заживе, як на собаци. К Разумовскому пошли врача.
— Что с ним?
— Ранен тяжело. Там остался, в мельнице, на втором этаже. Ребята делают ему перевязку.
Петренко отрядил связного за врачом на батальонный санпункт, приказав ему:
— Бегом! И скажи — пусть потом зайдет ко мне, доложит о Разумовском.
— Жрать хочется, Микола, как из пушки, — сказал Спивак, осматриваясь, — только не каши. Ты уже устроился? Где квартира? С майором не говорил — долго будем здесь стоять? Как оно тут — не пахнет зеленым борщом со сметаной?
— Разрешите обратиться, товарищ капитан! — проговорил, подойдя к офицерам, писарь Крапивка, пожилой, бравого вида, с проседью на висках и в усах, тертый и мятый на трех войнах сержант, постоянный квартирьер штаба батальона и уполномоченный по части переговоров с хозяйками. — Пахнет борщом со сметаной, товарищ капитан! Отдых до двадцати трех ноль-ноль. Хозяйка обнаружена в погребе. Насчет сметаны неизвестно еще, что получится — корова, говорят, у них спасается где-то в лесу, но яичком заправим. И отбивные будут на второе из свежей телятины. У соседа бычка осколком убило — приволок заднюю ногу с филейной частью. Потерпите пятнадцать минут, товарищ капитан. Законный срок, как в ресторане «Северный полюс» в Краснодаре, на улице Гоголя, в мирное время. Уже шкварчит.
— Есть потерпеть пятнадцать минут, — глянул Спивак на часы и, рассказав Петренко, как брали мельницу, стал расспрашивать его: — Ну, а в тех ротах как — жарко было? Нигде не прорвались? На вас, значит, и танки ходили? Не говорил Горюнов, сколько их тут было всего — полк, меньше?
— До черта было. По-моему, батальона два. У нас нигде не прорвались. Один было удрал, и того Завалишин поймал.
— Как? А, он докладывал. Маленького такого, в очках? Здорово! Связь есть? Сейчас редактору дивизионки позвоню. Так и скажу: один маленький просочился, и тому не дали уйти. Кто в пятой роте миной танк подорвал? Фамилии знаешь? Надо сегодня же представить к награде. Андрюхина надо представить, агитатора, — лейтенанта и трех солдат убил в мельнице. Так где же у тебя штаб? В той хате? Макар Иванович! Одиннадцать минут прошло. Уложишься в четыре? Смотри, чтоб точно, по регламенту, как договорились. Ну пойдем в хату.
…И после боя было, как всегда: появились скворцы на деревьях и на крышах хат; опять стало слышно в голубом небе пенье жаворонков, которые, может быть, пели, поднявшись над землей, и в самые жаркие минуты боя, но тогда никто не слушал их. Солдаты окапывались на выгоне за селом. Тянулись на запад журавлиным строем, с тяжелым гулом «везу-у, везу-у», эскадрильи пикирующих бомбардировщиков и, скрывшись за горизонтом, разгружались где-то далеко над немецкими тылами, — чуть слышно доносились оттуда разрывы бомб, глухо стонала земля.
Изредка рвались прилетавшие издалека снаряды. Немцы вели откуда-то беспорядочный, бесприцельный огонь по селу. Один снаряд ложился далеко за селом слева, минут через десять прилетал другой и рвался в густых яблонях справа, сбивая цвет с деревьев, оставляя в цветущих садах большие черные прогалины.
На эти редкие разрывы никто уже не обращал внимания. Во дворах и на улицах показывались жители: старики, босоногие хлопцы, женщины в вышитых сорочках. Бойцы сносили на площадь, где другие солдаты копали яму, убитых и клали их рядом на траву…
Одиннадцать человек потерял батальон в бою за Липицы убитыми, не считая раненых, отправленных уже в медсанбат на машинах, подвозивших из тылов дивизии снаряды. Погиб в схватке с боевым охранением гитлеровцев у ветряка, не увидев восхода солнца, сержант Андрей Болотников. Нашел себе смерть в далеком украинском селе у Карпат ереванский текстильщик, лучший снайпер полка, орденоносец Ашот Акопян, имевший на боевом счету за три года честной службы родине сто пять уничтоженных гитлеровцев. Прямым попаданием мины убило командира взвода бронебойщиков младшего лейтенанта Архипова, бывшего донбасского сталевара. В кармане его изорванной в клочья гимнастерки нашли залитый кровью партийный билет с вложенными в него адресами матери и жены. По партбилету лишь и узнали, что убит Архипов, а не другой. А бывает, разорвется снаряд — и товарищи начинают вспоминать: кажется, Трофимов лежал на том месте. Нет, не Трофимов, Трофимов в разведку ходил, не вернулся до сих пор из разводки. Может быть, Кравченко? Кравченко с донесением на КП посылали. Вернулся? Никто не видел. Если вернулся, то, может быть, и он, а если по пути зацепило шальной пулей и лежит где-то в бурьянах, в глухой степи, где и местные жители не скоро его сыщут, — значит, другой. Нет человека. Был, лежал кто-то там, куда попал снаряд, а кто — ни один товарищ не подтвердит точно. И приходится о нем, а то и о двух, о трех сообщать на родину — пропали без вести. Будет мать сотни раз перечитывать извещение, расспрашивать бывалых солдат, как пропадают люди без вести на фронте, гадать: может быть, в плен попал, может быть, раненого подобрали другие части, будет после войны ждать возвращения всех фронтовиков и пленных из Германии и каждого спрашивать — не видел ли ее сына? Будет ждать, пока жива, и ни один человек не сможет сказать ей: «Не жди, мать, я его сам похоронил…»
Одиннадцать убитых подобрали с поля боя. А пока сносили их на площадь, в степи, далеко за селом, на машине, быстро катившей по дороге в тыл, скончался двенадцатый — старший сержант Разумовский, не приходивший в сознание с той минуты, как лег, обливаясь кровью, на затоптанный грязными сапогами пол в мельнице…
Трое солдат копали могилу.
— Еще шар снимем? — спросил один, отирая рукавом гимнастерки потный лоб и меряя ручкой большой саперной лопаты глубину ямы.
— Копай, — сказал другой. — Тут им долго лежать. Домой не повезут. Копай полной профили. Сделаем по-хозяйски.
От штаба батальона отделилась группа бойцов. К могиле шел взвод автоматчиков для отдачи салюта, за ним — офицеры.
— Один шар сымем, и хватит. Идут уже.
Земля была сырая и в глубине таила еще зимний мертвый холод. Выброшенная наружу, она дымилась, прогреваясь на солнце, как тлеющий навоз.
— Парует, — сказал один из копавших могилу бойцов, молодой парень, саратовский колхозник. — Весна. — И крикнул, заслышав близкий вой снаряда, пригибаясь инстинктивно: — Ложись! — хотя стоял в глубокой яме, края которой были выше его головы.
Снаряд упал на площади, недалеко от могилы. Один большой осколок, шумно, как куропатка, фырча на излете, пролетел над ними и шлепнулся возле самой ямы.
— Вишь, проклятый, куда достал! Чуть-чуть не попал.
— Чуть-чуть не считается.
— На метр ближе — как раз бы к нам угодил.
— Он уже бессильный был, упал как камень. Синяк бы только набил.
— Да, если б по башке стукнул, как раз с таким синяком и лег бы здесь, за компанию…
Молодой боец, кончив подчищать свой угол, вылез наверх, поглядел в ту сторону, где разорвался снаряд. Над свежей воронкой курился дым или, может быть, пар от взрытой земли.
— Парует, говорю, земля, — повторил он. — Весна… Чуднáя тут, ребята, весна, в этих краях. У нас в неделю снег стает, вода сойдет, высохнет земля, прогреется так, что и босиком ходить можно, а тут ночью сегодня какой холодище был. Сеют люди, а земля в глуби, как лед. Карпаты близко — от них, что ли, холодно? Но сады не померзли: я цвет щупал — держится… Вот тут у людей на яблони заведение, — сказал он, оглядывая сады вокруг. — В других краях вишни сажают, абрикосы, а тут — одни яблони, в каждом дворе. Родят, что ли, хорошо?.. Которые люди говорят: после такой холодной весны урожай бывает сильный на все: на хлеб, на овощи. А которые говорят наоборот: дружная весна к урожаю… А девки тут хоть и двух лет не жили при советской власти до немцев, а интерес к нашему брату имеют. Разговор чисто как у наших украинок. Я познакомился с одной, — вон ее хатка за сараем. Пособил ей барахло из погреба в хату перетащить. Приглашала вечером на вареники… Эх, братцы! — вырвалось у него стоном. — Так и скучно же помирать весной!.. Распроклятый Гитлер, сгнил бы ты, собака, маленьким, когда мать твоя с ложечки тебя еще кормила! Откуда ты взялся, изверг, на нашу голову?..
После похорон убитых — обычных солдатских суровых похорон — без слез, без женских воплей и причитаний, — несколько слов комбата над опущенными в могилу телами: «Прощайте, товарищи! Родина вас не забудет», — залп из десяти автоматов, быстрые взмахи лопат, столбик в свежей насыпи с фанерной именной табличкой, — Спивак пошел в роты к бойцам, рывшим окопы.
Никто не знал, сколько придется стоять в селе. Отдых до 23.00 — это командир полка сообщил ориентировочно. За селом работала разведка и какое-то резервное подразделение, не принимавшее участия в ночном бою, высланное вперед комдивом. Если бы стало известно, что противник продолжает отходить, то, как бывало уже не раз, пришлось бы выступить раньше. Но хоть полдня, хоть час стоять на месте — все равно приказано было закрепиться.
Только пятой роте повезло. В указанном ей комбатом районе обороны на выгоне за селом был глубокий, наполовину засорившийся илом и песком ров — какая-то старая межа. Бойцы быстро подрыли углубления в стене рва для стрелковых ячеек и пошабашили. Наблюдатели стояли на постах, остальные отдыхали: кто спал на солнцепеке в позе не дошедшего домой из гостей гуляки, вольно разбросав натруженные ноги и руки, всхрапывая так, что жаворонки, спускавшиеся подле него на землю, пугались и вновь взмывали свечой ввысь, кто, сидя на краю рва, в одном белье, а не то вовсе в чем мать родила, занимался починкой штанов или гимнастерки, кто чистил оружие.
В одном взводе агитатор, тот самый снайпер, который понравился Спиваку своим боевым счетом, беседовал между делом с солдатами. Итогов боя ему еще никто не сообщал. В штабе полка не успели подсчитать ни трофеев, ни убитых. Известно было только, что у немцев двумя батальонами егерей стало меньше, а за спиною продвинувшегося вперед полка стало больше одним крупным освобожденным населенным пунктом, который во время боя казался совершенно вымершим, а сейчас оживал на глазах: уже женщины гнали но улицам откуда-то коров и коз, курился дым из растопленных печей, дети таскали солдатам в окопы воду и молоко в кувшинах. Об этом и говорил снайпер товарищам, протирая тряпкой разобранный затвор винтовки:
— Хорошая штука, ребята, наступление. Отступать было горько, а наступать куда веселее. С каждым километром у нас силы добавляется, а у врага отбавляется. Ведь это же все наше было, — обвел он глазами вокруг себя. — Все наше было, и всем враг владел — забирал у людей хлеб, кормил свою армию, гнал эшелоны в Германию. И вот опять оно к нам возвращается… Километров на десять продвинулись за ночь в глубину, да по фронту дивизия тоже, пожалуй, захватила не меньше. Десять на десять — сто квадратных километров очистили. Одна дивизия! А вся армия? А фронт? Каждый километр — богатство. Вон озимка зеленеет — хлеб будет. Вон столбы идут, провода тянутся по ним — тоже народное добро, ценность. Вон мельница стоит, малость побили снарядами, ну, ничего, починят, новую построить дороже обошлось бы. А дальше где-то на этих километрах и заводы есть, и города, и железные дороги. А людей сколько к нам присоединилось! Не всех же угнали немцы в Германию. Есть и молодежь призывного возраста. Мы тут еще не одну дивизию солдат наберем. Вот оно, что значит наступать. Бой, кровь льется, потери несем, а силы растут.
В другом взводе незнакомый Спиваку боец передавал товарищам рассказы местных жителей о фашистской неволе. Ничего нового не было в этих рассказах — обычные фашистские зверства, то, что творилось по всей пройденной солдатами Украине, но боец передавал их точь-в-точь, как сам слышал от какой-то, вероятно, старухи (женщины рассказывают о фашистах страшнее), с теми именно подробностями, которые потрясли его самого.
Спивак остановился в стороне и долго слушал его. Боец рассказывал, как эти самые егери, которых они били сегодня, пришли в село еще в марте, во время сильных холодов и буранов, как они выгнали всех жителей до единого за село, в балку, а сами расположились в их хатах и принялись хозяйничать в закромах и сундуках.
Людям было объявлено, что они изгоняются из села потому, что в нем необходимо разместить большой гарнизон, а санитарным обследованием выявлены заразные болезни среди местных жителей. В соседних селах происходило то же самое: всюду размещались подошедшие немецкие войска, нигде не пускали обогреться выброшенных на улицу людей. Десять дней жили они в голой степи на снегу, укрываясь от бурана в песчаных карьерах.
На отшибе за селом стояла пустая, не занятая немцами, полуразрушенная хата одного умершего осенью одинокого старика. Женщины, имевшие маленьких детей, стали приносить ночью в эту хату своих малышей и, оставаясь с ними поочередно — для всех матерей не хватало места, — обогревали их, протапливая печку собранным в степи бурьяном.
Гитлеровцы заметили, что пустая хата служит людям убежищем от морозов, и сожгли ее. Старая, трухлявая хибарка горела долго — три дня. Три дня грелись на пожарище дети возле тлеющих головешек. Потом, когда староста, изгнанный из села вместе со всеми, упросил какого-то начальника, им было разрешено, в виде особой милости, поселиться в своих дворах, но не в хатах, а в погребах, — к хате запрещалось подходить ближе, чем на десять шагов. В погребах и жили они до сегодняшнего утра.
— Я с этих мест начинал воевать, — говорил боец. — Служил действительную на границе, и тут меня захватила война. Отступал отсюда в сорок первом году. Меня всегда мучила совесть за этих людей: освободили их от польских панов, дали землю, блеснуло им счастье на короткое время, пожили немного свободно и опять остались фашистам на расправу…
— Товарищ боец! Вы не агитатор? — спросил Спивак.
— Нет, товарищ капитан, какой я агитатор! — ответил солдат. — Никогда этим делом не занимался. Я малограмотный, две зимы только в школу ходил. По печатному с трудом разбираю. Я горючевозом в совхозе работал до войны. Послушать хороший доклад люблю, а сам никогда в жизни не выступал.
— Ничего, — сказал Спивак. — Как фамилия? Гапоненко? Вот вам, товарищ Гапоненко, поручение от меня: всюду, где придется нам бывать, узнавайте, что за село, что за люди, сколько было их, сколько осталось, что пережили они при фашистах, и рассказывайте товарищам. Вот это, что и сейчас делаете. У вас есть способность, как у хорошего разведчика: много видеть. Рассказывайте, чтобы осталось у каждого в памяти и на после войны не только, какие речки мы форсировали, где кого хозяйка хорошим борщом накормила, где пришлось за войну курятины попробовать, а и вот это все. А то, знаете, как бывает… У меня дядька в старое время матросом в Балтийском флоте служил. Перегоняли их корабль из Балтики в Тихий океан, на Дальний Восток. Полсвета объехал на том корабле, всю Европу обогнул, Средиземным морем плыл, в Африке был, в Индии в порту стояли месяц на ремонте после шторма. Узнал я, где дядьке пришлось побывать, стал его спрашивать: «Расскажи, дядя Петро, что видел в тех заморских краях?» Припоминал он, припоминал — ничего не видел. Припомнил только, как в Марселе пьяные французские матросы из кабака его вышибли — больше ничего…
Еще в одном месте послушал Спивак беседу нового агитатора с бойцами — в роте лейтенанта Белова. Речь шла о том, что происходит сейчас в Сталинграде и каким будет восстановленный из пепла этот город после войны. Говорил командир отделения, сержант Фомин, участник обороны Сталинграда, родом сибиряк.
— Не знаю, — говорил он, — не был я там после сорок второго года, не видел, что там делается. А хотелось бы посмотреть. Думаю я, что это будет особенный город. Из всех городов город… Есть, товарищи, в Советском Союзе озеро, у нас в Сибири называют его морем — Байкал. Это такое озеро, когда плывешь на лодке, окурок кинуть в воду неловко — до того оно чистое и красивое. На тридцать метров у берегов все камешки и ракушки на дне видно. Так вот, кажется мне, что и в Сталинграде сейчас самый беспечный человек не посмеет плюнуть на тротуар. Там вся земля нашей кровью омыта. Там на каждом шагу будут памятники стоять: «Здесь сражались насмерть гвардейцы такие-то», «Здесь оборонялись трое против роты, пока глаза их видели мушку и руки держали пулемет». В Сталинград не все мы пришли хорошими бойцами и людьми. Но кто остался жив и пошел оттуда дальше воевать — с другой душой пошел, другим стал человеком…
— Разрешите вопрос, товарищ сержант, — сказал с легкой усмешкой, приподнимаясь ка локте, один боец, слушавший все время Фомина с полузакрытыми глазами. — Можно?.. Я не был там, не имею чести носить медаль такую, как у вас, — очень жалею, — но литературу о сталинградской обороне читал. Спорить не приходится: сражались там действительно геройски, но мне кажется, товарищ сержант, вы немножко преувеличиваете насчет нашего перерождения. Как это понять: после Сталинграда мы стали другими людьми? Какими же другими — советскими, что ли? А раньше были — не советскими? Тут у вас какая-то неувязочка получается, товарищ сержант. Не совсем для меня ясно это место, простите за поправку.
— Не ясно? — повернулся Фомин в сторону прервавшего его речь бойца. — Постараюсь объяснить, товарищ Карженевский. Я не говорю о перерождении. Просто пообчистились маленько: кой-чего добавилось в нас хорошего, а кой-чего отбавилось ненужного… Ты как считаешь себя, Карженевский, — советский ты человек? — спросил Фомин бойца в упор, развивая мысль, пришедшую ему в голову, видимо, в ходе беседы.
— Со стороны виднее, — пожал плечами с той же усмешкой боец. — Двадцать четыре года при советской власти жил. Отец красный партизан был, брат погиб в восемнадцатом…
— Хорошо, понятно, советский, значит? И я думаю, что ты не кулак и не фабрикант бывший, хотя и такие еще встречаются… В армии давно? Как освободили Винницу? Недавно, значит. В запасном, вероятно, был сначала, да? Месяца два на передовой? Вот ты еще нашу закалку не прошел. Что ты сегодня, Карженевский, сделал, когда танк на нас повернул? В окоп лег. Я же тебе кричал: «Карженевский, гранату!» Были гранаты? Были. На артиллеристов понадеялся или сдрейфил? Ты видел, куда танк идет? Прямо на Михайлюка и Попова. Почему не встал? Ты крайний был, мог остановить танк. Из-за тебя они погибли. Видишь, какое дело получилось. А считаешь себя советским человеком! А в Сталинграде у нас этого не было, Карженевский. Гвардейский закон — умирай, но товарища выручай. Там мы за все кровью расплатились. За всю подлость, что осталась еще в таких людях, как ты.
К этим словам сержанта Фомина Спиваку почти нечего было добавить — так много было в них общего с тем, что он сам пережил и перечувствовал на фронте и о чем особенно часто стал думать в последнее время, когда в воздухе ощутимо повеяло близостью конца войны. Слушая Фомина с хорошим теплым чувством к молодому сержанту, смелому в мыслях (Фомин, когда подошел капитан, лишь встал с земли, откозырял ему, а потом, продолжая говорить, даже не поглядывал на него), наблюдая, как внимательно, не сводя глаз с Фомина, слушают солдаты его взволнованную речь, Спивак подумал про себя: «Неплохих, кажется, агитаторов назначил я сегодня. Жили бы только долго…»
Не прерывая Фомина, дождавшись, пока он кончил, Спивак сказал:
— Я тоже думаю, что это будет особенный город, Сталинград. Когда он отстроится и заселится заново, вероятно, в нем и всяких жуликов, шкурников, блатмейстеров меньше будет, чем в других местах. Но пожалуй, этого сору теперь везде уменьшится… Это и Карженевский поймет, как люди перерождаются на войне, — помолчав с минуту, обернулся Спивак к бойцу, которого Фомин уличил в трусости. — А? Как, Карженевский?
Боец молчал. Усмешка сошла с его губ. Трудно было разобрать по его чуть побледневшему лицу и опущенным глазам, что он думает и что за человек он, надевший, как и многие миллионы людей, пилотку с красной звездочкой и солдатскую гимнастерку.
— Поймешь?
— Это с ним, товарищ капитан, не впервые, — угрюмо сказал сидевший рядом с Карженевским боец. — Давеча, когда за тот хутор бились, послали его за патронами — полдня ходил. Говорит, не нашел патронный пункт, а брешет — отлежался, должно быть, где-то в окопе.
Солдаты зашумели:
— Со мной в боевое охранение ходил, я ему говорю: бери гранат побольше, а он говорит: «До гранат дел не дойдет, в случае чего, предупредим выстрелом и — назад. Так, говорит, в уставе написано». Здорово читает уставы! Пальнул — и назад!
— А мне говорил: «Дурак ты, Мухин, больше всех тебе надо? Зачем вызвался в разведку? Мало нас тут по приказу заставляют в огонь лезть, так еще и добровольно напрашиваешься».
— С ним у нас, товарищ капитан, никто не хочет на пару хлеб получать — миллиметрами буханку меряет.
— Только и горазд по хатам шастать. Давеча в хуторе у хозяйки, где стояли, простыню порвал на портянки. Тянет, не спрашиваясь, как фриц.
— Кабы и храбрости столько, как нахальства.
— Поймет, — сказал Спивак. — До Берлина Карженевский может еще дважды Героем Советского Союза стать. Но… только до Берлина. Война кончится — тогда все. Таким, значит, и домой вернется. А может, и не вернется совсем, — неожиданным оборотом, жестким, чужим голосом закончил Спивак. — Сегодня весь батальон дрался хорошо. Человек десять к награде представляем. Об одном только Карженевском слышу, что подгадил. Если будет и дальше так воевать — в военный трибунал попадет. Одним шкурником на после войны меньше останется…
Еле держась на ногах от усталости после бессонной ночи — не первой уже со дня возвращения в полк — и от боли в распухшей коленке, Спивак все же собрал еще на час всех агитаторов в пятой роте — на середине расположения батальона. Здесь, не отходя далеко от бойцов, рассадив их за рвом в кустах цветущего терна, густо облепленных пчелами и осами, — чтобы отмахивались почаще и не дремали, — Спивак сообщил агитаторам принятые полковой рацией последние сводки Совинформбюро и сделал обзор международной обстановки.
Говоря о ближайших задачах батальона и полка, Спивак передал агитаторам то, что сам слышал в политотделе дивизии и на совещании у командира полка: что выполнение боевых приказов будет и впредь считаться отличным только в том случае, если они будут не просто изгонять фашистов из населенных пунктов, а окружать и уничтожать.
Вытащив из полевой сумки и из-за голенища десятка три книжек, Спивак дал их всем по одной, по две. Литературу он получил в политотделе. Это были главы из нового романа Шолохова, очерки Гроссмана, статьи Эренбурга. Ночью он не стал раздавать книжки, потому что хотел сначала присмотреться к новым агитаторам: может быть, некоторым ни Шолохов, ни Эренбург не помогут. Кроме художественной литературы, он роздал брошюры по тактике войск в условиях горного театра военных действий, предусмотрительно купленные им в Полтаве.
— Вот это берегите, скоро понадобится. Будем учиться на козьих тропках воевать.
Как всегда на таких совещаниях, Спивак отвел после всего двадцать минут на вопросы. Это была его любимая форма разговора с агитаторами и бойцами: ответы на всевозможные вопросы. По ним он узнавал, что больше всего волнует сегодня людей. Иногда после одного неожиданного вопроса завязывалась новая беседа на другую тему, более, оказывается, важную сейчас, чем та, к которой он готовился, идя в батальон.
Первым вопросом было, как водится: скоро ли союзники откроют второй фронт в Европе?
— На столбу мочала, начинай сначала! — зашумели солдаты на задавшего неудачный вопрос. — Чем слушал? Товарищ капитан же говорил в докладе о втором фронте. Или тебе обязательно надо, чтоб было сказано: завтра, в пятницу, в двенадцать часов дня откроется? Так кто же это может знать? Поди к гадалке.
Другой агитатор спросил:
— Может ли война закончиться внезапно, каким-нибудь государственным переворотом в Германии?
Зная, что капитан недавно вернулся из тыла, бойцы много спрашивали Спивака о жизни в освобожденных городах и колхозах.
Спивак, не торопясь уходить, взглядывая на каждого спрашивающего, стараясь запомнить новые фамилии и лица бойцов, обстоятельно отвечал.
Кто-то поднялся с вопросом:
— Доедет ли до нас в батальон когда-нибудь, хоть раз за всю войну, военторг со своими промтоварами? Или он такой отчаянный, что и до штаба дивизии не добирается? Чисто оборвались, товарищ капитан: ни пуговки, ни воротничка, ни носового платка. Гвоздями штаны закалываем. Делали давеча перебежку возле амбаров, упал на землю — чуть брюхо не проколол гвоздем. А тут еще день рождения мой скоро, в этом месяце, восемнадцатого числа, надо бы хоть бутылочку коньяку товарищам поставить. Похлопочите, пожалуйста, товарищ капитан.
И как всегда в свободное время, когда не ожидалась через час команда: «Выходи строиться!» — прошло и двадцать минут, и сорок, а Спивак все отвечал, забыв, что ему и людям пора отдохнуть, повторяя дважды и трижды некоторые ответы, пока не чувствовал, что мысль его понята, увлекаясь собственной речью, пересыпая серьезные места солеными шутками.
Утомившись, Спивак сел на землю, склонился набок, вытянул ушибленную ногу. На один чей-то вопрос он долго не отзывался. Солдат поднялся было, чтобы повторить: «Товарищ капитан, в каком году…» — на него замахали руками: «Тш-ш!» Капитан спал, тихо похрапывая.
Сержант Фомин осторожно вынул у него руку из-под головы и подсунул вместо нее полевую сумку.
— Всё, можно идти.
Густые брови Спивака поднялись во сне, губы чуть разжались, подбородок опустился. Лицо его, худое, вытянувшееся, выглядело очень усталым.
Агитаторы и бойцы разошлись по своим окопам, оставив капитана на том месте, где захватил его сон.
Шли из четвертой роты в штаб батальона связной Завалишин и один боец из взвода Разумовского, штурмовавший утром мельницу вместе со Спиваком. Увидав знакомую длинноногую фигуру капитана, оба кинулись к нему: «Убит?» — но, разглядев, что он спит, постояли минуту возле него и пошли своей дорогой, разговаривая о капитане.
— Свойский офицер, — сказал Завалишин, — его к нашему брату так и тянет. Любит поговорить с солдатами. Из колхозников сам. Земляк нашего комбата.
— То не оттого, что из колхозников, — сказал другой боец. — Все не из панов. Какие нынче паны? Просто душа открытая. Чин большой, а не зазнался.
— При месте человек, — сказал Завалишин. — На своем деле. Не зря тыщу монет получает. Голова! Да то мало важного, что сам понимает, он и другому растолкует. А вот до него был у нас агитатор старший лейтенант Арефьев, так все удивлялись, для чего он существует в полку: газеты делить, по скольку на батальон? Это и почтальон сам поделит, рядовой боец, не обязательно офицера при такой должности держать. Дальше комендантского взвода и санроты нигде его не видали, а если и придет, бывало, в батальон, когда стояли в обороне, так заберется куда-нибудь в пустую землянку, лежит, книжку читает, пишет что-то. Оно-то, конечно, в книжку заглядывать такому человеку нужно, так ты загляни, да и людям расскажи, а что ж про себя бормочешь. Нам-то какая польза от этого? Верно?
Там, на пригретой солнцем зеленой траве, в кустах терна, под монотонное жужжание пчел, и отдохнул Спивак, сладко поспав часа два, пока не разбудил его близкий разрыв снаряда: немцы продолжали изредка бить по селу.
Перед возвращением в штаб полка Спивак зашел еще к Петренко.
В одной половине хаты скребли, мыли, убирали и расстанавливали перенесенные из погреба вещи хозяева: дед — инвалид на костыле, в чистой полотняной рубахе, с георгиевским крестом на груди, старуха, хлопец лет десяти и молодица-невестка. Все были возбуждены, суетились, говорили наперебой, громко, как хмельные. Старуха то и дело, всплеснув руками, забывала, зачем вышла из хаты и что хотела взять, и, остановившись на пороге, начинала рассказывать лежавшим на земле под хатой бойцам-связным:
— Что делали, собаки скаженные! Скотину у людей стреляли! Да чем же та скотина божья провинилась? У Стецька Мороза корову убили в хлеву. И сами не ели — им уже не до мяса было, — так просто убили, и все. У Олексы Довбуша, у Коломыйчихи, у Дубника — у всех коров побили, кто в лес не угнал… А как начали уже наши пушки бухать — не жалко ничего. Вот дид не даст сбрехать — правда, диду? Говорю ему: «Нехай, диду, стреляют, хоть бы и в хату попали — не жалко…» А их тут у нас немало-таки стояло на дворе, целый батальон, а может, и дивизия. И дырки в стенах попробивали, и миномет на горище[8] встащили. О-о, вот бы попали хоть одним снарядом — много бы их побили! Сидим в погребе, я и говорю диду: «Нехай стреляют! Наживем опять. Выстроим новую хату. Только бы спихнуть ворогов клятых».
Мальчик прибегал всякий раз с новостями: «Мамо! Тот Франц, что у тетки Оксаны жил, за кузней лежит убитый. Дед Панас с него чеботы снял»; «Мамо! Пленных немцев гонят! И того лысого, что у нас гуску зарубил. Иди посмотри!»; «Мамо, у Игнатенчихи один в колодец спрятался, боец в него гранатой нацелился, а он как закричит, как порося резаное! Сейчас будут его бечевой тянуть!».
Мать его, с застывшей на лице широкой бессмысленной улыбкой, то брала тряпку и начинала протирать окна, то, не кончив, принималась скрести ножом закопченные чугуны, то, бросив все, садилась на ступеньках, свесив бессильно руки, и говорила, глядя на смеющихся бойцов:
— Ой, боже! Чи это правда, чи, може, сон нам такой снится? Неужели дождались?
А дед, покрикивавший на женщин, чтоб не слонялись без толку, а занимались делом, сам, принеся в хату топор, забывал, зачем он ему понадобился, и, бросив его, тоже шел к солдатам и рассказывал:
— Явдоха, соседка наша, прибежала третьего дня утром, говорит: «Кто-то ночью приходил во двор, двое, постояли у погреба, постучали щеколдою и пошли…» — «Ото ж, дурная, говорю, то ж разведка была! Надо ж было выйти до них да рассказать все про немцев». — «Неужели, говорит, диду, Красная Армия вернется?» — «Вернется, говорю, чуешь антиллерию? Это не гром, это пушки бьют, я знаю. Разведка была, жди теперь наших». А сегодня ночью и загудело. Ох, и загудело ж! Какого калибру пушки били, хлопцы! Ото ж, и я так по звуку признал, что шестидюймовки. Ох, и загудело ж! Как при брусиловском наступлении. Я ж, хлопцы, тоже воевал тут, в шестнадцатом. Только не ладно мы сделали тогда, как с Вильгельмом воевали. Теперь, хлопцы, надо немца бить не так, как хозяин поганого гостя выпроваживает — вытурить за порог, да и двери на замок, а надо гнаться за ним аж в его хату и там его мордой об пол! От так!.. Стара! Ганна! Да чего ж вы опять стали! Да несите ж бурьяну, нагрейте воды, — может, кто голову вымоет. Портянки возьмите постирайте. Мука в кадушке осталась? А ну, пирожков им с картошкою! Да скорей же поворачивайтесь! Что с вами такое сделалось? Прямо очумели. Грицко! Беги до криницы, принеси воды, бо от наших баб сегодня толку не будет.
В другой половине хаты расположились Петренко с писарем и телефонистами.
Комбат, успевший побриться, без гимнастерки, в чистой нательной рубахе, лежал на хозяйской кровати, лежа принимал и выслушивал командиров рот (только бритых и подшивших чистые воротнички — небритых отсылал назад), отдавал им разные приказания, касающиеся приведения в порядок рот после боя и подготовки к выступлению.
Писарь перебирал какие-то бумажки за столом. Подле него на стене висела гитара, которую он возил с собою всюду на повозке с личными вещами офицеров и разным штабным имуществом.
Телефонист в наушниках сидел у раскрытого окна и, скатывая из хлеба шарики, бросал их скворцам, разгуливающим на земле под яблоней.
Когда последний командир роты вышел из комнаты, Крапивка, задумчивый и грустный, сложил бумаги в сумку, взял гитару, тронул струны.
Петренко лежал на спине с открытыми глазами, закинув руки за голову. Когда он хотел спать, шум ему не мешал.
Крапивка, настроив гитару, откашлялся, тихо запел немного хрипловатым, но гибким, приятным, выразительным баритоном:
Спивак подсел на кровать к Петренко, свернул и закурил папиросу.
— Разумовского мы хотели на младшего лейтенанта аттестовать, — глухо сказал Петренко. — Способный был командир… Семьям надо написать сегодня, пока стоим.
— О Разумовском некому сообщать, — сказал Спивак. — У него никого нет родных.
И он рассказал Петренко о том, как Разумовский боялся дожить до конца войны, когда скажут — нельзя больше бить гитлеровцев.
— Архипова жалко, бронебойщика. Кому партбилет Архипова отдать? Где парторг? Кто видел Родионова? А, он пошел на речку, стиркой занимается. Вот еще кому не повезло сегодня. Слышал, как его ведром с патокой накрыло? Тоже прямое попадание. Может быть, ты возьмешь, передашь Костромину?
Петренко потянулся рукой к табуретке, на которой, прикрытые газетой, лежали медали: «За оборону Сталинграда» — Болотникова и «За отвагу» — Максименко, орден Красного Знамени Михайлюка и партбилет Архипова.
Спивак взял партбилет — склеенная засохшей кровью обложка не раскрывалась, — положил в карман гимнастерки.
— А Максименко ты помнишь? Из старых бойцов был… Тяжелый день сегодня, Павло Григорьевич, хороших ребят потеряли.
пел писарь, склонив голову к грифу гитары, закрыв глаза и покачиваясь в такт песне.
Крапивка не играл сегодня залихватских любимых своих «Ехали цыгане» и «Ветер с поля»: он похоронил утром, там же, в братской могиле на площади, в числе одиннадцати, лучшего своего друга, земляка-кубанца, старшину пятой роты Максима Бачурина, с которым почти три года топтал вместе фронтовые дороги и был неразлучен в дни отдыха, когда случалось стоять в тылу, принимая и обучая пополнение.
Бачурин был хороший баянист, Крапивка играл на гитаре и пел; оба они, видные, бравые сержанты, пользовались большим успехом у солдаток в селах.
Погиб Бачурин во время атаки танков на пятую роту от разрывной пули крупнокалиберного пулемета, попавшей ему в грудь. Крапивка своими руками опустил товарища в могилу и бросил первую горсть земли…
Тоска о погибшем друге не помешала ему, однако, включить Бачурина и еще двух убитых в строевую записку, продлить им на день жизнь по интендантским документам, получить причитающуюся им порцию вина и выпить лишнего перед обедом, на помин их души. Может быть, поэтому пальцы батальонного писаря не совсем верно перебирали лады гитары, он фальшивил в аккомпанементе, но голосу его некоторая хрипота и надтреснутость придавали особую теплоту и грусть, берущие за сердце.
— Я думаю, Микола, — сказал Спивак, — вот тут нервы у нас притупились. Нельзя иначе. Фронт, бои, смерть видим на каждом шагу. Сегодня одиннадцать похоронили. Завтра их забудем. Новые бои, новые потери. Но когда-нибудь, Микола, вспомним до последнего человека всех, кто рядом с нами падал и больше не вставал…
Крапивка умолк, окончив песню, побренчал минуту в раздумье струнами, подтянул опустившийся басок, взял аккорд и начал другую, любимую комбата и капитана Спивака:
Петренко закрыл глаза.
В дверь тихо просунулся из хозяйской комнаты связной Завалишин, большой любитель музыки и сам неплохой певец, постоял минуту у порога, поглядел на комбата и капитана — не помешает ли? — шагнул в глубину комнаты, подсел на лавку к Крапивке и мягко, с припева, включился в песню.
Крапивка сошел на втόру, уступив ему первый голос:
У Завалишина был негромкий, но чистый и очень просторный тенор. Он свободно, не напрягаясь, брал самые высокие ноты и владел голосом, как и Крапивка, с большим чувством.
Спивак сидел, опустив голову. На хозяйской половине утихли шум и разговоры. Бойцы столпились у открытой двери.
выводили два хорошо спевшихся сильных голоса, один — чуть хрипловатый, простуженный и пропитый, другой — чистый, звенящий, тоскующий.
Грустная песня захватила всех. К раскрытому окну, возле которого сидел телефонист в наушниках, подошли со двора женщины — молодая хозяйка с соседкой. Два бойца переглянулись и сели на пороге, приготовившись слушать неожиданный самодеятельный концерт до конца. У старухи что-то в печи кипело, но и ее тянуло послушать песню. Махнув рукой на шипящий чугун, словно это было живое существо, способное понять ее жест «подожди», она стала позади солдат.
Дед внес со двора охапку сухого бурьяна, с шумом бросил его на пол у печи, — все зашикали на него. Удивленно обернувшись, он прислушался, заглянул через головы солдат в переднюю комнату, на цыпочках подошел к двери и остановился рядом со старухой.
Лицо лежавшего неподвижно на кровати Петренко исказилось вдруг внутренней болью. Он приподнялся на локте, крикнул свирепо:
— Отставить! Тоже мне — нашли время! Почему без разрешения входишь, Завалишин? Распелся тут — курский соловей! А ты, Крапивка, чего празднуешь? Строевую отнес? Что в четвертую часть требовали — написал? Где наградные?
Спивак кинул удивленный взгляд на Петренко.
Песня оборвалась. Завалишин, забыв на лавке пилотку, юркнул из комнаты. Женщины отошли от окна. Бойцы, сидевшие на пороге, живо встали и вышли, прикрыв за собой дверь. Крапивка, вздохнув, повесил гитару, присел к столу.
— Все отнес, товарищ старший лейтенант. Одна маленькая бумажка осталась — о трофеях.
— Почему не сделал? Сказано — к шестнадцати ноль-ноль. Напоминать надо? А потом опять запишут какому-нибудь черту Соловьеву, как танки?
Спивак поглядел еще на Петренко и понял его. Вспомнилось ему, как лежали они зимою на командном пункте полка у реки Миус, в полуразбитой снарядами железнодорожной будке. Полк выдерживал тяжелые бои. Оставалось меньше сотни штыков. Высота, за которую дрались они, десять раз в день переходила из рук в руки. Не было метра земли на этой горе, не усеянной осколками снарядов и мин. Дорого обходилась она полку: лучших бойцов и командиров положили они там. Все страшно устали от беспрерывных боев, бессонницы и холода, обовшивели, не было табаку, не получали по нескольку дней и хлеба.
И вот как-то ночью радист на КП поймал хорошую музыку. В храп изможденных людей, сидевших на полу — лежать не хватало места, — влились тихие, нежные далекие звуки: скрипка и фортепьяно. Все проснулись и зашевелились. Радист настроил приемник, звуки росли, крепли, очищались от посторонних шумов. Так внятно стало слышно поющую скрипку и тихий перезвон струн фортепьяно, будто музыканты играли где-то близко, рядом, и слушатели сидели не на заплеванном полу будки — единственного их убежища от холода, куда люди приходили на короткое время из рот обогреться, — а в концертном зале в большом, освещенном огнями, не знающем воздушных тревог и бомбежек городе. Несколько минут они слушали музыку как зачарованные. Потом кто-то вздохнул, кто-то сказал: «Хорошая мелодия», кто-то натянул глубже шапку на уши. И вдруг со всех сторон закричали на радиста: «Замолчи!», «Отставить!», «Не до музыки!..»
Петренко снял сапоги, лег опять на кровать. Вошел парторг батальона младший лейтенант Родионов, в непросохшей выстиранной гимнастерке и таких же мокрых, плотно облепивших ноги, как рейтузы времен Николая Первого, штанах.
Заслышав еще со двора крик в хате и столкнувшись в дверях с выскочившим пробкой Завалишиным, Родионов обрадовался, что застал какой-то переполох, что комбат и, кажется, капитан Спивак чем-то рассержены, не будут смеяться над ним и переспрашивать о приключении с патокой, о котором ему уже осточертело сегодня рассказывать.
Примостившись к столу рядом с Крапивкой и разложив вынутые из полевой сумки бумаги, он принялся писать.
Спивак поговорил еще с Петренко о его заместителе по политчасти, старшем лейтенанте Никифорове, который после ранения застрял где-то в резерве и, кажется, как бывший журналист, не вернется на старую должность в батальон, а получит назначение в дивизионную или армейскую газету. Вероятно, Родионову, выдвиженцу из ротных старшин, придется замещать его до остановки перед новым туром наступления или теперь уж до конца войны.
— Жаль, что ты, Сергей Иванович, — обратился Спивак к Родионову, — не присутствовал на совещании с агитаторами. Это бы и тебе пригодилось. Я делал обзор международного положения. Где ты был? Обмывался?
— Со мной сегодня, товарищ капитан, опять чрезвычайное происшествие, — смущенно улыбаясь, ответил Родионов. — Слышали? Какой-то я несчастный, для смеху, что ли, на свет пущенный. То ракетой обожгло как-то сонного: упала вот на это место, когда спал, весь зад на штанах выгорел. А сегодня еще хуже случай. Людей пулями, осколками убивают фрицы, меня же черт знает чем. Я не от пули погибну, товарищ капитан. В следующий раз либо «юнкере» какой-нибудь подбитый свалится на голову, либо мост на переправе подо мной рухнет.
— Большая мишень, вот на тебя все и валится.
— Нет, не потому, товарищ капитан. Такой уж я, богом отмеченный… Даже в сумку натекло, всю мою канцелярию перепачкало. Приходится заново переписывать анкеты.
— Я ж тебя предупреждал — не лезь куда не нужно. Что у вас, в батальоне, никто, кроме тебя, пулемета не знает? Ты забываешь, что ты теперь политработник батальонного масштаба. До члена Военного совета фронта дослужишься и все будешь за пулемет ложиться?..
Петренко спросил Спивака, как его вылечили в госпитале, хорошо ли срослась кость: Спивак был ранен двумя пулями в плечо и в руку — действует ли рука по-старому или хуже?
Спивак поднял руку, показал: выше плеча не поднимается — хуже, значит.
— Полруки, считай, нет, — сказал он. — Наполовину для дела, наполовину для красоты осталась. Если так за каждым ранением половину способностей будет терять поврежденный член, то можно довоеваться, что весь вернешься домой только для красоты.
— А у меня, — сказал Петренко, — с ногой что-то неладно. Начала болеть старая рана. На сырую погоду крутит — терпенья нет… — Потом повернулся на бок и закрыл глаза, давая этим понять, что хочет отдохнуть. — Ложись и ты, Павло Григорьевич, на лавке.
Спиваку вдруг почему-то пришло в голову, что вот так, в чистой рубахе, на голой деревянной кровати, отвернувшись к стене, умирал его отец. Два дня лежал в сознании, говорил с домашними, подзывал к себе и обнимал детей, а потом отвернулся к стене, пролежал день молча и вечером умер. «Да что это сегодня все о покойниках!» — оборвал с досадой свои мысли Спивак.
— Ну, я пошел, Микола, — положил он руку на плечо Петренко.
— Идешь? Отдохнул бы здесь. Или тебе надо в штаб?
— Одну минутку, товарищ капитан, — сказал Родионов. — Докончу политдонесение майору Костромину, возьмете с собой.
— Добре, кончай. Только ты не расписывай много. Я же был здесь, знаю, как воевали. Все равно за полк майор заставит меня писать в подив[9]. Он донесениями не любит заниматься… Принятые ночью в партию все живы, Сергей Иванович?
— Один ранен, Зинченко. Легко. Дальше медсанбата не повезут. Я и его дело передаю на дивизионную парткомиссию.
— Да, таких надо в партию принимать, — сказал, не поворачиваясь, Петренко. — Со всеми, которые отличились в последних боях, поговори по душам, Родионов. Вот капитан рассказывает, что в тылу кадров мало осталось. Наш прием здесь — это подготовка кадров не только для армии, а и для тыла, так надо понимать.
— Да, — подтвердил Спивак. — О чем задумался, Родионов? Всё? Ну, ставь точку. Не запечатывай, давай так.
— Ну, так как, Микола, — взяв плащ и полевую сумку и нагнувшись над Петренко, спросил Спивак, — напишем домой, а? О чем ночью говорили?
— Семену Карповичу? — Петренко открыл глаза. — Обязательно напишем.
— Вместе?
— Да, вместе, если принимаешь в компанию. У меня тоже есть чего сказать товарищам. Я, видишь ли, Павло Григорьевич, несколько шире представляю себе письмо. Надо высказать все, что накопилось у нас за эти годы. У них, возможно, не было столько времени, как у нас, думать. Они не лежали по полгода в окопах: полгода перед тобою один и тот же кустик — лежишь, смотришь на него и думаешь о всей жизни, прошедшей и будущей…
— Так что ж это у нас получится? Роман «Война и мир»? Или просто — письменные речи отсутствующих на районной партийной конференции коммунистов? Что ж, это неплохо. Если вернемся домой, то, конечно, мы сами выступим, скажем, а если не вернемся — вот они, наши предложения и пожелания. С фронтовым приветом от известных вам членов партии Петренко и Спивака. Так?
Они договорились, что начнет писать Спивак, начнет со своих впечатлений от поездки домой, а потом где-нибудь еще встретятся и допишут вместе. Может быть, не в один присест, — как позволит время.
— Когда теперь придешь ко мне? — спросил Петренко.
— Не знаю. Хотел у минометчиков побывать. Командир дивизии обещал дать отдых полку после Липиц. Если будем стоять, может быть, и завтра загляну. Хочу сделать вам доклад, для офицерского и сержантского состава, о международном положении. Ну, пока!
— Павло Григорьевич! — крикнул ему Петренко, когда Спивак был уже за порогом. — Посмотри, пожалуйста, наши наградные, чтоб не завалялись в строевой части. На восемь человек послал. На Радченко и Гулика — к ордену Красного Знамени за танк. На твоего Андрюхина — к медали «За отвагу». Завалишину тоже «За отвагу». Как думаешь, не много ему будет?
— За одного фрица? Да, многовато. И фриц такой немудрящий, сам, говорят, почти в руки дался… Нет, ничего, хорошо будет. Геройство он небольшое совершил, но, главное, один фриц просочился, и тому не дал уйти.
— Когда засну, — сказал Петренко писарю, повернувшись опять к стенке, — можете продолжать концерт… У Завалишина, оказывается, голос богатый, я и не знал. Как у Лемешева. Возьми его на учет, Родионов, для батальонной самодеятельности. В Берлине пошлем его на армейскую олимпиаду… Строевым шагом только надо погонять его сначала до седьмого пота, чтоб не забывал дисциплину. Таким гречкосеем ходит неотесанным, будто вчера только в армию призван. К командиру обращается — не подойдет, как положено, не спросит разрешения, а все по-домашнему, по-панибратски. Не служба, а дядина беседа…
Задержавшись еще немного у хозяев хаты, поговорив со старым георгиевским кавалером о брусиловском прорыве и попробовав горячих пирожков с картошкой, которыми хозяйка угощала бойцов, Спивак пошел в штаб полка, не спрашивая ни у кого, где он расположился, — «по нитке», как говорят телефонисты, — по протянутому напрямик через дворы и улицы телефонному кабелю.
— А поют уже у нас девчата песни, когда идут вечером с поля домой? — спросил Петренко друга при следующей встрече с ним. — Там и девчат-то мало осталось, как послушать тебя… Или это такой народ — хоть двое их останется в бригаде, и то будут петь?
— Поют, — ответил Спивак. — Уже поют, сам слышал. Это признак хороший, верно, я тоже обратил внимание. Только песни у них перемешались. И наши солдатские поют — «Давай закурим», и новые, про фрицев, — кто-то сам сложил. Но первое время, говорят, не пели. Жутко было. В Большом Яру, мимо которого дорога в бригады проходит, немцы колонну пленных расстреляли и в колодец бросили трупы. Там сейчас братская могила на месте колодца. На огородах, за старой мельницей, зимою, когда лист с деревьев опал, пастухи нашли в вербах трех повешенных. И не опознали, чьи. Там тоже пропадали без вести люди, до сих пор разыскивают. Угонят арестованных в район, бабы придут на другой день в гестапо с передачей, им отвечают: «Нет таких». Куда делись — неизвестно… По полям было страшно ходить. У нас же там организованы были специальные курсы колхозных минеров. Ольга Рудыченко двадцать мин вытащила на своем участке. Ну, сейчас уже поют, начинают оживать… Ольга меня даже шампанским угостила. Стоял у нее во дворе немецкий обоз, так она целый ящик стащила, спрятала в солому. Распила с бабами. Мне с Оксаной две бутылки раскупорила. А еще оставила бутылку на случай, если Кузьма придет. Как у нее Прокопчук не вытряс это шампанское!
— А отстающие колхозы есть в районе?
— Рано захотел. Только начали жить, и чтоб опять уже были отстающие? Когда б они успели отстать? Хотя, как говорится, «дурне дiло не хитре». Можно и за одну посевную успеть.
— Как там сейчас колхоз «Восьмое марта», который на всех слетах и конференциях прорабатывали за падеж скота и потери урожая?
— Не знаю, не был там. Мало же отпуска мне дали, разве успеешь за такое время весь район объездить. Но по сводке помню — что-то у них неладно опять. Отстали с севом. И нельзя сказать, чтобы в худших условиях работали. Там, в Грушевке, даже больше имущества осталось в колхозах, чем у нас. Они в стороне от большой дороги, у них там немцев, говорят, мало было. И хаты там целые, и скота больше сохранилось.
— Вот ты говорил, Павло Григорьевич, о радости от наших побед, — сказал Петренко. — Это тоже туда относится. Мало радости жить людям в таких отстающих колхозах, вроде нашего «Восьмого марта», если только опять будут они у нас… Почему в армии у нас нет этого термина — отстающий полк, отстающий батальон? Вот интересно бы получилось, если бы какой-нибудь полк не выполнил боевого приказа, а комдив стал бы оправдывать его перед командующим армией: «Да что с него возьмешь, товарищ командарм, это у нас отстающий полк с самого начала войны». А ведь в районах, даже в лучшее время перед войной, всегда можно было найти за средними показателями такой захудалый колхоз, из года в год проваливающий все кампании, в котором люди, если разобраться, еще и не видели по-настоящему всех благ советской власти. И не обязательно где-нибудь у черта на куличках, за пятьдесят километров, в болотах или плавнях, куда ни весной, ни осенью не доедешь, — бывало и в самом районном центре, под носом у секретаря райкома и председателя рика. Так привыкли все к этому, как будто положено было, в порядке принудительного ассортимента, что ли, иметь в каждом районе на двадцать — тридцать хороших колхозов два-три отстающих. Вот я поэтому и спрашиваю: нет ли сейчас там у нас таких, которые опять, с самого начала, хотят попасть в эту категорию?
Завалишин, присутствовавший и при этой беседе друзей, откозырял по форме Спиваку, старшему по званию.
— Товарищ капитан! Разрешите обратиться к старшему лейтенанту. Это вы, товарищ старший лейтенант, — сказал он, — совершенно справедливо говорите, что скучная жизнь людям в отстающих колхозах. Был и у нас такой колхоз в нашем районе, где я жил до войны. Назывался «Передовик». И название дали ему будто в насмешку. Первый от заду — так его все величали у нас. Как не повезло ему, бедняге, со дня рождения, так до самой войны не было толку там в хозяйственном направлении. Разукрупняли гигант на четыре колхоза, стали делить имущество, нашему колхозу дали свиноферму, «К новым победам» дали огороды, «Маяку» дали сад, мэтэфэ, а «Передовику» ничего не дали из подсобных отраслей, одно полеводство оставили. Обидели его сразу при дележке. А земли у него такие, что только скот пасти, неудоби, залежи. В «Маяке» вся степь — пашня, ни речки, ни водопою, туда дали мэтэфэ, а в «Передовике» — луга да неудоби, довели посевной план до плетня. Как-то невнимательно отнеслись к нему с самого начала. Ну и, конечно, такой доходности уж он не имел, как другие.
А потом пошла у них карусель с председателями: один пропился, другой растрату сделал, судили его, третий грубиян был такой, что без мата, бывало, шагу не ступал, все кричал на членов правления да на бригадиров: «Головы вам поразбиваю и мозги по стенке разляпаю!» Грубостью отпугнул людей, лучшие работники ушли из колхоза, вся мастеровая сила ушла: кузнецы, плотники, колесники. Ну, совсем захирел «Передовик». Сеют до петровок, молотят до Нового года, неурожай, долги, бескормица. У нас килограммы — у них граммы, у нас рубли — у них копейки. И видно было даже со стороны, в чем там причина: руководство надо хорошее выдвинуть. Нет же, выбрали опять такого неспособного, что только на бахчу бы его посадить сторожем, грачей пугать, а до большого хозяйства и близко не стоит подпускать, — Мишку Антипова.
Из трех колхозов его в нашем районе выгоняли и всё за то же — за менку. Одно б менял: грузовик на молотилку, молотилку на племенного быка, быка на барана, барана на пекинских утей. Только в том и видел человек свое занятие. Посевная, прополочная, уборочная — это его не касается, ездит день и ночь по колхозам, ищет сватов, где бы чего выменять да магарыча выпить. Ему в райкоме, когда посылали его в «Передовик», сделали выговор с предупреждением, чтоб исправился. Ну, ненадолго поправили.
Тот секретарь, что делал ему выговор, уехал на курсы учиться, так он опять за старое принялся: продал племенных жеребцов, начал за те деньги электростанцию строить. Кобылы остались холостыми, и станцию не достроил: променял турбину на маслобойку. А маслобойку нечем пускать — мотора нет. Кучу железа навез в сарай, запер на замок, тем дело и кончилось. В общем, незавидная жизнь была в том колхозе. Поглядеть на них, и народ там какой-то угрюмый, парни, девки плохо одеты, детишки невеселые. У нас колхозники мотоциклы покупают, а там весною люди на базар за хлебом ездят.
И все как-то у нашего районного руководства руки не доходили до них, чтобы взяться как следует да навести порядок. Бывало, работаем в поле, глядим — едет машина из района, голубая «эмка». Доезжает до перекрестка — ну, куда повернет: направо или налево? Направо — к нам, налево — в «Передовик». Поворачивает направо — к нам, конечно. Как магнитом их к нам тянет. Колхоз зажиточный, работа идет — любо поглядеть, люди всем довольные, гостей встречают с радостью. А в «Передовике» одни жалобы, да склоки, да неурядицы, от крику голова распухнет. Не знаю, что у них там сейчас делается, — Мишка Антипов, мужик моих лет, должны были взять его в армию. Может, тем только и спаслись.
— Насчет отстающих колхозов, — сказал Спивак, — если поднять этот вопрос перед таким человеком, как Никитченко, так он тебе целую теорию разведет. Скажет, это утопия, не могут быть все передовыми, кто-то обязательно должен отставать. И пословицу приведет: бог даже пальцев на руке не уровнял. Но мы-то помним, как работали колхозы нашей МТС. Куст тоже немалый — двенадцать колхозов. Были отстающие? Были, конечно. Но какие отстающие? Отставание отставанию рознь. «Большевик» кончил сев ранних зерновых утром в десять часов, а «Перемога» — в тот же день, но в два часа дня, считалось — опоздали, отстали. Подводим итоги, говорим: первенство за «Большевиком». Такой разницы не было, чтобы один колхоз по десять килограммов зерна давал на трудодень, а другой по килограмму.
— Вот об этом тоже давай напишем, Павло Григорьевич, — сказал Петренко. — Увидим мы или нет ту жизнь, какая наступит после войны, но свое слово о ней сказать должны. Жизнь начинается заново. Входите, друзья, в новый дом, оботрите ноги на ступеньках. Не повторяйте старых ошибок. Ты вот рассказывал о Прокопчуке. Так он же не с неба свалился. Только не так заметно его было раньше при большом активе. И Никитченко — не вчерашний работник. Говоришь, ходит сейчас, плачет над развалинами. А до войны плакал над живым делом. Он же моим начальником был. Сколько стоило мне труда уломать его, чтобы поддержал в райкоме мой проект оросительного канала! «Не знала баба хлопот, да купила порося. Наживем мы, говорит, себе, Микола Ильич, горя этим строительством. Утвердят, установят сроки, дадут график, а потом нас же с тобою будут на каждом бюро лупить за невыполнение. Шутка сказать — двенадцать километров прокопать. Он из нас все жилы вытянет, этот канал. Какая неволя? Что мы — больше других районов страдаем от засухи?» Знаю я его.
Тогда мы кое-как терпели холодных сапожников, как ты их называешь. Добродушнее были, может быть. А теперь хотелось бы подальше видеть их от нашего коша. Если и война не добавила им ума и сердца, что же добавит? Так и пиши, Павло Григорьевич, и проси Сердюка, чтобы при них и прочитал… Пиши, что в новой жизни на освобожденной земле хотим мы видеть, после всех ужасов войны, много красоты и радости. Если не сразу создашь ее, красоту, на месте вырубленных садов и выжженных сел, пусть будет она в отношениях между людьми и в их трудовых подвигах. Хотим мы, чтобы ничто не мешало передовым труженикам развернуться во всю силу. Хотим, чтобы во все закоулки дошла радость победы и восстановления советской жизни и чтобы не было у нас опять через несколько лет этой старой болячки — отстающих колхозов. Хотим в партийных организациях видеть только вожаков и строителей — и ни одного шкурника. Многого хотим. Много крови пролили на этой земле, но и многого хотим от будущей жизни. Иначе и быть не может. Мы — наступаем. Не сохранять старые рубежи задача наша, а новые занимать.
— А есть люди, — усмехнулся Спивак, — которые иначе мечтают о восстановлении довоенной жизни. Ты, Микола, никогда не говорил на эту тему со своим Крапивкой? А тебе, Завалишин, не приходилось? Он до войны был председателем какой-то артели «Кожпропит» на Кубани. Я все добивался у него, что за название такое: «Кожпропит» — кожу пропили, что ли? Нет, говорит, особый сорт подошвы вырабатывали.
Вы потолкуйте с ним под настроение, когда обоз отстанет да придется поголодать или у хозяйки корова окажется не дойная, в общем, когда заметите, что он ходит мрачный и недовольный.
Я беседовал с ним как-то. «Эх, говорит, товарищ капитан, какая жизнь распрекрасная установилась у нас перед войной, да не ценили мы ее как следует. Подумать только: два с полтиной килограмм селедок стоил, бери сколько хочешь, хоть бочонок. Астраханская, залом, в руку толщиной, спинка, как у поросенка, сало из нее течет. А донская, высший сорт, четыре пятьдесят, в маринаде, с лавровым листиком? В какой магазин ни заглянешь — полки трещат от продуктов. Колбаса всяких сортов: любительская, чайная, варшавская, краковская, сосиски, сардельки, консервы, балыки, копчености. А выпивки — хоть залейся: от простой белой до тех ликеров включительно, в глиняных кувшинчиках, что как раскупоришь, так запах идет по всей комнате, будто духи разлили. Да дешево же все было! Три пятнадцать четвертушка белой стоила. Без карточек, без очереди».
Целый час перечислял, что было в магазинах и сколько стоило. «И как же, говорит, мы дорожили этим добром? Да так: забежишь, бывало, в магазин мимоходом, ну, сколько там нужно для закуски к обеду — возьмешь по сто грамм того-сего: заверните, пожалуйста, — больше бумаги пойдет на обертку, чем товару взял, — четвертушку водки сунешь в карман, на кондитерские изделия и не смотришь — детская еда, баловство, мелочь. Продавец набивается: может, халвы отвесить полкилограммчика? Ореховая, свежая, только что получена. А ну ее, зубы портить… Э-эх! Чего ж я, говорит, идиот, не брал это все пудами? Знал бы, что случится впереди, что, может, не раньше как через десять лет вернется такая жизнь, не пожалел бы и зубов, искусственные бы вставил, ел бы и пил, как верблюд, про запас». Горюет человек, прямо будто преступление совершил тем, что не доел, не допил в мирное время.
Я его стал утешать: «Ничего, говорю, Макар Иванович, мы еще свое возьмем. Не через десять лет — раньше затрещат полки в магазинах. Даже больше будет всяких продуктов и дешевле будут стоить». — «А я, говорит, этого, товарищ капитан, не требую. Куда еще дешевле! Пусть восстановится так, как было. Хорошо было и так. Не надо дешевле. Я мечтаю, товарищ капитан, чтобы с этим аппетитом, какой на фронте у меня развился, дожить до старого, как было до войны, а дешевле мне не надо». И продолжает опять: «А пирожки какие продавал у нас мясокомбинат, с печенкой, по тридцать пять копеек штука! А пельмени сибирские в замороженном виде — два пятьдесят килограмм!..» Раздразнил меня своими воспоминаниями так, что и у меня душа загорелась. Пришел в комендантский взвод на кухню, а там опять беда: у старшины прямое попадание в повозку с дополнительным пайком, одна каша на ужин… Короче сказать, вашему Крапивке хочется, чтобы все вернулось в точности по-старому, как было до войны: три пятнадцать, ни на копейку больше, ни на копейку меньше.
Петренко посмеялся и сказал:
— О Крапивке тоже можно приписать где-нибудь. Семен Карпович шутку любит. Это он обязательно прочитает всем.
…Не один Спивак с Петренко думали о будущей жизни, о возможной скорой перемене профессии и о встрече после войны со старыми товарищами по работе.
Командир полка, ростовчанин по происхождению, майор Горюнов, старый вояка, участник гражданской войны, узнав, что его агитатор и командир второго батальона пишут какое-то большое письмо на родину, сказал однажды за обедом в своей палатке, положив руку на плечо Спиваку:
— Вот я иногда думаю, агитатор: как у нас в Ростове-на-Дону вокзал будут восстанавливать? Кто бывал в Ростове, товарищи офицеры? Знаете наш привокзальный район? Есть там у нас такой изъян в уличном движении — пробка возле вокзала из-за железнодорожной ветки, которая прямо через улицу проходит. Едешь на вокзал с багажом в троллейбусе, торопишься к поезду, поглядываешь на часы, времени остается считанные минуты, вдруг — стоит товарный поперек дороги. Конец, приехали. Либо сиди, жди его, черта, пока он тронется, либо шагай с багажом полкилометра до вокзала — и в том и в другом случае опоздаешь к поезду. Так вот, я думаю: когда ростовские архитекторы будут восстанавливать вокзал и привокзальный район, неужели все по-старому сделают? Неужели не сообразят что-нибудь передвинуть, переставить, путь куда-нибудь в сторону отвести или вокзал на другом месте построить? А?
— Думаю, что сообразят, товарищ майор, — сказал Спивак.
— А кроме вокзала, Илья Трофимович, ничего больше не нужно у вас в Ростове передвинуть на другое место? — спросил, усмехнувшись, заместитель командира полка по политчасти майор Костромин, бывший инструктор сельскохозяйственного отдела Калининского обкома партии. — Я был у вас в сороковом году, останавливался на несколько дней, едучи на Черноморье, в санаторий. Помню, впечатление от Ростова осталось у меня не совсем отрадное. Ожидал большего. Юг, Дон, житница России, думал: там все пристани и базары завалены арбузами, фруктами. Еще в пути пояс расстегнул на ваши овощи и фрукты. А особенного изобилия не увидел. Не объелся арбузами. Так себе, как и везде, не больше овощей, чем у нас, на севере. И цены были почти такие же. А в войну пришлось мне весь Дон исходить вокруг Ростова, и видел сам, какие чудесные там угодья, какие займища в низовьях Дона не разработаны, тут же рядом, вблизи города. Тысячи гектаров плодороднейшей земли пустуют. Осушить их, обваловать, и там бы все родило: и картофель, и помидоры, и бахчи, десять таких городов, как Ростов, можно накормить. Неповоротливые у вас, видимо, мелиораторы в областных организациях.
— Черт его знает, я сельского хозяйства не касался, не занимался этим делом, не знаю. Я в облвоенкомате работал до войны. Но помню, что жинка тоже не в восторге была от наших базаров, совершенно верно. Если я на свои семьсот рублей не ел летом вволю яблок и винограда, то моя машинистка на двести пятьдесят и подавно на оскомину не жаловалась.
— Интересные будут партконференции в областях и районах после войны, когда вернется народ с фронта, — сказал майор Костромин. — Коммунистов из армии придет много. Поговорить будет о чем. Мы о своих успехах расскажем, поругают нас за то, что вначале плохо воевали, а за последующее похвалят. Товарищи о своих делах в тылу доложат. Время такое настало, что не знаешь, чему больше и удивляться: не то победам Красной Армии, не то героизму наших оружейников, шахтеров, колхозниц. Давно ли проходили мы Донбасс? — горел весь от края до края, страшно смотреть было. Думали, двадцать лет, не меньше, придется его восстанавливать. А сейчас уже читаем в газетах, домны работают, шахты каждый день вступают в строй… Где хорошо, там все хорошо и будет. Но кое-кому и влетит: за эти самые нераспаханные займища, за нечуткость к людям, за беспризорных инвалидов, если окажутся где-нибудь таковые.
— Я вот, Павел Григорьевич, — сказал начальник штаба капитан Сырцов, тоже вернувшийся недавно из госпиталя, — обратил внимание, что в тылу некоторые работники ходят в полувоенных костюмах: армейские сапоги, защитного цвета гимнастерки, командирские пояса, погонов только не хватает. Зачем это нужно? Разве по костюмам судят о работе?
Спивак рассмеялся.
— А я видел в своем районе директора МТС, Ромащенко Петра Акимовича. Знаешь, в чем он мотается по тракторным бригадам? Майка, сандалии на босу ногу, тюбетейка какая-то санаторная, вид такой, будто собрался человек на пляж загорать, а не на посевную. Но работает, — будь я Михаил Иванович Калинин, уже сегодня за сев дал бы ему орден Ленина. Об этом, капитан, мы с Петренко тоже упомянем в письме. Напишем так: не обременяйте себя, товарищи, кирзовыми сапогами и портупеями. Не стесняйтесь, носите пиджаки, галстуки, майки, шляпы, цилиндры — что хотите, лишь бы дела у вас шли хорошо.
— Пиши, пиши, агитатор! — сказал командир полка, похлопав Спивака по плечу. — Это полезно. Напомни им, что скоро придем, поможем строить. Только не испорти мне, пожалуйста, всякими домашними воспоминаниями комбата. Не преврати его раньше времени опять в агронома. А то уж вот и заместитель мой о бахчах заговорил. Хотя он, Петренко, кажется, не из таких, что раскисают… Вы, говорят, с ним из одного колхоза?
— Из одного колхоза, товарищ майор. Последнее время-то мы в колхозе уже не работали: его взяли в райзо, меня в райком, но семьи были там и сами связи не теряли с колхозом.
— Живы семьи — его, твоя? При немцах где были — в эвакуации?
— Живы, здоровы, товарищ майор, спасибо. Вернулись, дома уже. В эвакуации были. А ваша жена пишет? Где она — в Ростове?
— Пишет, да не добьюсь толку, как ей там живется. У меня жена, знаете ли, такая гордячка, что, если имеет в чем-нибудь нужду, никогда не признается. Пишет, что все в порядке, квартиру разбомбило, живет у тетки, дети учатся в две смены: один придет из школы, снимает ботинки, другой надевает. Аттестат получила, к столовой прикрепили. В общем, не жалуется, пишет — хорошо. Ладно, придем посмотрим, как хорошо. Если как всем — ничего не имею. А если окажется, что семья надзирателя местной пожарной охраны лучше жила, чем семья командира полка действующей армии, придется, товарищ Костромин, попросить слова на этой партийной конференции, о которой ты говоришь. В грудь себя бить, конечно, не буду. Я еще с гражданской не терплю тех фронтовиков, которые много кричат о заслугах и стекла в кабинетах вышибают. Я такому крикливому геройству не особенно доверяю. После войны, товарищи офицеры, так и знайте, больше всех будут шуметь третьи эшелоны, но не строевые бойцы.
Я вежливо скажу: «Дорогой товарищ заведующий отделом социального обеспечения или — как там оно называется. Подавай-ка в отставку. Попробуем использовать на твоем месте моего разведчика Сережу Лопухова: он за войну в огне много ума набрался». Если, конечно, окажется, что этот заведующий интересовался бытом семей военнослужащих, как я сейчас, скажем, здоровьем маршала Антонеску. А если действительно работал человек, делал все, что возможно в военных условиях, — в гапоны не полезу, товарищ агитатор, не бойся. Если работал, что ж, пусть себе и работает с богом. Пожму ему руку и даже поставлю Сережку выгонять крикунов из его кабинета…
Пролетали дни в боях и походах, а у Спивака все не хватало времени переписать начисто разбухшее до размеров повести письмо. Просматривая черновые наброски, он качал головой: «Как начнут читать его на полевых почтах через лупу, по всем строгостям военного времени, да как поедет оно потом по железной дороге, как я сюда ехал, с остановками по суткам на каждом полустанке, так мы с Миколой, кажется, сами раньше придем домой, чем Семен Карпович его получит». А написать хотелось все, и каждый новый разговор с товарищами о тыле, каждая встреча с Петренко добавляли к письму еще несколько страничек.
Петренко, как строевой командир, стал за три года более военным человеком, чем Спивак, и многие его мысли и сравнения шли от армии, от фронта.
— Если там пугают людей развалины, — сказал он однажды, — и кажется кое-кому, что очень долго придется восстанавливать разоренное немцами хозяйство, надо посоветовать Семену Карповичу, чтоб поднимали дух колхозников так, как мы здесь поднимаем дух солдат, еще не получивших боевого крещения. Мы на фронте ближе чувствуем помощь страны. Нас Урал вооружает. Вся Россия нас кормит, одевает. Мы тут видим всю дислокацию наших сил, сегодняшнюю и завтрашнюю.
Знаешь, как бывает с молодым бойцом, а может быть, и не молодым по возрасту, но таким, что первый раз попал на фронт? Стоит он в окопе с винтовкой или ручным пулеметом, — ночь, темнота, голая степь, реденькая цепь наблюдателей, соседа не видно ни справа, ни слева, а противник в ста метрах, ракеты пускает, — стоит, смотрит он перед собой, со страху, конечно, под каждым кустом ему мерещатся фашисты, и думает: «Какого черта я сделаю со своим пулеметом и парой дисков, если вдруг кинутся они на прорыв, вот сейчас, в эту самую минуту, с танками, с «фердинандами»? Ну, выпущу один диск, другой, а дальше что? И перезарядить не успею». Может быть, и у колхозниц некоторых сейчас такие мысли: что я сделаю тут одна со своей лопатой и коровой против этих бурьянов?..
И вот всегда начинаешь с разъяснения бойцам: кто и как будет им помогать в случае вражеской атаки. Подходишь к такому новичку ночью и говоришь ему: «Не думай, брат, что ты здесь один стоишь — выставили тебя на жертву немцам и забыли о тебе. Нет, много здесь, в этой глухой степи, глаз, ушей и скрытого огня. Вот там станковые пулеметы наши. Вон в той рощице минометы. Там дальше артиллерия, и полковая, и дивизионная, и корпусная. Это такие войска, что им не обязательно на самой передовой стоять, они и оттуда достанут. Но глаза их, наблюдатели, — вот они, рядом с тобой, в нашем же окопе. Если что-нибудь заметят, сейчас же сообщат по телефону на батареи, и оттуда такого огня сыпанут, что небо с землей смешается. Они же и поправят отсюда, если не совсем точно прицел возьмут: «вправо тридцать», «влево двадцать». А еще где-то там, в глубине, и «катюши» стоят. А еще может командир дивизии и авиацию вызвать, если серьезное дело завяжется: «Пришлите-ка звено штурмовиков — есть для них работенка». Видишь, сколько у тебя, пехоты, помощников!»
Растолкуешь так, посмеешься над его страхами, разрешишь ему покурить в рукав — сразу повеселеет парень.
Вот так и колхозницам надо разъяснять. Всю дислокацию надо показать им: кто поможет Украине. Урал поможет — наша дальнобойная артиллерия. Сибирь поможет. Пока что восстановление идет еще в условиях войны, а когда все эти заводы, что пушки и танки для нас сейчас делают, перестроятся на мирную продукцию, сколько тракторов опять загудит у нас! Сколько машин с фронта придет! Взыщем с Германии военные убытки. Пленных заставим заводы на месте разрушенных строить. И если не будет всякую минуту висеть у нас над головой угроза войны, то и больше средств сможем повернуть на хозяйство. Ни в одной пятилетке не было таких темпов строительства, каких достигнем мы после войны. Вот это нужно на каждом шагу разъяснять там, пехоте первой линии, колхозницам, чтобы веселее шли в наступление…
Спивак знал своего друга. Да, Петренко мог с душою растолковать бойцу построение обороны или боевых порядков наступающих войск и место рядового стрелка в огромной махине фронта так, что у человека распрямлялись плечи от сознания силы, руки крепче сжимали винтовку и глаза загорались злой радостью. Спивак помнил его не таким молчаливым и замкнутым в себе, каким стал Петренко на фронте. Он помнил интересные, похожие на сказки беседы Петренко-агронома с колхозниками о будущем буйном плодородии земли, его зажигательные речи на собраниях, его песни с девчатами на полевых таборах после работы…
Не верь на фронте внешней сухости и суровости комбатов, старшин, командиров рот, начальников служб — бывших сталеваров, виноделов, золотоискателей, геологов, агрономов, преподавателей музыки, архитекторов. Каждый делается солдатом, как умеет. Иной, может быть, просто решил забыть до конца войны все лишнее. «О воин, службою живущий! Читай устав на сон грядущий и, ото сна опять восстав, читай усиленно устав». У иного вся грудь в боевых орденах, а подошвы ног в твердых роговых наростах от пройденных тысяч километров, и весь он будто загрубел и очерствел, а расшевели его — все-таки в душе он по-прежнему архитектор, мечтающий о садах Семирамиды в коммунистических городах будущего…
Петренко умел скрывать и обуздывать свои чувства. Если бы не на пороге четвертого года войны и не у Карпат затеял Спивак писать это растравляющее душу письмо домой, он, возможно, сказал бы ему: «А не лучше ли, Павло Григорьевич, отставить пока это дело?» Здесь же даже не Спивак, а он сам предложил его написать. Это только потому, что на пороге четвертого года войны, у Карпат…
— Может быть, Семену Карповичу, — сказал еще как-то Петренко, — скучновато показывается второй раз делать одно и то же в своей жизни. Надо войти и в его положение. Пятнадцать лет человек работает в районе. Провел коллективизацию, построил колхозы, и опять приходится на том же месте создавать хозяйство, наживать тягло, строить фермы, сажать сады. В первые годы, когда кулаки уничтожали скот, коровами пахал и опять коровами пашет. Опять борьба с сорняками, контрактация молодняка, севообороты. Повторение пройденного. Так нет же, это не повторение. В жизни ничто дважды не повторяется точь-в-точь. Если бы даже и захотели мы, чтоб было «три пятнадцать», все равно не получится. Это что-то новое началось…
Тут без тебя, Павло Григорьевич, спрашивал меня один боец, член партии: «Скажите, товарищ комбат, как, по вашему мнению: назад отбросила нас война или вперед подвинула к той цели, какую мы себе ставили, — к коммунизму? Я, говорит, видел Донбасс после гитлеровцев, видел Запорожье. Все разбито, исковеркано, что строили три пятилетки. Опять придется заново по ступенькам подниматься, все этапы постепенно проходить?» — «Нет, говорю, не назад мы отброшены, а вперед ушли по ленинским заветам. Далеко вперед! Развалины, конечно, страшные мы видели. Ты видел, я видел, все видели. Громадный труд надо вложить в восстановление хозяйства. Будем строить, конечно, ничего не поделаешь. Но что значит раздавить злейших врагов социализма — фашистов? Это же победа из побед! Победа на глазах всего человечества. Ты чувствуешь, говорю, что мы уже перешли тот противосоветский ров, которым от нас мир отгораживался? Уже другими глазами на нас смотрят. Смотрят с удивлением: что это за люди, сломавшие шею Гитлеру, перед которым Европа в пыли лежала? Английские инженеры и рабочие шлют нам посылки, вкладывают записки: «русскому брату». На Карпаты, говорю, взберемся, — ой, далеко будет видно оттуда!.. Нет, говорю, давай смотреть иначе на развалины. Не отбросили нас фашисты назад. Не с их носом повернуть историю. Столько братьев у нас сейчас во всем мире, как никогда не было. Знаешь пословицу: «Не имей сто рублей, имей сто друзей»? Ну, у нас и рубли будут опять, дело наживное, и друзей прибавилось».
— Да, это не повторение, — согласился Спивак. — Какое повторение!.. В третьей бригаде у нас работают сейчас подруги, «комсомолками» называют их в шутку: четыре бабки, самой молодой — Домахе Федорченко — шестьдесят восемь лет. Прошлой осенью вспахали тридцать гектаров под зябь. А весною, как выехали с первым теплым днем в поле, сложили себе печку на бригадном таборе, взяли продуктов из дому и живут там, пасут по очереди коров ночью на аэродроме и в село не возвращаются. Было раньше такое? Да их и в бригадные списки уже не заносили, этих старух. Может, и звали иногда на хозяйственный двор, раз в году, в уборочную кампанию, мешки полатать. И сейчас их никто не имеет права приневолить. Могли бы поручить коров молодым, те бы пахали. Нет, сами хотят помочь. Их даже и стахановками не назовешь. Они новой агротехники не придумают и рекорды не берутся ставить, а просто пашут и пашут, с утра до вечера, без перекурки: «Цоб-цобе!» Станут плуг настраивать: «Явдоха! А ну, иди, открути оцю железяку, твой же чоловик коваль був». Вспоминают сыновей и внуков, плачут. На ходу и вспомнят, на ходу и поплачут. А вечером учетчица замеряет выработку: опять «комсомолки» полторы нормы отмахали!..
А Пашу Ющенко помнишь? Муж ее погиб под Новороссийском. Сестру увезли немцы в Германию. Отец на фронте с первого дня, и не слышно его, ни одного письма не получили. Лучшая трактористка сейчас в нашей бригаде. Не легче приходится ей там, как и нам здесь. Работает одна, без напарницы; чуть станет светлеть, запускает машину и до ночи, без смены, а если луна светит, то и ночью пашет, пока бригадир не придет да не заглушит мотор и не стащит ее с сиденья. «Заснуть, говорит, хочешь на машине да в овраг сверзиться?»
Бригадир у них старый, Иван Пантелеевич Бреус, один мужчина забронированный остался в бригаде. Спокойный человек. Ну, с девчатами только такого характера человеку и работать. Знаешь же, как с ними. У одной что-то в моторе заело: не покрутит, не сорвет ручку с места, слезы уже на глаза наворачиваются; у другой зажигание не работает, на три свечи хлопает мотор, станет четвертую откручивать, а ее током как ударит, она как заголосит, как начнет бить трактор по колесу ключом, будто корову. Тут если еще и бригадир нервный, остается ему сесть возле них на землю, да и зареветь самому с горя. Ну, Бреус не такой. «Так ты ж, говорит, не по тому месту его бьешь, там у него шкура толстая, не докажешь. Бей его прямо по клапанам!» Только что готовы были все плакать — уже смеются…
Так вот, говорил я с Пашей. «Как наладишь, говорит, мотор, да плуг настроишь хорошо, да погода хорошая и месяц светит — ездишь по степи, и не дремлется тебе, и чего-чего только не передумаешь за ночь. Вспомнишь, как мы жили до войны и где те наши люди теперь. Помечтаешь, какой станет жизнь опять лет через десять. О своих думаешь, не перестаешь. Должно быть, жив наш отец — сердцу весть подает, или это Наташка так тоскует о нас в Германии — все стоят перед глазами…»
По девять гектаров пашет в день. А трактор у нее как повозка у деда Фомки, что утильсырье у нас по селу заготовлял: передок с линейки, задок с брички. Сама рубила зубилом старые задние колеса с «ХТЗ», распускала их вдоль: делала из них уширители к своим ободьям, чтоб добавить силы трактору. Представляешь — разрубить такое железо по всей окружности обода! Сколько раз она себя молотком по пальцам стукнула! О ее выработке писала областная газета, и попал, вероятно, тот номер на фронт, — один гвардеец незнакомый прислал ей письмо, сам я читал его. Пишет: «Когда буду возвращаться домой, заеду к вам, Прасковья Федоровна, и отдам вам свой гвардейский значок — вы его заслужили вашей работой». Было это раньше?.. Это не повторение, нет. И горе, и кровь, и разруха, и — новые силы в народе поднимаются. Дураки фашисты! На что рассчитывали? Десять гитлеров не свернут народ с той дороги, на которую вывели его коммунисты. Бойцу ты правильно ответил, Микола. Эти новые силы нас далеко поведут вперед. И за границей больше друзей у нас стало, и дома теперь меньше будет таких, которые считали — «моя хата с краю». Всех взяло за живое. Один был в роду стахановец, а теперь и тетки, и дядьки, и племянники поднимутся за него…
…Петренко был агрономом. Может быть, поэтому, зная, сколько неиспользованных сил таится еще в земле и сколько «лишних» миллиардов людей способна она прокормить, он особенно остро чувствовал лживость фашистских воплей о тесноте мира… Гитлеровцам понадобилось «жизненное пространство»! Земля колхоза «Большевик», его колхоза, в котором он работал — три тысячи гектаров, — принадлежала когда-то помещику, одной семье. Этой землей завладели колхозники — триста семей. Ее хватило на всех, и хватит ее и через сто лет, и через двести, когда людей станет, может быть, вдвое, втрое больше. Земля способна давать тысячепудовые урожаи. Хлеборобы смогут сами создавать новые растения и управлять их ростом, не боясь стихий, как рабочий на заводе управляет ходом станка. Петренко знал, что так будет.
Если бы Петренко работал на опытной станции, он, может быть, всю свою жизнь посвятил бы выведению какого-нибудь небывалого, многолетнего, отрастающего от корня подсолнуха или гибрида картофеля с помидором, дающего плоды на корнях и на ботве.
Но он был агрономом-практиком. В его обязанности входило наведение порядка на всей колхозной площади посевов в три тысячи гектаров. Он контролировал глубину вспашки, чистил и проверял на всхожесть семена, разрабатывал посевные и уборочные планы бригад, уничтожал вредителей. И были у него выделенные из общих массивов небольшие участки, которыми он показывал колхозникам будущее изобилие. Ему не терпелось заглянуть вперед.
Вокруг Петренко объединялись все беспокойные, ищущие, смелые, не вполне удовлетворенные сегодняшним днем колхозники. Он продвигал на поля новые высокодоходные культуры, восставал против традиционного крестьянского зимнего ничегонеделания, придумывал, в каких подсобных отраслях можно использовать свободные рабочие руки.
Земли в колхозе было много, но даже гектар незасеянной площади выводил его из себя. Петренко разбивал с девчатами цветники на полевых бригадных таборах, сеял в междурядьях колхозного сада фацелию для пчел, заставлял колхозников брать из питомников молодые плодовые деревья и сажать их во дворах и на улицах перед хатами.
Он был агрономом до мозга костей, горячо любил колхозное дело и свою профессию и никогда не думал менять ее ни на что другое.
Петренко был лет на семь моложе Спивака по возрасту и по партийному стажу. В 1930 году он был еще комсомольцем и первые годы работал в колхозе рядовым ездовым. Колхоз и послал его на учебу в институт, с условием возвращения на работу домой. Из колхоза он ушел перед самой войной, в начале сорок первого года, с большой неохотой.
Выдвинул его на должность старшего агронома райземотдела тот же Сердюк, секретарь райкома, который незадолго перед тем взял к себе на работу в райком и бывшего парторга колхоза «Большевик» Спивака.
Здесь Петренко не много успел сделать: познакомился лишь с колхозами района, в которых ему не приходилось бывать раньше, провел одну посевную кампанию в новой должности и добился решения о строительстве большого межколхозного оросительного канала.
В июне началась война. Пришлось переменить профессию…
Начинал Петренко воевать в должности старшины роты, в которой демобилизовался когда-то в мирное время, отслужив действительную, потом был командиром взвода, был аттестован младшим лейтенантом, после первого ранения получил роту и звание лейтенанта, после второго ранения и курсов — батальон и еще одну звездочку на погоны. С аттестациями ему не везло: то пропадали бесследно при выходе из окружения вместе со штабом, куда были посланы, то возвращались назад из-за какой-то небрежности писаря, оформлявшего документы, то сам он, по скромности, не напоминал начальству, что давно уже наступили законные сроки присвоения ему очередного звания. Даже не будучи особо одаренным стратегом, все-таки, по всем статьям, за три года войны до майора или подполковника он дослужиться мог и был бы, пожалуй, неплохим командиром полка — «писаря подвели».
Спивак и Петренко не все время находились вместе. На Сталинградском фронте они воевали в разных дивизиях, не зная ничего друг о друге, и встретились уже весною 1943 года в Донбассе, в резерве армии, оба после госпиталя, где и получили назначение, по совместной просьбе, в одну дивизию и в один полк.
Петренко был придирчивым и требовательным командиром. Он стал таким после первого же боя, когда увидел, что такое война и в чем заключается искусство вождения за собою в огонь и в воду людей, одетых в серые шинели. Чтобы удержать солдат перед идущими на окопы танками или поднять их в атаку под пулями, когда спасительные ложбинки притягивают к себе людей магнитом и нет, кажется, силы, способной оторвать их от земли, нужно, конечно, чтобы знали солдаты, что они защищают и ради чего ведется смертный бой, но не в меньшей мере нужна железная, вышколенная не одним и не двумя днями обучения и казарменной жизни дисциплина. Нужно чувство беспрекословного подчинения командиру поднять в солдате над инстинктом самосохранения и укрепить его так, чтобы оно стало вторым инстинктом, причем — сильнейшим.
Поняв всем сердцем, на опыте нескольких неудачных боев, значение для армии дисциплины, Петренко стал на каждом шагу «отрабатывать» ее в подразделениях, которыми приходилось ему командовать: в лагере и в походе, в бою и на отдыхе, днем и ночью. Он все видел и ничего не прощал: грязный котелок бойца, пришедшего к кухне за обедом, небрежную позу командира взвода при отдаче приказания, портянку, брошенную на столик в землянке рядом с хлебом, косо пришитый хлястик у шинели. Он не уставал делать замечания и выговоры, но делал их не нудно, не сквозь зубы, а с жаром, с чувством глубокой убежденности в том, что от правильно пришитого хлястика на шинели солдата зависит успех его подразделения в завтрашнем бою.
Строгий, неулыбчивый, он рассмеялся впервые с того дня, как начал воевать, подслушав однажды разговор двух молодых сержантов, командиров отделений (он командовал уже в то время ротой). Один сержант говорил другому:
— Так и глазастый же черт старший лейтенант! За двадцать метров ночью разглядел, что у Козлова пулемет в окопе неправильно установлен — без колышков. И муха не пролетит. Ну и человек! Вот от него, вероятно, жинка дома плакала! И в борщ к ней, должно быть, заглядывал, проверял, сколько картошек положила и по форме ли цибулю поджаривает. Понимаешь, Кузьменко, у меня такое ощущение: где бы я ни был, что бы ни делал, все мне кажется, будто комроты стоит где-то недалеко сзади и смотрит мне в спину.
Это было уже то, что и требовалось — инстинкт. Но Петренко рассмеялся не тому, что достиг цели. Он вспомнил дом и жену. Сержант ошибался. Никогда не заглядывал он в борщ к жене, не проверял ее домашних приходов-расходов и не присматривался к ее туалету. Наоборот, жена заставляла его бриться, повязывала ему галстук в праздничные дни, одергивала криво подпоясанную сорочку и вечно ругала за разбросанные по всем комнатам книги, окурки, пробирки с образцами семян и рыболовные и охотничьи снасти.
Солдаты-новички, попадая в батальон Петренко, не сразу оценивали по заслугам неяркую фигуру своего комбата. Сначала его только боялись за вечные его придирки. Если была возможность обогнуть стороной землянку комбата, солдаты делали лишних двести метров, лишь бы не попадаться ему на глаза… На самой чистой винтовке он находил пятна ржавчины, из-за неуклюжего поворота при отходе вызывал командира взвода и приказывал ему тут же, на командном пункте, провести строевые занятия с солдатом. Потом все начинали удивляться: когда же он сам спит и отдыхает, этот неугомонный старший лейтенант? Петренко любил удивить командиров рот и бойцов своей выносливостью и постоянной бдительностью, полагая, вполне резонно, что эти качества укрепляют авторитет командира в глазах подчиненных. В обороне не проходило ночи, чтобы он не позвонил лично раз десять во все роты, спрашивая обстановку, а днем те же связные, телефонисты и наблюдатели видели его в ротах на ногах, с утра до вечера меряющим глубину ходов сообщения, проверяющим сектора обстрела и установку оружия.
Проходило еще немного времени. Выяснялись потери других подразделений, где командиры были не так придирчивы. И солдаты начинали уважать своего комбата, как возмужавший и поумневший сын уважает и благодарит отца за строгое воспитание в юности.
Последний раз они стояли в длительной обороне в Донбассе, весною 1943 года. Ни у кого не было отрыто столько километров ходов сообщения, как в батальоне Петренко, таких глубоких, с надежными перекрытиями, бомбоубежищ, такой чистоты в землянках и такого кажущегося мертвого безлюдья в окопах, где, кроме наблюдателей, ни один человек не выставлял днем голову за бруствер.
У солдат, копавших ночью землю, попрели гимнастерки на спинах от пота Петренко ходил по траншеям, как прораб, с рулеткой, устанавливал обязательные нормы выработки, объявлял благодарность перевыполнявшим нормы и давал наряды невыполнявшим. Люди проклинали «передышку», а заодно с нею и старшего лейтенанта Петренко, ждали с нетерпением продолжения походов и наступательных боев. Но зато батальон за четыре месяца в обороне, на переднем крае, потерял от бомбежек, артиллерийского и пулеметного огня противника всего шесть человек В то же время одни лишь снайперы Петренко уничтожили на своем участке шестьдесят восемь немцев. Эти цифры публиковались в фронтовой красноармейской газете, и многие бойцы сохранили на память вырезки из номера с портретом своего комбата, чтобы, придя домой после войны, показать жене: «Вот, жинка, кого поблагодари за то, что жив остался».
За второй батальон, как бы напряженно ни складывалась обстановка, командир полка всегда был спокоен, зная, что Петренко не сделает глупости, не полезет сам зря в огонь, рискуя обезглавить батальон в критическую минуту боя, в обороне без приказа не отступит ни перед «пантерами», ни перед «тиграми» и без крайней нужды подкреплений не попросит, в наступлении не пошлет очертя голову бойцов в лоб на дзоты, если есть возможность совершить какой-нибудь маневр или обойтись приданной артиллерией, а при преследовании противника не оторвется от него ни на шаг ни ночью, ни в туман, ни в грязь, при полном бездорожье, когда приходится выпрягать лошадей и катить пушки на себе и через каждые сто метров подменять солдат, несущих на плечах минометы и четырехпудовые разобранные «максимы».
Не имея врожденных полководческих талантов для крупной самостоятельной работы в армии, Петренко, однако, смог, переламывая характер и изгоняя из головы и сердца все лишнее на время войны, сделать себя неплохим исполнителем чужих больших вдохновенных замыслов — дисциплинированным, неутомимым в наведении порядка и организованности, тактически грамотным командиром подразделения. Когда родина призвала его под ружье, Петренко стал настоящим солдатом, способным на длительное напряжение, на самопожертвование, на подвиги и на будничный, скучный, тяжелый труд фронтовика. Что еще требовалось от бывшего агронома, человека живой, благородной, мирной профессии? Пожалуй, больше ничего…
5
Была еще ночь, похожая на ночь у села Липицы. Посвечивали ракеты. Строчки трассирующих пуль расшивали темное небо цветистыми узорами. Высоко над землей гудели ночные дальние бомбардировщики, отправляющиеся в первый рейс. Квакали лягушки в болоте. Пели соловьи на опушке сосновой рощицы.
Но в этот раз Петренко не готовился к атаке. Наступление временно приостановилось. Уже три дня солдаты строили оборону в холмистой, изрезанной глубокими оврагами, похожей на Донбасс с его перелесками и балками местности. Долбили каменистый грунт, рубили сосны в рощах на перекрытия блиндажей, стирали белье в прозрачных ручьях на дне оврагов, мылись, брились, ругали немцев за внезапные огневые налеты, любовались синеющими вдали Карпатами. Кубанцы и терцы говорили, что Карпаты похожи на Кавказские горы, уральцам они напоминали Уральский хребет, а сибирякам — Хамар-Дабан у Байкала.
Сзади подходили колонны машин со снарядами, горновьючным снаряжением, продовольствием и свежими войсками…
Спивак и Петренко лежали на бруствере окопа, глядя на запад, где над горизонтом еще блестела узенькая светлая полоска. На фронте бойцы всегда смотрят на запад. Это стало привычкой. Там города и села, ожидающие освобождения. Там противник, за которым надо безотрывно наблюдать. Там, на западе, долго горят в небе по вечерам зори и отражения далеких пожаров…
Петренко много говорил в эту ночь и был в каком-то приподнятом настроении, вызывавшем смутную тревогу у Спивака. На войне люди делаются немного суеверными и иногда, даже против воли, стыдясь признаться в этом самому себе, придают значение предчувствиям и приметам. Может быть, Петренко очень устал за день, не ел с утра и стакан водки за ужином охмелил его, а может быть, не много осталось у него таких ночей.
Спиваку накануне снилось: брел он по дороге, заваленной убитыми лошадьми и трупами людей, один, как отставший от маршевой роты боец, присаживался отдохнуть на снарядных ящиках, закуривал и все удивлялся тишине и безлюдью на дороге, где, судя по догоравшим обломкам повозок и машин, всего лишь несколько минут назад кипел жаркий бой.
— Я не мужик, Павло Григорьевич, — говорил Петренко. — Хотя и люблю я степь, крестьянский труд, природу, но все-таки не мужик. Я с удовольствием слушаю шум большого завода и машин. Как музыку слушаю. В тракторной бригаде у нас, бывало, как начнут трактористы утром запускать моторы, как загудят они все разом, — земля дрожит под ними, и у меня все внутри дрожит. Сто раз слышал, а — волнует. Мне приходилось быть в Донбассе до войны, когда он грохотал железом и дымил всеми трубами. Чудесное зрелище!.. Я смотрю на завод и думаю: как он роднит людей. У старого рабочего, проработавшего лет тридцать на производстве, — в чем душа? В своем цехе, в мартене, в шахте. А у крестьянина раньше в чем была душа? В своем амбаре, в своем свинячьем катухе, в своей усадьбе, огороженной канавой, да еще и колючей проволокой. Я ненавижу, Павло Григорьевич, мужицкую конуру. Мы неплохо жили до революции. Было хозяйство, земля, лошади. А что с нашей семьей сделала жадность? Ты же знаешь нас. За что брат Петро в Сибири погиб? Помнишь, как он в зятья к кулаку Дуднику приставал?
— Ну как же, Марфу сватал. Ту, кривую, припадочную.
— Кривую, припадочную, полоумную, да еще и глухую. Как бы он с нею жил — не знаю, все равно бы с тоски удавился. Дом у Дудника был кирпичный и пять пар волов, а наследников, кроме Марфы, никого. Из-за дома, из-за волов и Андрея Бабича убил, соперника своего. Подрались, хватил его лопатой по голове, — у того и череп пополам. Как угнали в Сибирь в двенадцатом году, так ни одного письма не получили от него. А Степана, старшего брата, мужики при дележе земли изувечили. А отец ряженки объелся на базаре, богу душу отдал.
За что нас дразнили по-уличному «Ряженки»? Меня до самой женитьбы звали Микола Ряженка. Повез отец в Полтаву на базар молоко и колбасы свиные продавать в девятнадцатом году, а там кто-то крикнул: «Облава! Продукты реквизируют!» — так он, чтобы не пропадало добро, десять кувшинов ряженки выпил и с полпуда колбасы съел. За город выехал — и кончился в бричке. Соседи привезли домой мертвого. Мать причитала над ним: «Ой, Илья, Илья, що ж ты наробыв! Та в тебе ж диты, та в тебе ж маленьки. Та кто ж теперь нашу худобу нагодуе, кто же нам ту земельку засие!» Земелька… Тебя, Павло Григорьевич, не учил отец, как по-хозяйски землю пахать, чтобы хоть на плуг на чужое заходило? Не переставлял ночью колышки на межах?
— У нас, слава богу, нечего было пахать, да и нечем.
— Ну, у нас было… Не только то конура, где жабы под лавками сидят и мокрицы по стенам ползают. И хоромы — конура. Помнишь хутор Бойченко, пять дворов, на полтавском шляху? Красивый такой хуторок, дома под железом, в тополях, каменные ограды, сады перед домами. Если, бывало, едешь зимой да захватит метель в дороге, — на Бойченко не заезжай. Столько комнат в домах, что не достучишься, где они там у черта спят, хоть ругайся, хоть кричи, хоть плачь — ни одна собака не пустит заночевать, ложись посреди улицы и замерзай… Все равно конура! Если бы не коллективизация, кем бы я был, Павло Григорьевич? Что бы получилось из моего комсомольства при собственном хозяйстве? Сам себе агроном? Закопался бы в нем, как жук в навозе, забыл бы, зачем и вступал в комсомол. Не было разве у нас в деревнях в те годы таких шкурников, что выгоняли из партии при чистке как кулаков? Дорвался до земли, год уродило, два уродило, на скотину повезло, разгорелась жадность, начал у вдов землю приарендовывать, батраков, под видом родственников, нанимать. Так бы, может, и я не ряженкой, так Соловками кончил, если бы лет на десять, на пятнадцать оттянули коллективизацию…
— Чем дальше отходим мы от тридцатых годов, — продолжал после долгой паузы Петренко, — тем виднее становится, на какую гору поднялись мы, создав колхозы. Как здорово пошли дела у нас! Расшевелили мужика, вытащили его из конуры. Какие таланты открылись в народе! Сколько хороших людей спасли от уродства!..
В эту ночь больше говорил Петренко, а Спивак слушал.
— Напиши, Павло Григорьевич, так. За коммунизм люди в пятом году погибали, в семнадцатом году за него на смерть шли. И сейчас эта кровь, что льется, — за коммунизм… Мы всю Украину прошли, но колхозов не видели. При нас они не успевают возродиться. Мы гости недолгие. Еще пожары в селе не потушены, а нам уже приказ: «Приготовиться к выступлению!..» Идем дальше. Но люди нас спрашивают: «Как будем начинать жить? Опять колхозом или как?» И мы отвечаем: «Да, колхозом. Будет опять советская власть, будут колхозы, МТС, будете на собраниях выступать, детей в университетах учить, стахановцы будут в Москву ездить — все будет опять, как до войны». Говорим так и идем дальше на запад. А остальное — ваше, друзья, дело. Наше дело — освободить людей и сказать им: «Будет!» — а вы создавайте ее поскорее, советскую жизнь…
…Тишина на передовой стояла необычная. Ни одной ракеты с немецкой стороны, ни одной пулеметной очереди. Долго лежали Спивак и Петренко на прохладной рыхлой земле, выброшенной из свежего окопа. Укрываться за бруствер было незачем: ни одна пуля не свистнула над их головами, будто не на фронте, не на передовой лежали они, а дома, в поле, на охотничьем привале или на отдыхе после работы в колхозной бригаде. Так было тихо вокруг, словно немцы под покровом ночи совсем ушли со своих позиций, занимаемых днем, куда-то дальше, к горам. Но нет, не ушли они. Боевое охранение батальона, выдвинутое на полкилометра, сообщало по телефону, что ясно слышит перед собою в окопах, метрах в ста, немецкую речь, стук котелков, песни и пиликанье губных гармошек.
Долго говорили в эту ночь друзья-земляки о колхозе, о знакомых людях в районе и о письме секретарю районного комитета партии…
— Ну, и чтоб не залезть в гапоны, — сказал наконец Спивак, — надо, Микола, закруглять. Все равно всего за один раз не выскажем. Живы будем — еще, может быть, напишем. Закончим так: «Не горюй, Семен Карпович, о кадрах, как Никитченко о волах, что мало осталось и нечетное количество, — скоро и мы придем, поможем строить». И напишем, какой народ у нас есть, что за сила нагрянет в районы после войны с фронта.
Особенно хвалить фронтовиков не приходится, потому что и мы в том же числе, — выходит, самих себя хвалить, но все-таки можно сказать — ребята придут не плохие. Из одного твоего батальона можно набрать председателей колхозов и бригадиров на целый район. Да каких председателей! Один так привык здесь в чистом поле жить, что его теперь и смолой к стулу в кабинете не приклеишь. Другой над траншеями да противотанковыми рвами все головой качал и думал: сколько ферганских каналов не достроили мы до войны! Третий топил в Днепре полицаев и старост, когда они собрались там со всего Левобережья в очередь на переправу, и думал: откуда у нас эта нечисть завелась на советской земле? Как мы ее раньше не распознали? Все в близких соседях со смертью были, и все о жизни думали. Придут и такие, как Разумовский, которые ни дома, ни жены, ни детей не найдут. Как с ними быть? Чем их успокоить? Тоже работой. Такой работой, чтоб себя в ней забывал человек, чтобы чувствовал каждую минуту, что продолжает воевать. Они много могут сделать, такие обездоленные. Могут и надебоширить с тоски, но могут много и полезного сделать, если в хорошие руки попадут… Крапивка и тот, сукин кот, когда собьет первый аппетит на пирожках с печенкой, перестанет подсчитывать, сколько не доел и не допил в мирное время, а подумает и о том, сколько не доработал в своем «Кожпропите».
Или лучше не писать ему о фронтовиках, чтоб не расхолаживать? Пусть пока не надеется на нас, а ищет кадры на месте. Только надо выдвигать их смелее.
Нельзя жить все время старыми воспоминаниями: вот, мол, был у нас когда-то в районе знаменитый бригадир тракторной бригады Семен Гридас или председатель колхоза, дважды получивший золотую медаль на выставке, Микита Ляшенко. Гридас уже танковым полком командует, а Микита — начальник политотдела в гвардейской мотомехдивизии. Ну, что ж, надо к другим фамилиям привыкать. Не Ляшенко, так Ильюшенко, может, будет лучшим председателем колхоза, и не Гридас, а Паша Ющенко поставит новый рекорд на «ХТЗ»…
Знаешь, что за баба оказалась Ольга Рудыченко из Марининого звена? Что при немцах она проделывала! Акт на вечное пользование землей сберегла. Зашла в правление колхоза, перед самым приходом немцев, а там, не к чести нашего Луки Гавриловича будь сказано, вся канцелярия, все бумаги брошены посреди кабинета. Увидела акт в красной обложке, спрятала, уничтожила списки партийной и комсомольской организаций — беспартийная женщина, а о чем подумала! — еще кое-что подобрала из важных документов. И хранила тот акт у себя дома, пока не вернулись наши. Трех раненых красноармейцев спасла. Два месяца прятала в сарае, кормила, поила, перевязку делала им, пока стали ходить, потом вывела ночью за село и направила к партизанам.
Рассказывали женщины, как она с одним немцем срезалась из-за названия колхоза. Проезжал мотоциклист по улице, остановился возле ее двора, вынул карту, подзывает ее. «Как называется?» — показывает рукой на нашу заречную часть села. «Колхоз «Большевик», говорит». — «Как — «Большевик»?» А при немцах колхоз назывался «Алексеевская община № 2». «Так, говорит, «Большевик». Немец лезет в кобуру за пистолетом, а Ольга в карту к нему заглядывает. «Пан офицер, говорит, так чего же вы на меня вызверились? Вот же, смотрите, и у вас написано: «Колхоз «Большевик». (Карта была копия с нашей — на русском и на немецком языках наименования населенных пунктов.) Я вам правильно называю. А вот та дорога — то на «Червоний партизан» пойдет. Если я вам скажу «Община № 2», так вам же непонятно будет. Я вас с пути собью. У вас и на карте нет такого названия». Немец свернул карту трубкой, хлестнул ее по лицу, поехал дальше — на «Червоний партизан». А она стоит, смеется.
Эти бабы, девчата, старики могут, Микола, больших чудес там натворить. Возьмутся да и проведут и посевную и уборочную еще лучше, чем когда-то при нас проводили. Если задержимся в Европе да не скоро вернемся домой, они нам встречу подготовят такую, что мы придем и глазам своим не поверим: да когда же вы, родные, успели это все сделать?..
По крестьянскому обычаю полагается, Микола, начинать с поклонов, ну, ты уж меня извини, под конец оставил. Поклонов да приветов тебе надавали из колхоза столько, что я им говорил: что же это, мне целый день придется стоять перед ним и кланяться, пока голова отвалится?
Ольга Рудыченко передавала поклон. Феня Кулешова кланялась от всей огородной бригады. Лука Гаврилович передавал привет горячий. И Никитченко кланялся и Федченко — председатель райисполкома. Нас там все-таки не лихом поминают. Ольга говорила: «Жаль, нет Миколы Ильича. Я взяла обязательство двадцать центнеров подсолнуха с гектара собрать, больше не рискнула, а с ним и на тридцать подписала бы. Два года не было у нас ни курсов, ни кружков никаких, забыли, что учили с ним. Да, может, оно уже и устарело, что учили, может, за это время стахановцы, куда немец не доходил, еще какие-нибудь новые способы повышения урожайности открыли, а мы про них еще ничего и не знаем…»
Жену твою, когда приехала она из Алма-Аты в пустую хату, бабы всем колхозом на хозяйство становили: кто ведро принес, кто кастрюлю, кто пару ложек, кто рубаху детям… Оксане моей тоже помогли. У моей и хаты не было. Панас Горбач жил в нашей хате при немцах, а перед отступлением спалил. Крыша сгорела, а стены — саманные — остались. Поставили уже новый верх, окна, двери сделали. Я пришел и не узнаю: двор мой, а хата не моя. Моя под камышом была, а эта под черепицей. Стучу, открывает Оксана, — нет, моя…
Если бы не было так темно, то Спивак увидел бы, что у его друга, лежавшего рядом на бруствере и жевавшего сорванную сухую былинку, заблестели на глазах слезы. Может быть, только потому и заблестели, что было темно и никто их не видел…
Спивак, взяв связного, знающего дорогу в третий батальон, ушел от Петренко в час ночи. Сплошных ходов сообщения по всему участку обороны солдаты еще не успели отрыть. Днем немцы не пускали ходить открыто перед их окопами. Самым удобным временем для встреч с нужными людьми в батальоне и в ротах была ночь.
Спивак успел только добраться до КП батальона и выпить с комбатом, капитаном Соловьевым, по кружке холодного, густого, как сливки, молока. Соловьев был хозяйственный комбат и держал у себя дойную корову, отбитую у немцев, которую вели с обозом. Всех приходящих из штаба полка офицеров Соловьев первым долгом угощал литровой кружкой молока с «собственной МТФ» и сам выпивал с ними за компанию такую же. Был у него и «походный огород» — высаженный в ящике и возимый на повозке повара зеленый лук. Луку Спиваку попробовать не пришлось, хотя хлебосольный Соловьев уже подмигнул своему ординарцу. В час сорок пять слева — в районе второго батальона — завязался бой…
Соловьев, выйдя из блиндажа и прислушавшись, где рвутся мины и строчат пулеметы, сказал:
— Триста четыре, пять. Она самая. У Петренко. Аппендицит режут.
Спивак понял его. Батальон Петренко занимал выгодную в тактическом отношении высоту, выдавшуюся клином в расположение немецких войск. Немцы, видимо, ударами с флангов на роту Осадчего и роту Белого решили из клина сделать мешок, зажать батальон на высоте и, уничтожив его, закрепиться там, если только завязавшаяся артиллерийская перестрелка и пулеметная трескотня не были началом операции большего масштаба. Загудело и дальше, за батальоном Петренко в районе первого батальона, и справа, на участке соседнего полка. Возможно, немцы, подтянув резервы, перешли в контрнаступление на всем участке дивизии. Но почему в таком случае в третьем батальоне было тихо?
Совещание агитаторов и парторгов рот пришлось отложить. Спивак позвонил в штаб майору Костромину и спросил его, можно ли ему возвратиться в батальон Петренко.
— Нет, — сказал Костромин, — к Петренко я иду сам. Ты оттуда уже не пройдешь. Оставайся у Соловьева. Вы тоже не спите там.
— А что происходит у Петренко, товарищ майор? — спросил Спивак.
— Дерутся. Положение серьезное. Немцев лезет до черта. Подробностей пока не знаю. Пойду — выясню. Родионов убит.
— Ну? Как?
— Не знаю. Сообщили только — убит. Сейчас не работает связь. Ну, иду. Пока!
Спустя некоторое время стало ясно из сообщений соседей, что несильный артиллерийский и минометный огонь на их участках всего лишь демонстрация, прикрывающая главную цель завязанного немцами ночного боя — атаку на высоту 304,5.
— Всегда такая мертвая тишина на обороне не к добру, — сказал капитан Соловьев. — Очень уж экономили они с вечера боеприпасы.
Хотя перед обороной третьего батальона было пока тихо, но и здесь в случае более глубокого обхода немцами высоты можно было ожидать какой-нибудь каверзы, особенно на левом фланге.
Соловьев пошел в первую роту. Спивак остался на КП у телефона.
Выждав час, — уже начало светлеть небо в прорезях плащ-палатки, закрывавшей вход в блиндаж, — он позвонил еще в штаб. Ему ответил начальник штаба капитан Сырцов.
Спивак по голосу Сырцова, по тому, как тот несколько раз кашлянул в трубку, прежде чем начать разговор, сразу понял, что у него есть плохие для него известия.
— Что тебя интересует, Павел Григорьевич? — спросил Сырцов. — Положение во втором батальоне? Дерутся. Отбили три атаки. По-видимому, хотят сомкнуть края подковы, но не удается. Этого надо было ожидать, конечно Очень уж заманчивая дуга получилась. Танков нет, автоматчики лезут. И сильный артиллерийский огонь. Была попытка обойти капэ. Потеряли связь на время. Сейчас связь восстановлена. Родионов убит, знаешь?
Спивак вспомнил слова Родионова: «Я не от пули погибну, товарищ капитан», — и спросил:
— Как убит?
— Взрывной волной ударило об стену блиндажа.
— Еще что, Виктор Ефимович? — спросил Спивак.
Сырцов помедлил несколько секунд.
— Петренко ранен. Тяжело. В голову и в грудь. За него остался Мазнюк. И Костромин сейчас там.
— Петренко?
Вероятно, Сырцов, зная дружбу капитана с Петренко, удивился спокойному тону, каким он переспросил его. Но Спивак уже в самом начале разговора почувствовал, что скажет ему начальник штаба. Он ожидал даже худшего.
Первым его побуждением было — бежать на КП полка, а оттуда все-таки пробраться во второй батальон. Но тут же ему пришла в голову мысль, заставившая его опять взять трубку.
— Виктор Ефимович, ты? Где сейчас Петренко? В каком он состоянии?
— Только что, пять минут назад, отправили в медсанбат. Сюда принесли его санитары на носилках, отсюда отправили машиной. Когда делали перевязку, пришел в чувство, попросил водки, я дал ему полкружки, потом опять потерял сознание. В грудь — сквозная, в правое легкое, в голову тоже пулевая, но, кажется, мозг не зацепило.
Спивак отдал трубку телефонисту. Медсанбат — это десять километров в тыл. В такой неспокойно начавшийся день туда не поедешь. Да и там Петренко, возможно, будут держать недолго, сразу же отправят дальше. Всё. Если выживет, может быть, где-нибудь еще встретятся на фронте, если не кончится к тому времени война и если его самого не убьют. А если помрет, то больше, значит, ему друга не видеть. На войне не вызывают телеграммами родственников и друзей за тысячу километров попрощаться с телом.
Спивак вышел из душного блиндажа на воздух, послушал гул боя слева у высоты 304,5, пенье жаворонков вверху в сером небе, сел на бруствер, вынул из кармана кисет и стал сворачивать задрожавшими пальцами папиросу, просыпая табак на землю.
В семь часов утра, после шестой неудачной атаки немцев на высоту, бой стал утихать. Вылазка обошлась немцам дорого. Даже с КП третьего батальона видно было в бинокль множество трупов в зеленых мундирах на скатах высоты 304,5.
В восемь часов майор Костромин, вернувшийся из батальона, вызвал Спивака к себе для составления сводки в политотдел дивизии.
Спиваку некогда было и погоревать о товарище. Майор Костромин рассказывал, он писал, торопясь закончить, пока не уехал связной в штаб дивизии. Из его рассказа он и узнал, что произошло во втором батальоне, как Петренко получил на своем командном пункте в первые же минуты боя пулевые ранения.
Немцы, как и предполагал Спивак с Соловьевым, ударили наперехват клина, образовавшегося в линии обороны, по четвертой и шестой ротам. Наступало их всего, с подкреплениями, до двух батальонов. Когда завязался бой на флангах, поднялась одновременно стрельба и в тылу, за КП. Очевидно, вечером, когда было так подозрительно тихо, немцы пропустили через нейтральную зону группу автоматчиков, которым к началу боя удалось где-то просочиться через оборону и зайти с тыла.
Костромин пришел в батальон, когда там было уже покончено с ними. Их было не так много — человек пятнадцать, но переполоха в темноте они наделали порядочно. Первыми встретили их командир хозвзвода с поварами и ездовыми, двух убили, остальных разогнали, но впотьмах перестреляли и своих лошадей и ранили одного бойца. Затем немцы напоролись на стоявших в балке минометчиков, — здесь часовые тоже не спали и, открыв огонь из автоматов, уложили еще человек четырех. Все-таки семерым автоматчикам удалось добраться до самого КП, где были взвод охраны штаба, связные, телефонисты, Петренко и писарь. Родионов был в четвертой роте, куда пошел еще с вечера. Там он и был убит.
Бойцы рассказывали, что первыми словами Петренко, когда он услышал треск немецких автоматов вблизи КП, было: «Досадно! Не по сезону. Это не сорок первый год, чтобы попадать в окружение». Вел он себя, как всегда, очень спокойно. Оставив в блиндаже телефониста у аппарата, он приказал всем остальным вооружиться гранатами, которых в штабе у него всегда стоял целый ящик, и по одному выходить наружу: «На воздух! Там виднее будет». Еще слышали бойцы, как он, собираясь, сказал Крапивке громко, чтобы показать, вероятно, что комбат не волнуется и, значит, все в порядке: «Когда я, Крапивка, приучу тебя класть вещи на свое место? Куда ты девал мой трофейный парабеллум? Брал, когда ходил в Богутах к девчатам? Почему не отдал?» — «Да вот он у меня, товарищ старший лейтенант», — ответил Крапивка. «У тебя! А где ему быть? Брал — почисть и положи на место под подушку». Он был ранен сразу же по выходе из блиндажа.
Некоторое время бойцы слышали голос лейтенанта Добровольского, а потом и его ранило. Команду над резервным взводом и связными взял на себя старший сержант Крапивка. Связь с ротами не прерывалась. Крапивка передал по телефону командиру ближайшей пятой роты лейтенанту Мазнюку, что комбат выбыл из строя и на КП не осталось никого из офицерского состава, а сам тем временем, разделив бойцов на три группы, стал окружать засевших в траншеях автоматчиков.
Все-таки наши бойцы были хозяевами этой местности, — они здесь рыли окопы днем, знали каждый бугорок, каждый подход к недорытым траншеям, а фашисты строчили вокруг себя вслепую, надеясь лишь на старый, битый козырь свой — панику.
Лейтенант Мазнюк пришел на КП как раз в то время, когда с другой стороны подходил уже на выручку майор Костромин со взводом бойцов из резерва командира полка. Комбата и лейтенанта Добровольского Костромин встретил еще по пути. Санитары несли их на носилках, сделанных из плащ-палаток и винтовок. Петренко и у него просил водки, а когда во фляге Костромина не оказалось ни капли, просил позвонить в штаб полка, куда их несли, чтобы там приготовили. «Плохой признак, если тяжелораненый с первых слов просит водки», — вставил в рассказ Костромин.
Когда они сошлись с Мазнюком на КП, там уже было тихо. Крапивка с бойцами делил в блиндаже трофейные зажигалки, кинжалы и фонарики, рассматривали вытащенные из карманов убитых немцев фотокарточки и документы. Телефонисты, исправив обрезанную немцами линию, проверяли связь с полком. Дальше боем управлял уже Мазнюк, и, хотя атаки немцев были очень яростны, при поддержке сильного минометного огня, прорваться или потеснить роты им не удалось нигде. Обошлось даже без вызова дивизионной артиллерии и подброски резервов, кроме взвода, с которым пришел Костромин. Особых происшествий в ходе боя больше не было, не считая обычных в таких случаях потерь в ротах.
— Пиши: убито девять, ранено двадцать два, — сказал Костромин Спиваку. — Но добавь, что фашисты понесли потерь раза в три больше. Это точно, без очковтирательства. Кто не поверит — пусть придет подсчитает, они и до сих пор там лежат. Напиши, Павел Григорьевич, что сержант Крапивка за умелую и мужественную оборону штаба представлен командиром полка к правительственной награде, — добавил еще майор Костромин. — Эх, жаль, жаль Петренко! Как глупо вышло!.. Где они у черта просочились? Где-то на стыке, должно быть. Больное место — стыки. Сколько ни говори, все получается, как с мостом на границе между двумя волостями в старое время: некому чинить, пока губернатор не нагрянет… А кого же мы теперь назначим на место Родионова?
— Я думаю, товарищ майор, — сказал Спивак, — можно назначить Фомина. Есть у меня в шестой роте замечательный агитатор, сибиряк, сержант Фомин. По-моему, аттестовать на младшего лейтенанта можно вполне.
— Фомин? Знаю. Командир отделения? А дадут его нам, в политсостав? Ну, заканчивай, а я пойду поговорю с майором Горюновым.
После политдонесения Спиваку пришлось сразу же писать аттестационный материал на Фомина. Потом Костромин подкинул ему целый ворох старых приказов из политотдела дивизии: одни надо было подшить к делу, другие уничтожить, на третьи дать ответ.
Часам к трем дня Спивак вспомнил, что он сегодня еще не обедал и не завтракал, и послал связного на кухню в комендантский взвод за едой. Отвлекшись на минуту от работы, он вспомнил Петренко и почувствовал вдруг острую, клещами схватившую за сердце тоску…
Пообедав и сложив все бумаги в походный несгораемый ящик, он пошел в свою землянку, в которой почти не жил эти дни, и завалился спать до вечера, потому что с наступлением темноты ему надо было идти в первый батальон, где он давно не был, и провести там совещание с редакторами боевых листков.
На войне как на войне. За командира батальона остался лейтенант Мазнюк. Убитого младшего лейтенанта Родионова заменил сержант Фомин.
Спивак позвонил в дивизию инструктору подива капитану Кузину и попросил его навестить в медсанбате Петренко. Кузин в тот же день ответил ему, что Петренко в медсанбате нет, что его после операции отправили дальше в тыл…
На зеленых скатах высоты 304,5, безымянной небольшой горы, которую невозможно было даже назвать точно в извещениях родственникам, появился свеженарытый холмик — новая братская могила.
Солдаты продолжали долбить каменистый грунт, опоясывая землю зигзагами новых траншей. По ночам светили ракеты, пролетали бомбардировщики на запад и обратно, пели соловьи в рощах, наблюдатели стояли на постах, не сводя глаз с высоток на немецкой стороне, осторожно покуривая цигарки и пряча их в рукав гимнастерок, когда сзади в траншее слышались шаги взводного, шедшего проверять посты… Подходили машины со снарядами и свежими войсками…
Спустя неделю Спиваку пришлось быть в армейских тылах, в сорока километрах от передовой на однодневном семинаре агитаторов полков. Узнав, что в этом же селе, где стоял политотдел армии, расположился один из армейских полевых госпиталей, Спивак после семинара пошел туда узнать, нет ли у них в числе раненых старшего лейтенанта Николая Ильича Петренко, и получил ответ, несказанно обрадовавший его:
— Есть такой. В седьмой палате. Вон в той хате под красной черепицей.
Петренко лежал на низенькой железной койке, головой к окну. Спивак не сразу узнал его среди шестерых раненых, лежавших в одной комнате: у всех были забинтованы головы. Петренко первый окликнул его радостно и сделал слабую попытку приподняться:
— Павло Григорьевич! Ты? Вот здорово! Нашел!
От врача Спивак узнал уже, что ранение в голову оказалось не тяжелым и сквозная рана в грудь тоже не дала осложнений. Состояние здоровья Петренко не вызывало опасений.
— Ну, как, — было первым вопросом Петренко, когда Спивак присел к нему на койку, — высоту удержали?
— Да, удержали, будь она неладна. Видишь, какая чепуха получилась. Костромин говорит — стыки подвели. Где там у тебя на стыке дырка была?
— То не у меня. То, вероятно, у Соловьева. Это его пастухи коров пасут, а за противником не смотрят… Ну, что там нового? Ой, скучно здесь лежать, Павло Григорьевич! Читать не разрешают, да и нет у них ничего нового, то, что в батальоне уже двадцать раз читал. И говорят — месяца три придется пролежать. Я прошу, чтоб хоть дальше уж никуда не отправляли, чтоб из нашей армии не выбыть, а то удастся ли тогда попасть обратно к своим… Кто там сейчас в батальоне? Мазнюк? А кто ж остался за него в роте? А ты как сюда попал? Узнал, что я здесь, специально приехал или в поарме был?
Сестры предупредили Спивака, что долго разговаривать со старшим лейтенантом нельзя и особенно тревожить его не следует. Спивак ответил на все его вопросы, ответил на вопрос и о потерях батальона в бою, умолчав о некоторых погибших, имена которых могли особенно разволновать Петренко. Потом сказал ему:
— Ну, вот что. Ты, Микола, полежи пока (как будто он мог куда-нибудь уйти), а я немного погодя зайду еще.
Выйдя из хаты, Спивак огляделся, облюбовал прохладный уголок под тенью высокого тополя во дворе, постелил там на траве свой плащ, лег, вытащил из сумки черновые наброски письма, тетрадь и часа три подряд, не отрываясь, переписывал все начисто. Кончив писать, Спивак заготовил конверт из толстой плакатной бумаги и вошел опять к Петренко в палату.
— Письмо Семену Карповичу, Микола, — показал он тетрадку. — Видишь, сколько вышло. Целая повесть. Надо послать. А то что ж, говорили, говорили да при нас все и осталось. Вот — конверт. Сделал. Хотя можно и без конверта, верно? Свернуть тетрадку трубочкой, так и пойдет, бандеролью.
— Все здесь?
— Все. Добавил только, что ты сейчас находишься в госпитале, ранен, продырявили немного, но уже законопатили.
Петренко перелистал страницы и, не читая, подписал.
— Ну, вот и хорошо, — сказал Спивак, заклеивая обвертку тетради жеваным хлебом. — Сейчас и отправлю. А то, кто его знает, что с нами может еще случиться.
Написав еще открытку жене Петренко, по его просьбе, и тут же, пользуясь свободной минутой, — открытку своей жене, Спивак понес все на почту. Полевая армейская почта была в этом же селе.
— Нельзя ли сделать такую надпись на бандероли, — спросил Спивак почтовика, принимавшего письмо: — «Просьба к цензуре — не задерживать»? Или не поможет?
— Не поможет, товарищ капитан, — усмехнулся тот.
— А как же все-таки сделать, чтоб скорее дошло? Раньше было: «спешное», «авиапочта», «посевное», а сейчас?
— Не знаю, — пожал плечами почтовик, — с фронта все письма по одной рубрике идут.
— Три месяца?.. Боюсь я, — оглядел Спивак вороха писем в хате, занятой под сортировочную, — что вас конец войны врасплох застанет. Кончится война, а вы еще три года будете рассылать всюду письма «с фронтовым приветом»… Значит, ускорения никакого? Только — на счастье? На какого цензора попадет? Беда в том, что они всегда начинают читать с маленьких писем, а большие под конец откладывают, на закуску. Ну, добре. Будем надеяться.
По пути с почты Спивак купил у одной крестьянки кувшин душистого свежего меда и махотку сметаны, принес и поставил все это, накрыв газетой, у Петренко в изголовье на тумбочке, отсыпал ему, тайком от сестры, немного табаку из своего кисета, посидел и поговорил с ним еще с полчаса.
Солнце клонилось к закату. Надо было возвращаться в полк.
Записав почтовый адрес госпиталя, Спивак простился с другом, пообещав при первой же возможности навестить его еще, и пошел за село на большую дорогу, по которой, одна за другой, катили машины, груженные снарядами, авиабомбами, ящиками с махоркой, макаронами, консервами и мешками с мукой.
Когда человек в хорошем настроении, ему во всем везет. Первая же машина, догнавшая Спивака, заскрипела тормозами и приостановилась. Шофер кивнул ему:
— Садитесь, товарищ капитан! Куда вам?
— За Ярцевом хуторок, еще три километра влево.
— Ну, довезем как раз.
Спивак одним махом вскочил в кузов. Шофер дал газ, и машина помчалась опять полным ходом по широкой, гладкой, накатанной до блеска тысячами шин фронтовой дороге.
В кузове на ящиках с боеприпасами сидела команда бойцов в новых гимнастерках и пилотках, с новыми, блещущими свежей краской автоматами. Но это были не новобранцы. У одного Спивак увидел сталинградскую медаль, у двух медали «За оборону Одессы», у одного орден Красного Знамени.
Машины, шедшие сзади, были все однотипны, и на них тоже сидели бойцы в новом обмундировании, с автоматами, противотанковыми ружьями и минометами. Перебрасывалась какая-то подремонтировавшая себя и отдохнувшая в тылу часть.
Среди военных не принято расспрашивать незнакомого человека, хотя бы солдата или офицера, о передислокации частей, но Спивак все-таки не удержался.
— Для нового броска, ребята? — спросил он бойцов. — На помощь? Ну-ну, это нам не вредно… Теперь бросок большой будет — до конца.
— Да мы, товарищ капитан, и так уже немалый бросок совершили, — сказал один боец. — Тринадцатые сутки едем. От самого…
Седоусый сержант с орденом Красного Знамени, вероятно, старший команды, строго глянул на бойца:
— А тебя не спрашивают, откуда едешь и куда. Товарищ капитан вообще говорит — на помощь? Ну конечно, на помощь, не делегация ж по проверке подготовки к уборочной кампании.
Спивак одобрительно кивнул головой:
— Правильно. Откуда — не важно. Важно, чтоб бросок получился крепкий.
И это слово «бросок» задержалось в его голове, как строчка из стихов, как мотив песни. Он закурил с солдатами, любуясь их загорелыми лицами — хорошее пополнение, обстрелянные ребята; по взгляду, по спокойному, неторопливому повороту головы, как осматривают они незнакомую местность на новом фронте, сразу видно, что их ничем не удивишь и не испугаешь; стал спрашивать некоторых, откуда родом, нет ли земляков — полтавчан, а слово «бросок» все вертелось у него в голове…
Есть прекрасные места в воинских уставах, этих сборниках вековой и военной и житейской мудрости. Есть параграфы: если попал в наступлении под сильный минометный огонь противника, не останавливайся. Остановишься — пропадешь. Заляжешь — тоже несдобровать. Броском вперед! — и продолжай выполнять боевую задачу. Накрыла артиллерия на пристрелянном рубеже — броском вперед! — на сближение с противником!
— Броском вперед! — проговорил Спивак вслух, но за шумом мотора и ветра его никто не услышал. — Хорошо!
И он пожалел, что в письме к Семену Карповичу не сказал этих слов: «Хочешь жить — броском вперед!»
1944