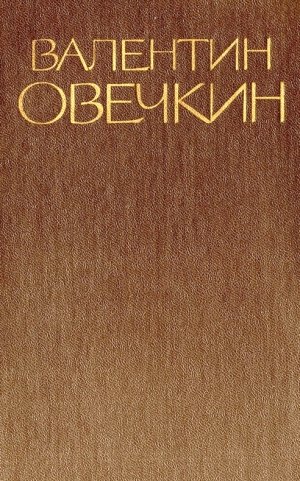
Районные будни
Борзов и Мартынов
Дождь лил третий день подряд. За три дня раза два всего проглядывало солнце на несколько часов, не успевало просушить даже крыши, не только поля, местами, в низинах, залитые водой, словно луга ранней весной, в паводок.
В кабинете второго секретаря райкома сидел председатель передового, самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин, тучный, с большим животом, усатый, седой, коротко остриженный, в мокром парусиновом плаще. Он приехал верхом. Его конь, рослый, рыжей масти жеребец-племенник, стоял нерасседланный во дворе райкома под навесом, беспокойно мотал головой, силясь оборвать повод, ржал. Опёнкин, с трудом ворочая толстой шеей, время от времени поглядывал через плечо в окно на жеребца.
Секретарь райкома Петр Илларионович Мартынов ходил взад-вперед вдоль кабинета, неслышно ступая сапогами по мягким ковровым дорожкам.
— Больше с тебя хлеба не возьмем, — говорил Мартынов. — Ты рассчитался. Я не за этим тебя позвал, Демьян Васильич. Ты старый председатель, опытный хозяин. Посоветуй, что можно делать в такую погоду на поле? Три тысячи гектаров еще не скошено. На что можно нажимать всерьез? Так, чтоб люди в колхозах не смеялись над нашими телефонограммами? Я вчера в «Заветах Ильича» увидел у председателя на столе собственную телефонограмму, и, признаться, стыдно стало. Обязываем пустить все машины в ход, а сам пришел к ним пешком, «газик» застрял в поле, пришлось волов просить, чтобы дотянуть до села.
— Куда там! Растворило!..
— Косами, серпами не возьмем по такой погоде? А?..
— Я, Илларионыч, не имею опыта, как по грязи хлеб убирать, — усмехнулся Опёнкин. — Наш колхоз всегда засухо с уборкой управляется… Жать-то можно серпами, а толку? Свалишь хлеб в болото. Если затянется такая погода — погниет. Порвет, дьявол, уздечку! — Опёнкин грузно повернулся к окну на заскрипевшем стуле, распахнул створки. — Стоять, Кальян! Вот я тебе! — Увидел проходившего по двору райкомовского конюха. — Никитыч! Есть у тебя оброть? Накинь на него оброть, пожалуйста, а уздечку сними.
Мартынов подошел к окну:
— Где купили такого красавца?
— В Сальских степях. Дончак. Крепкая лошадь. Лучшая верховая порода.
— Застоялся. Проезжать надо его почаще.
— Вот — проезжаю. Вчера в совхоз «Челюскин» на нем ездил. Во мне сто десять кило. Нагрузочка подходящая.
— А чего ты так безобразно толстеешь? — Мартынов похлопал по животу Опёнкина. — На кулака стал уже похож.
— Сам не знаю, Илларионыч, с чего меня прет, — развел руками Опёнкин. — Не от спокойной жизни. После укрупнения и вовсе замотался. Три тысячи гектаров, семь бригад. Чем больше волнуюсь, тем больше толстею.
— Покушать любишь?
— Да на аппетит не обижаюсь…
Ветер задувал в окно брызги, мочил журналы, лежавшие на подоконнике. Опёнкин закрыл окно. Мартынов отошел, присел на край стола.
— А не получится опять по-прошлогоднему? — Опёнкин вскинул на Мартынова глаза, черные, умные, немного усталые.
— Как по-прошлогоднему?
— Соседи наши на семидесяти процентах пошабашат, а нам опять дадите дополнительный?
— По хлебопоставкам? Нет, насчет этого сейчас строго… Может быть, только заимообразно попросим. У тебя много хлеба осталось, а у других нет сейчас намолоченного. Вывезешь за них, потом отдадут.
— Вот, вот! — Опёнкин заерзал на тяжело скрипевшем под ним стуле. — Я ж говорю, что-нибудь да придумаете. Не в лоб, так по лбу! Нам уж за эти годы после войны столько задолжали другие колхозы! Нет на меня хорошего ревизора! Судить меня давно пора за дебиторскую задолжность!.. Тысячу центнеров должны нам соседи милые. И хлебопоставки за них выполняли, и на семена им давали. И не куют, не мелют! Станешь спрашивать председателей: «Когда ж вы, братцы, совесть поимеете, отдадите?» — смеются: «При коммунизме, говорят, сочтемся». А по-моему, — встал, рассердившись, Опёнкин и, тяжело сопя, стуча полами мокрого, задубевшего плаща по спинкам стульев, заходил по кабинету, — по-моему, коммунизма не будет до тех пор, пока это иждивенчество проклятое не ликвидируем! Чтоб все строили коммунизм! А не так: одни строят, трудятся, а другие хотят на чужом горбу в царство небесное въехать!..
— Погоди, не волнуйся, Демьян Васильич, — сказал Мартынов. — Может, обойдемся и без займов.
— Какие займы! Говорите прямо — пожертвования. Никто и в этом году не отдаст нам из старых долгов ни грамма. Придут к вам, расплачутся, и вы же сами нам скажете: «Повремените, не взыскивайте. У них мало хлеба осталось. Надо же и там чего-нибудь выдать по трудодням, засыпать семена».
Остановился против Мартынова — высокий, грузный, на толстых, широко расставленных ногах.
— Ты не подумай, Петр Илларионыч, что я жадничаю. Почему не помочь колхозу, ежели несчастье постигло людей — град, скажем, либо наводнение? Пойдем навстречу, с открытой душой. Но если только и несчастья у них, что бригадиры с председателем во главе любят на зорьке понежиться на мягких пуховиках, — тут займами не поможешь!.. Не о своем колхозе беспокоюсь. Мы не обедняем. Еще тысячу центнеров раздадим — не обедняем. Но это же не выход из положения. Вы же никогда так не поправите дело в отстающих колхозах — подачками да поблажками!..
— Я тоже не сторонник таких методов подтягивания отстающих, — ответил Мартынов, глядя Опёнкину прямо в глаза, умные, много перевидавшие за десять лет его работы председателем колхоза. — Так мы действительно не наведем порядка в колхозах и район не поднимем… Дополнительного плана тебе не будет. Ни под каким соусом.
Опёнкин недоверчиво покачал головой:
— Это пока ты правишь тут за первого. А приедет Виктор Семеныч? Скажет: «Ну-ка, потрясти еще Демьяна Богатого!»
— Попробуем и Виктора Семеныча убедить. Это самый легкий способ, потрясти тебя, других, выполнивших досрочно план.
— Когда у него отпуск кончается?
— Если не продлят ему лечение — в субботу приедет.
— Вот с дороги отдохнет, может, часика два и начнет шуровать!
Мартынов не ответил, отошел к окну, перевел разговор на другую тему.
— Все же плохо организовано у нас хозяйство в колхозах. Пошли дожди не вовремя — и мы садимся в калошу. А если такая погодка продлится еще недели две?.. Надо вдесятеро больше строить зерносушилок, крытых токов.
— У крестьян раньше были такие сараи — риги назывались, — сказал Опёнкин.
— Не сараи — навесы хотя бы, соломенные крыши на столбах.
— Ежели без стен — еще лучше, — согласился Опёнкин. — Продувает ветерком, быстрее просушивает… Посевные площади не те, Илларионыч. Раньше у хозяина было всего десятин пять посева. А ну-ка, настрой этих риг на три-четыре тысячи гектаров!
— Вот и я говорю, — продолжал Мартынов, — совершенно в других размерах надо все это планировать! Даем колхозу задание: построить три зерносушилки. А надо — двадцать, тридцать!.. То засуха нас бьет, то дожди срывают уборку, губят уже готовый урожай. Когда же это кончится?.. Тебя, Демьян Васильевич, я вижу, это не очень волнует. Ты думаешь небось: «Мне хватило двух недель сухой погоды для уборки». Ну, знаешь, и ты не очень хорохорься. А если бы дожди пошли с первого дня уборки? Тоже кричал бы караул! Пусть это раз в десять лет случается, но и к такому году мы должны быть готовы.
Опёнкин слушал Мартынова спокойно, с улыбкой:
— Готовимся и к такому году. Из нашего колхоза десять человек третий месяц уже работают на лесозаготовках в Кировской области. Пятнадцать вагонов леса получили оттуда. Еще раза три по столько же отгрузят. Хватит там и на электростанцию, и на клуб, и на крытые тока, и на сушилки.
— У вас-то хватит!..
— Я тебе объясню, Илларионыч, — сказал, помолчав, Опёнкин, — почему в нашем колхозе работа спорится, люди дружно за все берутся. Потому что колхоз богатый, есть чего получать по трудодням и хлебом и деньгами. У нас самое тяжкое наказание для человека, когда отстраняем его решением правления от работы дня на три.
Мартынов засмеялся:
— Объяснил! А колхоз богатый потому, что люди дружно работают.
— Да, — улыбнулся Опёнкин, — так уж оно, как пойдет колесом… А пережили и мы немало трудностей… Приехал ко мне как-то в военное время Михей Кудряшов, председатель «Волны революции», не помню уж по каким делам. Повел я его обедать к себе домой» А у меня — черный хлеб на столе. «Как тебе, говорит, не стыдно? Председатель, не умеешь жить! Не можешь для себя хотя бы организовать?» А чего — стыдно? Время было тяжелое, война. Сдали сверх плана в фонд Красной Армии полторы тысячи центнеров. Сами сдали, добровольно. Решил — переживем. Картошки в хлеб подмешаем, того, сего — выдюжим! Прошлым летом заехал я к ним в «Волну». Какой был лично у Кудряшова хлеб — не знаю, а у колхозников у всех — черный. И семян просят занять им. А у нас уж который год все белый хлеб едят, как и до войны. «Как тебе, говорю, теперь не стыдно?» Кабы себя от людей не отделял да черный хлеб ел, тогда, может, злее был бы, пуще стремился бы скорее одолеть трудности! Колхоз — не для нас только, председателей, так я понимаю, не для нашей роскошной жизни. Когда всем хорошо, то и нам хорошо…
…Долго еще думал Мартынов после ухода Опёнкина об этом человеке. Если бы все были такие председатели колхозов в районе! Вот у него пошло колесом — колхоз богатый, потому и люди хорошо работают. А в некоторых колхозах тоже идет «колесом», только наоборот: на трудодень — крохи, потому что был плохой урожай, плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудодням. Тут уж получается не колесо, а заколдованный круг. Но этот круг надо разорвать во что бы то ни стало! Кто может его разорвать? Вот такие люди, которым народное дорого, как свое кровное… Мартынов был зимою в колхозе «Власть Советов» на отчетно-выборном собрании. Когда выдвинули вновь кандидатуру Опёнкина в председатели, один колхозник, выступая, назвал его: «Душевный коммунист».
Ветер сыпал в окна крупными каплями дождя, будто щебнем. Мартынов принял за день много людей — всех заведующих отделами райкома, каждого со своими вопросами, районного агронома, заведующего сельхозотделом райисполкома. Оказалось, что по случаю ненастной погоды весь партийный актив был дома.
— Что-то неладно получается у нас, товарищи, — сказал Мартынов. — Такое тяжелое положение с уборкой, а мы отсиживаемся дома. Вот сейчас-то нужно быть всем в колхозах!
— А что же можно там сейчас делать? — спрашивали его.
— Спасать хотя бы то зерно, что намолочено. В кучах лежит, под дождем. Строить сушилки, крытые тока, перетаскивать туда зерно, лопатить. Машины не идут — волами возить просушенный хлеб на элеватор.
У него уже созрело решение — на что, в случае затяжки ненастья, можно и нужно сейчас поднять в районе все живое и мертвое. Он велел помощнику созвать членов бюро в девять вечера на небольшое заседание по одному этому вопросу.
В конце дня, когда Мартынов собирался уже сходить домой пообедать, в кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова, жена первого секретаря, молодая, чуть располневшая женщина, миловидная, с широким добродушным лицом, усыпанным мелкими веснушками, с живыми, веселыми карими глазами, — директор районной конторы «Сортсемовощ».
На днях в одном колхозе Мартынову сказали, что у них третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства и попросил Борзову составить ведомость, откуда получает их контора семена овощей, и зайти с этой ведомостью к нему.
— Вот, сделала, Петр Илларионыч, — сказала Борзова, кладя перед ним на стол исписанный лист бумаги. — Выбрала из накладных. Верно, что-то не по-мичурински получается. Есть у нас местные семена хороших сортов, их областная контора куда-то отсылает, а нам дают другие сорта. Арбузы, дыни — с Кубани, из Крыма. И помидоры — с Кубани.
— Там лето месяца на полтора длиннее. Арбузы привыкли к такому лету и растут себе не спеша, — сказал Мартынов.
Пока он просматривал ведомость, Марья Сергеевна, скинув мокрую дождевую накидку, села в кресло у стола.
— Мой-то, товарищ Борзов, сегодня приезжает, — сказала она.
— Как — сегодня? — Мартынов поднял голову. — У него еще отпуск не кончился.
— Должно быть, не высидел. Я ему отсюда посылала авиапочтой областную газету со сводками, по его приказанию.
— Если сегодня, ему пора уже быть, — Мартынов взглянул на настольные часы. — Поезд прошел.
— Вот и я думаю — каким же он приедет? Может, ночью, в час? Так то уж другое число. Он телеграфировал: «Буду двадцать третьего, целую».
— Погоди, тут мне какие-то телеграммы принесли, я еще не смотрел. — Мартынов порылся в бумажках на столе. — Да вот, есть от него: «Приеду двадцать третьего». Только без «целую».
Марья Сергеевна вздохнула:
— Опять пойдут у вас всенощные заседания? Будете ругаться с ним на каждом бюро до утра?
— Не знаю, — ответил Мартынов, — как он теперь, после ессентукских вод. Может, язва не так будет его мучить.
— А мы с ним поженились, когда у него язвы еще не было. Я-то его давно знаю. Это у него не от болезни. У обоих у вас — характеры! Коса на камень… Развели бы вас по разным районам, что ли!
— От третьего человека слышу: просись в другой район, — сказал Мартынов. — Выживаете меня?
— А я не сказала: просись в другой район. Я говорю — нужно вас развести. Либо ему здесь оставаться, либо тебе… Ну, скажи мне, Петр Илларионыч, чего вы с ним не поделили?
Мартынов усмехнулся:
— Почему меня спрашиваешь? Тебе ближе его спросить.
— Он по-своему объясняет.
— Как? Небось: был Мартынов газетчиком, борзописцем, так бы и продолжал бумагу портить. А в партийной работе он ни шиша не смыслит. Да?
— И так говорил…
Зазвонил телефон, Мартынов снял трубку, долго разговаривал по телефону. Потом ему доложили, что из колхозов приехали пять человек за получением партбилетов, ждут приема. Борзова поднялась.
— Ладно, Марья Сергеевна, как-нибудь поговорим. Эту ведомость я оставлю у себя, а ты мне еще пришли сводку об урожаях местных сортов и привозных.
— Хорошо, пришлю… Пойду домой, похлопочу насчет обеда. Может, он все же приедет сегодня. Поезд, может, опоздал.
Выдав молодым коммунистам партийные билеты, поздравив их с вступлением в партию и поговорив с ними о делах в колхозах, Мартынов замкнул на ключ ящики стола, оделся, но успел выйти только в коридор — прошумела отъехавшая от райкома машина, на крыльцо взошел по ступенькам уверенной, хозяйской походкой Борзов, среднего роста, коренастый, с нездоровым, желтоватым лицом, в длинном, почти до пят, кожаном пальто.
— А вот и сам наконец, — сказал Мартынов, остановившись в коридоре. — Мы уж не ждали тебя с дневным. Здравствуй!
— Привет трудящимся! — подал руку Борзов.
— Трудимся. А ты что ж это Конституцию нарушаешь? Не используешь полностью права на отдых?
— Отдохнешь! — Борзов снял шляпу, отряхнул, расстегнул мокрое пальто.
— Зайдем в кабинет?
— Зайдем на минутку. Я еще дома не был… Отдохнешь! — Сняв у вешалки калоши и пальто, Борзов прошел к столу, но не сел в кресло секретаря, а сбоку на стул. — Дураки в это время ездят лечиться! Только и слышишь по радио: уборка, хлебопоставки, сев озимых. Область нашу «Правда» трижды помянула уже в передовицах как отставшую.
Мартынов тоже не сел в кресло, стал у окна. Он был выше коренастого, бритоголового Борзова, — загорелый, синеглазый брюнет, с поджарой, немного сутулой, несолидной фигурой. Разница в возрасте у них была лет в семь. Мартынову — лет тридцать пять, Борзову — за сорок.
— Сам виноват, — сказал Мартынов. — Съездил бы весною, когда сев кончали. Я тебе говорил: вот сейчас проси путевку и поезжай подлечись.
— Сев кончали — прополка начиналась. Разве из нашей беспрерывки когда-нибудь вырвешься? А зимою тоже неинтересно ездить на курорты… Ну ладно, давай рассказывай, как дела?
— Когда же ты приехал? Поезд в тринадцать сорок прошел.
— Я с вокзала заезжал на элеватор. Не звонил насчет машины, подвернулся «газик» директора МТС. Проверил на элеваторе, как хлеб возят… Плохо возят, Петр Илларионыч!
— Да, можно бы лучше… До этих дождей выдерживали график.
— Как же вы могли выдерживать график, если три колхоза у вас уже с неделю не участвуют в хлебопоставках: «Власть Советов», «Красный Октябрь» и «Заря»?
— Другие колхозы вывозили больше дневного задания. «Власть Советов», «Октябрь» и «Заря» рассчитались.
— Как — рассчитались?
— Так, полностью. И по натуроплате — за все работы.
Борзов с сожалением посмотрел на Мартынова:
— Так и председателям говоришь: «Вы рассчитались»? Эх, Петр Илларионыч! Учить тебя да учить! Где сводка в разрезе колхозов?
Пересел на секретарское место, энергичным жестом отодвинул от себя все лишнее — лампу, пепельницу, стакан с недопитым чаем. Под толстым стеклом лежал большой разграфленный лист бумаги, испещренный цифрами: посевная площадь колхозов, поголовье животноводства, планы поставок. Мартынов невольно улыбнулся, вспомнив слова Опёнкина: «Два часа отдохнет и начнет шуровать».
— Да, вижу, правильно я сделал, что приехал. — Взял чистый лист бумаги, карандаш, провел пальцем по стеклу. — «Власть Советов». Сколько у них было? Так… Госпоставки и натуроплата… Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..
— Самую высшую?
— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем… По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик? Не знаешь, как взять с них хлеб?
Мартынов с непогасшей улыбкой на лице подошел к столу.
— Я не мальчик, Виктор Семеныч. Эти шутки мне знакомы. Но пора бы с этим кончать, право! На каком основании ты предлагаешь пересчитать им натуроплату по высшей группе?
— На том основании, что стране нужен хлеб!
Мартынов закурил, помолчал, стараясь взять себя в руки, не горячиться.
— Во «Власти Советов» урожай, конечно, выше, чем в других колхозах. Но все же на девятую группу они далеко не вытянули. И убрали они хорошо, чисто, никаких потерь. А что на двух полях у них озимую пшеницу прихватило градом — то не их вина. Почему же теперь им — девятую группу, да еще задним числом? Что Опёнкин колхозникам скажет?
— Пусть что хочет говорит. Нам нужен хлеб. Чего ты болеешь за него? Старый зубр! Вывернется!
— Знаю, что убедит он колхозников, повезут они хлеб. Но объяснение остается одно: берем с них хлеб за те колхозы, где бесхозяйственность и разгильдяйство.
Вошел председатель райисполкома Иван Фомич Руденко — в одной гимнастерке, без фуражки — перебежал через двор. Райсовет помещался рядом, в соседнем доме.
— Здорово, Виктор Семеныч! С приездом! Гляжу в окно — знакомая фигура поднимается по ступенькам. Недогулял?
— Привет, Фомич. Недогулял.
Руденко посмотрел на хмурое, рассерженное лицо Борзова, на нервно покусывающего мундштук папиросы Мартынова.
— С места в карьер, что ли, заспорили? Может, помешал?
— Нет. — Борзов вышел из-за стола, не глядя на Руденко, подвинул ему стул. — Садись. Ну, продолжай, Мартынов.
— А что мне продолжать, — Мартынов затушил окурок в пепельнице и встал. — Как член бюро голосую против. — Обратился к Руденко: — Предлагает дать девятую группу Опёнкину и другим, кто выполнил.
— Ну-ну… — неопределенно протянул Руденко. — Это надо подумать…
— Чтоб и в тех колхозах, где люди честно трудились и где работали через пень-колоду, на трудодни хлеба осталось поровну!.. Я тоже знаю, Виктор Семеныч, что стране нужен хлеб, — продолжал Мартынов. — И план районный мы обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно так выполнить, что хоть и туго будет потом кое-где с хлебом, но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справедливость. У наших агитаторов будет почва под ногами, когда они станут с народом говорить: «Что заработали, то и получайте». И пусть рядом, во «Власти Советов», люди втрое больше хлеба получат! И нужно строить на этом политику! А можно так выполнить, что… — Мартынов махнул рукой, заходил по кабинету.
— Да, Виктор Семеныч, как бы не зарезать ту курочку, что несет золотые яички, — сказал Руденко.
Борзов сел опять за стол.
— Хорошо. Подсчитаем, что мы можем вывезти из других колхозов, не трогая этих. — Провел пальцем по первой графе с наименованиями колхозов. — Какой возьмем? Ну, вот «Рассвет». Сколько у них на сегодняшний день намолоченного зерна?
— Нет ничего, — ответил Мартынов. — Они до дождей хорошо возили, все подбирали, что за день намолачивали. Скошенный хлеб у них в скирдах. И не скошено еще процентов десять.
— Их МТС подвела, — добавил Руденко. — Дали им молодых комбайнеров, курсантов. Новые машины, а больше стояли, чем работали.
— Так. Значит, в «Рассвете» нет сейчас зерна. А хлебопоставки у них…
— На шестьдесят два процента, — подсказал Руденко.
— В «Красном пахаре» как?
— Такое же положение.
— «Наш путь»?
— Там хуже дело, — подошел к столу Мартынов. — Не скошено процентов тридцать, и скошенный хлеб не заскирдован… У них же нет председателя, — помолчав, добавил он. — В самый отстающий колхоз послали самого ненадежного человека. В наказание, что ли? За то, что завалил работу в промкомбинате?..
— Так… «Вторая пятилетка»?
— Там есть много зерна намолоченного, — сказал Руденко. — Но лежит в поле, в кучах. Надо сушить.
— Так какого же вы черта толкуете мне тут про справедливость, политику? — Борзов стукнул ребром ладони по столу. — Где хлеб? Такой хлеб, чтоб сейчас, в эту минуту, можно было грузить на машины и везти на элеватор?
— В эту минуту, положим, машиной не повезешь, — Мартынов кивнул на окно, за которым лило как из ведра.
— Перестанет дождь — за день просохнет. А хлеб где? Те — выполнили, умыли руки, на районную сводку им наплевать. У тех нет намолоченного. Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке? По-ли-ти-ки!..
— А если без политики выполнять поставки, так и секретари райкомов не нужны. Каким-нибудь агентам можно поручить, — ответил Мартынов.
— Я вижу, — сказал Борзов, — что главная помеха хлебопоставкам в районе на сегодняшний день — это ты, товарищ Мартынов. Сам демобилизовался и других расхолаживаешь. «Выполнили!» Разлагаешь партийную организацию.
— Ну, это уж ты слишком, Виктор Семеныч! — задвигался на стуле, хмурясь, Руденко.
Мартынов сел, потеребил рукой волосы, откинулся на спинку стула, пристально глядя на Борзова. Загорелое лицо его побледнело. Но сказать он ничего не успел. Борзов позвонил, в кабинет вошел помощник секретаря, белобрысый молодой паренек, Саша Трубицын.
— Приехали, Виктор Семеныч?!
— Да, приехал. Здравствуй. Садись, пиши… «Всем директорам МТС, председателям колхозов, секретарям колхозных первичных партийных организаций… Безобразное отставание района в уборке и выполнении плана хлебопоставок объясняется исключительно вашей преступной беспечностью и полным забвением интересов государства…» Написал? «Предлагается под вашу личную ответственность немедленно, с получением настоящей телефонограммы, включить в работу все комбайны и простейшие орудия…» Написал? «Обеспечить круглосуточную работу молотилок… Безусловно обеспечить выполнение дневных заданий по хлебовывозу, с наверстанием в ближайшие два-три дня задолженности за прошлую пятидневку… Загрузить на хлебовывозе весь наличный авто- и гужтранспорт… В случае невыполнения будете привлечены к суровой партийной и государственной ответственности…» Подпись — Борзов. — Покосился на Руденко. — И Руденко.
Руденко махнул рукой:
— Валяй!
— Один экземпляр этой телефонограммы, Трубицын, сбереги, — сказал Мартынов. — Может, когда-нибудь издадут полное собрание наших сочинений.
Саша Трубицын остановился на пороге, удивленно-вопрошающе поглядел на Мартынова.
— Иди печатай, — сказал Борзов. — Передать так, чтоб через час была во всех колхозах!
Трубицын вышел.
— Для очищения совести посылаешь эту «молнию»? — спросил Мартынов. — Все же что-то делали, бумажки писали, стандартные телефонограммы рассылали.
— Напиши ты чего-нибудь пооригинальнее. Тебе и карты в руки, литератору, — с деланным спокойствием ответил Борзов и повернулся к Руденко, хотел заговорить с ним, спросил его о чем-то, но тот не ответил на вопрос, кивнул на Мартынова:
— Нет, ты послушай, Виктор Семеныч, что он предлагает.
— А что он предлагает?
— Вот что предлагаю, — Мартынов придвинулся со стулом к Борзову. — Жерди, хворост в лесу рубить по дождю можно? Можно. Навесы крыть соломой можно? Неприятно, конечно, вода за шиворот потечет, но можно. На фронте переправы под дождем и под огнем строили. Машину не уговоришь по грязи работать — человека можно уговорить. Вот на что нужно сейчас нажать!
— Одно другому не мешает, — ответил Борзов.
— Нет, мешает! Забьем председателю колхоза голову всякой чепухой — он и дельный совет мимо ушей пустит. «Включить в работу все комбайны». Это же болтовня — такие телефонограммы! — взорвался наконец Мартынов. — Тогда уж вали все: и озимку предлагаем сеять, невзирая на дождь, и зябь пахать.
— А мы из обкома не получаем таких телеграмм? Нам иной раз не звонят: «Почему не сеете?» А у нас на полях еще снег по колено.
— Область большая. Там — снег, там — тепло, там — дожди, там — засуха… А у нас же все на глазах!.. Знаешь, Виктор Семеныч, чего никак не терпят хлеборобы в наших директивах? Глупостей. Они-то ведь знают не хуже нас, на чем булки растут.
Борзов долго молчал. Больших усилий стоило ему придать голосу некоторую теплоту, когда он наконец заговорил:
— От души советую тебе, Петр Илларионыч: поезжай в обком, нажалуйся на меня, чего хочешь наговори, но скажи, что мы вместе работать не можем. Пусть тебя переведут в другой район. Я со своей стороны буду рекомендовать, чтоб тебя послали первым секретарем. Да в обкоме у нас обычно так и делают. Если где-то второй не ладит с первым, хочет сам играть первую скрипку и парень будто энергичный — посылают его первым секретарем в другой район, испытывают: ну-ка, покажи, брат, как ты сможешь самостоятельно работать?.. Поезжай, поговори. Когда хочешь, хоть сегодня. Дадут тебе район, может, по соседству с нами. Будем соревноваться. Руководи! Ты — с этой самой крестьянской справедливостью, а я — по-пролетарски.
— Тьфу! — не выдержал Руденко. — До чего вы тут договоритесь? По-пролетарски, по-крестьянски! Таких и выражений нет. По-большевистски надо руководить!
— И в другой район я не хочу, — ответил Мартынов, — я уж здесь узнал колхозы, людей и на первую скрипку не претендую. Плохо ты понял меня, Виктор Семеныч. Мне и в должности второго секретаря работы хватает. Но я не Молчалин, чтоб мне «не сметь свои суждения иметь».
Пошел к вешалке, надел пальто.
— Пойдем пообедаем. В здоровом теле — здоровый дух. Марья Сергеевна заходила сюда, ждет тебя, получила телеграмму… Я созывал на девять часов бюро. Не отменишь?
— Нет, почему же, — ответил Борзов. — Бюро надо провести. Начнем работать. — Позвонил помощнику: — Вызвать на бюро всех уполномоченных, прикрепленных к колхозам.
Заседание было бурное. Часть членов бюро поддерживала по многим вопросам Мартынова, часть — Борзова. Все же воздержались пока рекомендовать комиссии перевести выполнившие поставки колхозы в высшую группу. Решили повременить — как будет с погодой, с обмолотом в других колхозах.
Расходились по домам поздно ночью, под проливным дождем. Мартынов и Руденко прошли по главной улице до угла вместе.
— Ну, ты сегодня зол! — говорил Руденко. — Не даешь ему ни в чем спуску. Прямо какая-то дуэль получается у вас, бокс.
— Отвык от него за месяц, — ответил Мартынов.
— Ему, Илларионыч, из кожи вылезти, а хочется добиться, чтоб в первую пятидневку по его приезде хлеба вывезли раза в два больше, чем при тебе возили. Чтоб в обкоме сравнили: вот Мартынов давал хлеб, а вот — Борзов!.. Он и в санаторий уезжал с неспокойной душой. Как это вдруг обком перед самой уборочной отпустил его лечиться? Тебе больше доверия, что ли?..
За углом Руденко свернул налево, пошел узеньким проулком, чертыхаясь, попадая впотьмах в лужи и набирая жидкой грязи в калоши, бормоча про себя: «Не всегда, стало быть, та первая голова и есть, которая первая по чину…» Мартынов пошел дальше главной улицей к своей квартире, тоже чертыхался, оскальзываясь в грязи и попадая на выбоинах дороги в глубокие лужи, и думал: «Сколько времени, сил тратим на споры, а нужно бы — на работу! Паны дерутся, у холопов чубы трещат…»
На рассвете Мартынов поехал верхом в самый крупный из отстающих колхоз «Красный пахарь». Там он жил два дня. Собирал коммунистов, фронтовиков. Напомнил фронтовикам о более трудных днях, когда в дожди, по бездорожью несли на себе станковые пулеметы, помогали лошадям тащить пушки. Кирпич и лес, заготовленные для строительства новой конторы, посоветовал употребить на зерносушилки и крытые тока. Все бригады вышли в поле — кто подносит солому на носилках, кто зерно. Начали было строить навесы и над молотилками, чтобы попробовать молотить со скирд, но к вечеру второго дня дождь перестал. Не было дождя и ночью. Утром показалось солнце, подул прохладный восточный ветер. Установилась надолго сухая погода.
Уборка и прочие полевые работы в районе вошли более или менее в колею. Дороги просохли, вновь потянулись по ним колонны автомашин со свеженамолоченным зерном. Так-таки и получилось, что в первую пятидневку при Борзове колхозы сдали больше хлеба, чем в последние перед его приездом дождливые дни. Район выполнил план хлебопоставок в числе не передовых, но и не самых отстающих.
Однажды Марья Сергеевна Борзова сказала Мартынову:
— Чего никогда не зайдешь к нам, Петр Илларионыч, вечерком посидеть?
— Спасибо, — поблагодарил немного удивленный Мартынов. Он давно не получал от Борзовых приглашения в гости. — Вечерков-то свободных почти не бывает.
— Нет, верно, заходи. Что вам с Виктором Семенычем все спорить да ругаться? Посидим, поговорим.
Мартынов пообещал зайти, но не торопился выполнить обещание. «Мирить, что ли, собирается нас за чашкой чая?» — подумал он.
Вскоре Борзова вызвали в обком на десятидневный семинар первых секретарей райкомов, а Марья Сергеевна все же позвонила Мартынову:
— Сегодня суббота, Петр Илларионыч, под выходной разрешается раньше кончить работу. Нет у тебя вечером заседаний? В колхоз не едешь? А обещание помнишь? Ну, приходи, буду ждать.
Встретила его Марья Сергеевна принаряженная, немножко смущенная тем, что может подумать Мартынов об ее настойчивом желании видеть его у себя дома. К шелковой ее блузке был приколот орден Ленина.
— Городишко у нас такой, — говорила она, гремя посудой у буфета, — на одном краю чихнешь, с другого края слышишь: «Будьте здоровы!» Завтра же разнесут всюду: «Мартынов ходил к Борзовой чай пить, когда мужа дома не было». А мне — наплевать!
Пока Марья Сергеевна собирала на стол, Мартынов обошел все комнаты их дома. Он здесь бывал раза два в прошлом году, по приезде. В детской бабушка, мать Борзова, укладывала детей спать, рассказывала им сказки. Маленьких у них было двое — мальчик лет шести и девочка лет четырех. Старшей, Нины, девушки, не было дома, ушла, вероятно, в кино или к подругам. В зале в кресле возле пианино спал огромный сибирский кот. Во всех комнатах на стенах висели клетки со скворцами, щеглами, дроздами. Две собаки, овчарка и ирландский сеттер, стуча когтями по полу, ходили следом за Мартыновым. В углу столовой гнездился на подстилке маленький ежик. Борзов любил птиц и животных.
— За что ты, Марья Сергеевна, получила орден? — спросил Мартынов, садясь на диван. — Вижу его у тебя иногда по праздничным дням, давно хочу спросить. Партизанила?
— Нет, не партизанила. Эго еще до войны было дело… — Марья Сергеевна вздохнула. — За хорошую работу на тракторе дали мне орден.
— Да? Ты трактористкой была?
— Эх, уже люди и фамилии моей не помнят!..
— Борзова?..
— Да нет, не Борзова. Моя девичья фамилия была Громова.
— Громова?.. Вон что! Ну, прости, не знал… Та Маша Громова, что с Ангелиной соревновалась? Портреты были ваши в «Правде» рядом. Так это ты и есть?
— Маша Громова, да… Я родом из Ростовской области.
— Помню — из Ростовской области.
— Донская казачка… И Борзов там работал, в нашем районе, секретарем райкома комсомола. В тридцать восьмом году мы с ним познакомились. Я у него вторая, первая жена его умерла. Нина — это его дочка от первой жены… Ну, садись к столу… А ты, Петр Илларионыч, из каких сам краев? Чем раньше занимался?
— У меня в биографии ничего почетного нет. Неудавшийся писатель, — без скорби, почти весело стал рассказывать Мартынов. — Лет двадцать назад написал один очеркишко, напечатали его в «Комсомольской правде», и с тех пор заболел литературой. Центнера два бумаги извел на романы — ничего путного не вышло. Пошел по газетной работе. Много ездил, спецкором был. Последний год перед приездом к вам был редактором районной газеты в Н-ской области. И там не бросил писать. Сынишка знает, что я все почты жду, ответов из редакций, бежит, бывало, кричит: «Папка, иди скорее домой, там большое письмо принесли!» Эх, думаю, порадовал сынок! Лучше б — маленькое. Большое — значит, рукопись назад. Спасибо, один критик честно, прямо написал: «Сочинение романов не ваше, видимо, дело. Изберите себе, товарищ, другую цель в жизни». Вот избрал — другую работу. Цель-то у нас одна у всех. Не сам избрал, предложили мне перейти на партийную работу — дал согласие.
Мартынов засмеялся:
— Много раз критиковал, ругал в газетах секретарей райкомов. Интересно, как у самого получится!..
— Виду не подаю, Петр Илларионыч, — сказала Марья Сергеевна, помолчав, — а иной раз жалею, ругаю себя последними словами: зачем бросила ту работу, ушла из колхоза? Я бы с Пашей Ангелиной еще посоревновалась! Неизвестно, про кого бы теперь больше писали!.. Как вышла за Борзова, год поработала еще на тракторе и бросила. Ревновал меня к нашему бригадиру. Попусту ревновал. Нам такого назначили бригадира в женскую бригаду, выдержанного, хладнокровного — хоть молоко вози на нем на базар. Приезжаю на рассвете домой с поля — на мотоцикле ездила, — дома мне допрос: «С кем ночь провела? Ты еще вечером должна была смениться». — «С «натиком», говорю, своим провела ночь. Напарница моя заболела, пришлось за нее поработать». Идет утром в МТС проверяет — действительно ли прошлой ночью моя напарница не работала?.. Потом купили дом, хозяйство завелось, уют, покой ему нужен, когда придет домой отдохнуть… Вот так и получилось. Прогремела Маша Громова ненадолго. Это уж я тут стала просить его: дай мне какое-нибудь дело. Послали в эту контору директором. Нашли огородницу! Я в этих семенах ничего не смыслю. Я и дома, у матери, не сажала капусту. Как подросла, девчонкой еще, села на машину, только с техникой и зналась. Ну, что было, то прошло. Теперь уж мне поздно автолом, вместо румян, мазаться, — со смехом добавила Марья Сергеевна. — Разлюбит муж чумазую.
Оглядела стол.
— Чего я еще не подала?.. Хлеба-то и нет на столе. И чай забыла заварить. Вот хозяйка!.. Перебила я, извини, не договорил ты про себя, — вернувшись с кухни, сказала Марья Сергеевна.
— Да мне и договаривать нечего. Из газеты сюда попал. По разверстке. Наша область — передовая. Взяли у нас, не помню, сколько всего человек, а из того района, где я работал, двух — меня и еще одного парня, инструктора райкома. Не знаю, за какие заслуги попал сюда. Одни товарищи говорили на прощанье: «Жаль с тобой расставаться, но что поделаешь — приказано лучшие кадры отобрать для отстающей соседней области». А другие говорили: «Избавляются от тебя, Мартынов, — слишком уж развел ты критику в своей газете и на конференциях резко выступаешь»… Но, в общем, не жалею, что приехал сюда. Всюду жизнь, люди…
— Трудно тебе с Борзовым?
— Трудно…
Марья Сергеевна села за стол против Мартынова, подперла рукой щеку.
— Знаешь, зачем я тебя позвала? — Ее простое веселое лицо, с добродушными веснушками и смешливыми морщинками под глазами, стало серьезным. — Продолжить тот разговор, что тогда в райкоме начала… Закусывай, Петр Илларионыч, — подвинула к нему тарелку с сыром, салатницу, хлеб. — Тебе чего налить? Я с Донщины, из тех мест, где виноградники разводят, у нас сухое вино пьют.
— Все равно. По своему вкусу налей.
Марья Сергеевна налила два бокала белого вина.
— Объясни ты мне — что у вас с Виктором Семенычем происходит?
Мартынов ответил не сразу.
— Это разговор большой, Марья Сергеевна… Но ты же сама бываешь на пленумах, на собраниях партактива.
Он мне говорит: «Мартынов рвется к власти, авторитет в организации завоевывает, хочет выжить меня отсюда».
— Ты этому веришь?
— Нет, не верю.
— Напрасно, — усмехнулся Мартынов. — Да, я считаю, что партийная работа — не его дело. Постараюсь и в обкоме это доказать.
— Вон как…
— А что я авторитет завоевываю, рвусь к власти — это чепуха… Да, может, сюда порекомендуют другого товарища первым секретарем? Почему бы мне не поработать здесь вторым? Очень хотелось бы поработать с настоящим человеком, поучиться у него. Но у Борзова учиться нечему. Не обижайся, Марья Сергеевна…
Мартынов отпил из своего бокала.
— В тридцать восьмом году поженились?
— Познакомились. Поженились в тридцать девятом… Двенадцатый год живу с ним…
— Когда же вы переехали сюда с Донщины?
— Он воевал в этих краях. Был заместителем командира полка по политчасти. После освобождения области его здесь и оставили… Мы тут с ним уже в третьем районе. И все такие районы — середка на половинке. Передовым ни один из них не стал.
— Должно быть, и в тех районах был у него этот груз на ногах — отстающие колхозы. С таким грузом высоко не взлетишь. Ты скажи, Марья Сергеевна, чего ты, собственно, хочешь? Помирить нас? Так мы с ним и не ссорились, не на базаре поругались.
— Нет, я вижу, вас не помиришь… Для себя хочу понять — о чем у вас идет спор?
— Ну что ж… Если бы ты не была бывшей Машей Громовой, может, не стал бы тебе говорить всего, что скажу. Но ты не из тех дам, у которых все знакомство с деревней через молочниц. Сама из колхоза вышла.
— Ого! — усмехнулась Марья Сергеевна. — Нашел даму! Сколько раз предлагала Виктору Семенычу: «Назначь меня в комиссию по проверке качества ремонта тракторов. Уж который трактор я приму — тысячу гектаров поднимет тебе за сезон!»
— Не в том дело, что ты знаешь машины и сельское хозяйство. Я думаю, это тебе дорого, близко.
— А моя вся родня в колхозе живет. Мама, бабушка, два брата, три сестры… До сих пор письма шлют мне колхозники из нашего района, всеми радостями и горестями делятся.
— Немножко нехорошо получается, — продолжал после большой паузы Мартынов, — что без него завели разговор о нем. Но я и в глаза ему это скажу. Да и говорил уж… Если придется тебе отчитываться за сегодняшний вечер, можешь передать ему все слово в слово…
Тебе, когда ты пожила с Борзовым, больше узнала его, никогда не приходило в голову о нем такое? Вот он волнуется, хлопочет, нажимает, чтоб зябь пахали, хлеб везли, всякие планы выполняли, а близко ли к сердцу принимает он все это? Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб нам понадобится и в будущем году, не одним днем живем? Что, если в каком-то колхозе не поднимут зябь, трудно придется там людям весною? Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может, он только о себе думает? Не выполним то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь. Пятно ляжет на его служебную репутацию.
— Страшные вещи ты говоришь, Петр Илларионыч. — ответила задумавшаяся Марья Сергеевна.
— Сама вызвала на такой разговор, теперь уж слушай… Что у нас происходит? О чем мы спорим? Мне кажется, о самом главном… Почему наш район средний? Что, все колхозы у нас средние? Если бы так, еще терпимо! Нет. Есть в районе очень богатые, крепкие колхозы и есть слабые колхозы. Вот из этих крайностей и выводим среднее. Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне. Конечно, были в каждом селе батраки, середняки, кулаки — разно люди жили, но между селами в одной волости не было, не могло быть такой разницы, как сейчас: в одном колхозе — три миллиона дохода, а в другом, рядом, — триста тысяч. Земли поровну, и земля одинаковая, один климат, одно солнце светит, одна МТС машины дает — и такая разница! Когда же мы доберемся до причин и покончим с этой пестротой? А времени прошло немало с тех пор, как мы колхозы организовали. Война была, оккупация, разорение, но и война уже давно окончилась… Виктор Семеныч не любит, когда говорят: «Отстающий колхоз», поправляет: «Отставший!» Это, мол, не хроническая болезнь, временное явление: сегодня — отстал, завтра — догонит. Но людям-то не легче оттого, что мы формулировку уточнили, — в тех колхозах, что «отставшие» с самого сорок третьего года…
И как же мы вытягиваем отстающие колхозы? Да вот так — полы режем, рукава латаем. В прошлом году в пяти колхозах остался немолоченый хлеб на зиму в скирдах, а «Власть Советов», «Труженик», «Победа» выполняли за них поставки — и «заимообразно», и «в счет будущего года». Когда-то такие вещи называли головотяпством. Так и в передовых колхозах можно развалить дело. У лучших колхозников опускаются руки: да что же мы, обязаны век трудиться за лодырей?.. Нет, уж пусть там, в отстающих колхозах, люди до дна испьют чашу. Плохо работали? — ну, плохо и получайте по трудодням. А рядом, во «Власти Советов», — по пяти килограммов надо выдать!.. Пусть люди почувствуют свою вину. Но и нам нужно понять наши ошибки, нашу вину. Должны же мы когда-нибудь найти для таких колхозов настоящих руководителей? Ведь все дело в председателях! Никакие наезжие сверхчрезвычайноуполномоченные не наведут в колхозе порядка, если он без головы! Из тридцати тысяч населения в районе не выберем тридцать хороших председателей?.. Интересно получается, Марья Сергеевна, — Мартынов вдруг рассмеялся, откинулся на спинку стула, потеребил свои и без того взлохмаченные волосы. — Посылаем во все колхозы уполномоченных — на это людей у нас хватает. И живут они там месяцами, все лето. И жизнь без них в райцентре идет своим чередом, все конторы пишут. Ну, раз мы посылаем человека уполномоченным, значит, надеемся, что он поправит дело, считаем, что он умнее председателя. Так, может, и оставить бы его в колхозе навсегда? Тем паче, что его контора без него пишет не хуже, чем при нем… Между прочим, контор этих развелось у нас — пропасть! «Заготлен» и тут же рядом — «Пенькотрест». А нельзя ли их как-нибудь одной бечевочкой связать, льняной или пеньковой?.. Так вот, говорю: на гастроли в деревню людей хватает, а на постоянную работу не подберем. И навязываем иной раз колхозникам в председатели такого проходимца, какого не следовало бы и на пушечный выстрел подпускать к общественному хозяйству!..
— Может, Виктор плохо знает кадры?..
— Так с этого нужно начинать! Искать людей! Без этого — провалимся с треском!.. И на месте, в колхозах, нужно продолжать поиски. При всех новых установках насчет посылки в колхозы специалистов с высшим образованием никто же нам не сказал, что надо прекратить выдвижение!..
Зимою, когда проходили у нас отчетно-выборные собрания в колхозах, я рассказал Борзову такой случай, — продолжал Мартынов. — Это было в Н-ской области, в одном районе. Я туда наезжал, когда в областной газете работал. Был там самый отстающий колхоз «Сеятель». Уже просто не знали, что с ним делать. С десяток председателей там перебыло, и ни один не справился. Дисциплина плохая, люди на работу не идут, все на базаре торгуют, урожайность низкая, на трудодни — копейки. Взяла там верх кучка рвачей-горлохватов. Обсядут нового человека — либо споят его, в какое-нибудь жульничество впутают, либо доведут до того, что бросает все, скрывается днями от людей, ни дома не сыскать председателя, ни в конторе, где-то в поле под скирдой спит, махнул на все рукой — работайте как знаете!..
Едет в «Сеятель» уполномоченный — проводить очередное отчетно-выборное собрание. Секретарь райкома говорит ему: «Не знаю уж, кого им рекомендовать. Самого себя, что ли, или предрика? Нас там только еще не было. Присмотрись там получше к людям. Может, есть у них на месте подходящий парень?»
Заслушали отчет правления, сняли председателя — колхозники спрашивают уполномоченного: «Что ж вы никого не привезли? За кого же будем голосовать?» Уполномоченный говорит: «Больше не будем возить вам председателей. Ваш колхоз — вам и думать о председателе!» — «Так у нас некого выбирать!» — кричат. И вдруг кто-то подал голос: «Как некого выбирать? А вон — Степка Горшок. Чем не председатель!» Шум, смех. «Степку Горшка!», «Степа, встань, покажись народу!» Но не все смеются. Многие колхозники всерьез предлагают: «Степана Горшкова!»
Степан сидит на передней скамейке — в опорках, одна штанина разорвана по колено, в милицейской фуражке, — когда-то уходил в город, служил там в милиции, потом вернулся опять в колхоз. Работал он прицепщиком в тракторной бригаде, хорошо работал, трудодней много, но получать-то по ним нечего было в том колхозе. А семья — больная жена да семеро детей.
«Степку Горшка!» — кричат. «Хоть горшка, хоть макитру — все равно!» А уполномоченный прожил в том колхозе перед собранием два дня, ходил по хатам, расспрашивал уже людей про Горшкова. Начал с табелей. Видит, вдвое больше у него трудодней, чем у других колхозников. Что за человек? Никто ему ничего плохого про Горшкова не сказал, кроме того, что с виду неказист, штаны на нем худые. Так ему за колхозной работой, может, некогда было и на базар съездить… Со смехом, с шуточками дело подходит к тому, что нужно голосовать. Горшков просит слова, встает: «Товарищи, пока не поздно, не проголосовали — подумайте получше. За доверие спасибо, но все же подумайте еще. Как бы не пришлось после пожалеть. Может, кой-кому хуже будет». И сел. Шутники не унимаются. «Не будет хуже!», «Хуже некуда!», «Валяй голосуй!» Проголосовали. Выбрали председателем колхоза Степана Горшкова.
На другой день приходит Горшков в правление принимать дела от старого председателя. Так же, как был одет, в опорках, только штанину зашил. Бывший председатель думал сдать дела быстро, как и сам принимал: вот тебе печать, вот подушечка для печати — садись, действуй, Степан. «Без глубокой ревизии не приму». Ему говорят: так была же ревизия перед самым отчетным собранием, три дня назад! «Вор вора проверил». Вызвал из района ревизора. Две недели копался, перевешали весь хлеб в амбарах, продукты в кладовых, сам каждую бумажку в бухгалтерии проверил, поднял дела и трехлетней давности, — в общем, так принял колхоз, что человек пять бывших правленцев и членов ревкомиссии пошли под суд. Потом созвал бригадиров и говорит: «Довольно вам по дворам ходить, дразнить собак, зазывать на работу. Кто не хочет в этом году остаться без хлеба — выйдет в поле без вашего приглашения». А уже в каждой семье только и разговору о том, как новый председатель дела принимал, с жуликами расправился. Думают люди: пожалуй, теперь иначе дело пойдет, будет чего получать по трудодням. Как бы не ошибиться, дома сидя. И повалили все на работу.
С тех пор колхоз пошел в гору. Хорошо вспахали, вовремя посеяли, убрали — с урожаем, с хлебом! А когда жирок завяжется — хозяйство быстро растет! В два года «Сеятель» стал передовым колхозом в районе. Хотели было перебросить Горшкова в другой отстающий колхоз, чтоб и там наладил дело, — куда там! Колхозники — ни в какую! «Не отдадим Степана Егорыча!» Послали ходоков в Москву — отстояли.
— Это очень похоже на наш колхоз, тот, где я работала трактористкой, — сказала Марья Сергеевна. — Был у нас хороший председатель, и забрали его в район, заведующим сельхозотделом райкома. У нас там чуть проявит себя на работе председатель колхоза, так торопятся выдвинуть его в район. А мы через год прокатили нового председателя — при нем дела пошли хуже — и вынесли решение: избрать старого, Ивана Романовича Шульгу. Он в райкоме работает, а мы его выбрали, самосильно. Поехали с этим решением в обком — добились, вернули нам Ивана Романовича.
— Вот, вот! Из колхозов-то мы торопимся выдвигать стоящих работников. Будто наши учреждения существуют ради себя. Не ради себя — ради колхозов! Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук — положение не улучшится, если в колхозах останутся шляпы, пьяницы!..
Разговорился я как-то с этим Горшковым, — продолжал Мартынов, — о его прошлой жизни, о колхозе. «У меня, говорит, сердце изболелось, глядя, как воры, проходимцы зорили наш колхоз. Я в активе ходил, когда колхоз организовывали, кулаков выселял, мне в окна стреляли, хату мою поджигали, и я же в этом колхозе дожился до того, что сапог не стало. Всякая сволочь смеется: «Вон он, тот рай земной, Степка, что ты нам обещал, — ты уж на Адама стал похож». Сами же угробляют колхоз и еще издеваются. Эх, думаю, мне бы власть! Добрался бы я до вас!..»
К чему я рассказал про этот случай Виктору Семенычу? Да не без задней мысли. И нам надо бы поискать вот таких, у которых «сердце изболелось». А кто едет в колхоз только под угрозой исключения из партии или потому, что в райцентре ему уже больше никаких должностей не дают, — грош цена такому председателю! Ну и что же? Рассказал ему — он и ухом не повел. Поехал на другой день в колхоз «Наш путь» проводить отчетно-выборное собрание — три раза заставлял колхозников переголосовывать, пока выбрали-таки этого прохвоста Камнева, которого сейчас приходится судить за падеж скота и растрату.
Мы не все знали про Камнева, когда обсуждали его кандидатуру на бюро. Знали, что в промкомбинате он не справился с работой и на маслозаводе его сняли за самоснабжение. Товарищи говорят: это дело старое, он за это понес уже взыскание, учтет на будущее время. Но там колхозники столько рассказали про него, что, конечно, нужно было не настаивать — извиниться перед собранием за свою ошибку и подумать о другом человеке. Он родом из соседнего села, его там все знают. Говорят: «На трибуне — соловей, на деле — ворона». Были заявления, что он партизанскую медаль обманом получил. Отрастил бороду и жил у родичей в другом районе, где его не знали, только всего и геройства. Да эвакуированным скотом барышничал. Но Борзов уперся, ничего не стал проверять. Есть решение бюро — надо проводить его в жизнь. Взял собрание измором. Райком-де недостойных людей в колхозы не посылает. Он думает, что от этого пострадает авторитет райкома, если люди где-то в чем-то нас поправят…
Открытие сделал! — вдруг просиял Мартынов, встал и заходил по комнате. — Все время мучил меня вопрос: почему у нас среди партактива мало добровольцев ехать в колхозы председателями? Если даже практически рассудить: чем быть мне вечно уполномоченным в селе, разрываться между своим учреждением и командировками, так пошлите уж меня председателем! И зарплату высокую установили для таких, взятых с другой работы. Секретарь райкома столько не получает, сколько в крупном колхозе при хорошем урожае может председатель заработать. И — нет охотников. Район, думаю, что ли, здесь какой-то особенный, заклятый? У нас там это не было проблемой. Догадался наконец: Борзова боятся. Есть и здесь такие, что с удовольствием променяли бы свою канцелярию на живую работу в колхозе, но — его боятся. Боятся: что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку. Он тебя и группой урожайности подрежет, и выговор ни за что влепит — за то, что в проливной дождь комбайны не работали. Нет хуже для председателя колхоза, когда он не уверен, что ругать его будут лишь за дело, а помогать по-настоящему, что в своей трудной работе, где не раз, конечно, и ошибешься, он не станет жертвой произвола, самодурства… В общем, можно сделать вывод: если где-то жалуются, что лишь в порядке партийной дисциплины удается послать человека в колхоз на должность председателя, — ищи причину в самом райкоме. Может, спросишь: откуда я знаю психологию председателя? Так я же сам был председателем колхоза три года, забыл рассказать. Там и очерк свой написал. Меня тоже «выдвинули». «О, так у нас, говорят, есть свой писатель!» — и назначили меня заведующим типографией райгазеты. Оттуда и пошел по газетам.
— От твоих открытий, Петр Илларионыч, я сегодня, кажется, всю ночь не буду спать, — сказала Марья Сергеевна. — Я вот думаю, между прочим, — добавила она с невеселой усмешкой, — за что он меня полюбил? Я и девушкой не была красавицей. Мода тогда пошла такая: на знаменитых стахановках жениться. У нас и предрика женился на простой девушке, звеньевой, из первых орденоносцев, про нее тоже во всех газетах писали…
— Ну, это уж я не знаю, как у вас было, — ответил Мартынов. — Тут я тебе вряд ли помогу сделать правильные выводы.
Закурил, сел, попросил Марью Сергеевну налить ему чаю.
— Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками, с холодной душой, — продолжал он. — Вот нам сейчас подсказали: выдвигайте в председатели колхозов специалистов сельского хозяйства, агрономов, зоотехников. Правильно! Давно пора! Ведь что получается. В промышленности, на заводах, начальник цеха — обязательно инженер, не говоря уже о директоре завода. Там кадры учат, основательно подготавливают. А ведь иной колхоз — тот же завод по объему работы: громадное полеводство, тысячи гектаров, животноводство, всякие подсобные отрасли, строительство оросительных систем, лесонасаждение. И все на самородках выезжаем. У лучшего нашего председателя, Демьяна Васильича Опёнкина, образование — три класса церковно-приходской школы. Учим мы председателей? Да, учим. Есть вот областная школа председателей колхозов трехгодичная. Дали нам на район два места, послали двух человек. Пока всех председателей пропустим через эту школу, пятьдесят лет пройдет.
Конечно, нужно побольше выдвигать агрономов на руководящие посты в колхозы. Рано или поздно к тому придем, что и бригадиры у нас будут все агрономы. Но как это сейчас делается у нас?.. У Борзова на столе лежит разнарядка: послать восемь агрономов в колхозы председателями. Есть послать! А кого послать, как послать — это его не очень волнует. Лишь бы выполнить в срок задание по количеству и отчитаться перед обкомом. Но ведь агроному, чтобы он справился с обязанностями председателя, нужно, кроме диплома, иметь и талант организатора. Он должен быть вожаком, массовиком, воспитателем народа. А в первую голову — должен быть готов послужить верой и правдой советской власти на очень трудном посту!.. А мы вот послали в отстающий колхоз Аксенова. Двадцать лет просидел человек в конторе сельхозснаба — не по специальности, счетоводом, наряды какие-то выписывал, должно быть, уже и позабыл всю ту агротехнику, что учил в институте. От трудностей колхозного строительства спасался там. Чего же хорошего дождемся от этого трухляка? Но для отчета перед обкомом годится — диплом о высшем агрономическом образовании имеет…
А от таких — много ли проку? Если парень поступил в сельскохозяйственный институт только потому, что не прошел по конкурсу в институт кинематографии, и вся его колхозная практика — выезды на уборочную в колхозы на каникулах? Мы и таких двух агрономов послали в колхозы. Но ребята мне понравились. Комсомольцы, не робеют. Много задору, свежий взгляд на такие вощи, к которым мы уже притерпелись, искренне удивляются, почему мы до сих пор, при нашей передовой науке, при нашей механизации, не берем урожаи пудов по двести с гектара… Если помочь им — может, дело у них пойдет. Но если с первого дня начать стучать кулаком по столу: «Вы же — специалисты! Вы больше других председателей знаете! Я с вас три шкуры спущу!» — не знаю, как оно с ними получится…
Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни. Я встречаю таких людей, слышу такие споры, как у Мартынова с Борзовым, в одном районе.
Какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей, представленных читателю в первых главах, — все это нужно еще понаблюдать в жизни. Возможно, это и будет содержанием следующих глав.
1952
На переднем крае
Был один из последних дней осени, может быть, последний день.
Вчера и позавчера еще показывалось солнце. В затишке, в балках, на крутых склонах, где косые лучи падали отвесно к земле, даже пригревало. Зеленая озимь, слегка присушенная утренниками, еще тянулась к солнцу. В голых рощах щебетали птицы — запоздалые перелетные стайки щеглов, зябликов. Хрупкий стрельчатый ледок у берегов речек к полудню бесследно растаивал. Еще носилась в воздухе паутина, кружились над бурьянами мошки. К ветровому стеклу машины прибило бабочку.
А сегодня с утра подул резкий северный ветер. Все замерло в полях и рощах — ни птичьего голоса, ни пастушьего окрика. Лишь мыши-полевки сновали в сухой траве, торопясь натащить в норы побольше корму. Тяжелые тучи низко стлались над землею. Вот-вот повалит снег, закружит его метелью по полям, ударят морозы…
На краю недопаханного загона стоял гусеничный трактор, «натик», как его называют ласкательно трактористы, возле него — два человека.
— Подверни к ним, — сказал Мартынов шоферу.
«Победа» съехала с дороги на жнивье, остановилась.
— Здорово, седовцы! — сказал Мартынов, выйдя из машины.
Два молодых парня, тракторист и прицепщик, грелись с подветренного бока трактора, возле не остывшего еще мотора.
— Здравствуйте…
— Почему мы седовцы, товарищ Мартынов? — спросил тракторист, круглолицый, маленького роста парень, с плутоватыми черными глазами, Костя Ершов.
— Ваш трактор похож сейчас на ледокол в Арктике. Затрет его льдами, и останется здесь на зимовку.
— Пятнадцать гектаров нужно допахать, — сказал Ершов. — Все машины ушли в МТС, одни мы вот с Кузьмой страдаем тут.
— А почему стоите?
— Горючее кончилось. Развозку ждем. Мы уж давали сигнал. — Тракторист поднял с земли длинную жердь-веху с насаженным на конец снопом сухого бурьяна. — Вон выезжает из села.
— А я думал, скажешь: ждем, пока мотор остынет, карбюратор будем перетягивать, — произнес Мартынов. — Помнишь, на уборке проса я к вам приезжал?
— Помню, — вильнул глазами в сторону Ершов. — То я тогда пошутковал.
— Испытывал секретаря райкома: понимает ли он чего-нибудь в технике?..
Мартынов прошел по пахоте, нагнулся, порылся в борозде, и теплое чувство, с которым он подъехал к этим «зимовщикам», допахивавшим последние гектары в последние часы перед снегопадом, вдруг исчезло.
— Подо что пашете? — спросил он.
— Не знаем, товарищ секретарь, — ответил, пожав плечами, улыбаясь, тракторист. — Наше дело маленькое. Скажут паши — пашем, боронуй — боронуем. А что тут будет колхоз сеять — то уж ихнее дело.
— Ты разве не колхозник?
— Колхозник.
— Как же ты не интересуешься своим хозяйством? Не знаешь, что будете здесь сеять?.. И ты не знаешь? — обернулся Мартынов к прицепщику.
— Знаю, — ответил прицепщик, Кузьма Ладыгин. — И он знает. Чего зря болтаешь, Костя? Было сказано председателем: под свеклу пойдет эта земля.
— Под свеклу?.. Что же вы делаете? Нужно на тридцать сантиметров, а тут, — Мартынов еще раз нагнулся над бороздой, смерил пальцами глубину, — пятнадцати сантиметров нет.
— Я уже ему говорил, — сердито поглядел на улыбавшегося тракториста Ладыгин. — У него батька кузнец, а мать доярка, в поле не ходят. А у меня мать и сестренка на свекле работают. Может, как раз им тут и участок отведут. Заработают сахару — на два раза семейством чаю попить. Полны руки мозолей тут заработают, больше ничего!..
Тракторист молчал. Улыбка сходила с его круглого, толстощекого, загорелого лица.
— Как же ты, Ершов, так рискуешь? Ведь будут принимать участок, забракуют, заставят перепахать — горючее за твой счет… — Мартынов оглядел загон. — То вчера пахал? Там, видно, глубже. А это сегодня, с утра? Поелозил плугом.
— Он вот на что рассчитывал, Петр Илларионыч, — сказал шофер, подходя к Мартынову и указывая рукой на тучи. — На снежок.
— Не успеют принять пахоту — пойдет снег, закроет все грехи?..
— Машина не тянет, товарищ секретарь, — стал оправдываться тракторист. — Компрессии нет. Сколько уж работаю без ремонта!
— Вчера еще тянула, сегодня не тянет?..
Ершов сдвинул шапку на лоб, поскреб затылок.
— А зачем глубоко пахать, товарищ секретарь? Мы вот читали давеча в газете: один лауреат в Сибири совсем без пахоты сеет и хорошие урожаи собирает.
— Мальцев?.. — Мартынов пристально поглядел на тракториста: дурака валяет или в самом деле так превратно понял агротехнику уральского колхозника-ученого Терентия Мальцева? — Во-первых, Мальцев не совсем без пахоты сеет. Не ежегодно, но пашет. И когда пашет, то глубоко, сантиметров на пятьдесят. Во-вторых, что он сеет на непаханом поле? Пшеницу, ячмень. А здесь будет свекла. Корнеплоды. Им нужна рыхлая почва. И у нас, Ершов, кой-какие поля можно не пахать. Хорошее свекловище, например. Чистое поле, сорняков нет, обрабатывали его культиваторами — тот же черный пар. Зачем его весною перепахивать? Заборони и сей пшеницу. Понятно? Где не нужно, не паши совсем. А где нужно, паши как следует.
— Это мне-то говорите «не паши совсем»? Ого! Да какие же я на это права имею?..
— Ты хозяин этих полей. Ты же колхозник.
— Хозяин?.. — Ершов порылся в кармане, достал щепоть табаку и обрывок газеты, свернул толстую, в палец, цигарку, закурил. — Вон в колхозе «Новая пятилетка» бригадир один посеял в прошлом году наволоком по свекловищу тридцать гектаров — и судили человека. А урожай вышел — двадцать пять центнеров. А где перепахали свекловище — по десять. Стали убирать, колхозники ему говорят: «Подавай на пересуждение». Подал, да что-то не слыхать до сих пор — оправдался ли? Вот так-то всыпают нашему брату хозяевам!..
Мартынов внимательно выслушал тракториста.
— Пойдем-ка вон туда, под скирду, посидим. Там теплее.
Тракторист, прицепщик, шофер и Мартынов сели в затишке на соломе.
— Послушай, Ершов. Неужели ты не заинтересован в том, чтобы ваш колхоз собирал высокие урожаи?
— Почему не заинтересован? Заинтересован…
— Зачем же безобразничаешь?..
Тракторист молчал.
— Да от свеклы-то ему интересу мало, ее по трудодням не дают, — сказал шофер. — А вот вы спросите, Петр Илларионыч, про хлеб. Есть ему расчет стараться, чтоб колхоз получил хороший урожай зерновых? Вот, к примеру, возьмем уборку. Какую пшеницу ему выгоднее убирать — где десять, скажем, центнеров, или где тридцать?
Ершов ухмыльнулся:
— Конечно, где десять центнеров — выгоднее…
— Ну-ка объясни, почему?
— А тут и объяснять нечего. Неграмотная бабка поймет… Комбайнер от умолота получает, а я — тракторист, таскаю комбайн, мое дело — гектары вырабатывать. На редком хлебе комбайн лучше работает, пошел и пошел без задержки! Перевыполняю норму, прогрессивку мне начисляют. А как заехали на такой участок, где тридцать центнеров, пшеница стеною стоит, комбайн на полный хедер не берет — вот тут и завязли! Полнормы не выработаешь. Да пережог горючего. Да если еще дождики, поляжет хлеб. Труба!..
— Да-а, — протянул Мартынов. — Десять выгоднее убирать, чем тридцать? Интересно… А пять еще выгоднее?
— Как сказать… Оно-то нам разный минимум установлен. И по два и по три килограмма на трудодень дают. Хороший хлеб — по три, похуже — по два. Так на плохом хлебе я больше трудодней заработаю. Опять же так на так и выйдет.
— Рассчитал?
— Рассчитал! — усмехнулся шофер. — Юрист!..
— Оно, если разобраться как следует, — сказал прицепщик, — так и комбайнеру невыгодно очень хороший урожай убирать. На среднем хлебе он за то же время больше зерна намолотит.
— Факт! — подтвердил шофер. — На среднем хлебе у него все нормально идет, никаких задержек, а где тридцать центнеров, молотилка не перерабатывает — поломки да простои.
Мартынов долго молчал и вдруг крепко, с непечатным загибом, выругался.
— Дошло, Петр Илларионыч? — спросил шофер.
— Дошло, — ответил Мартынов. — И раньше об этом знал, но как-то не доходило до сердца. Куда же мы идем? Что за организация труда, при которой трактористу невыгодно выращивать высокие урожаи? В Министерстве сельского хозяйства думают об этом? Тысячи специалистов изучают колхозную жизнь. Сколько диссертаций написали, брошюр выпустили об организации труда в МТС и колхозах!.. Погоди, Ершов, давай уж проверим все до тонкости. Неужели так-таки нет у вас никакой заинтересованности в урожае? Два-три килограмма зерна на трудодень — это ваш гарантированный минимум, это вы получаете при любых обстоятельствах. Но если в колхозе вышло больше, по четыре-пять килограммов, — и вам дадут по стольку же.
Ершов и Ладыгин засмеялись.
— Чего смеетесь?
— А было ли, товарищ Мартынов, в нашем районе за все время после войны, — сказал Ершов, — чтоб дали в каком-то колхозе по пять килограммов?
— При Борзове у нас все колхозы под одну гребенку причесывали, — сказал Ладыгин. — Где и двадцать центнеров урожай, так заставят за отстающих выполнять хлебопоставки. Что же вы, не работали с Борзовым, не знаете? Вот мы, прицепщики и трактористы, и не верим теперь, что можно больше минимума получить.
— А вот на Кубани, Петр Илларионыч, — повернулся к Мартынову шофер, — иначе дело поставлено. Брат мой там учительствует. Часто мне пишет. Ни колхозы на МТС не обижаются за их работу, ни трактористы на колхозы — за обслуживание. Как-то согласованно у них идет. Вот там верят трактористы, что можно больше минимума получить! И по пяти и по шести килограммов на трудодень дают в колхозах. Кадры, что ли, там лучше?
— А может, Василий Иваныч, — ответил Мартынов, — и на Кубани еще больше бы урожаи собирали, если б иначе оплату труда трактористов организовать?.. Что — Кубань? А у нас, в средней полосе, мало разве хороших МТС и колхозов? Но надо, чтоб они все стали хорошими!
…Подъехала горючевозка. Ершов с прицепщиком заправили баки, запустили мотор, установили плуг на нужную глубину. Машина нетяжело тянула плуг, мотор работал даже не на полный газ. Мартынов зло поглядел на тракториста.
— Нет, Ершов, не прощу тебе этого! — крикнул он, идя по жнивью рядом с трактором. — Совесть, брат, все же нужно иметь! Пришлю сюда председателя колхоза. Пусть составит акт. Не успеешь перепахать — трудодни спишут.
Ершов сделал вид, будто запорошило глаз, отвернулся, стал вытирать вспотевшее лицо черным, как его замасленная стеганка, платком.
С неспокойной душой ехал Мартынов дальше по опустевшим, притихшим, ожидавшим с часу на час зимы полям.
«Что ж это, стоять над каждым трактористом? — думал он. — Ковыряться в бороздах, проверять «компрессию», заглублять плуги? Нет, так дело не пойдет. Таких Ершовых ничем, видимо, кроме рубля и килограмма, не прошибешь… А ведь это передний край — машинно-тракторные станции! Здесь урожай делается! От одного тракториста зависят судьбы сотен людей. Он может и завалить зерном амбары, может и без хлеба оставить колхозников. Как ни удобряй, ни подкармливай, а вот такой «юрист» вспашет тебе — не вспашет, поцарапает почву, — ну и жди урожая с этого поля! От козла молока!..
Конечно, нельзя рассчитывать лишь на совесть. Надо систему оплаты труда перестраивать. Как перестраивать? Подумать надо. Неужели нельзя найти такие формы — чем выше урожай, тем больше все получат по трудодням?.. Надо написать в обком. Не любят у нас в обкоме тревожных писем. Скажут: растерялся молодой секретарь, другие работали при тех же порядках, а ему, вишь, подавай какие-то реорганизации.
А вот это я ему, Ершову, глупость сказал: «Где лучше бы не пахать — не паши совсем». Кому сказал? Рядовому трактористу. Не всякий и председатель колхоза решится на такую «самодеятельность»… У нас — свекловища, а на юге вот площади из-под кукурузы, подсолнухов. Так называемый «зеленый пар». Умный хлебороб никогда не перепахивал «зеленый пар», хорошо обработанный, конечно. Уничтожены сорняки, задержана влага, не нужно эту почву больше тревожить. Уберет бодылки, очистит поле, пустит боронку и сеет пшеницу. В любой год будет выше урожай, а в засушливый — вдвое выше, чем по зяби. Но попробуй-ка сейчас председатель колхоза посеять по зеленым парам «наволоком»! Не успеет еще взойти пшеница, еще неизвестно, кто прав, этот ли председатель, опытный хлебороб, или те канцеляристы, что посевные инструкции сочиняли, а у прокурора уже «дело» на него — за нарушение агротехники. Точно так, как с этим бригадиром, что Ершов говорил! Если мы, районные работники, простим «нарушителю» — нас взгреют. Посмотрят по сводке — сев на сто процентов, а план весновспашки не выполнен. «Каким же вы чудом посеяли? Что-то у вас, друзья, концы с концами не сходятся… А ну, подать сюда ляпкиных-тяпкиных!»
Иногда мы так уж подробно расписываем в своих инструкциях и резолюциях: когда сеять, как сеять, как убирать, точно боимся, что колхозники без наших указаний не смогут и лошадь правильно в телегу запрячь. Будто не с хлеборобами имеем дело. Себя тратим на мелочи и разумную инициативу людей сковываем. Если не верим в способности председателя колхоза или директора МТС — не нужно держать таких. Сельское хозяйство требует гибкости, смелости, находчивости. Здесь, как в бою, приходится прямо на поле принимать решения. Год на год не похож. Заранее, из кабинетов, всего не предусмотришь. То ранняя весна, то поздняя, то засуха, то дожди заливают. Вот, скажем, затяжные дожди срывают уборку. А попробуй пустить жатки на участки, закрепленные за комбайнами! «Антимеханизаторские настроения!» Хотя всем ясно, что в такую погоду нужно бросать все, не только жатки — и косы, и серпы — на спасение урожая!
У нас не так, как в промышленности: закончен рабочий день, и можно итоги подвести, продукция налицо. Хлебороб целый год работает, пока сможет свою продукцию показать. В деревне цыплят по осени считают. И надо бы не торопиться объявлять нам выговоры за «нарушения». Терпеливее надо относиться к таким «нарушениям», когда люди хотят сделать лучше, чем предписано. Надо ругать или благодарить за урожай, а не за одну какую-то выхваченную из целого сельскохозяйственного года «кампанию»…
Самый страшный враг у нас сегодня — формализм, — думал Мартынов, откинув голову на спинку сиденья, закрыв глаза. — Эх, брат, Петр Илларионыч! Если хочешь по-настоящему поработать в этом районе, а не поденщину отбыть — трудно тебе придется! Много у этого самого формализма разветвлений. Формально руководить — отстающие колхозы не вытянешь. Напиши хоть сотню резолюций: «указать», «обязать», «предложить». Мелочным опекунством не заменишь настоящей заинтересованности колхозников в хорошей работе… А судьбы колхозного урожая в руках механизаторов. Но им, оказывается, выгоднее вырастить десять центнеров, чем тридцать. Вот где узел! Отсюда надо начинать распутывать. Собрать бы коммунистов-механизаторов в райком, поговорить с ними…»
— Дремлете, Петр Илларионыч? — спросил шофер.
— Нет, — открыл глаза Мартынов. — Так, задумался…
— Снег идет.
Мартынов приоткрыл окно, чтобы выбросить погасший окурок. В щель со свистом ворвался ветер. В полях потемнело. Снег валил крупными хлопьями.
— Рассчитал Костя, химик! — сказал шофер. У него было два слова, которыми он определял высшую степень хитрости: «юрист» и «химик». — В точку! К утру всю землю забелит, никто уж не будет в его бороздах копаться.
— Нет, Василий Иваныч, — ответил, помолчав, Мартынов. — То, чего мы не доделаем, никакой снег не забелит. Ни снег, ни бумажки-сводки. Придет лето — урожай покажет, как мы поработали.
— Правильно, Петр Илларионыч! Бабы говорят: толкач муку покажет.
— То-то и оно!..
Шофер включил свет. «Победа» неслась по глухому проселку, сверкая фарами, пугая рано вставших с лёжки, ошалевших от внезапной перемены погоды, первый раз в жизни увидевших снег молодых зайцев и укрывшихся от ветра в кусты у обочины дороги куропаток.
Даже при полной механизации будут, вероятно, такие недели и месяцы в году, когда по проселочным дорогам ни на чем, кроме обыкновенных саней, не проедешь. Снегоочистители будут работать на главных асфальтированных шоссе, но не пустишь же их по всем «зимнякам», проложенным от села к селу напрямик через замерзшие речки, болотистые луга, овраги.
Метель поднялась еще днем, а сейчас было уже около девяти. Стояли безлунные ночи, в белесоватом мраке вокруг — ни одного черного пятна, ни дерева, ни телеграфного столба. Дорогу замело, править вожжами было бесполезно. Умная старая лошадь сама сворачивала то влево, то вправо, когда в сугробах под ее ногами терялся твердый накат дороги.
Мартынову и директору Семидубовской МТС Глотову благоразумнее было бы, конечно, после собрания в колхозе. Остаться и заночевать. Но теперь поздно было искать виноватого, кто первый сказал: «Едем!» Теперь уж надо было добираться домой.
— Но, но, Мальчик! — помахивал кнутом Глотов.
— Этому Мальчику, должно быть, сто лет, — сказал Мартынов.
— Что? — не расслышал Глотов за свистом ветра.
— Ваш Мальчик уже, вероятно, не раз дедушкой был, — прокричал ему в лицо Мартынов.
— Человек в двадцать лет — юноша. А у лошадей свой счет, — ответил Глотов. — Но, но! Пошевеливай!
Сани двигались по рыхлому, глубокому снегу натужно, толчками. Оба сидели боком к ветру.
— А еще был у нас в том районе, где я работал, такой председатель Тихон Петрович Глущенко. — Мартынов придвинулся ближе к Глотову, продолжая разговор, прерванный при переезде через замерзшую реку Сейм, где им пришлось для облегчения саней подняться на крутую гору пешком. — Работал он, этот Глущенко, когда-то секретарем райкома — не получилось у него, не справился с районом. Послали его директором МТС. С неохотой пошел. И там ничего видного не сделал. Так себе, средняя была МТС. Потом послали его председателем в крупный колхоз, самый отстающий. Отбивался, не хотел, чуть из партии его не исключили. Ну — пошел, И там-то он рванул! За два года сделал колхоз самым богатым в районе. Но знаешь, с чего он начал, этот Тихон Петрович?
Глотов что-то невнятно пробурчал в воротник тулупа.
— Начал с того, что строго-настрого запретил всем бригадирам и колхозному агротехнику принимать без него от МТС хотя бы гектар пахоты. «Я, — говорит, — знаю этих бракоделов! Сам буду проверять качество!» В первое же лето урожай у него — вдвое выше против прежнего. С этого и пошли жить. Колхозники прямо на руках его носили. А в соседних колхозах — ругали на чем свет стоит! «Чего ж ты, когда сам был директором, не пахал, не сеял всем колхозам так, как теперь требуешь от МТС?» Вот какие дела, товарищ Глотов. А? Покурим, что ли? Доставай, у меня кончились папиросы.
Тяжело одетый Глотов, с трудом ворочаясь, отвернул полы тулупа и ватного пальто, достал из кармана пиджака пачку «Севера». Скинув рукавицы, обжигая голые руки на ветру, закурили, истратив чуть не коробку спичек.
— Может, и тебя послать председателем колхоза? А? Хотя бы на время? Чтоб полюбовался на свою работу со стороны? Так сказать, для самокритики снизу?..
— Не хватит директоров на все колхозы, — ответил Глотов. — МТС у нас в районе три, а колхозов — тридцать.
— А папиросы ты куришь не директорские, — заметил Мартынов. — Хотя что ж — по урожаю и папиросы. «Казбек» тебе даже неприлично было бы курить перед колхозниками. Не заработал.
Глотов опять что-то невнятно проворчал.
— Шутки шутками, Иван Трофимыч, — продолжал после большой паузы Мартынов, — но как же все-таки заставить вас, директоров МТС, болеть за урожай?
— А мы разве не болеем за него?
— За выработку вы больше болеете, черт бы вас побрал, а не за урожай! Гектары ради гектаров. Все равно как если бы мы стали оценивать работу какого-то завода по количеству оборотов станков. В этом году, мол, станки сделали вдвое больше оборотов, чем в прошлом, значит, завод вдвое лучше работал. А что обороты? Наплевать на них! Давай продукцию!
Глотов повернулся к Мартынову.
— В открытую дверь ломишься, Петр Илларионыч. Давно уже все решено.
— Что решено?
— С нас уже не только выработку спрашивают, но и урожай.
— Как спрашивают? «Ай-ай-ай, как вам не стыдно, какие вы нехорошие, урожай загубили!» Так? Это не спрос.
— А новые правила для участников Сельскохозяйственной выставки? Теперь МТС за одни мягкие гектары на выставку не попадет. И урожай будет учитываться.
— Ну, выставка, конечно, дело большое. А чем ты материально отвечаешь за плохой урожай? И что выигрываешь от хорошего урожая?.. «Все решено». Ничего, брат, еще не решено!.. Да ты вперед смотри, раз уж сел за кучера. Метет как! Невелико удовольствие — в поле заночевать. Хоть бы к какой-нибудь скирде прибиться.
Глотов потыкал кнутовищем в снег возле полоза:
— Дорога.
— Спокойный ты человек, Иван Трофимыч, — опять заговорил уже сердитым тоном Мартынов. — Три дня драили тебя на колхозных собраниях за невыполнение договоров, а с тебя — как с гуся вода!
— Меня драили, и я драил, — ответил Глотов. — И мне, бывало, горючее не подвозили вовремя, прицепщиков не выделяли, трактористов плохо кормили.
— Ты не выполнял свои обязательства, колхозы не выполнили — квиты? На том и помирились? А кто же должен взять верх в этом споре? Ты — представитель государственных интересов в деревне!..
Сани заехали в балку, где снегу намело метра в полтора. Лошадь остановилась.
— Не погоняй, пусть отдохнет, — сказал Мартынов и соскочил с саней.
Утопая чуть не по пояс в снегу, зашел наперед лошади, поправил перекосившиеся оглобли, ощупал гужи, хомут — и рассмеялся:
— Что это у вас за механизация?
— А что?
— Хомут вместо супони болтом с гайкой стянули. Да еще — с контргайкой.
— У нас в МТС легче железку найти, чем кусок ремня.
— А кормите коня не стружками железными вместо сена? Что-то он уже не хочет нас везти.
— Довезет. Немного осталось. Пошевеливай, Мальчик!
Выехали из сугробов на косогор, где снег сдуло ветром, поднялись выше на гребень перевала. Впереди близко показались огни — городок в степи, усадьба МТС.
— Приехали!
— Не совсем приехали. На усадьбу приехали. Хочешь — ночуй здесь, в конторе, хочешь — поедем ко мне в село, еще три километра.
— Подворачивай к общежитию трактористов. Погреемся.
Из распахнувшейся двери повалил клубами пар. С крыльца сбежал парень в нижней рубахе, босиком, зачерпнул ведром чистого снега из сугроба, увидев подъехавшие сани, задержался на ступеньках, приложил руку козырьком ко лбу: со света ему не видно было, кто приехал.
— Здесь гостиница Семидубовской МТС? — спросил Мартынов, вылезая из саней. — Есть свободные номера?
— Есть, есть, товарищ Мартынов! — быстро подхватил шутку тракторист, узнав в приехавших секретаря райкома и директора МТС. — С ванной, с парикмахерской, с рестораном!
Мартынов и Глотов вошли в дом.
— Свободные номера вижу, — сказал Мартынов, оглядев нары. — А где же ресторан?
— А вот, — указал тракторист на печку, где кипело что-то в больших чугунах. — Картошку варим и печем, в разных видах. Воды не хватило, снегу подсыпаем. Через десять минут будет готово.
В большой комнате было жарко натоплено. В ней размещалось на двухэтажных нарах человек двадцать трактористов. Все работали на зимнем ремонте машин. Домой идти далеко — оставались ночевать при мастерской. В общежитии густо пахло керосином, соляркой, пригорелой картошкой, стиральным мылом.
— Ох, не хочется дальше ехать! — сказал Мартынов, сбросив тулуп и усевшись на нары возле жарко пылавшей печки. — Здесь бы и поспать.
— Оставайтесь, товарищ секретарь, — пригласили трактористы. — Место найдем.
— Сегодня не все в сборе, трое пошли в деревню за харчами. Вот ихние купе.
— Матрасики у нас, правда, грязноватые…
— На тулупе можно поспать.
— Насчет клопов или какого прочего насекомого не сомневайтесь. Нету. Они нашего горючесмазочного духу не выдерживают.
— Поужинаете с нами.
— И чайком угостим. Вскипел, повара?
— Вскипел. Мойте чашки.
Мартынов взглянул на Глотова:
— Позвони домой из конторы, что задержимся тут. А то еще жена твоя подумает, что метелью нас где-то занесло.
Трактористы сдвинули два стола, застелили газетами, расставили посуду, нарезали хлеба.
— Присаживайтесь, товарищ Мартынов! Товарищ директор! С дороги горяченького!
Перевалило за полночь, поужинали, попили чаю, в печке перегорело и погасло, а Мартынов все еще разговаривал с трактористами. Кто сидел на нарах, кто, по степной привычке — садись, на чем стоишь, — на корточках перед ним или прямо на полу. Один лишь Глотов дремал, полулежа на нарах, привалившись головой к стене.
За год работы в районе Мартынов знал уже всех бригадиров тракторных отрядов и многих трактористов. Был среди ремонтников молодой бригадир Егор Афанасьевич Маслов, получивший в прошлом году районное переходящее знамя. Колхозники и трактористы уважали его за строгость, требовательность, большие технические знания, но звали Егором Афанасьевичем лишь в глаза, а за глаза — Юрчиком: очень уж молод он был, лет двадцати двух, румяный, кареглазый, чернобровый. Был здесь бригадир Николай Петрович Бережной, работавший в Семидубовской МТС со дня ее основания, капитан запаса. Был тракторист Василий Шатохин, «наш Маресьев», как звали его ребята, инвалид на протезе. Были отец и сын Григорьевы, оба трактористы. Был горючевоз Бережного, семидесятилетний старик, Тихон Андроныч Ступаков, и зимою не расстававшийся с трактористами, помогавший им на ремонте. Когда Мартынов с Глотовым вошли, Ступаков достирывал рубахи в тазу, сделанном из старого топливного бака. После ужина, развесив мокрые рубахи над печкой, и он присоединился к общей беседе, сел возле Мартынова на перевернутый таз.
— Как дела, Андроныч? — спросил его Мартынов. — Компрессия как?
— Да ничего, товарищ Мартынов.
— Кольца не пропускают?
— Пока нет… А у вас?
Трактористы засмеялись.
— Почему — у меня?
— Да вот выбрали вас первым секретарем. Как оно? Тяжеленько?
— Тяжеленько.
— В подручных легче было ходить, конечно.
— С вашей помощью, думаю, справлюсь.
У деда — задир цилиндра, — сказал Шатохин.
— Как задир цилиндра?
— Да вот было у нас вчера вечером политзанятие, читали книгу «Экономические проблемы социализма в СССР». Так он как загнул! «А чего, говорит, с этими двумя собственностями канителиться? Переводи сразу всё на совхозы!»
— Ну-у? — Мартынов удивленно, с интересом поглядел на старика. — Чего это тебе, Андроныч, захотелось в совхоз?
— Не одному мне.
— Больше пока ни от кого не слыхал.
— А разве вы все слышите, что люди думают? Думают про себя и помалкивают.
— Может быть… Ну-ну, почему же — в совхоз?
— Так там лучше, товарищ Мартынов. Твердая зарплата. А в колхозе не знаешь наперед, что на трудодень получишь.
— Ну, положим, не во всех колхозах не знают наперед, что получат, — сказал Мартынов. — Где доход устоялся, знают, что меньше не будет, чем прошлые годы.
— А ты, дед, знаешь совхозские порядки? — спросил Григорьев-отец. — Работал в совхозе?
— О-о! — старик махнул рукой. — Где я только не работал! И в совхозе «Гигант» в Сальских степях работал, и на Каспийском море нефть добывал, и в Донбассе шахты откачивал. Помотался по белу свету.
— Чего ж вернулся сюда?
— На родину вернулся… Под конец жизни, должно быть, каждого человека на родину тянет.
— Обмер дед…
— Обмер?
— Да, один остался. Три сына погибли на фронте. Старуху давно похоронил. Дочка замужем в Саратове… Вот с ребятами коротаю время. Помогаю им. Имел дело с машинами, немного смыслю в технике. Разобрать там чего, почистить, на место прикрутить. Тут мой и дом — с ними…
— Деда бы можно уже и в рулевые зачислить, да по теории слабоват, экзамен не сдаст, — сказал Шатохин.
— И чего вы такие прилипчивые? — сердито оглядел старик тракториста. — Ежели чего скажешь не так, как написано, а от своего соображения, так уж — загнул! Задир цилиндра!.. Я им вот чего доказывал, Ларионыч. Повидал я на своем веку всяких начальников, и директоров, и председателей. В совхозе от плохого директора вреда народу все же меньше, чем в колхозе от плохого председателя. Там, что бы ни было, рабочий свою зарплату получит. Сделал столько-то — получай столько-то, иди в магазин, покупай за свои деньги хлеб, крупу, масло — чего тебе желательно. Задержала контора зарплату — на то суд есть, профсоюз, защита рабочему человеку. А в колхозе — что посеешь, то и пожнешь. Попадется в председатели какой-нибудь обалдуй, растяпа — он и хозяйство в разор введет и людей без хлеба оставит, да и не на один год.
— Действительно, загибаешь, Андроныч, — ответил Мартынов. — «От плохого директора меньше вреда, чем от плохого председателя». Это не решение вопроса. Надо, чтобы не было ни плохих директоров, ни плохих председателей!
— Тебе ж разъяснили, Андроныч, — вступил в разговор Юрчик Маслов, — что колхозная собственность есть социалистическая собственность. Нельзя ее отбирать у колхозов, как отбирали фабрики и заводы у капиталистов.
— Это ты об этой самой про… привации?
— Об экспроприации.
— А может быть, нам не жалко с этой собственностью расстаться? Ежели нам самим не жалко отдать ее государству — чего ж сомневаться?
— Тебе не жалко, а другим, может, жалко.
— Не равняй всех по своему сознанию.
— Да переболело уже у всех! Много воды утекло! Не бегает нынче мужик на колхозную конюшню погладить свою бывшую кобылу. Он уже и забыл, что вносил в колхоз, уже и кости той кобылы сгнили!
Дед спорил горячо, но подкреплял свои философско-экономические изыскания лишь собственным житейским опытом.
— Или, может, Ларионыч, — повернулся он к Мартынову, — правительство наше опасается, что хлеборобу не по нутру звание «рабочий»? А? Так что ж тут такого страшного? Жил я, скажу тебе, и по гудку. Загудел — вставай, собирайся на работу, загудел еще — перерыв, отдохни, позавтракай, еще раз загудел — шабаш, по домам! Что — гудок? Хорошо! Дисциплина, порядок! Трудовому человеку гудок все одно что старому солдату музыка перед сражением — дух поднимает! А для лодыря опять же подхлест! Ларионыч! Слышь! Вот мужик-единоличник гудка боялся, как черт ладана. Без гудка, мол, вольготнее, развязнее, сам себе хозяин. А разве у него дома не было своего гудка? Ежели он в страду проспал да вышел из хаты, а солнышко уже в дуба, — что соседи скажут про такого хлебороба? Засмеют! На всю округу ославят такого работничка. А жинка кочергой по спине потянет — то не гудок? Ого, еще какой! А не посеял, не скосил вовремя — чего возьмешь в левую руку? Детишки, старики на печи сидят, все просят хлеба! Это тебе что — не гудок?
Мартынов с интересом слушал деда Ступакова.
— Тихон Андроныч! — перебил старика Григорьев-отец. — А ты-то сам не забыл, что вносил в колхоз? Вклад свой помнишь? Акты бережешь? Много имущества обобществил?
— Я-то? Имущества? — оглянулся дед. — Чего спрашиваешь? Не в соседях ли мы с тобой жили?.. Какого бы я лешего обчествил, когда до самого двадцать девятого года по наймам ходил? Три курицы было да гусак с гусыней — вот и все имущество. И тех не уберег от кулацкой смуты. Пока голосовал на собрании, баба увидала, что на вашем дворе свинью смолят, а у Федьки Ковригина, слышит, корову стельную режут, — за топор и порубила им головы. Ничего я не внес в колхоз, извиняюсь. Вот эти руки, — протянул, расставив пальцы, длинные руки в синих, натруженных жилах с ороговевшими мозолями на ладонях. — Две руки, больше ничего.
— Самый передовой элемент! — засмеялся бригадир Бережной. — Ничего не имел, ни о чем не жалеет! С вещевым мешком за плечами, без лишнего груза — за партией, куда поведет! Солдат революции!..
— Кабы у нас в «Красном пахаре» в правлении такие руководители были, как Демьян Опёнкин, — с обидой в голосе закончил дед Ступаков, — я бы этими руками вдесятеро больше сделал для колхоза! Никуда бы не рыпался из родного села, не искал бы лучшего на стороне. Меня даже летуном называли. За что? Кто называл? Те, кто колхозу не давал хода своим разгильдяйством!.. Да я бы работал — во как! Кабы знал, что мой труд — хозяйству в прибыль. И что мое заработанное не пропадет!..
— А вот будет у вас отчетно-выборное собрание — подумайте, хозяева, кого выбрать в правление, чтоб и ваш колхоз стал передовым. Сам приеду к вам на собрание.
Мартынову пришлось долго и обстоятельно разъяснять Тихону Андроновичу, что и в совхозах не делается все само собою, и там по-всякому бывает, и там нужны умные директора, честные бригадиры, дельные парторги, иначе совхоз будет приносить убытки и его хлеб обойдется государству очень дорого; что колхозы могут дать нам, если приложить ума и сил, изобилие продуктов, и к новым формам в сельском хозяйстве, к единому государственному сектору мы придем через изобилие, а не потому, что не сумели чего-то доделать в колхозах.
— Значит, — покашлял в кулак дед Ступаков, — это у меня, по-вашему сказать, левацкий заскок?
— Да, похоже немножко… Хорошо, что сам припомнил, как оно называется.
Все засмеялись.
Мартынов перевел разговор на другое:
— Как это все будет в дальнейшем — переход к единому госсектору, — этого сейчас точно, в подробностях никто себе еще ясно не представляет. Поживем — увидим. Давайте подумаем о том, как нам сегодня вытянуть отстающие колхозы? Вы валите вот всю вину на председателей. Да, от председателя многое зависит. И наша тут вина, райкома, что не помогли колхозникам до сих пор выбрать всюду хороших руководителей. Но оглянитесь-ка и на себя. Кто пашет, засевает колхозные поля? Вы, работники МТС, механизаторы. Как пашете, как засеваете? Да так, что вас кое-где колхозники стали уже называть «махинизаторами». Стыдно, товарищи! Вот об этом давайте и поговорим… Три дня ездили мы с вашим директором по колхозам, отчитывался он о выполнении договоров. Сколько жалоб на вас, сколько чертей вам насулили колхозники за ваши простои, за бракодельство! Ну, почему вы работаете как подрядчики, а не как хозяева, которым каждый лишний колосок дорог?..
— Не все работают как подрядчики! Не обижайте нас, товарищ Мартынов! — зашумели трактористы.
— А во «Власти Советов» у Демьяна Богатого двадцать два центнера был урожай. Кто его вырастил? Не трактористы?
— А в «Октябре», в «Заре»? Тоже почти по двадцать центнеров вышло.
— Нас обвинить — проще всего. А вы войдите в наше положение — в каких условиях мы работаем!
— Ремонт хотя бы взять. На снегу машины собираем!
— Лучше бы ремонтировали трактора — меньше было бы простоев.
— Так разве в таких условиях отремонтируешь хорошо?
— Хотите разобраться, что нам мешает работать лучше, — расскажем всё!..
…Мартынов, поглядывая на дремавшего Глотова, злился: «Какие люди, какие мысли, а он дрыхнет! Флегматик окаянный!»
— Проснись! — не выдержав, толкнул он в плечо директора.
— А? Что? — открыл глаза Глотов.
— Послушай, что ребята говорят.
— Слушал-слушал, и в сон бросило…
— Нет, верно, Петр Илларионыч, — говорил Юрчик Маслов, — два-три года можно не давать нам новых машин. Обойдемся теми тракторами, что есть. Хватит их по нашей посевной площади. Бывают ведь дни, когда дизелям просто делать нечего, стоят на приколе. Давали бы лучше нам побольше денег на строительство!
— Неладно как-то получается у нас, товарищ Мартынов, — сказал Григорьев-отец. — Дают в деревню миллиарды — в каждой МТС сколько машин, да машины какие дорогие! — и недодают каких-то там тысяч, которых как раз и не хватает, чтобы эти миллиарды работали на урожай в полную силу.
— Как в евангелии сказано: давай правой рукой так, чтоб левая не ведала, — вставил дед Ступаков. — Один министр дает комбайны, а другой министр не дает денег построить сараи для тех комбайнов, чтоб не зимовали в сугробах.
— Может, бюджет у нас очень строго рассчитан, так вот я говорю, — продолжал Маслов, — можно продать те трактора, что нам планировали, другим государствам — вот и деньги.
— Слышишь? — толкнул Мартынов Глотова.
— Слышу.
— Как твое мнение?
— А что, я согласен с Масловым… Хватит нам пока машин, надо довести до ума то, что есть. Без новых тракторов года два я обойдусь, а без хорошей мастерской — зарез! Что за ремонт, когда на дворе машины разбираем, собираем? Повозись-ка на морозе с железом! Да вот в такую погодку! Покрутятся ребята час возле трактора — два часа в кочегарке отогреваются. На пять машин всего места в мастерской. И зарабатывают они поэтому на зимнем ремонте — копейки! — Глотов оживился: — А станки наши видел, Петр Илларионыч? Старье! Барахло!.. Я уж сколько раз думал: почему у нас при такой великолепной, дорогой технике нет хорошей ремонтной базы? Все равно как бы пожалеть купить хорошую упряжь на орловского рысака-призовика. Выехали на бега, а уздечка из мочала.
— Согласен, значит, с Масловым?.. Почему же не написал в министерство: так и так, мол, отказываемся временно от пополнения тракторного парка, но просим взамен то-то и то-то: большую мастерскую, станки, хорошие общежития для трактористов, инвентарные сараи?..
— А что ж там, в министерстве, не догадываются, не знают наши нужды?
— Знают, знают… Знает цыган дорогу, а спрашивает, — проворчал дед Ступаков.
— Можно мне слово сказать, Петр Илларионыч? — поднялся бригадир Николай Бережной. — По другому вопросу. Вы вот рассказали про того парня из Олешенской МТС, Костю Ершова. Разъяснил он вам правильно: почему у нас на хорошем хлебе тракторист меньше трудодней зарабатывает. Верно, надо бы как-то иначе начислять нам трудодни. Не только за выработку, но и за урожай. И надо дать директору МТС права больше повышать нормы горючего, где нужно, смотря по земле, по урожаю. А то ведь и так бывает: поневоле человек начинает хитрить, мелко пашет, потому что перед этим у него получился большой перерасход на другом участке, на тяжелой земле, где никак не уложишься в норму. Или на таком хлебе погорел, где на четверть хедера косили. Но я вот скажу еще и про тех работников МТС, которые на зарплате. Главный агроном, главный инженер, участковые агрономы, разъездные механики, да и сам директор — они ведь тоже за урожай отвечают.
— Не тоже, а в первую голову!.. Что, Иван Трофимыч, — спросил Мартынов, — никаких нет у вас поощрений по зарплате за высокий урожай?
— Никаких, — ответил Глотов. — Только за диплом и за выслугу лет — надбавка.
— Значит, если у одного директора — выслуга лет и диплом, а урожай так себе, а у другого нет диплома и выслуги лет, но прекрасный урожай, первый директор получит больше зарплаты?
— Больше, конечно.
— Да-а… Ну, тут тоже можно что-то придумать, — сказал Мартынов. — Может быть, так сделать? Вырастили в среднем по колхозам МТС десять центнеров — получай, директор, тысячу рублей в месяц или там тысячу триста. Вышел урожай пятнадцать центнеров — получай две тысячи. Двадцать центнеров — две с половиной тысячи или три. А за диплом и выслугу лет — само собою. Основное — за урожай. Так же для агрономов, механиков. Как, Иван Трофимыч? Скажем, получал ты весь год зарплату по минимуму. А потом, как убрали хлеб, подсчитали урожай — вышло двадцать центнеров. Давай-ка, министр, еще разницы тысчонок десять. А?
Глотов усмехнулся:
— Чего спрашиваешь? Конечно, больше бы старались, лучше бы работали… Бытие определяет сознание.
— Материалисты!..
Мартынов поднялся с нар, подошел к черному окну, за которым бушевала метель, постоял немного, поскреб ногтем лед на стекле.
— С какого года работаешь на тракторе, Николай Петрович? — обернулся он к Бережному.
— Да с того года, как появились у нас в товариществах первые «фордзоны». С двадцать пятого.
— Двадцать семь лет?
— Без четырех. Четыре года — на танке.
— Офицер?
— Офицер.
— И не стал после демобилизации подыскивать работу почище? Вернулся в свою бригаду?
— Та работа и есть чистая, которая тебе нравится. Люблю я это дело, Петр Илларионыч! И землю люблю — крестьянин я, хлебороб, — и к рабочему классу душа рвется. Вот так, не уезжая из родного села, через МТС, и войдешь в рабочий класс. А по должности меня не понизили. И тут у меня — пять машин.
— Да, интересная фигура у нас в селе — тракторист, — сказал задумчиво Мартынов. — Он и колхозник, он уже и рабочий…
— И председатель колхоза нас ругает, и директор МТС ругает! — засмеялся один тракторист. — И в хвост и в гриву достается нам от двух хозяев!..
— Вот это-то нас и выручает, товарищ Мартынов, что мы колхозники, — сказал Василий Шатохин. — Вроде бы и нет нам особого расчета бороться за высокий урожай, но как подумаешь: да я же сам член этого колхоза, семья моя там, жена, дети, вся родня. Свое, кровное. Как же не порадеть?..
— Мы и без вас тут, Петр Илларионыч, — продолжал Бережной, — вечером, бывает, надоест в шашки играть, заводим разговор о том, как сделать, чтоб колхозам больше было пользы от нашей работы. Полежали бы вы с нами тут на нарах ночку-две, чего-чего только не наслушались бы!.. Мы вчера вот о чем говорили. Надо бы как-то так сделать, чтоб МТС и за фактический урожай отвечала. За тот урожай, что в амбар попал. Ведь у нас в руках — вся техника. Не то время, когда на коровах пахали. На восемьдесят процентов полевые работы механизировали. Значит, теперь больше мы должны отвечать за колхозный урожай! А как у нас делается? Определяют урожайность на корню. Как его называют, «биологический» урожай. Отсюда и все расчеты с колхозами по натуроплате. Учли на корню четырнадцать центнеров. Неплохая пшеница. Стали убирать. Убираем опять же мы, трактористы, комбайнеры. Убрали, скажем, плохо, с потерями. Упустили сухую погоду, пошли дожди, хлеб полег — чисто уже не уберешь. Из четырнадцати попало в амбар только десять центнеров. Но группа урожайности та же, никаких поправок. А устанавливают эти группы по тем данным, что инспектора по определению урожайности представляют. Ничем больше эти инспектора не занимаются. Ни зябь, ни осенний сев, ни зимовка скота — ничто их не интересует. Какой будет в следующем году урожай — опять же их не касается. И наказывают их за ошибки только в одну сторону: если занизят группу. А если завысят так, что хоть и уберем мы хорошо, без потерь, а все же у колхоза после хлебопоставок концы с концами не сойдутся — за это не наказывают.
— Ну, если на то пошло! — вторично и окончательно проснувшись, встал Глотов. — Если мне и за амбарный урожай отвечать!.. Это арифметика, что ты тут подсчитывал, Бережной: восемьдесят процентов механизации, стало быть, мы на восемьдесят процентов и за урожай отвечаем, — это филькина грамота! Что ж, по-твоему, у колхоза только двадцать процентов ответственности остается? А ты знаешь поговорку, что ложкой дегтя можно испортить бочку меда? То-то же!.. Как бы мы хорошо ни вспахали, ни засеяли, а если поле не унавожено — в нашей местности, по нашим тощим почвам урожая с этого поля не жди! А кто должен навоз возить? Колхоз. А минеральные удобрения? А подкормки? А на свекле сколько еще осталось ручного труда?.. Согласен отвечать за все: и за «биологический» урожай и за фактический. Но в таком случае — дайте мне широкие права!
— Какие — широкие права? — усмехнулся Мартынов. — В холодную сажать председателей колхозов, если не вывезут навоз?
— Нет, ты, Петр Илларионыч, не смейся. Поставь себя на мое место!
— На твоем месте, Иван Трофимыч, — сказал Мартынов, — я бы так поступил. Выработали вместе с правлением колхоза агропроизводственный план на год. Я, директор МТС, обязуюсь сделать то-то и то-то, в такие-то сроки. И сделаю, если я коммунист. Но и тебе, товарищ председатель, спуску не дам! И ты выполняй свои обязательства — точка в точку!..
— Опять Америку открываешь! — развел руками Глотов. — Есть такой договор. Называется типовой договор МТС с колхозом. В первых строках написано: договор имеет силу закона.
— Силу закона… Это значит, при нарушениях составляй по каждому пункту акт — и в суд? Где искать директора МТС, председателей колхозов? Да в суде, судятся… Нет, слышишь, что ребята говорят? К этому договору чего-то не хватает. Такого, чтобы очень заинтересовало всех вас в высоком урожае. И тебя и председателя колхоза. Так заинтересовало, чтобы некогда было вам жалобы друг на друга прокурору строчить. Потрачу полдня на жалобу, а за это время много потеряю!..
Метель утихла. Решили ехать дальше в село — ближе на несколько километров к райцентру.
Дед Ступаков сказал на прощанье Мартынову:
— Хоть ночь не поспали, зато время неплохо провели. В прошлом году у нас в колхозе за зиму двадцать лекторов перебывало. И всё рассказывали нам: из чего произошла земля, да как началась жизнь на земле… А вот как сделать, чтоб порядку было больше на земле — ни с кем так, как с вами, на эту тему не поговорили!..
— Скажите нам, Петр Илларионыч, если это не секрет, — спросил Василий Шатохин, — за что Борзова сняли?
— А вы же читали в газете, — ответил Мартынов, надевая тулуп.
— Да в газете-то было вкратце написано: за зажим критики.
— За зажим критики.
— Мы тут слышали такое: выступил один коммунист на партактиве против него, а Борзов на другой день будто звонит в милицию: «Нет ли у вас какого-нибудь хоть паршивенького дела на него? Если нет, то заведите!»
— Был такой случай.
— Ишь ты, как зарвался человек!..
— Значит, если бы не дошел он до такого безобразия, может, и до сих пор секретарствовал у нас? — сказал Шатохин. — Не за то сняли, что неправильно районом руководил?
— Плохо, что вот так у нас бывает, — сказал Григорьев, — когда уж совсем до какой-то невыносимой подлости дойдет ответственный работник — тогда только снимают его. А может, он вообще не годился в руководители, не теми методами действовал, народа чуждался, не думал, как сделать, чтоб народу было лучше, о своей лишь шкуре думал?..
— Помню, — усмехнулся Бережной, — приехал как-то Борзов ночью в нашу бригаду. Зябь пахали. Все машины на ходу, работают. Я сплю в вагончике. Как раскричался он: «Какой ты бригадир! Трактора работают, а ты спишь!» Я говорю: «Товарищ Борзов! А что ж мне делать, когда все трактора работают? Бегать вокруг них по загонкам, высунув язык? Если все машины в борозде, ни одна не простаивает — стало быть, я, бригадир, потрудился возле них, наладил их. Могу теперь и отдохнуть». Покричал-покричал — уехал. Только и слышали мы от него: «Лодыри! Саботажники!»
— Жесткий был человек, — сказал Василий Шатохин. — Недружелюбный. Три года проработал он у нас, и нечем нам хорошим вспомнить его. Мотался по полям, как объездчик. Увидит председателя — подъедет, отведет его в сторону, поговорит с ним о чем-то по секрету, а больше — ни с кем ни слова.
— Не довели с ним дела до конца! — махнул рукой Юрчик Маслов. — Если бы вынесли вот такое решение, подробно: за что сняли, почему сняли? — и колхозникам бы все было ясно, и тем, кто после Борзова будет работать в райкоме, — наука!..
— Это теперь очень близко нас касается, товарищ Мартынов, — кто нами руководит, — сказал дед Ступаков. — Время-то ведь какое. Не то время, когда каждый сидел в своем углу, как таракан за печкой. При царе Николае нам начальства век бы не видать! Приезжали в село только затем, чтоб недоимку из нас выколотить. Приехал и уехал — скорее бы уехал! — а жизнь своим чередом идет. Своя земля, ежели она есть, своя лошадь, опять же, ежели имеешь, свои семена: как посеял, как убрал — никому дела нет. А нынче — колхозы. Дело общее. Без вас, без партии, как же нам это общее дело-то строить? Без вас мы — ни шагу. Нынче мы очень интересуемся начальством — что за человека нам бог послал? Какой у нас, скажем, секретарь райкома или председатель исполкома? Надолго ли приехал к нам или погостить? Горячая ли душа или так себе, тепленькая? Речи от него слышим правильные, а умеет ли и дело делать? Веселый ли, смелый ли? С веселым — и нам веселее. Если смелый — опять же неплохо. Когда командир не робеет — солдаты за ним в огонь и в воду пойдут!..
Дня через три Глотов был у Мартынова в райкоме.
— Почему я от рядовых трактористов больше узнал о ваших неурядицах, чем от тебя, директора МТС? — говорил Мартынов, стоя у стола, с неприязнью поглядывая сверху на сидящего в кресле Глотова, на его седую лобастую голову, багровую шею, отечные мешки под маленькими, глубоко запавшими глазами. — Не волнует это тебя, что ли? Привык к роли подрядчика, другой роли и не хочешь играть? На второстепенной роли спокойнее?.. Обо многом я еще передумал, товарищ Глотов, после разговора с трактористами. Конечно, чтобы укрепить МТС, нужны большие капиталовложения, многое нужно. Но вот еще чего не хватает ко всему: хороших директоров! Отобрать бы лучших коммунистов на эту должность! Авторитетные, образованные, хорошо знающие сельское хозяйство и, конечно, глубоко партийные, болеющие за дело люди — такими я представляю себе директоров МТС. И вот, как будут у нас настоящие директора, боюсь я, Иван Трофимыч, за тебя. Ты не выдержишь соревнования с ними. Как бы не пришлось уступить тебе свое место более подвижному человеку. Очень уж ты спокоен. Флегматик ты!
— Таков характер у меня, что поделаешь, — ответил Глотов.
— Характер? А что такое — характер? Это и есть — сам человек… Один, скажем, меланхолик. Другой — флегматик. Отчего этот меланхолик загрустил? Может быть, всем недоволен, не верит ни в свои силы, ни в силы народа? А другой равнодушен ко всему, живет по принципу: «Моя хата с краю», «Не лезь поперед батька в пекло», «Выше головы не прыгнешь».
— На твою власть — ты бы флегматиков и меланхоликов и в партию не принимал? Заглянул бы в анкету: «Вопрос: темперамент? Ответ: спокойный». Не надо таких!..
— Видишь ли, товарищ Глотов, твое спокойствие — просто политическая пассивность. Давай уж найдем этому точное название. За целый год не услышал от тебя живого слова: как улучшить работу МТС?.. А читаешь, изучаешь решения Девятнадцатого съезда! Устав партии изучаешь, обязанности и права члена партии!..
Глотов усмехнулся.
— Пассивность… А я слышал, Петр Илларионыч, как ты с трактористами разговаривал, и удивлялся твоей активности: «Что еще, по вашему мнению, нужно поправить? Что еще нужно изменить?» — будто от тебя это все зависит: завтра же последуют нужные решения, и пойдут у нас дела как по маслу. Слушал я тебя и, по правде сказать, посмеивался в душе.
— Напрасно посмеивался! Не в наших правах изменять законы, издавать новые указы, да. Но мы обязаны доводить до сведения наших руководителей все, что слышим в народе, думы народа. Твои трактористы — люди государственного ума. Они понимают, что здесь — передний край борьбы за урожай. Они думают о своей МТС и колхозах не только в служебное время, как некоторые из нас. Мы в колхоз приехали и уехали, по трудодням нам в колхозе не получать. А для них это дом. Колхоз — это вся их жизнь, настоящая и будущая. Днем и ночью думают они о своей жизни!..
В кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова.
— Не помешаю? — спросила она, приостановившись у порога.
— Нет, не помешаешь. Заходи. Садись.
Марья Сергеевна села на стул у окна, небрежно причесанная, какая-то осунувшаяся, с красными пятнами на щеках, будто недавно плакала. Мартынов внимательно посмотрел на нее.
— Вот женщина мучается не на своем месте, — сказал Мартынов, достав из ящика стола пачку папирос и закуривая. — Семенной конторой заведует. А бывшая трактористка. Да какая трактористка! С Пашей Ангелиной соревновалась!.. Слушай, Марья Сергеевна! Пойдешь к нему, — кивнул на Глотова, — замполитом? У них есть замполит, хороший парень, но больной, инвалид, ездить по бригадам ему тяжело. Найдем ему работу полегче. Это же твое любимое: степь, трактористы, машины!
— Что ты говоришь! — Глотов удивился. — Ее к нам замполитом? Так Виктора Семеныча-то послали в другой район… Куда его, Марья Сергеевна?
— Не послали, — ответила Борзова. — Он сам уехал. В Борисовку. Преподавателем истории в среднюю школу поступает.
— Я не знал, что он уехал, — сказал Мартынов. — Мы предлагали ему здесь работу, в сельхозснабе… Давно уехал?
— Позавчера.
— Вот, как же так? — пожал плечами Глотов. — Муж будет работать в Борисовке, а она — здесь? Это для нее неподходяще.
Борзова молчала.
— Он еще не снимался с учета, — сказал Мартынов. — Может быть, передумает?..
— Петр Илларионыч! — Борзова посмотрела на Мартынова. — Я пришла к тебе посоветоваться по очень важному делу… Для меня важному… Если ты занят, я позже зайду.
Глотов встал.
— Я пойду. Мы кончили, Петр Илларионыч?
— Нет, не кончили. Характер тебе придется менять.
— Попробуем… Если возможны в природе такие вещи.
— Бывает, бывает, Иван Трофимыч: с возрастом меняется характер у человека. Посиди там немного. В два — бюро.
Глотов вышел.
— Что случилось, Марья Сергеевна? — обойдя стол и остановившись у окна, спросил Мартынов.
Борзова отвернулась к окну, губы у нее задрожали. Вместо ответа она припала лбом к спинке стула и горько заплакала. Мартынов растерянно налил из графина воды в стакан, поставил его на подоконник возле Борзовой.
— Не хочу я ехать с ним в Борисовку, Петр Илларионыч, — справившись с собою, заговорила Борзова. — Как мне трудно! Что мне делать?.. Я бы осталась здесь. В МТС я бы пошла. Я сама хотела просить у тебя другую работу. Но как же мне быть?.. Я с ним не хочу жить. Не могу! Как с ним тяжело. Я ни одному его слову не верю… С кем я прожила двенадцать лет? Дура, почему не ушла раньше? А теперь стыдно. Пока был на высоком посту, жила с ним, примирялась, а в трудную минуту, когда ему плохо, бросить? А дети? Двое у нас. Я их не брошу! И ему не отдам!.. Кого он из них воспитает? Таких эгоистов, как сам? Не отдам! Что мне делать?..
Мартынов долго молчал. Часы пробили два раза.
— Прости, Марья Сергеевна. Сейчас ко мне придет народ. У нас в два часа бюро. Если хочешь со мною поговорить об этом, я приду завтра сюда пораньше, часов в восемь. Хорошо? Приходи, поговорим.
Борзова встала.
— Нет, не уходи, посиди. Сегодня у нас на повестке вопрос: о работе МТС. Разошлем всех проводить партийные собрания. Может быть, и ты поедешь? А?
Вошли председатель райисполкома Иван Фомич Руденко, второй секретарь райкома Медведев, редактор районной газеты Посохов, Глотов, директор Олешенской МТС Никифоров, секретарь парторганизации этой же МТС разъездной механик Гришин, директор третьей МТС Зарубин. Мартынов хмуро поздоровался с ними, расстроенный слезами Марьи Сергеевны, помолчал несколько минут, собираясь с мыслями. Сел за стол, нажал кнопку звонка.
— Зови всех, — сказал он заглянувшему в дверь помощнику. — Кого еще нет?.. Товарищи члены бюро! Мы хотели сегодня заслушать доклады директоров и секретарей парторганизаций МТС. Но я думаю, давайте мы перед этим сделаем так: разъедемся по МТС и проведем там партийные собрания. Поговорим с коммунистами на месте. Пригласим коммунистов и из колхозов. Там мы больше выясним — в чем причины плохой работы наших МТС? Все выясним — где наши недоработки, что мы сами в силах преодолеть, а в чем нужно просить помощи у областных организаций и у Москвы. Только надо приехать не за полчаса до собрания, а пожить там, по крайней мере, денек-другой. Походить, поговорить с людьми, подумать. А?.. Ну, давайте решим: кто куда поедет?..
1953
В том же районе
На другой день, как условились, Мартынов пришел в райком пораньше, до начала работы, но Марья Сергеевна Борзова не зашла к нему. Часа в два она позвонила из дому и сказала, что уезжает в Борисовку, к мужу — посмотреть, как он устроился там, на новом месте. «Что ж, счастливого пути, — подумал с сожалением Мартынов. — Не останется она здесь. «Когда был на высоком посту, в почете, жила с ним, примирялась, а когда ему плохо, — бросить?» — вспомнил он слова Марьи Сергеевны. — Переплачет, успокоится, и будут жить по-прежнему».
А через неделю к нему в райком пришел сам Борзов. Еще накануне Саша Трубицын, помощник секретаря, сообщил Мартынову, что видел в городе Борзова с женою: приехали за вещами, переселяются в Борисовку. Борзов пришел в райком поздно вечером, когда Мартынов сидел там один.
— Здорόво! — протянул он руку Мартынову. — Как живешь-можешь?
— Помаленьку, — ответил Мартынов, пересаживаясь из кресла на диван. — Садись.
Закурили из портсигара Борзова.
— Ты ведь не курил, — заметил Мартынов.
— Курил много лет. Бросал, опять начинал… На что намекаешь? От переживаний, думаешь, закурил?
— Не намекаю ни на что. Просто, помнится, не курил…
Борзов оглядел бывший свой кабинет. В нем не было никаких перемен. Мартынов не принадлежал к числу тех ответработников, которые начинают свою деятельность с перестановки по-своему мебели в служебном кабинете.
— Ну, как оно здесь? — пожевав мундштук папиросы, спросил Борзов. — Много ли грязи льют на меня бывшие мои подхалимы? — В его голосе слышалась напускная игривость, вызывающая не то на шутку, не то на спор. — Бывает ведь так: уехал человек, которого боялись, он уже не у власти, и тут-то начинается на ушко: «Вы знаете, он на птицекомбинате тысячу яиц выписал за год!», «Ему из рыбхоза рыбу бесплатно возили!», «На охоту ездил на казенной машине!»
— А я таких, Виктор Семеныч, — ответил Мартынов, — что задним числом льют грязь на тебя, гоню в шею. Я им не верю. «Почему раньше молчали? Сегодня на Борзова капаете, завтра, может, меня снимут — про меня какую-нибудь сплетню пустите?» Гоню таких.
— Правильно делаешь! Это — не опора. Ищи опору среди других людей, среди тех, что не заискивают перед новым секретарем, не лезут ему в глаза.
«Совет-то дельный», — подумал Мартынов.
Борзов был все такой же коренастый, бритоголовый, с сильными плечами и толстой шеей, не похудел, не изменился в лице. Если бы не землисто-желтоватый цвет лица, он бы выглядел просто здоровяком.
— Приехал за открепительным талоном, — сказал Борзов. — Отпустите?
— Если очень настаиваешь, отпустим, — ответил Мартынов. — Но мы и не гоним тебя. Нашли б и здесь тебе работу.
— Ну-у? Не гоните? Не рад тому, что уезжаю?.. Ты, говорят, и Марье Сергеевне предлагал тут другую работу? Ее удерживаешь или меня?..
— Что ж, Марья Сергеевна работник неплохой, жалко ее отпускать, — насколько смог спокойно ответил Мартынов.
Борзов искоса, потемневшими глазами, с недоверчивой, недоброй усмешкой поглядел на Мартынова. Однако продолжал разговор в том же шутливо-развязном тоне:
— А какую дали бы мне работу? Директором инкубатора? В сельхозснаб послали бы? На Втором Троицке? Пять километров? Покорно благодарю!.. Войди в мое положение, Петр Илларионыч. Что-то неохота ходить пешком по тем самым улицам, по которым в «Победе» ездил. Лучше уж — в другом месте, по другим улицам.
— Пожалуй, лучше, — согласился Мартынов. — Поэтому и отпустим тебя… Не поминай нас лихом.
Борзов в две затяжки докурил папиросу, пустил клуб дыма к потолку, еще раз оглядел кабинет. После большой паузы заговорил — уже серьезно, без натянутой улыбки.
— Рано ли, поздно ли, — убежденно сказал он, — попомнят Борзова! Позовут меня опять на большую работу! Нельзя так разбрасываться кадрами. Поймут товарищи!.. Я ли не просиживал в этом кабинете ночи напролет? Сколько сил я здесь положил! Я здесь здоровье потерял!.. Позвонишь в сельсовет: «Разыщите всех председателей колхозов и бригадиров!» В третьем часу ночи. Для чего я это делал? Чтобы люди чувствовали: от этого секретаря и ночью нигде не спасешься! Я, бывало, не сплю — весь район не спит! Государству нужны на руководящих постах энергичные работники!.. Теперь тут чего хочешь наговорят про меня. Одного только не скажут: что я размазней был. Умел держать район в страхе божьем!..
— Что умел, то умел, — согласился Мартынов.
А про себя подумал: «Если б ты был неэнергичный, это еще полбеды».
— Неправильно все же записали обо мне в решении бюро обкома, — продолжал Борзов. — «Грубый зажим критики»… Не так ведь все было, как растрезвонили. Ну, позвонил я прокурору насчет этого Мухина, что обозвал меня на партактиве самодуром. Но я же не приказывал завести на него дело. Глупости! Если человек не совершал преступления — за что же его судить? Сам прокурор как-то говорил мне: «Придется привлекать Мухина за нарушение Устава сельхозартели: сено трактористам на корню продал». Я только справился — в каком положении дело, ведется ли следствие?.. Просто — время сейчас такое. Решения Девятнадцатого съезда, новый Устав. «Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику…» Надо было кого-то пустить под нож, в назидание другим. Попал под колесо истории.
Мартынову стало невыносимо скучно. Он зевнул во весь рот, поглядел на стенные часы:
— Половина первого. Завтра мне к восьми утра надо быть в «Заре коммунизма».
Борзов встал.
— Думал я, Виктор Семеныч, что ты что-нибудь поймешь, прочувствуешь за эти дни, — сказал Мартынов. — А ты ерунду говоришь. «Время такое». Какое? В моде увлечение критикой, что ли? И ты стал жертвой этой моды? «Попал под колесо истории». Неумно обставил дело с Мухиным — вот и вся твоя ошибка?.. А в каком положении сейчас район? По сводкам-то числимся середняками, а по существу очень запущенный район! Почему он стал таким? Чего нам будет стоить его вытянуть?..
Хотелось Мартынову высказать Борзову все накопившееся у него с тех пор, как стал он здесь первым секретарем и почувствовал ответственность в первую голову за положение дел в районе… «Три года глушил ты здесь живую мысль. С членами бюро не советовался, в мальчиков на побегушках пытался нас превратить. Подшучиваешь над подхалимами — «мои подхалимы», — а зачем же приближал таких к себе? Доверял ответственные посты начетчикам, бездумным службистам. По образу и подобию своему выдвигал и расставлял вокруг себя кадры. Авгиевы конюшни оставил нам. Расчищай теперь!»
Многое захотелось высказать, но подумал: «Пустая трата времени! Доказывай слепому, какого цвета молоко!» — махнул рукой, пошел к вешалке за пальто.
— Ничего ты не понял! И вряд ли поймешь. И разъяснить тебе невозможно. На разных языках разговариваем.
— Погоди, не горячись. — Борзов попытался изобразить на лице иронически-снисходительную улыбку. — Не горячись! Укатают сивку крутые горки. Давай-ка присядем еще на минутку. Расскажу тебе, с чего я начинал, какие у меня были благие намерения, когда сюда приехал. И почему у меня не вышло. Могу передать тебе свой опыт.
— А ну тебя с твоим опытом!..
Пропустив Борзова вперед через порог, Мартынов погасил свет в кабинете, крикнул ночному сторожу, дремавшему в коридоре возле жарко пылавшей печи, чтоб закрыл дверь на ключ, и быстро сбежал вниз по ступенькам, обогнав Борзова на лестнице.
На улице мело. В лицо Мартынову ударил холодный ветер с колючим, сухим снегом. Он поднял воротник пальто, глубже насунул на лоб шапку и пошел домой, слыша сзади шаги Борзова, удалявшегося в другую сторону. На том они и расстались.
В середине января установилась прекрасная погода. Легкий, безветренный мороз, солнце по утрам, неглубокий снег на улицах города.
Троицк — маленький городишко. Стоит он на сторожевом взгорье, на высотах, далеко видны вокруг села, луга в пойме реки Сейма, темные полоски лесов за холмистыми полями. Нынче Троицк — обыкновенный районный центр в сельскохозяйственной области. Все, что есть в нем, все учреждения, предприятия, — все подчинено сельскому хозяйству, все работает на колхозы. А когда-то это была крепость на южных границах Руси. До сих пор пригороды носят название: Стрелецкая слободка, Пушкарская слободка. «Под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены…» Восемьсот лет городу. Но выглядит он молодо. Новые здания на месте разрушенных в войну, скверы на площадях, молодые клены и березки в парке возле районного Дома культуры. Много молодежи — студенты пединститута. Не успели только переименовать Троицк как-нибудь по-новому, в Зерноград-на-Сейме, или Хлебодаровск. Вероятно, потому, что с урожаями здесь было неважно.
В воскресенье Мартынов встал поздно, в половине двенадцатого, — накануне вернулся из района перед рассветом. На столе, возле тарелок с приготовленным для него завтраком, лежали три записки. От сына: «Ушел на лыжах, большой кросс, скоро не ждите»; от жены: «Ушла к портнихе. Пожалели тебя будить, позавтракали без тебя. Если пойдешь гулять, встретимся в парке»; и от двоюродной сестры, которая выполняла у них в доме обязанности хозяйки: «Я на рынке. Остынет чай — подогрей на плитке».
Мартынов позавтракал, оделся и вышел на улицу, защелкнув за собою дверь на английский замок. Ночью слегка припорошило, свежий белый пушок покрыл старый наст, глазам было больно от ослепительного сияния чистого снега. В райкоме Мартынов, не раздеваясь, просмотрел у дежурного принятые ночью телеграммы, в кабинет не зашел. Сегодня ему хотелось отдохнуть, побродить по городу, освежиться.
На главной улице, по дороге к парку, у бывшей квартиры Борзова его окликнул знакомый голос:
— Петр Илларионыч! Что же проходишь и не здороваешься?
Мартынов оглянулся. На крыльце дома стояла Марья Сергеевна в меховом пальто и белом вязаном платке, натягивала на руку варежку.
— Не ожидал уж увидеть тебя здесь… Здравствуй. Приехала? Забрать последние вещички?
— Приехала… Гуляешь! И я вышла на воздух подышать. Как тут скользко!..
Мартынов взял Борзову под руку, свел ее со ступенек.
По улице, круто спускавшейся к Сейму, между машинами и подводами, с бешеной скоростью, угрожая сшибить зазевавшегося пешехода, проносились салазки. Ребята, тормозя ногами, склонившись набок, лихо заворачивали на углах. Мартынов, погрозив кулаком нарушителям правил уличного движения, перевел Борзову под руку на другую сторону улицы.
— Побывала у него в Борисовке, — начала рассказывать Марья Сергеевна, — и вот приходится остаться здесь. Буду здесь жить. Не прогоните? Квартира-то эта мне с ребятами велика, пусть горсовет сделает из нее две квартиры, еще кого-нибудь вселит… Обещал послать меня в МТС? Что ж, пойду. Тогда и жить там буду, в Семидубовке, совсем откажусь от этой секретарской квартиры.
— Да что ты о квартире! Никто тебя не выселит, живи… Что у вас произошло?
— Что произошло?..
На торговой площади из-за угла универмага вышла быстрой легкой походкой женщина в черном пальто с меховой опушкой внизу, в серой каракулевой шапочке и белых фетровых валенках. Она помахала Мартынову издали рукой, указала жестом в сторону парка, крикнула: «Сейчас приду!» — и скрылась в дверях магазина.
— Кто это? — спросила Марья Сергеевна.
— Моя жена, — ответил Мартынов. — У портнихи была. Вероятно, не хватило материалу на какие-то оборочки, побежала купить.
— Твоя жена?.. Когда она приехала?
— Да уж дней десять как дома.
В парке были протоптаны дорожки. Густо посаженные низкорослые деревья срослись кронами над аллеями. Мартынов задел шапкой ветку, снег посыпался на них.
— Пойдем на ту дорожку, там деревьев нет.
— Так что случилось? — спросил Мартынов, когда они прошлись два раза взад-вперед мимо установленного на пьедестале танка — памятника погибшим при освобождении Троицка танкистам. — Ты ушла от него?
— Ты знаешь, Петр Илларионыч, — горько усмехнулась Марья Сергеевна, — он сам облегчил мне задачу. Я то, дура, колебалась: в такую трудную для него минуту, если и я, жена, покину его… А он этой минуты ждал. То есть не ждал, конечно, чтобы его сняли. Но раз уж так вышло… У него в Борисовке старая привязанность. С тех пор еще, как он там работал. По возрасту-то не старая, моложе меня. Лаборантка на элеваторе. Говорили мне, когда мы уже здесь жили: если Виктор Семеныч звонит, что заночевал в дальнем сельсовете, так и знай — заехал через границу, в Борисовский район, проверяет на элеваторе по квитанциям, какой район сдал больше хлеба за пятидневку. Не верила… Ну что ж — убедилась. Приехала в Борисовку, и пришлось остановиться в гостинице. Она, эта женщина, уже у него живет.
— Вот как!.. Был у меня — ни словом не обмолвился о семейных делах.
— И мне здесь не сказал. Оттягивал до последнего. Знала бы — я бы не ездила туда срамиться…
Мартынов взглянул на замолчавшую Борзову, увидел на ее глазах слезы.
— Не горюй! Не пропадешь без него.
— Да не горюю я! — с жаром ответила Марья Сергеевна. — Противно мне!.. Все поняла! Давно его тянет к ней, но не решался бросить меня, пока занимал такой высокий пост. Как же! Люди осудят. До обкома дойдет. Другим — пример! Руководитель должен быть безупречным в быту. Сам читал тут лекции о семье, морали. А теперь ему нечего терять!..
— Что-то не так, — сказал Мартынов. — Он ведь уверен, что недолго пробудет в опале. Говорил мне: «Рано ли, поздно — позовут меня опять на руководящую работу». Если метит снова в секретари — ему невыгодно еще чем-то замарать свою репутацию… Может быть, он в самом деле очень любит эту женщину?
— Может быть… Так бы и сказал, по-человечески. А то ведь я осталась виновата. Всем будет говорить: «Она мне первая изменила». Оправдание.
— Ты — виновата? — Мартынов остановился на дорожке.
— Помнишь, когда пришел ты к нам вечером, я сказала: «Городишко у нас такой: на одном краю чихнешь — с другого края слышишь: «Будьте здоровы!» Ему сразу донесли. Он мне тогда — ни слова. Только спросил: «Чего Мартынов приходил?» Я сказала: «Сама позвала его. Хотелось от него узнать — о чем вы все спорите».
— Ну?..
— Ну, вот тогда не ревновал, приберег до времени. А сейчас все припомнил: «Вижу, что у вас с Мартыновым пошло на лад. Как только я из дому — Мартынов на порог. Стало быть, и мне нужно подумать о другой жене». Такую сцену ревности закатил!
— Какая чепуха! — Мартынов покраснел. — Чего ж он молчал?.. Да врет он, не ревнует! Почему мне не сказал? Был в райкоме, сидели с ним на диване. Взял бы пресс-папье да стукнул меня по голове. Ишь, Отелло какой!..
— Не ревнует? — Марья Сергеевна большими серьезными глазами посмотрела на Мартынова. — И это — не от души?
Прошлись еще раз по аллее от танка до входной арки.
— А дети? — спросил Мартынов.
— Договорились так: Нина, его дочка от первой жены, осталась с ним, а малышей мне отдал. Очень просил, чтобы старший, Миша, с ним остался. Детей он любит. Я не уступила… Обещал: «Буду помогать». А зачем мне его помощь. Сама, что ли, не воспитаю их?..
Сзади послышались быстрые шаги. Звонкий голос произнес: «Разрешите присутствовать?»
— Мартынов, улыбнувшись, ответил: «Пожалуйста!» — и обернулся. Стройная черноглазая женщина, с выбившейся из-под шапочки на лоб прядью черных вьющихся волос, шутливо взяла «под козырек», сдвинула пятки валенок — щелчка не получилось.
— Пожалуйста, присутствуй. Познакомьтесь — моя жена, Надежда Кирилловна. Марья Сергеевна Борзова, бывшая Маша Громова. Я писал тебе о ней.
Женщины, пристально взглянув друг другу в глаза, не снимая варежек, обменялись рукопожатием.
— Вы только парк обошли? — сказала Надежда Кирилловна. — А я в этом городе новосел. Я тут еще ничего не видела. Пойдемте вниз, к речке, на каток.
Долго гуляли в этот день по окрестностям города Мартынов с женою и Марья Сергеевна. Побывали в логу, где лыжники прыгали с трамплина, исходили вдоль и поперек, по колено в снегу, дубовую рощу за рекой, посидели у замерзшего Сейма на бревнах, приготовленных для строительства нового моста. Марья Сергеевна узнала о жене Мартынова — кто она и что.
— Война помешала закончить институт, — рассказывала Надежда Кирилловна. — Надо было заново поступать, а я уж и не собиралась. А потом посмотрела на его литературные увлечения — думаю: может, человек на этом и свихнется, а как же я с сыном?.. Достала старые учебники, подготовилась, выдержала на второй курс. Вот — доучивалась в Краснодаре. Специальность у меня хорошая, вкусная. Садоводство и виноградарство. Только садов здесь, в районе, мало. А виноградников совсем нет. Что ж, будем разводить, товарищ секретарь, а? Или вам сейчас не до винограда? Не до жиру, быть бы живу? Пшеничку еще не научились хорошо выращивать?
— Погоди ругать за пшеничку. Дай срок. Вот подготовимся как следует к весне!.. Как узнала она в институте, что я пошел на партийную работу, — обратился Мартынов к Марье Сергеевне, — такие нежные письма стала мне писать! Давняя ее мечта, чтоб я бросил газету. А приехала — начинает с критики!..
— Особых нежностей я тебе, положим, не писала. Написала, что художником можно быть не только в литературе. Сам своего призвания не понимаешь! Сочинишь рассказ — читать невозможно, хуже протокола. А послушаешь, как ты иной раз, под настроение, речь произнесешь на собрании о заготовке кормов для скота, — это же поэма! Вергилий!
— Ладно, Вергилий… При чем тут мои литературные увлечения? Это я настоял, чтобы ты закончила институт. Жалко, училась, училась — и бросила. Да и трудно нам было жить на одну мою зарплату.
— Трудно, конечно. Ты же вместо корреспонденций романы писал. А их никто не печатал. Да переезжали с места на место три раза в году. Кадушки, ведрушки, горшки, корыто, — только наживешь, обзаведешься хозяйством — бросай все, наживай сызнова!..
— Вот ведь какая, — Мартынов опять тронул за локоть Марью Сергеевну. — Вспоминает: три раза в году переезжали. А у самой — цыганская натура. Век бы кочевала по белу свету… Когда я работал собкором областной газеты, хотел написать новеллу «Жена корреспондента». О ней. Я тогда был влюблен в нее по уши.
— Вот как! А сейчас — уже не по уши?..
— Пожила бы подольше в Краснодаре — я бы тебя совсем забыл.
— Ну, не забыл бы!..
— Не перебивай. Я расскажу Марье Сергеевне про наши мытарства… Приезжаем мы с нею в какой-то пятый или шестой по счету район. Чемодан, рюкзак — все наши пожитки. Она просит меня: «Давай хоть здесь поживем спокойно. Полегче критикуй начальство. У тебя характер скверный. Ты всегда видишь только плохое». Это она ведь неправду сказала, что я не писал корреспонденций. Писал. Не часто, но — крепко. Не только в том районе читали мои статьи, где я жил. После каждой статьи — решение бюро обкома. Так ли, не так, подтвердит комиссия или, может, загладит, но решения не миновать. «Тебе, говорит, всегда только недостатки в глаза бросаются. А ведь у них здесь, наверное, есть и достижения». — «Да мне, говорю, и самому уже хочется немножко отдохнуть. На этот раз мы, кажется, в хороший район попали. Побывал в райкоме, райисполкоме — товарищи веселые, приветливые. Съездил в два колхоза — богато люди живут». Ликует! Наконец-то! Начинает белить новую квартиру, картинки развешивает по стенам… Проходит неделя, другая. Замечает — я что-то помрачнел, неспокойно сплю по ночам. «Что с тобой?» — «Да ничего». Еще проходит неделя. «Что же ты молчишь, ничего не рассказываешь о районе?» — «Да знаешь, говорю, разобрался я поглубже — не так уж хорошо здесь, как сначала мне показалось. Руководители здесь народ бывалый, умеют товар лицом показать. В одной МТС у них колхозы богатые, всех гостей туда возят, все планы за счет этих колхозов выполняют. А есть одна МТС — туда они и сами раз в году заглядывают. Старая болезнь — очковтирательство». — «А с урожаями как?» — «На отдельных участках — рекорды, а в общем — неважно». Еще проходит неделя, я ей рассказываю, где был, что видел… Вдруг она как хлопнет рукой по подушке! «Так какого же ты черта мне тут в постели на ухо шепчешь? Почему не напишешь об этом в газету? Там же, в области, небось считают этот район передовым?» — «Напишу, говорю. Поезжу, посмотрю еще — напишу. Только ты больше никаких картинок не развешивай по стенам. Как бы не пришлось их опять убирать». Обо мне в редакции сложилось мнение, что я неуживчивый человек, не умею ладить с местным руководством. «Напишу… Укладывай вещички в чемодан». — «А долго ли мне их, говорит, уложить? Голому одеться — только подпоясаться».
Мартынова рассмеялась.
— А помнишь, как нас в одном районе — в каком-то, в Сизовском, да? — с хлебом-солью встречали?
— В Сизовском. Только что в колокола не звонили. Как же! Корреспондент областной газеты приехал на жительство. Человек опасный!.. Там в торговых организациях жулики засели, я потом большое дело там раскрыл. Подъехали к дому — зимою, на грузовике, — вещи сбросили, я ее оставил одну, пошел на почту передать в редакцию срочный материал. Прихожу поздно ночью, она сидит в пустой квартире и плачет. «В чем дело?!» — «Да тут без тебя что было! Двадцать посетителей справлялись о твоем здоровье. Один пришел из торга, хотел оставить мне корзину с продуктами. Другой — из потребсоюза: «Проголодались небось с дороги? Вот вам тут закусить и погреться». Машину торфу привезли нам, дров на растопку. Спрашиваю: «Сколько платить?» — «Бесплатно, из уважения. Забота о живом человеке…» Да что же это такое? Купить тебя хотят, что ли? Дураки, негодяи!..» Сидит на полу, как узбечка, поджав ноги, — мебели в квартире еще не было никакой, — и ревет белугой. «Я, говорит, не стерпела, кому-то, кажется, еще и по шее дала»…
Прощаясь с Марьей Сергеевной, Мартынов спросил:
— Так как же насчет Семидубовской МТС? Пойдешь?
— Тяжело мне будет работать с Глотовым, — ответила, подумав, Борзова. — Какой-то он закоснелый человек.
— А может быть, и ему душу разбередим?.. Ведь с двадцать девятого года коммунист. Первые артели организовывал. В трудное время вступил в партию. Почему он стал таким обрюзгшим примиренцем? Надо разобраться!.. Мы порекомендуем избрать тебя и секретарем парторганизации.
— Что ж, будешь помогать, Петр Илларионович, — пойду, — сказала Марья Сергеевна. — Вот только за последние годы много появилось машин новых марок. Нужно их изучить. Какой же я руководитель, если хуже тракториста в машине разбираюсь?.. Мне бы бросить все эти дамские маникюры да надеть опять комбинезон. Показала бы, что можно выжать из нашей техники!
— Это тебе нетрудно — освоить новые машины. Но прежде всего — человек.
— А что же я — не люблю людей? Не среди людей выросла?
— Значит, — по-деловому закончил разговор Мартынов, — завтра на бюро и обсудим. Приходи в райком к двенадцати.
Марья Сергеевна не сразу вошла в дом, долго стояла на углу, на перекрестке улиц, глядела вслед уходящим, оживленно о чем-то разговаривающим Мартынову и Надежде Кирилловне…
Мартынов принимал в райкоме посетителей.
Саша Трубицын принес и положил ему на стол большой список.
Первой зашла в кабинет известная в районе звеньевая-пятисотница, старуха лет шестидесяти, Суконцева Пелагея Ильинична, из села Речицы. Усевшись в глубокое кресло — из-за стола выглядывала только голова ее в шерстяном платке, — маленькая, щуплая, с живыми черными глазами, она стала излагать суть дела.
— Это что ж такое творится у нас в Речице, товарищ секретарь райкома? Прямо как у тех лесовиков, что как загуляли на масленой, так аж на второй неделе поста опамятовались. «А не заехали ли мы уже в великий пост, греховодники?» Ну, у тех хоть по неграмотности календаря не было, до батюшки в село пришлось посылать гонца, чтоб узнал, который день они пьют без просыпу. А у наших-то календари есть!.. Самого председателя как кинулись искать третьего дня по всему селу — печать на какую-сь бумажку приложить, — так аж нынче утром нашли на мэтэфэ, в силосной яме, чуть тепленького.
— С чего это у вас пошло такое гулянье?
— Престолы! Престолы, товарищ Мартынов!.. Так совпало: нынче у нас в Речице престол, а через три дня — в Подлипках. Сёла — рядом. То подлипкинцы ходили к нам гулять, то наши повалили туда в гости. Не успели прохмелиться — в Сорокине престол. А в воскресенье — престол в Горенске. Да когда ж оно кончится? Я уж смотрела-смотрела да думаю себе: надо властям, что ли, заявить про такое безобразие. Я в колхозной ревкомиссии состою. Ежели что плохое случится — и с меня спросят. Скот ревет, непоеный, корма на животноводстве не подвозят. Прошлой ночью свиньи семь поросят задавили. По недогляду. Свинарок на дежурстве не было.
— Неужели так много у вас в Речице религиозных?
— Какая там религия! — махнула рукой старуха. — Была бы причина погулять. Не все ж работать, надо и повеселиться. А по какому случаю? Да святого Пантелеймона нынче! Ну, давай — за святого Пантелеймона!..
Из разговора выяснилось, что старуха сама неверующая. В девятнадцатом году белые повесили ее мужа. В селе была подпольная большевистская организация, в которой состоял и ее муж. Донес на них поп — жена одного из подпольщиков проболталась на исповеди. Повесили двенадцать человек.
— Это ж как допустимо им, пастырям духовным, людей предавать? — возмущенно говорила Суконцева. — Согнали все село на площадь смотреть, как наших мужиков казнили. И батюшка туда же, с крестом. Вот тогда-то меня и отвратило от них, долгогривых! И иконы в печке пожгла! «Не убий», — учат. А сами что делали?.. Я еще смолоду насмотрелась на ихнюю святость. Жила в городе у попа в прислугах. Встает он утром, идет ко мне на кухню, без рясы, в подштанниках: «Пелагея! Нет ли там у нас чего-нибудь — от всех скорбей?» — «Нету, говорю, батюшка. Матушка все, что не допили вы вчера с отцом дьяконом, спрятала в шкаф под замок и ключ унесла». — «А то, что у тебя в бутыли?» — «То, говорю, батюшка, денатурат, примус разжигаю». — «Налей-ка стакан да принеси моченой капусты». Налакается денатурату — идет в церковь, в алтарь, обедню служить!.. Отвез матушку в больницу, на операцию, и с первого же дня начала к нему ходить одна прихожанка, такая пышная дама, в шляпке, кольца, браслеты. Придет она — батюшка мне сует двадцать копеек: «Ступай, Пелагея, погуляй по городу». А куда я пойду? Зима, мороз, девчонка молодая, из деревни, ничего не знаю, где там что, солдат боялась. Выйду за ворота и стою, замерзаю, до полуночи, покуда эта барыня от него уберется… Чего ж я тебе, старому козлу, буду про свои грехи рассказывать, когда ты во сто раз грешнее меня? Да ну их к лешему!..
Вернулись опять к вопросу о престольных праздниках.
— Это ж у вас такая беда небось не только в Речице? — сказала старуха.
— Не только в Речице, — подтвердил Мартынов. — Беда действительно. Но что же делать?.. Видимо, антирелигиозная пропаганда у нас хромает?
— Вам лучше знать, что у вас хромает. Хромает — подковать надо.
Суконцева помолчала.
— А я так думаю, товарищ Мартынов, не от религии это, а оттого, что людям погулять хочется. Вы ж того не учитываете, что человек не машина. Работу требуете, а как людям лучше отдохнуть, повеселиться — об том не беспокоитесь… Спросите у нас любого человека: а что это за святой Пантелеймон, которого сегодня в церкви поминали? А в Подлипках — на святого Кирилла престол. Что они за люди были? Как жили, чем прославились? За что их в святые произвели? И почему так устроено, что в одном приходе престол на такого-то святого, а в другом — на такого-то? Никто не сможет объяснить. Бессмысленно водку пьют — и больше ничего!..
— Так, может, провести нам разъяснительную работу — о происхождении престольных праздников?
— А! Вы не смейтесь! Может, я своей старой головой и не так чего придумала, а все ж послушайте меня. Надо с этими поповскими праздниками советскими праздниками бороться!
— Клин клином вышибать!
— Ага! Надо в каждом колхозе свой колхозный праздник людям дать! Вот, скажем, наш колхоз называется именем товарища Буденного. А в Сорокино — колхоз Чапаева. Еще где-то у нас в районе, слыхала, есть колхоз имени Валерия Чкалова. Эти люди известны старому и малому, знаменитые люди! Посмотреть бы по святцам: когда там Симеона, Василия?
— Так зачем же по святцам, уж если на то пошло, — улыбался Мартынов. — В святцах день ангела. По биографии надо смотреть — день рождения.
— Ну, день рождения. И в этот день, значит, — праздник по всему колхозу! А святого Пантелеймона — долой! Провести собрание, доклад сделать людям про нашего именинника, про его житие, заслуги. Может, и телеграмму отбить самому Семену Михайловичу: «Приезжайте к нам в гости на праздник».
— Всюду в свой день рождения он не успеет побывать. Колхозов имени Буденного у нас в стране, вероятно, сотни.
— Не приедет — письмецо нам пришлет, и за то спасибо.
— А не получится, Пелагея Ильинична, — сделав озабоченное лицо, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, сказал Мартынов, — что будут в одном колхозе праздновать Симеона, в другом Василия, в третьем Климентия, — опять же пойдут друг к другу в гости всем селом, потеряют месяц и число?..
— Нет, товарищ Мартынов! — доказывала свое старуха. — Вот вы приглядитесь сами: все же на советские праздники у нас безобразия куда меньше! День Победы, к примеру. Не легко она досталась нам — победа, кровь лилась рекою. Либо Октябрьская революция — народ власть брал в эти дни, за коммунизм боролся. Понимают люди. Да и совестно же нам, если, скажем, товарищ Буденный дознается опосле, что мы тут без меры за его здоровье нахлебались, и отпишет нам: «Что же вы, товарищи колхозники, мое честное имя позорите? На мои именины у вас коровы стояли целый день недоеные!» Этого мы не допустим! Сам народ в сознание войдет, что в такой день неприлично пьяному в кувете валяться!..
— А ведь она очень большой вопрос подняла! — сказал Мартынов Трубицыну после ухода Суконцевой. — Клин клином вышибать! В старых церковных праздниках много было своеобразной красоты, поэзии. Религиозные праздники не все такие бессмысленные, как престольные. Страстная неделя, вербная неделя, троица, святки, крещенье, масленица. А Ивана Купала — еще со времен язычества? Ряженые народные гулянья, венки на воде, песни подблюдные… Вытеснить старые праздники из быта, ничем их не заменив, — трудно. Надо создавать новые, красивые, поэтические праздники. Тут есть над чем и комсомолу поработать. День урожая, День тракториста, Праздник песни. А те дни, когда в школах заканчиваются экзамены, парням, девушкам вручают аттестаты зрелости? Это тоже можно сделать народным праздником, Днем молодежи, что ли. Да мало ли что можно придумать!
…Комсомолец Николай Терехов, шофер из колхоза «Власть Советов», где председателем работал Опёнкин, пришел в райком к секретарю с практическим предложением: как в два счета ликвидировать взяточничество.
Он работал раньше на грузовой машине, а когда колхоз купил в воинской части старый «газик», стал возить председателя на «газике». Тут-то и наболел этот вопрос — о взяточничестве.
— Душа уже не терпит, Петр Илларионыч, — говорил шофер Терехов. — Как едем в город, в какой-нибудь снаб, так везем в машине мешок яблок, либо свиной окорок, либо пару гусей. Я уже говорил Демьяну Васильичу: «Как комсомолец, отказываюсь такие грузы возить!» Ну, опять же и председателя винить нельзя. Не для себя достает — для колхоза. Нам и гвозди нужны, и кровельное железо, и запчасти, и немало нам всего этого нужно. Хозяйство большое! Не добудем — все дело станет. Там в гутапе один кладовщик есть, ну, негодяй, до чего же обнаглел! Приедешь к нему с пустыми руками — и разговаривать не хочет! «Нет таких подшипников». А как ты его проверишь — есть или нет? Он же не допустит тебя в склад, копаться на полках. А привезешь чего-нибудь — с пол-оборота все найдет, выпишет без задержки. Брали вагоны на железной дороге, картошку в Таганрог возили — и там опять же не обошлось без подмазки. Когда же мы эту болячку ликвидируем, Петр Илларионыч? На моих глазах Демьян Васильич, честный человек, тоже в преступника превратился. Его же давно судить пора, если строго по закону! А за что судить? Надо и в его положение войти. Он — хозяйственник. Вы же первый с него спросите, если у него в хлебопоставку машины будут стоять без резины… Хапуги проклятые, ненасытные! Государственным добром торгуют! Я бы их!.. А знаете, как это дело можно изжить? Ехали мы вчера вечером с Демьяном Васильичем из города, я и надумал. Сейчас у нас как по кодексу законов? И тот отвечает, кто взял взятку, и тот, кто дал. Оба — преступники. Значит, у них круговая порука, один другого не выдаст. Потому и трудно разоблачить того, кто берет. И берет он смело: знает — не донесут. А надо сделать так, чтобы тот, кто дал взятку, не отвечал перед судом. Не от хорошей жизни он дал. Разбить надо круговую поруку! И — кончится сразу! А, ты, мол, даешь да еще свидетеля подставишь, шофера своего либо грузчика, тебе — ничего, а меня в тюрьму загоните? Иди ты подальше со своими гусями! Никто не решится взятки брать. Да еще про старые дела немало расскажут те, кому приходилось их давать!..
Мартынов исписал листок в настольном блокноте и пообещал Терехову, что его предложение особой докладной запиской пошлет в Москву, в Министерство юстиции.
Следующим вошел в кабинет ветеринарный фельдшер из села Круглого, кандидат партии Кусков.
— Мне по роду моей работы часто приходится объезжать колхозные фермы, — начал Кусков. — Лечу скот, в разных колхозах бываю и вижу, где как дело поставлено. Вы не задумывались, товарищ Мартынов, над таким вопросом: нужны ли нам эти, как их называют, кормодобывающие бригады, не подчиняющиеся заведующим фермами? Кто их выдумал?
— По инструкции создали их. Погодите минутку.
Мартынов встал, прошел к двери, распахнул ее.
— Не скучно вам здесь сидеть, товарищи? — обратился он к ожидающим очереди. — Чтобы не думалось вам, что секретарь пустяками, может, занимается, а вам приходится ждать, — заходите все, веселее вам будет. У нас не секретный разговор. Послушайте, о чем говорим. А кто хочет со мною с глазу на глаз — придется немного подождать, пока других отпущу. Заходите!
В кабинет вошло человек семь, среди них трое, которым разговор о животноводстве был небезынтересен: председатель колхоза, секретарь парторганизации другого колхоза и зоотехник.
Мартынов сел за стол.
— Продолжай, товарищ Кусков. Что говоришь — не нужны кормодобывающие бригады?
— Не нужны! За зимовку скота отвечает один бригадир со своими людьми, а корма заготавливает ему другой бригадир, другие люди. И валят вину друг на дружку: «Ты не обеспечил ферму кормами на зиму!» А тот: «Вы не умеете наши корма использовать!» Сущая обезличка, товарищ Мартынов!
Присутствовавшие в кабинете председатель колхоза и зоотехник выразили полное согласие с Кусковым:
— У семи нянек дитя без глазу!
— Вододобывающие бригады еще бы организовать, чтоб за водопой третий бригадир отвечал!
— Надо передать тех людей, что в кормодобывающих бригадах числятся, — продолжал Кусков, — в полное подчинение заведующему фермой или завживотноводством, и пусть они, животноводы, сами себе подвозят, заготавливают корма. Так лучше будет, товарищ Мартынов! И людей, и тягло, и инвентарь, какой есть, — все передать им. Чтоб один начальник полностью за все животноводство отвечал — и за заготовку кормов, и за содержание скота. Не будут тогда кивать Иван на Романа, а Роман на Петра!.. И слово-то какое выдумали: кормодобывающая! Добыть — это я понимаю: выпросить, либо украсть, либо из-под земли достать, как уголь или нефть. А чего ж добывать-то сено? Оно — сверху. Если посеял клевер, суданку, так добудешь сено. Скосить, заскирдовать вовремя — вот и есть корма, добыл без громких слов.
— Что ж, — заключил Мартынов, — в пятницу у нас будет районное совещание животноводов. Обсудим ваше предложение, товарищ Кусков. Предложение, мне кажется, дельное…
Грузный, широкоплечий седой человек, с могучей, атлетической шеей, остриженный «ежиком», в старомодном длинном, в обтяжку пиджаке придвинулся со стулом к столу, привстав, протянул Мартынову через стол широкую, как малая саперная лопатка, руку.
— Житель вашего района, пенсионер, бывший цирковой борец Андрей Кожемякин.
— Слышал, слышал, как же! — воскликнул Мартынов, с опаской вкладывая руку в ладонь Кожемякина. — Знаю, что есть у нас в районе такая знаменитость. Мальчишки однажды на базаре мне показывали: «Вот Кожемякин идет!» Садитесь, Андрей…
— Маркович.
— Что-то не часто видно вас в городе?
— В Озерках живу. В глушь забрался.
— На отдых? Как Поддубный? Поддубный, кажется, в Ейске жил на пенсии?
— В Ейске. Он-то родом был сам не из Ейска — с Полтавщины. А Озерки — родина моя. Домишко там у нас. Сад посадил, пасекой обзавелся. Вот привозил сегодня на базар мед продавать… Поддубного вспомнили?.. Между прочим, могу похвалиться — встречался с Иваном Максимычем на ковре. Правда, положил он меня на шестнадцатой минуте. А кого он не клал? Эх! Были богатыри!..
Старик, заметив, что собравшиеся у секретаря райкома люди и сам секретарь не прочь послушать его, стал рассказывать о своих встречах на ковре, о поездках по разным странам, о победах сильнейшего борца мира Ивана Поддубного, о европейском чемпионате 19… года, в котором он сам вышел победителем. Мелькали французские, турецкие, немецкие, английские имена борцов, забытые и полузабытые ныне. Вошел второй секретарь райкома Медведев, хотел что-то спросить у Мартынова и тоже заслушался, уселся на диван.
— Когда же вы бросили борьбу и сколько вам сейчас лет? — спросил Медведев.
— Лет мне сейчас шестьдесят пять. (Все сидевшие в кабинете заулыбались, переглянулись: попадись в «двойной нельсон» такому старику!) А с манежа я ушел в тридцать шестом году. Работал в Мухине, на механическом заводе. В военное время эвакуировался с заводом на Урал. Там еще в заводском клубе немножко тренировал молодежь по французской борьбе, — сейчас-то она называется классической, а после войны совсем пошел на отдых. Приехал в Озерки к своим родителям — отец мой с матерью еще живы были.
— А чего вы вздохнули, Андрей Маркович: «Были богатыри»? — спросил Мартынов. — И сейчас у нас есть хорошие борцы.
— Есть, есть… Я-то к вам, товарищ секретарь, по делу пришел.
— Слушаю вас.
Мартынов придвинул к Кожемякину коробку папирос.
— Спасибо, не курю. Никогда не занимался. Считаю, что легкие человека приспособлены для вдыхания чистого воздуха, не дыма, не в обиду вам, курящим, будь сказано.
Старый борец гулко, басом, откашлялся, окинул взглядом всех сидевших в кабинете.
— Ехал я сюда на колхозной машине и по пути, в селе Кудинцево, обратил внимание на такую картину: в одном дворе на крыше хаты — мельничный жернов. По размеру — пятерик, пудов двадцать пять. Как же он туда попал? Не святым духом, конечно, — люди его туда втащили. Кто? Зачем?.. И вспомнилась мне моя молодость, как мы в Озерках по ночам гуляли, разбойничали. И ворота, от нечего делать, от одного двора к другому переставляли, и амбары переносили. Силушки много, дури еще больше! А то, бывало, уснет хозяин летом во дворе на телеге на сене, мы возьмем его с телегой на руки, чтоб не разбудить стуком — и в речку на мелководье. Так, должно быть, и в Кудинцеве жернов на крышу попал. Гуляли ребята, пока улица разошлась, проводили девушек по домам, ночь длинная, спать не хочется, — чего бы еще такого сотворить? А давайте-ка вот этот жернов кому-нибудь на крышу втащим! Пусть потом хозяин попробует снять его оттуда! Попыхтели, должно быть, пока втащили!.. А не лучше бы эту силу молодецкую на полезное дело направить?
В дверь заглянул высокий парень в лыжной куртке, с русыми, пышными, зачесанными назад волосами, с двумя авторучками в нагрудном кармане.
— Ну-ка, зайди, — кивнул ему Мартынов. — Этот вопрос, кажется, и тебя касается. Познакомьтесь. Наш секретарь райкома комсомола. Товарищ Кожемякин, бывший чемпион…
— Знаю, знаю! — перебил Мартынова вошедший парень. — Был в Озерках, показывали мне и дом, где он живет. Здравствуйте! Рыжков.
— Не обращайте внимания на его спортивный костюм, Андрей Маркович, — сказал Мартынов. — Для фасону носит. Спортом не занимается. Погряз в бумажках. Ни разу не видел его на лыжах. Организу-уют, организу-уют всё товарищи! Кроссы, велопробеги, а сами не принимают участия. А вам бы вот, комсомольцам, в первую очередь райкомовцам, поучиться у товарища Кожемякина классической борьбе! Не в каждом районе найдешь такого учителя!
Широкое, скуластое, с мелкими оспинками лицо старого борца расплылось в улыбке.
— Товарищ секретарь! Да вы же угадали мои мысли! Я за этим к вам и пришел!.. Хочу переселиться из Озерков в город. Надоело уж мне что-то с огородом да пасекой возиться. Хутор — двенадцать дворов, до села далеко. Могу переехать сюда, если пожелаете. Сын у меня механиком в Олешенской МТС работает. Отдам ему всю домашность. А себе куплю здесь домишко. Только дайте мне занятие! Допустите меня к вашим школам. Буду ребятам борьбу преподавать. Могу и по самбо тренировать. А это же, знаете, какая борьба!
— Самооборона без оружия, — сказал Рыжков. — Особенно разведчику полезно знать самбо.
— Да, да, молодой человек! Очень полезно! Из разных видов борьбы отобраны приемы. И джиу-джитсу, и бокс, и монгольские приемы, и индейские. Каждый должен знать их. Чемпион-то не из каждого выйдет, но для себя нужно знать, для дела. Вдруг какой-то бандит на вас набросится — как его обезоружить, чтоб он и глазом моргнуть не успел? Или — как в разведке часового снять без шума, без выстрела?..
— Небось сколько нас тут есть: один, два, три… — пересчитал Медведев сидевших в кабинете, — от всех отбились бы приемами самбо?
— А выходите!..
Дружный хохот остановил увлекшегося старика, направившегося уже на середину комнаты, на ковер.
— В другой раз как-нибудь, Андрей Маркович! — смеясь, сказал Мартынов.
Старый борец, молодецки подкрутив усы, сел на место.
— А все же, товарищи руководители, нужно думать и о будущих чемпионах, — продолжал он. — Вы меня спросили, Петр Илларионович, отчего я вздохнул? Да вот — вспомнили Поддубного. Говорите — и сейчас есть хорошие борцы. Есть, но все же про таких богатырей, каким был Иван Максимыч, еще не слыхать. Так надо же их выращивать! Учить, тренировать нужно молодняк, который сызмальства силу и способности проявляет! Сам Иван Максимыч признавался, что от упражнений и борьбы стал втрое сильнее, чем был отроду. Мне, товарищ секретарь, — почти умоляющим тоном закончил старый борец, — и жалованья за это не нужно. По-любительски буду работать. Очень уж я соскучился по этому делу! Под старость даже как-то хуже стало. Так все в памяти прояснилось!.. Сам уже не могу выйти на манеж, так хоть на других полюбуюсь. Передам молодежи свое. Что ж мне его — в могилу уносить?..
Мартынов поглядел на Медведева, на секретаря райкома комсомола.
— В школьных программах нет таких часов, — сказал Медведев, — чтобы можно было в учебное время борьбой заниматься.
— Как же нет! — возразил Рыжков. — А часы для физкультуры!.. А впрочем, я думаю, надо сделать иначе. Надо при клубе организовать кружки. В вечернее время. Если поздно придется домой возвращаться, Андрей Маркович, вас комсомольцы будут домой провожать, чтобы кто-нибудь в темном переулке вас не обидел.
Мартынов спросил у секретаря райкома комсомола:
— А тебе, Рыжков, известно, что в Лиственничном произошло?
— Нет, не знаю, Петр Илларионыч, что произошло.
— Плохо, что не знаешь. В Лиственничном трое учеников средней школы спутались с бандитами, участвовали в поджогах и грабежах. Прокурор мне сегодня утром докладывал. Серьезный сигнал.
— Так я же говорю, товарищ секретарь, сегодня жернов на крышу втащат, а завтра скирд подожгут!
— Да, одними политзанятиями молодежь не заинтересуешь…
— Учителя вот жалуются, Петр Илларионович, — продолжал Кожемякин, — что мальчики шумят на уроках, балуются. А я им все про спорт толкую: «Пусть побольше на переменах шумят! Пусть там они свою силу расходуют! Чемпионаты, соревнование за первенство! Дайте разгуляться силе молодецкой — в другое время, в другом месте, не в классе, не за партой. Тогда и на уроках будет тишина!»
— Договорились, Андрей Маркович! — встал, крепко, двумя руками, пожал руку Кожемякину Мартынов. — Переезжайте из своих Озерков в райцентр. В чем будет нужна вам помощь — поможем. И вы нам поможете. Не во всех районах есть чемпионы Европы. Уж из этого-то мы сумеем извлечь для себя пользу! Может, и нас вот с товарищем Медведевым подучите на всякий случай самбо?..
— А все же, товарищ секретарь райкома, — остановившись на пороге, приоткрыв уже своим могучим плечом дверь, сказал Кожемякин, — как-то у нас за последнее время насчет чемпионов ослабло. Не про борьбу говорю, а вообще… Помните, как было до войны? Валерий Чкалов — через Северный полюс. Вслед за ним — Громов. Девчата на Дальний Восток без посадки несколько тысяч километров пролетели. Папанин — на льдине. Коккинаки в гору лез, мировые рекорды покрывал. На стратостатах до седьмого неба добирались. Вот они, русские богатыри!.. Может, это только мне запомнилось потому, что у меня такая азартная душа? Всю жизнь на том провел: кто кого? Нет, вся Россия переживала! У радио толпы собирались. Газеты нарасхват. За папанинской льдиной целый год следили. Все ребятишки в зимовщиков играли. Интересная жизнь! А почему же сейчас затихло? Что у нас, нынче Чкаловых нет? Быть не может, есть они! И техника куда посильнее! Теперь уж можно без посадки подальше залететь! На планету Марс пора лететь!.. Каналы, колхозы, то, се? Так надо бы и этому внимание уделять. Вот о молодежи мы говорили. А это тоже влияет на молодежь — геройство, романтика! Опять же — первенства нам нельзя упускать! А то вдруг какой-нибудь черт возьмет да и махнет на эти планеты раньше нас?..
— Урожайный у нас сегодня день на людей, — сказал Мартынов, возвращаясь к столу. — Ну что ж, от борьбы и полетов на Марс — к нашим районным будням?.. Чья очередь?
— Моя, товарищ Мартынов, — отозвался мужчина лет сорока пяти, заведующий мастерскими колхоза «Искра», он же секретарь колхозной парторганизации, сам по профессии кузнец, Герасим Иванович Храпов. — Вот об этих самых буднях… Наш вопрос тоже жерновов касается, про которые этот борец рассказывал. Только с другой стороны… Почему этот жернов в Кудинцеве валялся не на своем месте, не на мельнице был? Так в Кудинцеве ж мельница уже лет десять как не работает!.. Товарищ Мартынов, товарищ Медведев! Вот мы на большие дела замахиваемся, всякие планы строим, чтобы и то было в деревне, и то было, мечтаем, чтоб со временем деревня с городом поравнялась, а самого маленького, простого для удобства жизни — нету! Мельниц в селах нет! Негде колхозникам муки себе смолоть. В Сухановский район возят — за восемьдесят километров. Ближе нету мельницы.
— А почему вы, товарищ Храпов, пришли с этим вопросом в райком? — спросил Мартынов. — Дело хозяйственное. Почему не в райсовет?
— Посылали мы в райсовет протокол общего собрания, — махнул рукой Храпов. — И я лично от себя писал письмо товарищу Руденко. Не только про наш колхоз, а вообще — какое нынче положение с мельницами. Ответили нам: «Ваши жалобы пересланы в облисполком»… Мой отец, товарищ Мартынов, был мастер по мельничным установкам, большой специалист, и я с детства ходил с ним по селам, помогал ему. Где строили мельницу, где ремонтировали, где жернова наковывали. Сколько было мельниц в округе — ни одна наших рук не минула. Уж я — то знаю, что было здесь, как было. И как теперь стало. Об этом я и писал товарищу Руденко. Было — в каждом селе не ветряк, так водяная мельница, а то и две-три. У кого и лошади нет — взял мешок на плечи, отнес, смолол. Близко, удобно. А сейчас одна мельница на район осталась в райцентре. По два месяца ждали люди очереди на помол. Закрылась на ремонт — и вовсе беда. Хоть в Сухановский район, говорю, вези. Да хоть по десять килограммов на трудодень давать колхозникам — мало радости людям, если негде смолоть! А сколько фуража зря переводим! Разве можно цельное зерно скармливать скоту? В навоз зерно идет. И половины нет той питательности, что в муке…
— В самом деле, — откинувшись на спинку стула, задумался Мартынов, — почему у нас мельничное хозяйство пришло в такой упадок?..
— Почему? А я расскажу вам, товарищ Мартынов, почему… Мельницы были кулацкие. Кулаков ликвидировали, а мельницы как-то к порядку не произвели. То колхозам их передавали, то трестам, то другим организациям. Не было хозяина. Опять же — глупости всякие. Скажем, плохо идут в области хлебозаготовки или семенные фонды не засыпаны. Распоряжение: закрыть мельницы! Чтоб зерно не утекало, чтоб не перемололи, часом, лишнее зерно, которое можно в заготовку сдать. Закрываются мельницы, специалисты уходят кто куда, оборудование портят, растаскивают. Объявление: можно пустить опять мельницы. А там уже пускать нечего и некому. И гарнцевым сбором прижимали. Хороший ли урожай, плохой ли, много ли дней в году работала колхозная мельница или, может, больше стояла, чем работала, а гарнец — сдай, сколько начислено! Выгоднее совсем закрыть мельницу, чем работать. Вот так оно и заглохло дело… А как же можно в сельском хозяйстве без мельниц? Если даже одна большая вальцовая мельница на район — и то мало! В каждом колхозе надо иметь мельничку — для хозяйства, хотя бы простого помола. Не водяную, так ветрячок. А где торфом богаты — локомобиль поставить. Но сейчас, должно быть, и заводов таких нет, где бы оборудование для маленьких мельниц выпускали?..
— Я, товарищ Мартынов, — продолжал Храпов, — и кузнец, и по мельничному делу мастер, могу камень наковать, веретено установить. Я и колесник и плотник… Вот еще в чем беда у нас. Одни старики остались в колхозах по мастерству. Помрут — нету смены им. Молодежь нынче прямо на большую технику прет, в МТС, на трактора, комбайны, а к ремеслу как-то уже не то рвение. Что ж, МТС, конечно, дело великое, там вся механизация. Но и коня в колхозе надо уметь подковать! И колесо ошиновать, и сани смастерить, и избу срубить! И эту самую мельницу установить!.. Какую бы тут работу провести, товарищ Мартынов, с народом, как бы рассказать, доказать, что это дело, мол, тоже нужное? Чтоб и к ремеслу у молодежи не пропадал интерес?.. Может, выставку такую сделать в районе — лучшие работы лучших колхозных мастеров? Прославить этих мастеров в газете, премии им дать?..
Продолжать прием Мартынову не пришлось, хотя среди тех, с кем он еще не говорил, тоже, вероятно, были пришедшие в райком не по пустякам. Позвонили из обкома: срочно выехать в Л-ский район, к часу дня, на кустовое совещание первых секретарей райкомов «по вопросу зимних мероприятий по повышению урожайности».
Второй секретарь Медведев увел Храпова и остальных, кого не успел принять Мартынов, в свой кабинет.
— Чем только не приходится заниматься секретарю райкома партии! — сказал Мартынов, застегивая пальто и втаптывая валенки в калоши. Шутливо перекрестился на стенные часы. — Господи боже, дай мне такую голову, чтоб вмещала все, что за день услышишь, увидишь! У министра и то, должно быть, работа проще, чем у секретаря райкома. Там — одно ведомство, выпуск такой-то продукции. А тут — и хозяйство, и идеология, и классическая борьба, и здравоохранение, и революционная законность, и детские сады!.. А все же работа у нас в райкоме интересная! Чем сложнее — тем интереснее!..
Провожая Марью Сергеевну Борзову на работу в Семидубовскую МТС, Мартынов давал ей такой совет:
— Когда подъезжаешь или подходишь в поле к колхозникам — подходи с опаской, бойся их.
— Зачем же бояться?
— Пойми меня правильно. Может, я не так сказал, не подберу слово… Не их бойся — себя. Не робей, но чтоб все же было в сердце беспокойство: сумею ли поговорить с народом не впустую, а так, чтобы надолго след остался? Понимаешь меня?
— Кажется, понимаю…
— У нас, партийных работников, обязанности как будто несложные. Мы не врачи, не агрономы, не инженеры, не специалисты, в общем. За рабочим столом у нас никаких инструментов, кроме пера и чернил. И в поле выйдешь — ни рулетки в руках, ни гаечного ключа, ни теодолита. Чем работать? Одно орудие у нас — слово. Грубо выражаясь, языком работаем. Но языком можно по-разному работать! И дьячок языком работает… Слово — вещь неосязаемая. Ни металл, ни дерево, ни зерно. Но наше слово может стать и металлом и зерном! Смотря какое слово… И зерном и металлом может стать, — но может стать и ширмой для бездельников. Собрал людей, отбарабанил доклад, — грамотному человеку не так уж трудно прочитать по бумажке то, что слово в слово выписал из «Блокнота агитатора», — подсчитал количество выступивших — активность достаточная, ставит птичку в плане работ: «Мероприятие проведено». А подвинуло ли это «мероприятие» жизнь хоть на сантиметр вперед?
Вот еще что мне иногда приходит в голову, — продолжал Мартынов. — Опять же насчет встреч с народом… Скажем — секретарь обкома. Область большая, ведь он за всю свою жизнь не успеет побывать во всех колхозных бригадах. Разве только так: «здравствуйте-прощайте». Так не нужно! Так лучше к колхозникам не показываться. Но он должен суметь побывать в одной бригаде так, чтоб люди три года вспоминали и всем рассказывали: как он с ними разговаривал, что сделал у них, чем помог. Главное — что сделал. Чтобы не просто вспоминали его шутки и что он в ответ какому-то местному острослову отмочил, а вспоминали бы его стиль работы! Другим руководителям, большим и маленьким, — в пример!.. Каждая наша встреча с народом — это слово, которое должно быть обязательно воплощено в дело. Бойся бесплодности, пустоты!..
— Когда я сама была трактористкой, — сказала Марья Сергеевна, — то видела и таких руководителей, что по-настоящему людей боятся. Приедет иной начальник из района и идет мимо вагончика в поле, подальше, колоски рвет, зерно щупает, подзовет учетчика, дневную выработку запишет, плуги, культиваторы целый час с таким интересом рассматривает, будто первый раз их видит. А нас, трактористов, зло берет: чего ж ты от нас, живых людей, к мертвому железу убегаешь?..
— Инженеры человеческих душ…
— О ком ты? — спросила Борзова.
— О нас с тобою. Партийные работники — инженеры человеческих душ.
— Насколько мне помнится, — возразила Марья Сергеевна, — это было сказано о писателях.
— Ничего. Писатели не обидятся, поделятся с нами этим званием. К нам оно тоже подходит. Во всяком случае, партработники должны быть инженерами человеческих душ!.. А кадры, Марья Сергеевна, и в МТС и в колхозах нужно искать поглубже. Не всегда они — на виду. Если бы кадры дефилировали прямо по улицам перед нашими окнами, целыми толпами, чего проще — зови, выбирай, кто тебе больше понравится, и посылай на любую работу. В том-то и дело, что хороший человек сам не придет к нам и не скажет: «Я — хороший. Давайте мне ответственный пост». Искать надо кадры. Если бы их так легко было находить и не было бы трудностей с кадрами — вообще не было бы у нас уже никаких трудностей!..
Спустя неделю, встретившись с Мартыновым на сессии райсовета, Марья Сергеевна сообщила ему:
— Интересный человек есть у нас в Марьине, Петр Илларионыч! Дорохов, не слыхал о таком? Работал когда-то председателем колхоза «Родина» и, говорят, очень хорошо работал, при нем этот колхоз гремел. Еще в сороковом году окончил заочно агротехникум. С войны пришел майором.
— Где же он сейчас?
— В Марьинском лесничестве. Лесник. Почему он не попал после войны опять в «Родину» председателем — он сам тебе расскажет, если вызовешь его. Целая история! Из партии его исключили, судили. Десять лет, кажется, дали. Верховный Совет помиловал. Но как его там, в колхозе, вспоминают! Как отца родного!
— Что ж, — сказал Мартынов, — я завтра утром буду в Марьине. В лес оттуда километра три. «Газиком» проедем? По пути заеду в Семидубовку, захвачу тебя или Глотова. Посмотрим, что за Дорохов. За что его судили?
— За дуэль.
— Что-о?..
— Так мне люди говорили, не знаю точно. Надо, в общем, все выяснить подробно.
— Ладно, поедем выясним.
«Газик», взрывая буфером свежевыпавший глубокий снег на лесной дорожке, подъехал к одинокому жилью лесника, остановился у закрытых высоких тесовых ворот. Шофер просигналил два раза и заглушил мотор.
В старом темном лесу было сумрачно, тихо. Величественные дубы, «озимые», с засохшими, но не опавшими листьями, чуть слышно шелестели верхушками. Огромная ель у самой избы склоняла на крышу отягченные снегом разлапистые ветки.
Дверь рубленой избы приоткрылась, женщина в наспех накинутом платке с порога всмотрелась, крикнула кому-то через двор:
— Вася! Охотники приехали!
Из сарая вышел высокий человек лет сорока пяти в стеганке и ушанке, с вилами, открыл ворота, впустил «газик» в огороженный плетнем двор и, лишь когда машина остановилась у порога избы, заглянув в нее, поинтересовался — кто к нему приехал.
— А, товарищ Мартынов! — Скупо улыбнулся. — Товарищ Глотов! Ошиблась жена. Кажется, не охотники.
— Знаете меня? — спросил Мартынов, вылезая из машины и протягивая руку.
— Знаю. Видел вас в городе на Октябрьском митинге.
— А я вас не знал. Приехал познакомиться. Товарищ Дорохов?
— Дорохов. Что ж, милости прошу — в избу.
В чистой комнате, со свежевымытым полом, с репродукциями картин Репина и Левитана из «Огонька» на стенах, было уютно, тепло, но темно — от черных веток ели, свисавших на окна. На столе горела семилинейная керосиновая лампочка. От самовара пахло перегоревшими еловыми шишками. Мартынов, Глотов, шофер и Дорохов — сурового вида мужчина, с лохматыми русыми бровями и такими же русыми усами, — сидели за столом. Жена Дорохова в другой комнате, в кухне, рубила солдатским ножом-финкой в деревянном корыте тыквы на корм свиньям.
Дорохов взял поллитровку, в которой оставалось немного водки, поглядел на свет.
— На слезы оставили. Давайте уж допьем.
Разлил водку по стопкам.
— Закусывайте грибами. Вот еще штука — моченый терн… Чем хороша лесная жизнь, уж этого добра — грибов, ягод всяких — пропасть! Рыбы здесь в речке, не полениться — каждый день будешь со свежачком. Охота хорошая, особенно в перелет, на Чистом озере. Между прочим, знаю место, где волки держатся, два старика и два переярка. Можно обложить. Если занимаетесь этим делом, товарищ Мартынов, приезжайте с ружьем — организуем облаву.
— Да надо бы как-то вырваться к вам сюда на денек, отдохнуть.
— Тихо здесь у вас, — сказал Глотов.
— Не всегда тихо. В бурю ух как шумит лес! Земля стонет. Вот эта ель так качается — того и гляди угол избы свернет. И рубить — жалко. Красавица!..
Дорохов налил всем чаю, подвинул на середину стола тарелку с сотовым медом:
— Кушайте. Тоже — своего производства.
Мартынов с аппетитом выпил два стакана чаю, устало откинулся на спинку деревянного крашеного дивана.
— А говорили мне, товарищ Дорохов, что вас судили за дуэль.
— Какая дуэль! — угрюмо усмехнулся Дорохов. — С чего бы это я стал старые офицерские обычаи возрождать? Да и не тот случай, когда на дуэль вызывают. Просто — убийство, самое настоящее. Я и на суде так говорил: «Разбирайте мое дело как убийство. Если он случайно жив остался — то мне не в оправдание. Если бы та женщина не подтолкнула меня, я бы ему попал куда нужно! На таком расстоянии, на пятнадцать метров, я из хорошего пистолета в гривенник не промажу».
— Какая женщина? Жена?
— Нет…
— Так ты уж расскажи нам все по порядку, Дорохов, — сказал Глотов. — Что за человек, как вы с ним встретились, из-за чего это у вас получилось?
— Да, видно, придется рассказать…
Дорохов оторвал угол газеты, которой поверх скатерти был застлан стол, свернул толстую цигарку, прикурил от лампы.
— Встретились мы с ним в поезде, когда ехал я домой после демобилизации. Фамилия его Калмыков, четыре звездочки было на погонах — капитан. Разговорились, — оказывается, в одной дивизии служили и даже в одном госпитале лежали, только в разных отделениях. И ехать нам по пути: мне в Марьино, ему в Соломенский район, двадцать километров дальше… Пришли мы со станции пешком в село. Устали, напрямик шли без дороги, снег глубокий, по колено. Часа два было, солнце по-зимнему уже — к закату. Ему уж сегодня домой не дойти. Ну, где бы нам тут заночевать?
— У тебя что — никого родных не было в Марьине? — спросил Глотов.
Дорохов помолчал:
— Были. Жена была… Не эта. Первая жена. Но к ней я не пошел. А больше родных не было… Там, в Марьине, как перейдешь мост, жила одна наша колхозница, Полина Егоровна Черноусова, тетя Поля мы ее звали. До войны работала кухаркой в тракторной бригаде. Долго работала, лет семь. А после освобождения, когда восстановили МТС, — года два, да пока и война кончилась, работала бригадиром тракторной бригады. Вы должны бы ее знать, товарищ директор.
— Нет, не знаю, не слыхал.
— Да, вы сюда позже приехали… Вот к этой тете Поле мы и завернули с капитаном. Обрадовалась, захлопотала! Я же у них председателем был до войны. Затопила печку, курицу стала ловить в сенях. «Да что мы, говорю, фрицы, чтоб твою последнюю курицу сожрать?» Не дали ее зарезать. В хате бедность, сорок четвертый год. Топчаны немецкими травяными мешками застланы, стол из снарядных ящиков, консервные банки вместо тарелок. Так меня эта бедность резанула но сердцу! Они хорошо жили, Черноусовы, два сына ее работали в бригадах, трудодней до тысячи имели семьею, одного хлеба получали тонн по пять… Сварила она щей, картошки, самогону принесла. И у нас был спирт, консервы. Сели обедать. Она нам рассказывает, что они переживали тут при немцах, кто был в партизанах, кого повесили, кого расстреляли, как разорили колхоз и с чего они начали после освобождения, как тракторы из выбракованных деталей собирали, как она подучилась на месячных курсах и сама села на машину — некому было больше, старики да детишки остались… Спросил я ее про жену. Подтвердилось, о чем мне на фронт писали. «Ну что ж, говорю, тетя Поля, мы у тебя здесь и заночуем. А завтра подумаю — где жить, как жить…»
И вдруг этот мой попутчик, капитан Калмыков, — его развезло, прилег на лавке, но, видно, не спал, слушал, — поднимается, перебивает наш разговор. Я ж его совсем не знал — кто он, что он. Случайно встретились в дороге. Красная звездочка на шапке, серая шинель, а что под той шинелью?.. Хлопнул он еще полстакана спирту и такое понес! «Слушаю я, говорит, вашу беседу и вижу, что вы тут после такой разрухи на двух клячах двадцать лет будете сельское хозяйство восстанавливать. А можно быстренько его восстановить!» — «Как быстренько?» — спрашиваем его. «А так. Раздать ту землю, что у вас гуляет под бурьянами, хозяевам, кто сколько поднимет, — каждый бы для себя постарался!» Тетя Поля смотрит на меня: что за человека ты ко мне привел? Наш офицер, а что говорит!.. «А чем же стараться? — спрашивает. — Голыми руками?» — «То-то и оно, что остались вы с голыми руками. И тракторы не ваши, чужие. А лошади где? Хозяин бы своих лошадок сберег! В лесу, в буераках прятал бы, пока фронт пройдет! Свое, кровное!.. Эх, дали бы мне волю! Сто гектаров сам посеял бы! Для начала!» — «У тебя, говорю, капитан, в Соломенском районе поместье, что ли?» — «Вот оно — поместье!» Взял на колени мешок, стал копаться в нем. Выкладывает на стол золотые часы, портсигар золотой, какие-то брошки. «Вот, говорит, для начала!.. За эти часы взял бы пару волов; может, еще и с телегой. За эту штуку — сеялку, веялку, полный прицепной инвентарь! А вот — дамские, обратите внимание на отделку, эти камешки не простые! За эту вещичку мешок денег дадут! — Хохочет. — Что, майор? Есть для начала?» — «Вполне, — говорю я. — Тут такое кадило можно раздуть!» — «То-то же!.. На хозяйство бы это все перевести! А деньги — что. Деньги — пропить, прогулять!..» — «Не у всех же такое богатство, — говорит тетя Поля. — А мне с чего начинать? И коровы нет!..» — «Ко мне пойдешь. Прокормлю! Не одну такую, как ты, прокормлю! Возле сильных хозяев и вы не пропадете!» Смотрю я на тетю Полю — стоит она возле печки, прислонилась к стене, лицо белее мела. А он все копается в мешке. «Вот, говорит, «вальтер» трофейный… Пойдем, майор, постреляем во дворе в цель?» — «Я, говорю, свой «ТТ» в госпитале сдал». — «Из этого постреляем». Вынул обойму, пересчитал патроны. «Четыре штуки. Хватит». — «Идем, говорю, постреляем». Сгреб он со стола в карман часы, брошки, накинул шинель, пошел, шатается. «Во что будем стрелять?» — спрашиваю. «Возьми консервную банку». И тетя Поля накинула шаль — за нами. Укрепил я банку на дереве, в ветках, против заката, отсчитал двадцать пять шагов. Стал он на черте. И ведь как пьян был, а взял оружие в руки — весь как-то подобрался, напружинился, перестал даже шататься. Первым выстрелом — прямо в центр донышка, вторым — туда же, чуть расширил пробоину. «Метко, говорю, стреляешь, капитан!» — «Неплохо. Давай ты». Я взял у него пистолет, отошел в сторону. «Ну, говорю, ты в банку, а я тебе в пуговицу попаду. Вон в ту, с левой стороны». Тетя Поля как закричит, бросилась ко мне с порога. «Эти люди, говорю, колхоз, как самое святое, берегут! А ты!.. Ее — в батрачки?.. Застрелю гадину, чтоб от вас, таких, и племени не было!» А тетя Поля на руке у меня висит. Выстрелил — вот сюда попал, под ключицу. Рана была большая, много крови вытекло, так что тете Поле пришлось бежать в больницу за врачом, унесли его туда на носилках… Да, я два раза стрелял, у нас же четыре патрона было. Опять она помешала мне прицелиться — погон с шинели сорвал ему второй пулей.
Вот и все. Вот так у нас получилось. Утром меня арестовали. Сидел до суда. Отобрали партбилет, ордена. Потом судили. Приговорили на десять лет. Я обжаловал в Верховный Совет. Описал подробно все, как было. Показания Черноусовой были на суде. Оттуда затребовали мое дело. Через месяц пришло помилование. Пытался в партии восстановиться. А у нас до Борзова был секретарем райкома товарищ Слепченко. Больше всего на свете не любил дебоша, пьянства. Если человек вообще дело завалил, но по характеру смирный, непьющий, — это ничего, прощал. Не восстановили меня здесь. Писал в Москву. Вызывали два раза, а я лежал больной, очень тяжело болел после фронта, полгода с постели не вставал. Настя вот меня выходила, с ложечки кормила. Не мог выехать. Так дело и заглохло за давностью… Предложили мне эту работу — пошел. Лес сторожу… Колхозники в «Родине», когда там дело не сладилось при новом руководстве, выбрали было меня опять заочно в председатели, до райкома дошло — там не согласились. Для укрепления парторганизации послали туда коммуниста. Вот так я здесь и присох… Еще чайку по стакану? Настя! Самовар остыл.
Жена Дорохова, маленького роста, полная, с некрасивым, изрытым оспинками лицом, унесла самовар на кухню.
— А не знаете, где сейчас этот Калмыков? — спросил Мартынов.
— Знаю. Живет в Соломенском районе, в селе Гришино. Моя первая жена оттуда родом…
Дорохов нагнулся, пошарил рукой под диваном, вытащил оттуда еще поллитровку, ударом ладони вышиб пробку, разлил водку — гостям в те же небольшие стопки, себе в чайный стакан, залпом выпил. Мартынов с удивлением посмотрел на него.
— Если уж на то пошло, — после недолгого молчания заговорил Дорохов, — расскажу вам все до конца — откуда пошли такие слухи, будто я из ревности хотел его застрелить… Первая жена моя, Ольга, когда я воевал, была в партизанском отряде в Каменских лесах. И там она сошлась с одним удальцом, Гришкой Соболевым. Красавец парень. Председателем сельсовета в Михайловке работал. Под стать ей. Она тоже красивая женщина. — Дорохов оглядел стены, где, вперемешку с репродукциями из «Огонька», были развешаны фотографии. — Хотел вам показать ее карточку. Не осталось ни одной, Настя все пожгла… Вот об этом мне и написали на фронт. Недолго она жила с ним. Вскружил ей голову, но все же она сама разобралась в нем. Бросила его. Он там и с другими женщинами путался. Да и удальство-то его было дурацкое, показное. А обо мне прошел слух, что я погиб под Киевом. Пришел один наш солдат домой в первые месяцы войны и рассказал Ольге, что сам видел, как меня хоронили. Было такое, да. Несли уже меня к братской могиле, но в последнюю минуту заметили, что я дышу, — вместо могилы в медсанбат отправили. Оттуда в тыл, за Волгу, вывезли. Потом я опять на фронт попал…
— Так что, если разобраться, товарищ Дорохов, — вставил слово шофер, — может, она, жена ваша бывшая, и не виновата?
— Может, и не виновата… А Гришку Соболева повесили немцы. Рассказывали мне партизаны: вдвоем с таким же отчаюгой сделали налет в Христофоровне на спиртозавод. И, может, удачно обошлось бы у них — часть охраны перебили, остальных загнали в караульное помещение и предупредили, чтобы не выходили до утра: заминированы, мол, все двери и окна, — если б сами не напились там, как свиньи. Чуть тепленьких взяли их немцы утром у одной гулящей бабы. Вот… В ту ночь, как случилось у нас это с Калмыковым, Ольга приходила ко мне. Тетя Поля забежала к ней, сказала, что я вернулся… Сижу один в пустой хате за столом — тетя Поля ушла в больницу, — на полу кровь, перевязывали его в хате, «вальтер» на столе, хмель меня как-то сразу разобрал, уронил голову на руки — и заснул после всего. Чую — в ноги холодом от двери тянет. Поднял голову — Ольга на пороге. «Вася, родной, говорит, прости меня!» Ни словом не упрекнула: что ты, мол, здесь наделал? — должно быть, тетя Поля рассказала ей все в подробностях. Вытерла тряпкой кровь на полу. «Пусть тебя, говорит, хоть в тюрьму — и я с тобой!» — «Не нужна ты мне, говорю, ни здесь, ни в тюрьме». И еще приходила она ко мне, когда уже меня освободили, звала домой. Просила, чтоб выслушал я ее — что с нею было, как было. Не стал я слушать. Закаменело как-то сердце. У нее от Гришки и ребенок был, умер в лесу. Уехала она к родным в Соломенский район. Хату закрыла на замок, мне ключ прислала. Я потом, когда поступил сюда в лесники, пустил в свою хату квартирантов… И вот там уже, в Соломенском районе, сошлась она с Калмыковым. Как они познакомились — не знаю. Он там сначала на лесном складе работал, проворовался, как-то выкрутился. А сейчас просто существует под видом инвалида, пенсионера. Построил себе дом кирпичный, полный двор свиней, гусей, огород, «Москвичом» обзавелся. Как она, партизанка, с этой сволочью сошлась?.. Или, может, с обиды, с тоски, что я ее не простил? Хоть к черту в омут! Выходит, я ее погубил?.. Или — назло мне: «Вот ты его убивал, да не добил, а он теперь — мой муж!»
Дорохов налил еще всем водки, себе опять — больше. Мартынов покачал головой, отодвинул стопку.
— Вот отсюда, товарищ Мартынов, и пошли слухи, что у меня с Калмыковым дуэль была из-за жены. Слышали люди звон, да не знают, откуда он. Сплетнями обросло. Знают, что я чуть не убил его, знают и то, что он сейчас с моей женой бывшей живет… А на суде он говорил, будто я на его драгоценности польстился. Хозяйка, мол, моя сообщница. «Это, говорит, честные трофеи, я не советских граждан грабил, а у фашиста взял, которого сам убил». А от этих слов, насчет батрачек, отказался… Вот так и живу. Жизнь себе испортил из-за этого гада!
— Про вас, товарищ Дорохов, в «Родине» люди говорят, что вы до войны почти не пили, — сказал наугад Мартынов: он еще не разговаривал с колхозниками «Родины» об их бывшем председателе. — Не слишком ли вы стали здесь увлекаться этим зельем от скуки?
— Слишком, слишком! — сердито заговорила, выйдя из кухни, Настя. — Хоть вы его поругайте, товарищ Мартынов! Редкий день обходится, чтоб не напился к вечеру. Ольгу, что ли, не может забыть, красавицу свою? Или в село его тянет, к людям?
— Могу бросить, — твердо сказал Дорохов и тоже отодвинул стакан. — Нужно будет для дела — совсем брошу!
— Да, — кивнул Глотов, — если бороться с этим зельем, скажем, в колхозе, то председателю первому нужно бросить. Ты же и не учуешь, от кого в рабочее время водкой несет, если сам хоть сто грамм выпьешь.
— Председателю?.. — Дорохов взглянул в глаза Глотову, Мартынову. — Вот что… За этим приехали, товарищ Мартынов?
— А как — есть желание?
— В колхоз?.. Что ж, скажу прямо — согласен. Ежели считаете, что я уже довольно наказан… Пойду! В какой угодно колхоз пойду! Самый отстающий колхоз дайте! Соскучился я по живому делу!..
Мартынов помолчал.
— Подумаем, товарищ Дорохов.
— А что это за тетя Поля, что тебя подтолкнула? — спросил Глотов. — Бригадиром у нас, говоришь, работала? Где она сейчас? Как работала? Что за женщина? Расскажи-ка подробнее.
— Черноусова, Полина Егоровна. Сейчас в Марьине живет. Хату продала — она у нее от бомбежки почти развалилась, отремонтировать силы не было, — при сельпо на квартире живет, уборщицей в сельпо работает. В самое трудное время была бригадиром в МТС. А потом ваш предшественник, директор, товарищ Христич с главным механиком ее крепко обидели. При сборке машины трактористы забыли в картере ключ. Запустили мотор — ключ попал под шатун, побил поршень, коленчатый вал. Что-то много вычли у нее из заработанного за ту машину. Чуть не во вредительстве ее обвинили. Ушла из МТС, поступила в сельпо… Женщина — золото, я вам скажу, товарищ Глотов! Что характер, что руки! Способности к технике я у нее еще до войны замечал, когда она была кухаркой у трактористов. Бывало, чистит картошку, а сама все видит, слышит — как трактористы машины разбирают, как какую деталь называют, для чего она служит, эта деталь. Подучилась на курсах — сама стала трактористкой.
Дорохов вдруг неожиданно рассмеялся:
— Приезжаю я как-то к ним в бригаду, смотрю — что за механизация? Тетя Поля бросает в цилиндр куски теста, ребята берут поршень, вставляют в цилиндр, нажимают и снизу — вермишель тоненькими колбасками вылезает. Оказывается, это она придумала. Накрошить ножом лапши на такую артель — дело нелегкое. Облюбовала старый блок, показала ребятам, как заделать снизу цилиндр, сколько дырочек в дне провертеть, как его на станок установить, обмыла старый поршень и соорудила пресс. Час работы — на неделю запас вермишели!..
— Что ж, разыщем и тетю Полю. Ну, спасибо за угощение хозяйке и хозяину! — сказал Мартынов, прощаясь. — И хозяйке, должно быть, наскучило здесь, в глуши.
— А, не говорите! — махнула рукою Настя. — Не захотела бы и грибов этих, и ягод!.. Я в большом хозяйстве привыкла работать, за общественным болеть, а не за своей крохоткой. Опять же тут — ни кино тебе, ни собрания никакого!.. Я в «Родине» дояркой работала. Меня в сорок первом к ордену представляли, на выставку утвердили, в Москву собиралась поехать, да война все перекорежила…
— На мое место легче найти человека, товарищ Мартынов, — сказал Дорохов. — Какого-нибудь любителя природы, охотника. На любителя тут — рай земной!
— В раю волки не воют, — засмеялась Настя. — А тут как устроят концерт в Кривом логу! Ну, до чего ж интересно, скажите, товарищ Мартынов, воют! С переливами как-то, на разные голоса. Чисто песни играют!..
Дорохов, без шапки и стеганки, и жена его, в одном платке, проводили гостей за ворота, и пока машина не скрылась за поворотом лесной дороги, в гуще дубов, стояли у плетня, смотрели вслед ей.
В дороге Мартынов сказал Глотову:
— Расскажи все Марье Сергеевне. Пусть разыщет эту тетю Полю. Подумайте, — может быть, стоит вернуть ее в МТС? А я в «Родине» разузнаю о Дорохове, как он работал. Если верно хороший организатор, честный парень, порекомендуем его опять туда. Колхоз надо вытягивать. Куценко не справляется. И к тому же по последней ревизии с кассой у него нечисто… Подумаем и о его партийном деле. Трудно будет восстановить, много времени прошло. Может быть, заново пусть подает?.. А насчет Ольги — тут мы ему, пожалуй, ничем не поможем…
Марье Сергеевне не пришлось долго искать в селе тетю Полю. Первая женщина, у которой она спросила, встав с саней возле конторы Марьинского сельпо, где живет уборщица сельпо Черноусова, и оказалась сама Полина Егоровна Черноусова.
— Из МТС? Ко мне?.. Собралась было на почту посылку от дочки получить… Ну ладно, пойдемте в хату.
Полине Егоровне было лет под пятьдесят. Высокая, в меру полная женщина, быстрая в походке, ловкая в движениях, из тех, видно, про которых говорят, что у них на работе «все горит в руках». Жила она во дворе сельпо, в маленькой рубленой пристройке к зданию магазина, — одна комната.
Женщины как-то легко и просто разговорились, когда Полина Егоровна узнала, что ее гостья тоже бывшая трактористка — знаменитая Маша Громова.
— Давно я не была в Семидубовке, — говорила Полина Егоровна, прибирая в комнате, одергивая занавеску на окнах. — Года три не была. Нету дела туда… Ну, как оно там при новом директоре?..
— Люди нужны нам, Полина Егоровна, — приступила к делу Борзова. — К весне хотим организовать женскую тракторную бригаду. Я уже выяснила: в колхозах много есть бывших трактористок. И, говорят, хорошо работали. Со стажем трактористки. Да вот и вы бригадиром были, бросили, ушли из МТС. Разве вам здесь интереснее?.. Скоро получим двенадцать новых тракторов «ДТ», гусеничных. Незнакомы с этой маркой? Хорошие машины. И придется сажать на них новичков. А что поделаешь? Посадить курсанта на старую машину, изношенную, с капризами, — с нею он вовсе не справится. И из новой машины он и половины не выжмет того, что опытный тракторист выжал бы!
— Куда мне в моих летах на трактор? — сказала Полина Егоровна. — Для чуда, что ли? Одна такая — на всю область людям на удивление. Старая баба — на тракторе едет!
— Ого, старая! Мне ваши бывшие трактористки рассказывали: «Если уж тетя Поля одной рукой не сорвет ручку с места, значит, перетянули подшипники».
Женщины засмеялись.
Полина Егоровна присела у стола, помолчала с минуту, перебирая в пальцах бахрому вязаной скатерти:
— Какой уж тут интерес, Марья Сергеевна, на моей теперешней работе! Полы мою в конторе, в нужнике, простите за выражение, чистоту навожу, печки топлю. Живу так, лишь бы где-то при месте быть. Кабы ничего другого не умела! Может, нехорошо я сделала, что ушла из МТС, но, скажу вам, и так, как со мною поступили, — тоже нехорошо! Отплатили мне за мое старание! Чурки с глазами, бездушные!.. Как нам было трудно в первую весну после немцев! Двадцать машин собрали кое-как. Горючего не хватало. Из старых бригадиров только двое вернулись. Пришли по ранению на поправку, ну, тут уж мы стали просить военкомат, чтоб оставили их совсем, бронь им дали, без них бы нам пропадать. Все — неопытные, девчата, ребятишки. У меня в бригаде был Миша Брагин, в армии сейчас он. По годам уже и не дите, шестнадцать лет, но такое малюсенькое — за рулем не видать. Если выпадет ему в ночную смену заступать — и сама не отхожу от машины, душа болит за него. Весна была холодная, ветры, одежонка на нем плохая. Сядешь где-нибудь под скирдой и наблюдаешь. Гудит мотор, движется огонек — пашет, значит, Миша. Смотришь: остановился огонек, и мотор заглох, так и знай — заснул. Подойдешь — трактор стоит, фонарь горит, они оба с прицепщиком залезли под теплый мотор погреться и заснули там. Растормошишь, растолкаешь — еще немного поработает. Эх! Прогонишь его в вагон, а сама — за руль. Станешь будить его на зорьке — холодно, вагон аж качает от ветру, он кутается с головою в свой драный кожушок, брыкается: «Мама! Мама! Не буди, я еще немножко посплю». Да я же тебе не мама. Его мать немцы расстреляли. Всех жалеть — что ж оно получится, когда же мы вспашем, посеем?.. Вот с такими орлами мы тут и поднимали хозяйство. Два лета и еще одну весну поработала я бригадиром. До полной победы, пока и фронтовики стали возвращаться… И тут случилось это несчастье у нас. Разбили мотор. Ключ оставили в картере. Каких я только слов не наслушалась. И срывщица сева, и враг народа! Не вошли в мое положение. Да я перед тем, как мы ту машину собрали, три ночи не спала. Я там в картере не только ключ — голову свою могла забыть! Удержали с меня за ремонт чуть не все, что за весну заработала. Потому и поступила я вот сюда, в сельпо. Жить-то чем-то нужно. Дочка при мне была, ученица. И в МТС нечего получать, и в колхозе уже не заработаешь — пол-лета прошло. А тут было тогда — хоть буханку хлеба без очереди в магазине возьмешь.
— Ох, тетя Поля, поверьте мне, сейчас бы так с вами не поступили! — Борзова, протянув руку через стол, тронула за локоть Полину Егоровну. — И секретарь райкома у нас другой, и директор МТС товарищ Глотов, — он-то, конечно, с недостатками старик, но тракториста не обидит… А эту скатерть вы сами вывязали?
— Сама… Работа-то у меня какая. До света встану, подмету, поскребу порожки, затоплю печи, а еще что делать?.. Нравится? У нас таких ниток в продаже нет. Это мне дочка из Ленинграда прислала нитки. Студентка, учится там.
— Красивый рисунок.
— А вы сами не рукодельница?
— Как вам сказать… Некогда этим заниматься. Вот когда работала директором «Сортсемовощи», училась вязать. Работа спокойная, посетителей мало. Закроемся с бухгалтершей в моем кабинете и вяжем.
Тетя Поля пристально поглядела на свою гостью:
— А я где-то вас видела, Марья Сергеевна. В правлении сельпо, кажись. Вы сюда приезжали по каким-то семенам… Вы не товарища Борзова супруга?
Пришлось Марье Сергеевне рассказать тете Поле и о своих личных делах — как получилось, что Борзов уехал в другой район, она осталась здесь.
…Разговор у женщин, затянувшийся до вечера, закончился тем, что тетя Поля дала согласие поработать еще года два в МТС.
— Это вы правильно придумали — девчат на машины сажать. Надо, надо приспосабливать их к этому делу! В случае чего, ежели эти оглоеды, что войною грозятся, опять, как Гитлер, такую кашу заварят, мужики, что ж — на то они мужики: «По ко-оням!» А бабам — хозяйство беречь… Но все же возраст у меня уже неподходящий, Марья Сергеевна. И силенка не та, и одышка. Поработаю временно, пока смену себе в бригаде подготовлю. Подучу девку, приведу к вам, скажу: «Вот вам бригадир, ручаюсь за нее, как за себя!» А мне уж тогда — на пенсию, что ли? Или — опять трактористам щи варить?..
Директор МТС Глотов и секретари райкома одобрили возникшую у Марьи Сергеевны идею: организовать в Семидубовской МТС женскую тракторную бригаду.
В воскресенье Марья Сергеевна и Глотов приехали в колхоз «Родина», где в клубе собралось человек двадцать бывших трактористок — из Марьина и соседних сел. Были среди них и молодые женщины, и пожилые, и девушки.
По разным причинам бросили они машины. Та вышла замуж, мужу не понравилось, что она редко дома бывает; у той родился ребенок; ту обидел колхоз расчетом: выдал по трудодням гнилое зерно; той досталась очень старая, изношенная машина, а директор этого не учел, не повысил норму горючего, за перерасход удержали триста рублей; ту отпугнули грубость, ругань бригадира; та, может, и продолжала бы работать, если б одни девушки были в бригаде, а то бригада смешанная, парни-охальники пристают, поработать с ними год — потом и жениха не найдешь.
На этом совещании, неожиданно для Марьи Сергеевны, флегматичный Глотов вдруг произнес вдохновенную речь о поэзии механизированного труда.
— Женихи, конечно, дело для вас, девчат, большое, отпугивать их от себя не следует. Поэтому мы идем вам навстречу и создаем исключительно женскую бригаду. Ну, может, какой-нибудь водовоз у вас будет мужчина, только всего. Старый дед вроде меня. Это не опасно. К такому женихи не приревнуют. И в бригадиры подберем женщину. Вот Полину Егоровну назначим бригадиром. Стало быть, насчет матерщины вопрос тоже отпадает. Этих похабных слов от нее вы не услышите. Как, Полина Егоровна? Или сможешь загнуть не хуже мужика?
— Что вы, товарищ директор! — покраснела тетя Поля.
— Вот, значит, соберется у вас своя женская компания. Тишь и гладь — как на базаре… А работать вам теперь будет легче. Машины у нас сейчас хорошие. Почти обновился тракторный парк. Таких гробов, что только горючее жрут, уже нет. За расчетами колхозов с трактористами мы нынче следим строго, и райком нам помогает. Обещаю вам твердо, что с заработком никого не обидим! И еще скажу вам по секрету: дела здесь, в колхозе «Родина», должны бы пойти на лад. В следующее воскресенье у вас будет отчетно-выборное собрание. Райком рекомендует вам бывшего вашего председателя товарища Дорохова.
Женщины, марьинские колхозницы, зашумели:
— Давно просим Дорохова!
— Пять лет у нас работал, во как колхоз поднял!
— Грамотный, образованный, хозяйство понимает.
— Не грубиян, с народом советовался.
— При нем и вагончик был хороший у трактористов, и кормили хорошо.
— Насчет вагончиков я вам скажу, девчата, — продолжал Глотов, — что это еще не предел нашей заботы о трактористах. Вот тут говорили замужние женщины: редко приходится бывать дома, мужья обижаются. Так и мужчине-трактористу опять же плохо быть все лето в отрыве от семьи. Хороший полевой вагончик — это уже дело пройденное. Нынче, при нашем транспорте, у нас есть возможности возить на машинах смену домой, если трактора далеко от села работают, и опять же привозить обратно в бригаду. Этот вопрос мы продумаем!
Так какие же препятствия остаются, товарищи женщины? Единственно — было бы ваше желание освоить новую технику. Да как вы могли бросить такую почетную специальность? Неужели вам в горшки заглядывать интереснее, чем заглядывать на тысячи гектаров? Тракторист — самая главная должность в селе. Тракторист — великан, богатырь, вот кто есть тракторист нынче в колхозе! Вспахать тысячу-полторы гектаров в переводе на мягкую пахоту — это что такое? Махина! Вот что может сделать один человек, когда у него в руках техника! Тысяча гектаров! Это вам не чулок связать, не портки мужу выстирать!
— Так от портков никуда не денешься, товарищ директор! — возразила одна трактористка. — Все одно в дождь либо как подменят тебя на день, прибежишь с поля домой — и за портки!
— Одно дело, — с пафосом продолжал Глотов, — когда портки являются у тебя, так сказать, основным в жизни, а другое дело, когда, кроме портков, есть… — замялся, подыскивая нужное слово.
Ему помогла закончить другая трактористка, немолодая женщина, вдова, и под общий хохот, закрывшись шалью, спряталась за мощные плечи сидевшей впереди Полины Егоровны.
— Да, — не смущаясь продолжал Глотов, — вижу, что мужчину вам в бригадиры давать нельзя. Не вы от него, а он от вас наслушается разных словечек!..
— Да что вы нас корите горшками да портками, товарищ директор, — заговорили женщины. — Будто мы все в домоседок превратились? Мы в колхозе работаем!
— Это не работа, а преступление! Все равно, как бы к дизелю прицепить двухкорпусный плуг с «фордзона» и гонять его порожнем. А он может двенадцать корпусов потянуть! Та в детяслях нянькой, та в звено пошла, на деляночках с сапкой копается, та телефонисткой на почте заделалась. Одна, говорят, здесь, в «Родине», даже в крысоловы определилась, грызунов в амбарах травит. Подходящее для трактористки занятие! Да как вам самим не тошно? Неужели не просит душа простора?.. «Развернись, плечо, раззудись, рука!» — как писал поэт Кольцов! Вся колхозная степь, а не деляночка, не телефонная трубка — вот ваш масштаб жизни!..
Из двадцати бывших трактористок, собравшихся в клубе, восемь девушек и женщин заявили о своем желании вернуться на машины. Тут же, в их присутствии, директор написал приказ об организации новой тракторной бригады в Семидубовской МТС, под номером семнадцатым, и о назначении бригадиром этой бригады Полины Егоровны Черноусовой.
К весне все должны были освежить свои технические знания, пройти переподготовку на курсах и практику в ремонтных мастерских.
Вечером, после заседания бюро, на котором в числе других вопросов было принято к сведению сообщение Глотова и Борзовой об организации женской тракторной бригады в Семидубовской МТС и предложено и другим директорам подумать о возвращении на машины старых трактористок, Мартынов задержал Глотова в своем кабинете.
— Виделся я в обкоме с бывшим секретарем Кружилинского райкома, где ты до войны работал директором МТС, — сказал Мартынов. — Очень тебя хвалил. Одна из лучших в области, говорит, была МТС… Ну почему у нас Семидубовская МТС сейчас — средненькая? Почему ты, Иван Трофимыч, в последние годы хуже стал работать? Почему, прямо скажем, уши опустил?
— Уши я не опустил, Петр Илларионыч! — твердо ответил Глотов. — Я сам колхозы создавал, первые тракторные колонны организовывал! Я сотни таких колхозов видел, где жизнь уже — сад цветущий, то, о чем старым революционерам на царской каторге лишь мечталось!.. Я тоже, как Дорохов, пулю пустил бы в того, кто задумает колхозный строй подорвать!.. Но очень уж много развелось у нас возле колхозного строя бюрократов!
— Устал с ними бороться?
— Так не поборешь их! Не в моих силах.
— Ой ли?..
— Ну, если, скажем, в области спланируют чего-нибудь так, что все твое к чертям насмарку, — что я сделаю?.. Или — приехал какой-нибудь представитель. Ты тут все тщательно продумывал, расставлял, увязывал, как разные работы сочетать, чтоб ничему не в ущерб, чтоб и на будущий год нам с хлебом быть. А он — слушать ни о чем не хочет! Давай ему только то, за чем его послали. Ему лишь свое выполнить, командировку отметить да поскорее домой, в баню, к жене. Приказывает, угрожает! Так на кой леший я здесь нужен, директор? Садись в мое кресло и командуй за меня!
— Больно податлив! Первому встречному свое кресло уступаешь! Тебя Центральный Комитет посадил в это кресло!.. А ты не пробовал жаловаться на таких гастролеров в обком, в Цека?
— До бога высоко, до царя далеко.
— Вот за эту поговорку тебе выговор следовало бы влепить!
— Валяй до кучи. Их у меня есть уже штук пять. От Борзова, от Слепченко. От тебя еще не было. Дураков, дураков, Петр Илларионыч, и на пушечный выстрел нельзя допускать к сельскому хозяйству! Нет худшего оскорбления для трудящегося человека, как труд его в ничто превратить! А мы это частенько делаем. В позапрошлом году весною Борзов с уполномоченным обкома заставили меня свеклу в грязь сеять. Дожди, растворило почву в кисель, выждать бы денек-два, пусть солнце блеснет, ветерком чуть продует, — нет: «Сей, не то на бюро вытянем, партбилет положишь!» Им, видишь ли, к двадцать пятому надо во что бы то ни стало в сводку эту свеклу включить. Да я же старый хлебороб, с десяти лет землю пашу, что ж вы издеваетесь над землею и надо мною? Не будет здесь урожая!.. Ну что ж — посеяли двести гектаров. Заелозили, замазали почву, после дождей сразу — жара, засушило, взялась земля коркой, как цементом поле залито, — ни одно семечко не дало всхода. Пришлось пересевать. По сорок центнеров взяли там свеклы, вместо двухсот по плану. Порадовали людей урожаем!.. В деревне такому человеку, что ничего не понимает в сельском хозяйстве и понимать не хочет, дать такому человеку власть — все равно что сумасшедшему в руки оружие вложить. Он тебе наделает делов!..
— Хуже бывает, Иван Трофимыч, — заметил Мартынов. — Иногда и знает человек сельское хозяйство, прекрасно понимает, что не то делает, а все же делает — противное своей совести.
— А что его заставляет идти против совести?
— Что заставляет? Это большой вопрос… Как говорится: «Страха ради иудейска», так, что ли?
— Да страх-то откуда взялся?.. Молчишь?
— Молчу. Сам об этом думаю: откуда страх взялся?.. А все же, Иван Трофимыч, как бы ни было, ничто не мешает тебе работать в МТС лучше со своими людьми.
— Работал… Было и у меня соревнование, флажки, рекордами гремели. Я бьюсь, стараюсь, убеждаю ребят лучше работать: «Ваш ударный труд оценят по заслугам, не пропадет ваше!» А потом из-за каких-то дуроломов и колхозы без урожая остаются, и мои трактористы больше минимума не получают. Только и награды, что в приказе благодарность им объявишь…
До войны, говоришь, хорошо работал? — продолжал, помолчав, Глотов. — Что — до войны. Другая была обстановка. И мы другими были. До войны и я двух сыновей растил. В каждой семье — радость, довольство… А вот как пришли мы сюда, на эту окровавленную землю, в сожженные села, вдовы, сироты, — тут надо по-особому, душевно как-то к народу подойти! Тут уж каждый бюрократ, шкурник — вдесятеро стал нам страшнее!..
— Это все верно, — сказал Мартынов. — Умные ты слова говоришь. А все же нытик ты, Иван Трофимыч! И паникер! «Бюрократы, бюрократы!» А бороться с ними и не пытаешься. Свое кресло уступаешь им!.. Ну как ты боролся с ними? Вслед им черта шепотом пускал? Кукиш в кармане показывал?..
— Ты меня не обижай, Петр Илларионыч! — Глотов встал, багровый, взволнованный, и на глазах его даже блеснули слезы. — Я старый член партии. «Нытик!» «Паникер!» Еще, может, оппортунистом назовешь? Ты меня спросил: «Почему хуже работаешь? Устал, что ли?» Я тебе по-честному признался: устал. Вот от всего этого, о чем тебе рассказываю, устал. От безалаберщины! И от канцелярщины, от бумажек! Не то, вижу, делается, не так бы нужно! Почему политотдельские времена забыли, когда бумажек почти не писали и не заседали, но зато с народом работали?.. И оттого устал, что в райкоме помощи не было. То не помощь, когда тебя зовут на бюро лишь для разноса за какой-то «срыв». А почему срыв, отчего срыв — никто не хочет разобраться!.. Устал, говорю, да. На первый вопрос ответил тебе. Но ты же меня не спросил: «А как дальше будешь работать?» Спросил бы — я б тебе и на этот вопрос ответ дал… С тобою буду работать, Петр Илларионыч! Свежим ветром подуло у нас в районе, как ты заступил за первого. Без лести говорю тебе это. Только вот боимся все за тебя: не укатали бы сивку крутые горки!..
— От Борзова на прощанье слышал эти слова и от тебя слышу, — нахмурился Мартынов. — Какие горки? Еще спрашиваешь, откуда взялся страх! Вот вы сами такие и выдумываете себе страхи! Собственной тени стали пугаться.
— Ну, положим, когда запишут тебе строгий выговор в личное дело, — это уже не тень…
Глотов мягко, как-то необычно для его тяжелого, оплывшего, неподвижного лица, улыбнулся, тронул за плечо Мартынова:
— Ладно, не сердись, Илларионыч! Так, по глупости сказал… А меня не торопись сдавать в архив. Устал — это еще не дуба дал. Устал, отдохнул — и дальше пошел!..
В Доме культуры проходило собрание районного партийного актива.
Доклад об итогах недавно состоявшегося пленума обкома сделал председатель райисполкома Руденко: Мартынов, простуженный, осипший, с обвязанным шерстяным шарфом горлом, не мог громко говорить, а второй секретарь райкома Медведев был в отпуску.
Собственно говоря, доклад был не сделан, а прочитан, и поручить читку можно было любому человеку, даже техническому секретарю, лишь бы голос у чтеца был звучный. Или даже можно было совсем, для экономии времени, не читать — заранее отпечатать доклад в сотне экземпляров и разослать всем приглашенным на собрание.
Пленум обкома обсуждал два вопроса: о состоянии массово-воспитательной работы в колхозах области и мерах подъема и развития животноводства. О решениях пленума по этим вопросам и докладывал Руденко: полтора часа монотонного чтения, ни на минуту не оторвался от текста, подготовленного для него работниками райкома и райисполкома, ни разу не поднял головы, не глянул в зал перед собою. В зале кто дремал, кто шептался с соседом, кто — в задних рядах — украдкой покуривал в рукав.
Мартынов сидел в президиуме злой, нервно вертел в пальцах карандаш, бросал на Руденко исподлобья свирепые взгляды.
Вопросов к докладчику не было. Записавшихся в прениях — только два.
Первым выступил инструктор райкома Николенко. Все десять минут, положенные ему по регламенту, он перечислял недостатки в работе колхозных партийных организаций его куста: там не проводятся по три месяца собрания, там растеряли агитаторов, там не выпускают стенгазету, там коммунисты пьянствуют на престольные праздники. Как будто в этом только и заключались его обязанности: ездить из колхоза в колхоз и старательно фиксировать все «упущения», «сигнализировать» о них членам бюро райкома. Его речь не улучшила настроения Мартынова.
После Николенко он предоставил слово колхознице Гончаровой, заведующей свинофермой.
В зале погасло электричество, и, хотя собрание проходило днем, за столом президиума на сцене было темновато — обмерзшие, запорошенные снегом окна пропускали мало света. Женщина читала речь по бумажке, мучительно запинаясь на каждом слове:
«Наши достижения… результат упорного… труда и высокосознательного отношения… исключительно большое внимание… мы уделяем выращиванию поросят… опорос производится в чистом… продез… инфицированном станке… Применяя обильное и разнообразное… кормление свиней… и молодняка, создавая для них благоприятные условия, мы добились… получения от свиноматок здорового и жизнеспособного приплода… Сейчас мы ставим перед собой… задачу… и тем самым повысить… доходность от животноводства».
Запиналась она даже в таких местах речи, где предполагался подъем, пафос.
«Развернув живой… живое… соревнование, мы обязуемся…»
Под конец выступления она перепутала листки, сбилась, растерялась и, так и не договорив фразу, сошла вниз.
В президиуме все сидели, потупив головы от неловкости.
Мартынов встал, чтобы объявить перерыв.
— Есть здесь секретарь парторганизации «Дружбы?» — простуженным, сиплым голосом спросил он.
— Я, — поднялся в задних рядах мужчина в офицерской шинели без погон.
— Это ты, товарищ Мостовой, сочинял речь для нее?
— Я… С председателем колхоза.
— Потрудились!.. Лучший животновод в районе, сделал ферму образцовой, на это у нее хватило способностей, а выступить здесь, рассказать о своей работе — на это, боитесь, способностей не хватит?.. Не смущайся, товарищ Гончарова, что плохо выступила. Это не тебе стыд, это нам стыд… Прежде чем объявить перерыв, я вот что хочу сказать, товарищи. — Мартынов покосился на сидевшего в президиуме инструктора обкома, предчувствуя стычку с ним. У него с этим инструктором, Голубковым, часто приезжавшим в их район, были давние нелады. — Давайте так договоримся: кому нечего дельного сказать, пусть лучше не выступает здесь, не отнимает время у себя и у других. Нам не нужна активность для отчетности: «На собрании выступило столько-то процентов присутствующих». А о чем говорили, для чего говорили? Николенко вот пересказал здесь свою докладную записку, которую мы читали уже три дня тому назад. Партактив собирается для делового обсуждения вопросов, а не для речей ради речей. Объявляется перерыв на пятнадцать минут.
Расходились покурить как-то не сразу, в недоумении.
Голубков, задержав Мартынова на сцене, сказал:
— Ты что, Петр Илларионыч, нездоров? Температура? Ну шел бы себе домой, в постель. Есть тут члены бюро, без тебя проведем. Хочешь сорвать партактив? «Не умеете выступать — не выступайте».
— Не так же я сказал, товарищ Голубков!
— С профессорами, что ли, имеешь дело? Здесь в зале — половина колхозников. Зачем ты их запугиваешь? Эта Гончарова — она же малограмотная! Ей нужно помочь!
— А я не для малограмотных сказал это, — отмахнулся Мартынов. — Для очень грамотных! Для тех, что мозоли на языках понабивали себе на таких собраниях!
— Непонятно, — пожал плечами Голубков. — Не знаю, что из вашего партактива получится. Как бы не пришлось Руденко сразу после перерыва делать заключительное слово.
— Может быть, и придется… Для тебя, Николай Архипович, это, конечно, большая неприятность. Чрезвычайное происшествие в твоем кусту! Собрание партактива сорвалось! Два человека только выступило. Как докладывать обкому? Тем более что сам присутствовал.
— Думаю, что это и для тебя не очень большая приятность.
Подошел Руденко. Мартынов бросил ему:
— Черт бы вас побрал, таких читателей лекций о вреде табака!
— Петр Илларионыч! — взял его за плечо Руденко. — Ведь не было времени подготовиться!
— Пять лет работаешь в районе. Людей знаешь. И умеешь ведь поговорить с людьми! Пересказал решение обкома. Да его уже без тебя все успели прочитать! А своих мыслей — ни одной!.. Какой доклад, такие и прения!
— Иссякло мое красноречие. Пятый день разные заседания! Я думал, ты будешь делать доклад, а тебя угораздило заболеть.
После перерыва, несмотря на предупреждение Мартынова, первым выступил оратор именно из таких, с мозолями на языке, Коробкин, заведующий отделом райисполкома по сельскому строительству. Без пламенных речей Коробкина в районе не обходилось ни одно собрание.
Долговязый, в длинном черном драповом пальто, с высоким (за счет лысины) лбом, грозно размахивая руками над столиком для тезисов, он выкрикивал каждую фразу, как лозунг на площади перед многотысячной толпой. От его голоса вздрагивали и позвякивали стекляшки на люстре под потолком.
— Товарищи! Корма — это основа животноводства! Но некоторые товарищи упорно не желают этого понять, преступно недооценивают заготовку кормов для животноводства!
Вол — это, товарищи, рабочее тягло! Рабочее тягло нужно беречь!..
Свинья дает нам, товарищи, мясо, сало, кожу, щетину! Свинья очень полезное животное! А как мы относимся к свиньям? По-свински, товарищи!..
Животноводство, товарищи, нуждается в теплых благоустроенных помещениях. Корова, товарищи, в тепле и чистоте дает больше молока, чем на холоде, в грязи! А некоторые председатели колхозов недооценивают строительство коровников!..
Переходя к массово-политической работе с колхозниками, я должен здесь, товарищи, со всей прямотой сказать, что мы плохо работаем с колхозниками!..
Стенная газета, товарищи, — это печать. А печать — это острейшее оружие нашей партии! Но во всех ли колхозах у нас выпускаются стенные газеты? Нет, товарищи, не во всех колхозах у нас выпускаются стенные газеты!..
Мартынов морщился, как от сильной головной боли.
— Это же нужно уметь, — просипел он на ухо сидевшему рядом с ним Руденко, — десять минут болтать и ни слова путного не сказать!..
В зале зашумели:
— Зачем выходил на трибуну, товарищ Коробкин?
— Что ты сказал нам полезного?
— Что свинья дает сало!
— А корова молоко!
— Просили же по делу выступать, а не отнимать зря время у нас!
Мартынов постучал карандашом по столу:
— Кто следующий?
Минут пять длилось тягостное молчание. Никто не просил слова. Казалось, действительно на этом и придется закрыть собрание. Голубков, бросив возмущенный взгляд на Мартынова, с треском отодвинул стул, поднялся, ушел за кулисы курить. Видимо, и Мартынов в эти минуты чувствовал себя неважно… Но вдруг в зале поднялась одна рука, другая, третья. Человек пять сразу попросили слова.
…На клубную сцену, к столу президиума, грузно ступая по лесенке, поднялся председатель колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин. Не спеша расстегнул пальто, достал из кармана пиджака очки, тетрадь, протер стекла очков полой пиджака, развернул тетрадь, откашлялся.
— Это у меня не тезисы, товарищи, — начал Опёнкин. — Это дневник председателя колхоза. То есть лично мой дневник. Я записываю сюда каждый день — где был, что делал. Ежели меня когда-нибудь за развал работы потянут к прокурору — это мое оправдание. Прокурор прочитает, поймет и посочувствует. Скажет: «Удивляюсь, товарищ Опёнкин, как ты все же успевал что-то делать в колхозе!»
При настороженном внимании зала Опёнкин продолжал, перелистывая тетрадку:
— Вот давайте подсчитаем — на котором это я уже заседании сижу за полмесяца и сколько их еще будет до конца месяца?.. Второго был пленум обкома. Я — член обкома. Вызвали, поехал. Два дня заседали, потом депутатам облсовета велено было сразу, не уезжая домой, остаться на сессию. Остался. Еще два дня. Дорога туда-сюда — в общем, неделю дома не был. Потом — здесь в районе: пленум райкома, сессия райсовета, сегодня вот партактив. Короче сказать, за эти полмесяца я был в колхозе всего два дня. Так это еще не все. Послезавтра сессия нашего сельсовета, мой доклад: об итогах сессии облсовета. Двадцатого по плану партсобрание в колхозе, тоже итоги пленума обкома будем обсуждать. Теперь еще посчитайте, товарищи, сколько раз в месяц вызывают председателя колхоза на бюро, в исполком. А там еще какие-нибудь комиссии. Да ведь мне времени не остается дома работать! А заседания все по вопросам: как улучшить дело, как то поднять, то укрепить. Но когда же поднимать и укреплять, если на разговоры об этом все наше время уходит?.. Партсобрание — закрытое, пленум, конечно, закрытый, партактив — закрытый, на сессию тоже только депутаты приглашаются. А речь ведем о том, как с народом работать. Закроемся в четырех стенах и убеждаем друг дружку, что надо лучше с народом работать!.. Так можно, товарищи, до чего-то нехорошего докатиться! Самообманом занимаемся. Двадцать заседаний в месяц — вот работа кипит! А заседания-то все закрытые, сами себя тут агитируем! А общие собрания колхозников в некоторых колхозах раз в году проводятся, от отчета до отчета!..
Опёнкин, вообще редко выступавший на пленумах и активах, на этот раз разошелся:
— Я не возражаю, товарищи, посидеть в этом зале и час, и два. Послушать, скажем, хороший доклад, лекцию о международном положении, что ли. Пусть знающий человек расскажет нам, чего мы сами не успели прочитать или, может, в чем не сумели разобраться. Он нам расскажет — мы потом людям передадим. Но когда вот тут товарищ Коробкин доказывает нам, что свинья животное полезное!.. Этого же невозможно терпеть! А что греха таить, и на областных заседаниях немало приходится слушать таких речей. Выйдет человек на трибуну и тарахтит, тарахтит, как по коробке! После станешь вспоминать: о чем же он говорил? Да ни о чем! Все вот такое же: «мобилизовать усилия!», «поднять на высоту!» Иногда и председатель не остановит. Кричат уже все: «Довольно!», «Регламент!» — а он тарахтит. Будто ему сдельно за каждое слово платят. А мы сидим в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? Пятьсот человек сидят здесь — сколько ты нашего времени загубил! Пересчитать бы его на человеко-часы! Шоферов за холостые пробеги милиция штрафует. Там — тонно-километры. Тут — человеко-часы. Тоже ценность немалая! И некому штрафовать этих расхитителей времени.
Опёнкин сошел вниз под одобрительный смех в зале и аплодисменты.
И почти все, кто выступал после Опёнкина, — а выступило еще человек десять, так что по «цифровым показателям» собрание партактива прошло «на уровне», — почти все говорили о том, как вредно отражаются на работе обилие заседаний, долгие словопрения, келейность обсуждения таких вопросов, какие нужно решать с народом.
Редактор районной газеты Посохов, сидевший в президиуме позади Мартынова, усмехаясь, нагнулся к нему через спинку стула:
— До чего же страшна сила инерции, Петр Илларионыч! Смотри-ка, задал ты тему для разговора — о вреде пустословия, — и уж который человек об этом говорит, повторяют друг друга!.. «Еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»
Секретарь райкома комсомола Рыжков говорил:
— В древние времена в Спарте считалось доблестью, если человек сумел в двух-трех словах высказать то, что другой и в часовую речь не уложит. Не следовало бы нам возродить эти спартанские традиции?
Ему бросили реплику из зала:
— А сам не уложился в регламент, тринадцатую минуту уже говоришь!
Выступил секретарь парторганизации колхоза «Дружба» Мостовой, тот самый, что сочинял речь для заведующей свинофермой, и резонно, с фактами отчитал работников аппарата райкома за канцелярские методы руководства.
— Приезжает к нам в первичную организацию инструктор райкома. Что он проверяет, чем он интересуется? Когда партсобрания проводили, какие вопросы обсуждали. Опять же — сколько человек выступило в прениях, достаточна ли была активность. Ну, протоколы прочитает — грамотно ли написаны. План работы спросит — какие читки, беседы в бригадах наметили, проводим ли их? А что в нашей жизни изменилось после этих собраний — это его не интересует! Вот в такой-то бригаде проводили беседу о решениях пленума. А как оно там после этого пошло дело? Лучше ли стали работать колхозники? Может, новые передовики в этой бригаде появились? Соревнование закипело? А ежели никакого сдвига — как же вы, товарищи, проводили беседы? Чего-то, значит, не довели до сознания. А ну-ка, пойдемте вместе, еще поговорим с людьми, и я вам помогу! Так бы нужно. Но у нас так не делается. Бумажки, бумажки!.. Как говорится: можешь и не уметь работать, умей отчитаться гладко по бумажке — и все будет в порядке! Сами вы, товарищи райкомовцы, приучаете нас к этому! А вы, товарищ Мартынов, видимо, совсем не занимаетесь своими инструкторами. Прямо через их головы, по крутой траектории, достаете в колхозы. Хотите, чтоб в колхозах был порядок, а до сих пор не навели порядка в своем аппарате! Под носом у вас, в самом райкоме, и бюрократизм и канцелярщина — все то самое, за что и нас ругаете!..
Мартынов почесал затылок. Что верно, то верно. До самого близкого у него как-то «не дошли руки». Не собирал он ни разу инструкторов, не беседовал с ними по душам, не учил их на практике живым методам партийной работы. Отношение секретарей к работникам аппарата райкома оставалось старое, по привычке — как к обычным «уполномоченным», которых всего проще и удобнее посылать в колхозы потому, что они всегда под рукой.
И выступила еще раз, уже без шпаргалки, Гончарова. Женщина, собравшись с мыслями, просто и интересно рассказала, благодаря чему их ферма стала образцовой. Рассказала, как они перевезли из села дома всех работников фермы, и там, в десяти километрах от села, образовался целый новый поселок, люди обосновались на жительство прочно, обзавелись садами, держат много птицы на хуторском приволье, и за последние годы из ее свинарок ни одна не ушла с фермы, рассказала, как добилась — не без скандала в правлении колхоза, — что учеников с их хутора, детей свинарок, теперь ежедневно возят в село в школу на санях. Рассказала, как она, чувствуя ответственность не только за производство, но и за хорошую жизнь колхозников в ее бригаде, организовала людей, и прошлым летом в свободное время они своими силами восстановили плотину на речке у старой мельницы. Колхоз с помощью шефов-железнодорожников электрифицировал ферму и хутор — теперь у них там и свет и радио, по вечерам работает школа для взрослых, все свинарки учатся на зоотехнических курсах; сообщила, что полученные в премию деньги от областного управления сельского хозяйства они решили затратить на экскурсии — все свинарки за зиму по очереди побывают в лучших колхозах области, посмотрят там порядки в животноводстве, может быть, переймут оттуда для себя хороший опыт.
— Вот теперь нам понятно, товарищ Гончарова! — сказал Руденко. — Дело, стало быть, не только в дезинфенкции и культурном опоросе? Можно было подумать, что тебя только свиньи интересуют. А ты — со свинарками работаешь! Тут-то и корень успеха!..
Мартынов не выступал на этом собрании. Не потому, что потерял голос, — как-нибудь прохрипел бы. Видимо, не все еще обдумал, чем ответить Опёнкину и другим коммунистам, которых сам же вызвал на сегодняшний откровенный, взволнованный разговор. Так нельзя проводить собрания, как проводили до сих пор. А как можно?
Проект решения, подготовленный в аппарате райкома, читал заведующий отделом пропаганды и агитации Жбанов. Читал без малого час.
— Черт побери! — сгорбившись, опустив голову на руки, выругался Мартынов. — Не посмотрел перед собранием их сочинение. Ну и насобачились же пудовые резолюции писать!..
В проекте решения, в так называемой «констатирующей части», в сотый раз констатировалось то, что констатировалось и в решениях прошлых пленумов и партактивов: отставание такого-то участка, запущенность такой-то работы. Эти страницы были просто списаны из старых резолюций. Но и в «постановляющей части» мало было свежих, новых слов. И эта часть подозрительно смахивала на что-то очень много раз уже читанное с этой трибуны, перед таким же собранием. Все тоже: «обязать», «обратить исключительное внимание», «направить усилия», «поднять на должную высоту». В проекте было охвачено буквально все, чем только ни приходится заниматься райкому партии и первичным парторганизациям: и радиофикация, и колхозная самодеятельность, и наглядная агитация, и борьба с эпизоотиями, и ремонт дорог.
После проголосования проекта «за основу» Мартынов внес — опять к удивлению и возмущению Голубкова — предложение: сократить его раз в десять.
— В самом деле, — сказал он, — следовало бы, как вот говорил здесь Опёнкин, наказывать тех товарищей, которые не щадят нашего времени!.. Кто его будет читать, такое решение на пятьдесят страниц, в колхозных парторганизациях?
За сокращение проекта в десять раз взметнулся лес рук.
Голубков встал, хотел, видимо, что-то возразить Мартынову, но раздумал, махнул рукой…
Впопыхах никто не внес никаких изменений и добавлений к проекту.
Так, почти со скандалом, и закончилось собрание партактива.
Схватились Голубков с Мартыновым уже вечером, в райкоме.
— Мне неудобно было обрывать и поправлять тебя, первого секретаря, там на собрании, — говорил Голубков. — Но это же черт знает что, товарищ Мартынов! Ты воспитываешь у коммунистов неуважение к партийным документам, к нашим решениям!
— Именно из уважения к партийным документам, — отвечал теряющий самообладание Мартынов, — нельзя писать так резолюции! Топим главное в словесной воде! Двадцать раз «исключительное внимание»! А что же на самом деле требует исключительного внимания?.. Эго вы, вот такие канцеляристы, превращаете партийные документы в пустую бумажку! Наш грех — у нас инструкторы плохо работают. Но и ты же, когда приезжаешь к нам, обращаешь исключительное внимание только на бумажки: как решения написаны? Это для тебя наши товарищи такие всеобъемлющие резолюции пишут. Чтоб, боже упаси, не придрался к чему-нибудь! «А где же стенная печать? Где работа среди учителей? Стало быть, вы этими вопросами не занимались?» — «Нет, шалишь, не придерешься! Занимались! Вот тут все написано. В десяти решениях эти пункты записаны!»
— Ты увел собрание партактива от основных вопросов! — стоял на своем Голубков. — Вы по существу и не обсудили итоги пленума обкома. Видите ли, сомнения у них появились: не слишком ли часто проводим пленумы, собрания? Не слишком ли много заседаем? Эти собрания — школа коммунистического воспитания!
— Они должны быть школой коммунистического воспитания, — отвечал Мартынов. — Какое собрание, как провести его! Если тебе поручить провести собрание, боюсь, что не та школа получится!
— Вот ты провел сегодня актив так провел!.. Я доложу, что, вследствие неподготовленности, твоего мальчишества, несерьезного отношения к делу и еще черт знает каких заскоков, ты сегодня почти сорвал партактив!
— Валяй докладывай! — Терпение у Мартынова лопнуло, и он стал убирать бумаги со стола в сейф. — Докладывай! Только поскорее. Время — к весне, пусть новый секретарь хоть успеет с районом познакомиться… Но только я не думаю, товарищ Голубков, что в обкоме все такие… как ты. Разберутся!..
Утром Руденко заглянул к Мартынову домой. Мартынов, Надежда Кирилловна и сын их, Димка, завтракали в столовой.
— Присаживайтесь, Иван Фомич, — придвинула к столу четвертый стул Надежда Кирилловна.
— Спасибо, — отказался Руденко. — На работу иду. Такого случая не было, чтоб жена выпустила меня из дому голодным.
Присел на диван:
— Не жалеешь, Петр Илларионыч, о вчерашнем?
— Нет, не жалею. Будь что будет!.. — Мартынов допил чай, протянул стакан жене за добавкой. — Вот послушай, Фомич, до чего это доходит. Димка! Расскажи, что ваша пионервожатая на прошлом сборе говорила.
Димка, мальчик лет десяти, очень похожий на отца, такой же синеглазый, черноволосый, встал из-за стола, потянулся к окну, где на ручке переплета висел его ученический портфель с книжками и тетрадями.
— Она нам сказала: «Не надо, ребята, смущаться, когда выходите на трибуну. Это не речь: два слова — и назад. Надо долго говорить. Кто научится долго говорить, тот будет большим начальником, когда вырастет».
Мартынов и Руденко расхохотались.
— Смеемся, а в общем не смешно — грустно, — сказал Мартынов.
Надежда Кирилловна, убирая со стола, вопросительно взглянула на мужа:
— О чем у вас речь? «Будь что будет!» Опять что-то начинается?
— Да ничего особенного, Надя, — успокоил Мартынов жену. — Повздорил с инструктором обкома. Он, конечно, напишет докладную записку секретарям, кой-чего переврет, сгустит краски. Но и я же могу дать объяснение.
— Вот сушитель мозгов, этот Голубков! — покрутил головой Руденко. — И зачем держат таких на партийной работе?
— Это он был у вас уполномоченным обкома, когда Глотова заставили свеклу по грязи сеять? — спросил Мартынов.
— Он, он! С Борзовым у них контакт был. В четыре руки кулаками по столу стучали!
На улице, по пути в райком (райисполком помещался в том же дворе, в другом доме), Руденко говорил Мартынову:
— А Демьян правильно поднял вопрос! Двадцать закрытых заседаний в месяц, а колхозные собрания — раз в год. Как же мы работаем? Что это за работа? Есть над чем призадуматься! И проводим мы свои заседания зачастую так, будто обряд какой-то справляем. Для формы. «Да выступи, скажи чего-нибудь! Надо же активность проявлять!» И выступают, и болтают «чего-нибудь», лишь бы считалось, что собрание проведено. Иной раз просто стыдно, когда сидишь на таком собрании!
— Согласен с Демьяном? А в заключительном слове ничего не сказал об этом.
— Так мы итоги пленума обсуждали, а не вопрос о количестве заседаний.
— Осторожничаешь, Фомич!.. Все видят, чувствуют, что нельзя дальше так, а сказать не решаются. Эх вы, друзья-помощники! Пусть Мартынов начинает? На чужом лбу шишку видеть приятнее, чем на собственном?..
Подошли к райкому.
— А почему ты не дал хода письму Храпова насчет мельниц? — спросил Мартынов, занеся уже ногу на ступеньку. — Вот ругают нас, райкомовцев, за то, что мы слишком много хозяйственными вопросами занимаемся, за советские органы работаем. Поневоле приходится, раз вы сами ничего самостоятельно не решаете! Это же интереснейшее дело для вас! Провести подробное обследование, поставить вопрос перед областью о состоянии мельничного хозяйства. И свои ресурсы надо выявить — что мы сами в силах сделать. Привыкли за райкомом как за нянькой ходить!
— Обследовали уже. На следующем исполкоме стоит этот вопрос, — ответил Руденко. — Прежде чем кричать, спросил бы. Не с той ноги встал? Голубков расстроил тебя, а на первом встречном зло срываешь.
Через неделю Мартынова вызвали в обком партии.
Он сидел у заведующего сельхозотделом со своими перспективными планами, когда туда позвонили из приемной первого секретаря и пригласили Мартынова зайти.
Секретарь обкома в этой должности, в разных областях, пребывал уже лет десять. Пожилой, за пятьдесят, участник гражданской войны, а в Отечественную войну — член Военного совета одной из армий на юге. Небольшого роста, сухощавый, с непокорным, молодившим его чубом прямых русых волос, то и дело спадавших на лоб. Страстный любитель, как говорили о нем, парусного спорта и охоты: все выходные дни проводил либо на Монастырском озере, на водной станции, либо в Чугуевских лесах.
Это у Мартынова была первая встреча с ним, первый большой разговор, не считая коротких встреч на пленумах и на двух заседаниях бюро обкома: когда снимали Борзова и второй раз — когда его, Мартынова, рекомендовали первым секретарем райкома.
— У вас, Алексей Петрович, это, может быть, не так наболело, как у нас, низовых работников, — говорил Мартынов. — А нам, поверьте мне, это уж невтерпеж! Вам меньше приходится видеть плохие собрания.
— Ты что хочешь сказать, — недовольно поморщился секретарь, — что мы, обкомовцы, жизни не знаем, оторваны от жизни?
— Нет, я не это хочу сказать… Если вы приезжаете на собрание и видите, что оно идет вяло, люди выступают без души, лишь бы только чего-то для протокола наговорить, — вы же не выдержите, вмешаетесь, разожжете страсти! Повернете, в общем, собрание куда нужно. При вас — собрание хорошо прошло. А вот как оно без вас прошло бы — этого же вы не могли видеть!
— Хитер, вывернулся! — рассмеялся секретарь обкома. — Пей чай. — Придвинул к Мартынову стакан крепкого чая с лимоном. — Больше, прости, у нас в обкоме посетителей ничем не угощают. Возьми печенье.
— Ну, у нас в райкоме и чаю для посетителей нет, — сказал Мартынов, разламывая печенье над стаканом. — Ваш финсектор на это денег нам не дает… Между прочим, Алексей Петрович, раз уже заговорили о финсекторе. Дело небольшое, но все же три тысячи висят на моей шее…
— За что?
— Мы в декабре проводили у себя День механизатора. Надо было премировать лучших трактористов и комбайнеров. А денег в МТС нет. Что делать? Продали райкомовскую кобылу, по решению бюро. Она нам не нужна была. Две машины в райкоме, в райисполкоме четыре лошади, да и кобыла-то уже старая, и упряжи на нее нет. Продали в лесничество для объездчика. А ваш инструктор из финсектора составил на меня акт: «Не имели права продавать! Лошади, как и все имущество райкомов, числятся на балансе обкома». Но мы же ее не пропили, ту кобылу! Не на банкет деньги истратили. Купили пять штук часов, отрез на костюм, велосипед. Хорошо провели праздник! Принародно вручали премии!..
— Счета есть?
— А как же! И счета и расписки от тех, кого премировали.
— А в следующий раз — надумаешь свекловичниц премировать, что будешь продавать? «Победу»?.. Ладно, напиши заявление, оставь помощнику. Разберем.
Секретарь обкома раскрыл папку с бумагами, перелистал их.
— Так вот, товарищ Мартынов, я прочитал протокол вашего нашумевшего собрания партактива… — Он долго молчал, нахмурившись. Мартынов перестал отхлебывать чай, осторожно, чтоб не звякнуть ложечкой, отодвинул стакан. — Вот выступление Опёнкина… Вот еще выступления председателей колхозов… Неглупо… Но я с ними не согласен. Они, как хозяйственники, сугубо практические люди, все переводят на человеко-часы, в этом видят зло — в потере времени. А я, как партийный работник, вижу зло в другом… Самое страшное — не в потере времени… Если в организации такие болтуны, как ваш Коробкин, не в единственном числе, во что они могут превратить наши партсобрания? В школы пустословия?..
У Мартынова радостно забилось сердце.
— Алексей Петрович!..
— Погоди… Коробкины всерьез думают, что вот это и есть самая настоящая наша работа — произносить изо дня в день такие речи: «Корма — это основа животноводства!», «Свинья — полезное животное!» Создается видимость работы. Одни кричат так, что стены дрожат, другие бубнят эти же слова по бумажке — цена их речам одна. Пустословие — это душевная отрава, усыпляющий сознание дурман… Люди думают, что они действительно делают что-то нужное, полезное обществу. Что они таким образом руководят, воздействуют на колхозную жизнь. Отсидел на заседании шесть часов, и совесть его чиста — он сегодня славно поработал! Слушал речи о необходимости усиления массово-воспитательной работы в колхозах, сам выступал до хрипоты в горле, уставший идет домой пообедать, отдохнуть. А ведь это не работа — паразитическое приспособление к жизни. Убегание от настоящей работы в разговоры, болтовню о работе… Когда это пустозвонство становится специальностью, профессией некоторых наших товарищей — вот что самое опасное!..
Секретарь говорил ровным голосом, медленно, с большими паузами, как бы проверяя вслух перед самим собою и Мартыновым мысли, давно выношенные.
— Партсобрание, актив, пленум — не самоцель. Собрание мы проводим не ради самого собрания, а ради того, чтобы после него коммунисты ринулись в бой! В работу бы ринулись засучив рукава. Коллективно решаем дела большой важности, вскрываем недостатки нашей работы. На партсобраниях молодые коммунисты учатся впервые выступать с речами, убедительно, логично излагать свои мысли. Учатся ораторскому искусству. Чтоб потом выступать перед народом. Это тоже дело нужное: каждый коммунист должен быть пропагандистом, агитатором… Но не у Коробкиных же они должны учиться!
— В том-то и дело, Алексей Петрович! — сказал Мартынов. — Показная активность! Собрание проведено, выступления были, протокол написан — форма соблюдена. В чем, в чем, но уж в партийной работе формализм совершенно невыносим! С нас берут пример и комсомольцы и пионеры. Формализм бюрократизму — родной брат. А у Ленина в одном письме сказано: если что нас погубит, то именно бюрократизм. Этого-то мы, конечно, не допустим. Но Ленин предупредил нас, какая это серьезная опасность!..
Два коммуниста, два секретаря посмотрели друг другу в глаза долгим, изучающим взглядом. Им предстояло работать вместе, и, может быть, не один год. Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, Мартынову более чем приятно — радостно.
Секретарь обкома, пройдя по кабинету, остановился у большого окна, из которого с четвертого этажа открывался широкий вид на пригородные заводские новостройки, на заснеженные поля с перелесками на горизонте. Мартынов тоже встал, подошел к нему.
— А слово «оратор» — вообще-то слово неплохое, — сказал секретарь обкома. — Ораторское искусство — очень нужное нам искусство! Жаль, что оно в последнее время стало как-то принижаться. Все речи читаем по бумажке… Помнишь тридцатые годы? Хотя ты, пожалуй, тогда мальчишкой был…
— В тридцать втором в комсомол вступил. И то с нарушением Устава: года еще не выходили.
— Не пришлось организовывать первые колхозы? Ну, мне те времена очень памятны! Если бы мы тогда перед крестьянами бубнили речи, уткнувшись носом в бумажку, — вовлекли бы мы их в колхозы?.. Жесточайшая проверка была для руководителя. Не найдешь доходчивого к народу языка, не умеешь с людьми разговаривать, не увлечешь их за собою словом, делом, личным примером — и месяца не удержишься на своем посту, провалишься!.. Суесловие искореняй, товарищ Мартынов, но само слово «оратор» в обиду не давай! Это слово не для насмешек. Все старые революционеры были ораторами. Учить надо коммунистов этому искусству. Настоящих ораторов нужно ценить, как всяких художников своего дела!.. Да, насчет Голубкова. Больше он к вам не приедет. Это уже он не из первого района привозит нам жалобы на местное руководство, которые против него же оборачиваются. Мы его не оставим на партийной работе. Другому инструктору дадим ваш куст… Справился у нас в отделах со всеми делами? Ну что ж, поезжай домой.
Секретарь обкома пожал руку Мартынову.
— На днях приеду к вам в район. Побываем с тобою на «плохих собраниях», которых я не видел, подумаем, как сделать их хорошими… Да, поменьше бы надо агитировать друг друга, а побольше — живой работы с народом. Но ведь можно и слет передовиков, скажем, — самое живое дело, народ! — провести так, что пользы не будет ни на грош. Зачитать без огонька доклад, заготовить заранее всем речи — вот и казенщина, формализм!.. А ты горяч, товарищ Мартынов! Не укатали бы сивку крутые горки!
Мартынов даже вздрогнул, услышав опять эти слова. Не удержался, сказал секретарю обкома, что уже в третий раз слышит от разных людей это предостережение.
— А что же, пословица, и в применении к нам правильная, — ответил секретарь. — Я же не говорю: укатают, а — не укатали бы. Горки-то есть, чего нам на них глаза закрывать. Вот этот самый формализм с родным братцем бюрократизмом да еще всякие их родственнички — вот и горки… Ты, может быть, думаешь, что мне здесь легче? Выше должность — больше власти, больше силы в руках? Оно-то так. Силы больше, но и горки круче. В другом все масштабе. И у нас есть свои Коробкины. Да какие! Ваши нашим и в подметки не годятся. Им еще учиться да учиться у наших! Прямо — гроссмейстеры суесловия!.. Предложишь ему на бюро высказать точку зрения по какому-то вопросу — по персональному делу, что ли, — он встает и начинает метать громы и молнии. Интонация, глаза, жесты! Если слушать его издали, куда слова не долетают, можно подумать, что он выносит смертный приговор человеку. А он всего-навсего предлагает «указать». По интонации — Савонарола, обличитель пороков, а по смыслу речи — либерал, потатчик перерожденцам. Либо обсуждаем вопрос: согласиться или не согласиться с министерством по поводу такого-то строительства, не слишком ли растянуты сроки, может, изыщем резервы? Опять же он, при стенографистке, произнесет такую речь, которую потом, в случае чего, можно будет истолковать и так и этак. Не выдержим сокращенные сроки, и намылят нам шею — скажет: «Я предупреждал, как бы не обвинили нас в мальчишестве! Вот — стенограмма!» Похвалят за хорошие темпы — он и к этому примажется. Он был в основном «за»! И даже попытается всунуть свою фамилию в список на ордена. Артисты! И скажу тебе, Мартынов, трудновато таких артистов развенчивать. У них и стаж, и безукоризненная анкета, и диплом, и солидная осанка, и многолетнее пребывание в номенклатуре. И — связи. К сожалению, и в наше время не обходится без покровительства. У иного в Москве в каком-то могучем аппарате — приятель, свояк. Тронь его — телеграммы, звонки: «Представьте объяснения!», «На каком основании?» Докажешь, что это ничтожество, беспринципная, прости за выражение, сопля, избавишься от него, — глядишь, через некоторое время он выплывает в другой области, в той же должности!..
Секретарь обкома проводил Мартынова до двери.
— Пустословие — это еще не все, товарищ Мартынов. Это, так сказать, частность, признак обывательского отношения к партийной работе… Вот, скажем, в области готовятся к партийной конференции. Для настоящих коммунистов это подготовка к серьезному, большому событию в партийной жизни области. А сколько обывателей по-своему переживают эту подготовку: будут или нет большие перемены, то есть останется ли первый секретарь на своем посту? А какие наметки по отделам? Слоняются по кабинетам, шушукаются, разнюхивают: «Останется ли наш завотделом? Говорят, ему уже предлагали какую-то хозяйственную работу?.. Ну-у! Значит, другой будет… А меня как бы на периферию куда-нибудь не заслали. Эх, дурак, не дал согласия, когда предлагали банно-прачечный комбинат! Баня — это все же в городе. Как загонят в Грязновский район, к черту на кулички, вторым секретарем!..» Их не волнует, какое влияние окажет партийная конференция на жизнь области, какие будут после нее сдвиги, поправятся ли дела в отстающих колхозах. Их волнует лишь одно: как эти большие или малые перемены отразятся на их бренном существовании? Не сорвут ли их с насиженных мест? Не понизят ли в ранге, зарплате? Столоначальники!.. А в общем не подумай, товарищ Мартынов, что я плачусь тебе в жилетку. Я не жалуюсь на трудности. Я только говорю, что обывательщина в разных формах проявляется и трудновато с нею бороться. Трудно, но — не невозможно. А раз можно с нею бороться — давай бороться!..
1953
Своими руками
В районе, где работал Мартынов, было тридцать колхозов.
В сентябре 1953 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС, приковавший внимание всей страны к деревне. Но, естественно, решения этого Пленума не могли сразу же, немедленно сказаться на урожае, экономике колхозов, так как сельскохозяйственный год к тому времени был уже почти закончен.
В районе все еще была большая пестрота: доходы и стоимость трудодня в колхозах сильно разнились.
Было в районе пять по-настоящему передовых, богатых колхозов: «Власть Советов», где председательствовал Опёнкин, «Красный Октябрь», «Заря», «Большевик», «Спартак» — там председателями работали такие же старые, опытные хозяева, болельщики колхозного дела. Круто пошел в гору колхоз «Родина», куда райком послал бывшего лесника Дорохова. Выдвигался в передовые еще один колхоз — куда два года тому назад поехал, истосковавшись по земле, инструктор райкома партии Рязанцев, агроном по образованию.
Колхозов пятнадцать было средних. Председателями в них работали люди честные, трезвые, им нужно было только больше помогать, учить их всяким полезным новшествам.
В район прибывали из городов специалисты сельского хозяйства и неспециалисты — по зову партии.
Приехал из Москвы — из Министерства черной металлургии — инженер Долгушин, член партии с 1925 года, с назначением на должность директора Семидубовской МТС, на место старика Глотова. Кто-то там в отделе кадров министерства, заглянув в анкету Глотова, в графу «образование», решил, не спрашивая, как он работает, что его необходимо немедленно заменить инженером.
Мартынову удалось отстоять Глотова (разговаривал по телефону с секретарем обкома и даже с заместителем министра сельского хозяйства). Если в решениях сентябрьского Пленума ЦК сказано, что директоров-практиков, не имеющих высшего образования, можно оставлять на месте лишь в порядке исключения, то Глотов, по мнению Мартынова, и был именно таким исключением. За прошедшее лето Мартынов убедился уже, что Глотов может и хочет лучше работать, старик будто стряхнул с себя десяток лет, его МТС быстрее и лучше других справилась с уборкой, дала высший по району урожай, перевыполнила план вспашки под зябь. Кроме того, в Семидубовскую МТС уже прислали двух новичков на должности главного инженера и заведующего ремонтной мастерской, совершенно незнакомых с сельским хозяйством: одного — с железнодорожного транспорта, другого — с резинокомбината.
Долгушина послали в Надеждинскую МТС, где директор действительно не справлялся с работой.
Приехали два специалиста из аппарата Управления сельского хозяйства. Одного из них направили главным агрономом в Олешенскую МТС, другого порекомендовали в колхоз председателем. Перетрясли районные учреждения, высвободили из них несколько агрономов, зоотехников — всех послали на постоянную работу в колхозы.
И все же в районе оставалось колхозов семь, где надо было, не откладывая дела в долгий ящик, укрепить руководство, сменить председателей. Семь колхозов — немалая часть района по земельной площади и по населению — все еще прозябали на четырех-пяти центнерах урожайности, в безденежье, по уши в долгах. Надо было принимать какие-то крутые меры, чтобы вытянуть их.
По первым морозам Мартынов поехал в один из таких колхозов, в «Борьбу», самый отдаленный колхоз района, куда в иную погоду, в бездорожье, через топкие болота и залитые водою ольшаники и не доберешься ни на чем. Мартынов за время своей работы в районе бывал во всех колхозах по многу раз, бывал он и в «Борьбе», но все как-то проездом. На этот раз он, оставив все дела в райкоме на Медведева, прожил здесь три дня, ночевал не у председателя, а у колхозников, осмотрел все хозяйство, переговорил с десятками людей; вызвав из МТС ревизора, провел как бы следствие о причинах тяжелого положения в колхозе, не гнушаясь и сбором письменных заявлений, и очными ставками — для облегчения работы прокурору.
Уехал он из «Борьбы» потрясенный, взбешенный, до глубины души взволнованный тем, что увидел и услышал.
…Сколько раз приходилось Мартынову слышать от рядовых колхозников:
— Эх, товарищи руководители, не все вы знаете, что делается у нас в колхозах!..
— По одним сводкам нашей жизни не узнаешь!
— Все узнать — пуд соли с нами надо съесть!..
Кучка негодяев в «Борьбе» превратила колхоз в свою вотчину. Разложившимся пьяницам и жуликам было не до хозяйства.
Что бы ни выросло на полях, восемь ли центнеров зерна, четыре ли центнера, — для членов правления, бухгалтера и председателя ревизионной комиссии хватало тех «фондов», что оставались после хлебосдачи в амбарах и кладовых. Прошлой зимой, когда на фермах падал скот от бескормицы и колхозникам для их коров не выдали ни клочка соломы, у председателя и правленцев во дворах стояли стога наилучшего клеверного сена. За кур, гусей и баранов, съеденных на попойках, отвечали лисы и волки. У членов правления числилось «под отчетом» по пять — семь тысяч: это уже, сверх взятого из кассы и кладовых без учета и отчета, такие хищения, что и бухгалтер-сообщник не смог утаить.
Мартынова поразило, что колхозники никуда не писали, не жаловались на безобразия в колхозе. Потом он понял, почему не жаловались.
В «Борьбу» часто приезжал уполномоченный по разным кампаниям заместитель председателя райисполкома Федулов, большой любитель охоты и рыбной ловли. Всякий раз при отбытии его домой председатель колхоза Маркин организовывал на колхозном пруду рыбалку с ухой и выпивкой и на прощание запихивал в кабину райисполкомовского «газика» большую плетенку, доверху наполненную живыми карпами и карасями. Видя, что районное начальство в дружбе с их председателем, колхозники и не решались жаловаться в район. Несколько писем, посланных в областную газету, попали на расследование к тому же Федулову. Как же он мог дать ход этим жалобам, если ему самому, для строительства нового дома в городе, двери, оконные рамы и резьбу на крыльцо делали плотники в «Борьбе», бесплатно, по нарядам Маркина, из колхозного леса?.. Долго пришлось Мартынову вытягивать у колхозников слово за словом, пока, наконец, они убедились, что секретарь райкома всерьез хочет докопаться до причин разорения колхоза и не выдаст их на расправу Маркину и его собутыльникам.
Мартынов даже не представлял себе всего многообразия способов зажима критики и запугивания колхозников в таких забытых богом и районными руководителями глухих углах. Пока суд да дело, пока разберут твою жалобу (да еще по совести ли разберут), а тут председатель или бригадир со счетоводом так прижмут тебя, что света белого невзвидишь. И наряды будут давать тебе самые невыгодные по оплате работы, и табеля запутают так, что в конце года не досчитаешься половины трудодней и ничем не докажешь, что они у тебя были, и какие-нибудь старые грехи припомнят, оштрафуют в пятикратном размере за то колесо, что в прошлом году поломал, когда лошадь, испугавшись машины, перевернула воз.
Рассказывали колхозники: соберутся иной раз председатель, завхоз, бригадиры, одуревшие от беспробудного пьянства, сядут под чьей-нибудь хатой на завалинке и соображают, как бы похмелиться. Смотрят — корова подошла к колхозному стогу, ковыряет рогами сено. Есть зацепка. Загоняют корову на бригадный двор, отряжают гонца за хозяйкой: «Ну-ка, тетка Настя, плати пятьдесят рублей за потраву социалистической собственности», — и тут же пропивают гуртом эти деньги. И опять сидят, высматривают: не подойдут ли еще чьи-нибудь телок или корова к стогу?
А если надо попросить соломы перекрыть хату или лошадь съездить на базар — без пол-литра к бригадиру не ходи, это уж тут стало законом. Какие взятки? Просто — магарыч, по старому крестьянскому обычаю. Магарычами сопровождались и продажа сена на корню служащим и рабочим, и нарезка огородов колхозникам, и прием в колхоз, и перевыборы председателя. Только в последнем случае раскошеливались не колхозники, а правление. Дважды избирался Маркин в «Борьбе» председателем, и всякий раз после закрытия собрания слово предоставлялось бухгалтеру. Тот выходил наперед с туго набитым портфелем и раздавал всем проголосовавшим полноправным членам колхоза по десятке — на двести граммов.
Мартынов не верил своим ушам. Его мучили жгучий стыд, сознание глубокой вины перед колхозниками. Не было «сигналов» из колхоза?.. Сами виноваты, что отбили у колхозников даже охоту жаловаться. И инструкторы райкома приезжали сюда много раз, но, видимо, кроме оформления протоколов партсобраний, ничем другим не интересовались.
В «Борьбе» было двенадцать коммунистов — не маленькая партийная организация. Секретарь Могутный, он же начальник сельской пожарной команды, не мог активно бороться с пьянством, так как сам был грешен по этой части. Однажды в воскресный день прокатил по селу на дрожках-бегунках без колес: пока выпивал в хате у одной знакомой вдовы, мальчишки пооткручивали гайки на осях.
Председатель Маркин, завхоз Шарапов были членами партии, оба с 1947 года. Могутный жаловался Мартынову на районного прокурора:
— Пробовал я, товарищ Мартынов, прибрать тут кой-кого к рукам. Даю прокурору дело. Вот у Шарапова — на шесть тысяч растрат и всяких переборов. А прокурор говорит: «Не могу привлекать его, пока он не исключен. Такой порядок. Исключайте его из партии, тогда будем судить». Да как же исключать? Ты дай нам основание, подведи статью такую, чтоб и самые закадычные друзья-приятели не осмелились его защищать! Так и торгуемся. Я говорю: «Сначала заведите дело, потом исключим». А прокурор: «Сначала исключите, а я потом с ним расправлюсь». Как-то оно нескладно получается у нас, товарищ Мартынов. Если б беспартийный такое преступление совершил — судили бы его. С коммунистом же — тянем волокиту, и так и этак дело пересматриваем. Хотя оправданий ему нет никаких.
Из двенадцати коммунистов в «Борьбе» настоящих колхозников было меньше половины. Остальные все состояли «при должности»: кто весовщиком, кто заготовителем в сельпо, кто финагентом. Жены их имели меньше всех трудодней, ни одна не выработала минимума.
Были и неплохие коммунисты в колхозе: два рядовых колхозника братья Максимовы, бригадир строительной бригады Кульков, звеньевая Федотова, ветеринарный фельдшер Шумилов, член партии с 1924 года — ленинского призыва. На последних выборах правления они голосовали против рекомендованных уполномоченным кандидатур, доказывали, что, если доверить этим прощелыгам колхоз еще на год, они вконец его развалят. Уполномоченный Федулов расценил их выступления на собрании как направление к срыву выборов, а старика Шумилова предупредил, что он может поплатиться партбилетом за организацию в колхозе «антипартийного блока»…
Поздним вечером в райкоме сидели Мартынов, Медведев и Руденко.
Мартынова после поездки в «Борьбу» несколько ночей мучила бессонница, он даже заметно похудел, под глазами легли синие круги. Но в этот вечер он был оживлен, почти весел, — долго обдумывал, что делать с такими колхозами, как «Борьба», но, видимо, уже что-то решил.
— В других наших неблагополучных колхозах тоже в какой-то стадии те же болезни, что в «Борьбе», — говорил Мартынов. — Тут-то и причина всех неурядиц! Где в руководстве колхоза пьяницы, шляпы, там и ворам привольно орудовать. А чаще всего бывает: эти самые разгульные пьяницы — они же и воры… Нашего прокурора Нечипуренко бы председателем в «Борьбу»!
— Он не в нашей номенклатуре, — возразил Медведев. — Юриспруденция. Мы не вправе послать его председателем.
— Коммунист, член нашего райкома, — как же не вправе? Того не вправе послать в колхоз, другого не вправе — кто же в первую очередь кадрами коммунистов распоряжается?..
Мартынов долго молча сидел за столом, повернувшись к окну, пуская дым от папиросы в открытую форточку, и, когда начал говорить, не глядя на Руденко и Медведева, говорил как бы сам с собою — мысли вслух.
— Этой осенью дела у нас пошли лучше. Сентябрьский Пленум. Такие хорошие решения. Народ поднялся. Озимые посеяли вовремя. Всюду вспахали под зябь полностью, чего у нас давно не было. Весною с севом будет легче… Старые трактористы вернутся на машины. За зиму сделаем много. Весенний сев проведем хорошо. Будут сдвиги… Но если кто-нибудь попытается сразу же, после первых успехов, ударить в литавры по поводу блестящего выполнения решений Пленума — ох, как это вредно для дела! Эти решения еще выполнять да выполнять! До самой сути мы еще не добрались… Кому выгодно поднять преждевременно шум о наших успехах? Тому, кто хочет, чтобы поскорее закончилась эта «кампания» укрепления кадров в деревне. Уже, мол, все сделано. Всюду прекрасные секретари райкомов, умницы директора МТС, а председатели колхозов — прямо академики! Скорее бы угомонились, кончили эти пертурбации с кадрами, — чтоб его самого, не дай бог, не послали в деревню. Вот кому выгодно…
Главного мы еще не сделали. Кадры, кадры. В этом — все!.. Я считаю, Иван Фомич и Василий Михалыч, — круто повернулся в кресле Мартынов, — то, что мы сделали пока в районе, — это полумеры. Ну что мы сделали? Вытащили часть агрономов из контор, направили их в колхозы. Из области прислали нам несколько человек на работу в село — и все. Хотим отыграться на специалистах и на этих товарищах, приехавших из городов? И будем их спустя месяц вызывать на бюро и требовать коренного перелома?.. А из партийного актива кого мы послали в колхозы? Ведь в первую голову ответственны за тяжелое положение в отстающих колхозах мы, местный партийный актив, члены райкома. Да и не только потому ехать нам в колхозы, что мы допускали ошибки. Не в наказание. Ведь в райком на конференции избрали лучших коммунистов. Из райкома и надо брать кадры… Для таких колхозов, как «Борьба», нужны крупные фигуры. Там железной рукой надо наводить порядок… Распустим, Фомич, райком, райисполком, закроем кабинеты на замки, лучших своих работников отдадим в колхозы. А?..
Развалившийся на диване в усталой позе Руденко пошевелился.
— Тогда уж и нам с тобою идти в председатели. Закрывать так закрывать! Как в гражданскую войну закрывались комсомольские комитеты. Надпись на дверях: «Все ушли на фронт!»…
— Нет, без шуток… Не подумайте, что я действительно собираюсь ликвидировать районные организации. У меня есть план: как и колхозы укрепить, и район пополнить новыми кадрами. Держу кое-что на прицеле.
— Что?
— А вот что. Когда мы с тобою останемся без заведующих отделами, а райком, может быть, даже без второго секретаря, — Мартынов бросил быстрый испытующий взгляд на Медведева, — тогда у нас будут основания просить область, чтоб подбросили нам хороших работников. Да, нету никого, оголили все учреждения. Может, наглупили мы, перегнули палку, но что поделаешь, послали уже товарищей в деревню. Бейте нас, если наглупили, но теперь уж их не вернешь назад. Колхозная демократия. Избраны уже на законных собраниях. Перегнули, каемся, но что же теперь делать? Выручайте нас, давайте нам людей в районный аппарат. Вот. Понятно?.. А когда область укрепит кадрами районы за счет своих учреждений, и у обкома будет законная причина просить ЦК о том же. Пусть дают в область больше людей из центральных аппаратов, из разных министерств. Так оно и пойдет — волнами, перекатами сверху вниз: из районов в колхозы, из области в районы, из Москвы в область — все ж ближе к деревне…
— Значит, и меня хотите выдвинуть в председатели? — криво усмехнувшись, сказал Медведев.
Мартынов нахмурился.
— Почему же, Василий Михалыч, иронизируешь: «выдвинуть»? Вот до тех пор, пока мы не сломим такого пренебрежительного отношения к должности председателя колхоза, — вспылил он, — ничего у нас не выйдет. В самих себе, оказывается, надо ломать это аристократическое пренебрежение… Ну, оставайся ты в райкоме за первого, а я пойду в колхоз. Надо же кому-то начинать.
— А есть в этом необходимость, чтобы нам именно начинать?
— Есть! Именно потому, что ты усмехаешься, когда говорим: самое почетное дело сегодня — быть председателем колхоза. Ты — усмехаешься. А чего же от других требовать? Черт побери! Директор завода — должность уважаемая, авторитетная. И ты, Василий Михалыч, небось не обиделся бы, если б тебе предложили пост директора Магнитки. А колхоз с пятью тысячами гектаров земли, это что — не масштабная работа?.. Да, именно нам надо начинать. Не тебе, так мне… Что молчишь, Фомич? Спишь?
— Нет, не сплю. Думаю, — отозвался Руденко.
— Согласен со мною?
Руденко помолчал.
— Иван Фомич боится, как бы ты и до него не добрался, — с той же нехорошей, кислой усмешкой сказал Медведев. — Он меня жалеет. Если он проголосует за то, чтобы мне в колхоз ехать, я же скажу: «И Руденко посылайте председателем, что ж он, меньше меня, городского учителя, знает сельское хозяйство?..»
— Ну, братцы, — встал Мартынов, — если мы, члены бюро, будем вот так в молчанку играть, друг друга «жалеть», тогда иначе сделаем. На партактиве будем решать.
— Партактив неправомочен решать за райком, — возразил Медведев.
— Ничего. Дело не в форме — в существе. Надо же как-то ломать лед. — Мартынов сделал пометку в настольном календаре. — Созовем партактив восемнадцатого, в пятницу. Я сделаю доклад о ходе выполнения решений сентябрьского Пленума. Минут двадцать дадите мне для доклада, больше не нужно. И приступим сразу к практическим делам.
Часа в два ночи Руденко позвонил Мартынову на квартиру:
— Спал, Илларионыч? Прости, что разбудил. А мне не спится… Оделся бы, вышел, а? Походим, поговорим. Дело есть. До утра? Боюсь, до утра передумаю, а сейчас, если скажу тебе, значит — все, отрезал!
Не совсем проснувшийся Мартынов что-то невнятно ответил на вопрос жены, куда он уходит, оделся и вышел на улицу. Руденко ждал его уже у ворот. Пошли по скверу.
— Знаешь, почему я промолчал, Илларионыч? — заговорил Руденко. — Медведев не та фигура, с которой нужно начинать. Странный он какой-то человек. Вот уж год работает у нас — ничего о нем не скажешь ни хорошего, ни плохого. Был учителем, кому-то вздумалось выдвинуть его на партийную работу. Какие у него к этому обнаружились таланты? Спрашивал я про него товарищей из Низовска. И там, в горкоме, ничем особенным себя не проявил. Аккуратист, резолюцию грамотно напишет, лекцию прочитает — это он умеет. Не знаю, как ты считаешь, но, по-моему, колхоза он не потянет. Не организатор. Да и сельского хозяйства не знает.
— Год работает в сельском районе.
— Ну, видишь ли, кой-чему поверхностно он за это время научился, но такого знания, как у хлебороба, изнутри — у него нет.
— Как же мы Долгушину, не хлеборобу, доверили МТС? Тринадцать колхозов?
— У Долгушина, я уж заметил, мертвая хватка на все новое. Он ночь просидит за брошюрами о возделывании сахарной свеклы, а утром со старым агрономом уже поспорит, по каким предшественникам ее лучше сеять и какие посевы можно, а какие нельзя букетировать. Долгушин хочет работать в деревне. А у Медведева душа к ней не лежит. За год не было случая, чтоб он остался где-то в колхозе заночевать. Блох боится. Зачем же его — в колхоз?..
— К чему ты речь ведешь? За этим только и вызвал меня среди ночи, как девушку на свиданье? О Медведеве рассказать? Я его не меньше тебя знаю.
— Не о Медведеве хочу рассказать — о себе… Если нужно, как ты говоришь, лед ломать, давай я выступлю на партактиве и попрошу послать меня в колхоз. Дайте мне один из самых отстающих, но чтоб были там возможности, земли много, чтоб было, в общем, где развернуться. «Вехи коммунизма» дайте или «Память декабристов». За год не ручаюсь, не сделаю, время нужно. А через два года весь район будешь возить к нам на экскурсии.
Мартынов остановился, взял Руденко за плечо, повернул его лицом к себе:
— Серьезно, Фомич?
— Серьезно, Илларионыч.
— Ну, спасибо, друг!.. Ох, как это важно сейчас: лучших из лучших коммунистов послать председателями колхозов! Ведь нам теперь все дано, о чем мечтали мы. Дело теперь — в методах руководства…
— Ладно, еще меня будешь агитировать! Это у меня, брат, уже не первую ночь подушка под головой вертится. Тоже не раз думал: не так мы решаем вопрос о кадрах, как сентябрьский Пленум требует! И еще скажу тебе по совести: не удовлетворяет меня работа в райисполкоме. Может, не хватает мне кругозора, не по плечу эта должность, но с тобою мне очень трудно. Не выскочишь поперед тебя. Только надумаешь провернуть что-нибудь новое, а ты уж это дело обмозговал, у тебя уже конкретные предложения. За чужой головой хоть и легче жить, но скучно… Не вышел из меня хороший глава Советской власти, сам чувствую. Так — придаток к райкому. Член бюро для голосования. В общем, не по Сеньке шапка. А сейчас, как я понимаю, Советы нужно укреплять. Все разъедутся по местам, в райкоме и заседания не с кем будет проводить. Да и не нужно там часто заседать. Девяносто процентов тех хозяйственных вопросов, что решали на бюро, надо решать в исполкоме — смело, ответственно! Ну, я этого не охвачу, честно признаюсь… А колхоз — это мое кровное. И бригадиром был, и полеводом, и председателем сельсовета. Урожаи собирал по двадцать центнеров, когда полеводом работал… Решено, поеду в колхоз!
— Решено-то решено… А я с кем останусь?
— Действуй по намеченному плану. Звони в область, кричи: «Караул! Остались без председателя райисполкома, видите, что делаем, — никого не жалеем для колхозов. Давайте нам теперь кого-нибудь из областных работников»… Вот только у меня, Илларионыч, одно затруднение. Тут уж ты мне помоги…
— В чем затруднение?
— Жена… Не говорил еще с нею. Не знаю, как она к этому отнесется. Варвара Федоровна сама крестьянка, колхозница… Тут, видишь, в чем дело — нет у нее никакой специальности. Будь она учительница или врач — сразу нашли бы ей место и работала бы там в селе, без нареканий. А без специальности, что ж — придется ей в поле ходить. А как иначе? Что колхозницы скажут: «Жены начальников не работают, а нас заставляете!» Она-то у меня не старуха, не инвалид. В тридцать девятом году рекорды ставила на вязке снопов. И сейчас, как вытянет меня на наш огород, картошку окучивать, я рядок пройду, она — три. Но не знаю все же, что она отпоет мне насчет колхоза. Характер у нее, ты знаешь, не ангельский… Давай вместе поговорим с нею? Вот на ком испробуй свои агитаторские таланты!.. Только не говори, что я сам напросился. Скажи, что это по решению бюро, если откажусь — худо мне будет. Тут-то она, конечно, призадумается. Будет, конечно, кричать: «Если моего Ивана в колхоз, тогда и этого пузана Куркова посылайте! И этого лоботряса Коробкина!» Всех переберет. Может, и до тебя доберется. В общем, приходи вечером к нам. Поужинаем вместе. Она любит, когда к нам гости приходят, при гостях добрее становится.
Вечером на квартире у Руденко, за ужином, Мартынов издалека завел речь о необходимости укрепления руководящих колхозных кадров:
— Помнишь, Иван Фомич, какие были орлы председатели колхозов в первые годы коллективизации? Или, может, потому, что я сам тогда был мальчишкой — все люди вокруг казались мне богатырями? Нет, на самом деле, в то время выбирали председателями лучших сельских активистов. Энтузиасты! Вожаки! Организаторы! Потом многие из них пошли на выдвижение. Торопились их выдвигать. Смотрят: э, нет, этот человек слишком хорош для колхоза, надо дать ему работы помасштабнее. В район его, в область!.. «Слишком хорош»!.. Вот из нынешних стариков председателей, знаменитых на всю страну, многие удержались на месте только потому, что сопротивлялись «выдвижению» — до скандала! «Пригрелся в теплом уголку! Не хочешь расти? Боишься ответственности?» Да где же еще больше ответственности, как не в колхозе, где от твоей работы зависит благополучие тысяч людей? И разве рост только в том заключается, чтоб с каждым годом на чин выше подниматься? Можно бригадиром быть всю жизнь и беспрерывно расти — все лучше и лучше работать, больше брать богатств от земли, науку, культуру внедрять в производство!..
— Правильно говоришь, Петр Илларионыч, — соглашался Руденко. — В старой армии, говорят, бывало, десять — пятнадцать лет командовал офицер батареей, и не спешили делать его командиром полка. Кто же ведет огонь в бою по врагу, как не батарея? Вот там-то и нужны мастера! И он, этот офицер, так знает свое дело! Будет спать пьяный в стельку, крикни ночью: «Противник там-то, отметка такая-то!» — не раскрывая глаз, правильно подаст команду.
— Почему же, Фомич, измельчали у нас местами кадры председателей колхозов? — продолжал Мартынов, подавая чашку Варваре Федоровне, разливавшей чай из старинного, семейного, ведра на два, самовара.
— Ну, почему. Сам же говоришь — «повыдвинули» многих. А сколько хороших председателей погибло в Отечественную войну на фронте и в партизанах? Лучшие люди ведь и на фронте в первых рядах шли. Опять же — мало внимания обращали на учебу колхозных кадров.
— Я думаю, Фомич, через некоторое время мы добьемся, что должность председателя колхоза станет самой почетной на селе! — сказал Мартынов. — Позором будет считаться, если человек не сгодился в председатели. Как же так — был ответработником крупного масштаба, а народ не доверяет тебе колхоза? Те, которых мы будем рекомендовать в председатели, уже не самого колхоза будут бояться, а как бы их там колхозники не прокатили на вороных!
— Да, да! И еще вот что может случиться, мать, слышишь? — Руденко тронул за плечо жену. — Кто сейчас артачится, не хочет идти в председатели — ошибается! Это не кампания, этому делу конца не видно. Укрепим кадры председателей колхозов — возьмемся за бригадиров. Сегодня отказываешься от колхоза — завтра тебе бригаду предложат.
— Так и будет, — подтвердил Мартынов. — Раз уж решено брать с больших постов лучших работников и посылать их в деревню — на полпути не остановимся. И бригады будем укреплять хорошими коммунистами.
Варвара Федоровна, женщина лет сорока, сухощавая, но широкая в кости, смуглая, с суровыми, резкими чертами лица, густыми черными бровями, крутым подбородком, резала хлеб, подкладывала варенья в розетки, спокойно перехватывая убеждающие, «агитирующие» взгляды Руденко и Мартынова.
— А что, мать, — откашлявшись, голосом, сиповатым от неуверенности в благополучном исходе их мирной застольной беседы, сказал Руденко, — может, и мне взять колхоз?.. Что нам — привыкать к сельской жизни? Пусть ее другие боятся, а мы в деревне родились и выросли. А?.. Пока не поздно.
— Почему — пока не поздно? — спросила Варвара Федоровна.
— Да вот, говорим, пока не дошло дело до бригады.
Вопреки ожиданиям Руденко, ничего особенного не случилось.
— Бригады боишься? Не бойся! — махнула рукой Варвара Федоровна. — Как видно, к тому идет, что скоро вам, таким руководителям, колхозники и звена не доверят. Куриной фермы не доверят!..
Мартынов и Руденко переглянулись.
— Чего вы тут старались, целый час мне разъясняли: «Председатель колхоза — самая почетная должность!», «Лучших коммунистов надо послать председателями!» Коробкину, Жбанову разъясняйте, да их женам, белоручкам, что маникюр каждую субботу наводят!.. Думаешь, Иван, я не знаю, что ты дал согласие на колхоз?
— Ты знаешь? Откуда? Кто тебе рассказал?..
— Да ты же сам и рассказал.
Руденко молча, в недоумении, развел руками.
— Вот за что хорош муж у меня, — обратилась Варвара Федоровна к Мартынову. — Если приглянется ему какая женщина, еще не успеет согрешить, только подумает, а я уж знаю — ночью во сне все выболтает. Или болезнь это у него, или, может, тяжело ему работать в райисполкоме, перегрузка на мозги — всю ночь бредит. Да ты мне, Иван, — круто повернулась к мужу, — целую неделю уже спать не даешь! Только и слышу: «Если мы не возьмем это дело в свои руки — кто ж возьмет?»… «Мы виноваты — нам и исправлять»… Истинно так! Вам исправлять. Ты тут шесть лет в райисполкоме сидишь, всех пересидел. А много ли пользы принес колхозам? У вас в руках и власть и законы, да что-то вас не очень слушают. Заседаете, постановления пишете, телефонограммы бьете — как об стенку горохом! Кто ж будет выполнять ваши постановления в таких колхозах, как «Красный пахарь», куда нас, городских домохозяек, посылали осенью свеклу копать? Этот обормот Анучкин? Ни шалашей у них в поле, ни воды не подвозят, не заботятся о людях, негодяи! Из ваших постановлений цигарки крутят. Расписываете их, трудитесь — для кого? Тумба бездушная сидит в председательском кресле, сивухой насквозь провоняла. Гнать их поганой метлой, таких паразитов, разорителей колхозной жизни! А вам самим — на их место садиться… Езжай в колхоз, бери какой потруднее — может, совесть у тебя успокоится, не будешь по ночам за голову хвататься.
— А ты? — спросил Руденко, не совсем еще доверяя такому быстрому согласию жены.
— Езжай, говорю. Попутный ветер! И мне не стыдно будет от баб. Пойдешь на базар курицу купить, слышишь, колхозницы говорят: «Вот Руденчиха, председательша, ходит, ищет курочку пожирнее, щупает. Откуда же им быть жирными, когда кормить нечем».
— Но ты-то поедешь со мною в колхоз? — повторил свой вопрос Руденко.
— А что ж, думаешь, развод дам?.. Чтоб ты там на какой-нибудь молоденькой звеньевой женился?
— Поедешь? Ну, смотри… Учти, Варя, что мне, как председателю колхоза, неудобно требовать от других дисциплины, если моя жена не будет ходить в поле. У тебя ж больше нет никакой специальности. Там тебе придется физической работой заниматься.
— А здесь я какой работой занимаюсь, умственной, что ли? Подштанники тебе стираю — головою?.. Черт рыжий! — вскипела наконец Варвара Федоровна (у Руденко действительно волосы были цвета золота девяносто шестой пробы). — От кого слышу про физическую работу! Пугает меня! Да кто же у нас дома этой самой физической занимается? Ты, что ли, заседатель? Вот они, руки, — кинула перед собою на стол вверх ладонями руки, большие, сильные, натруженные, в царапинах и мозолях. — Вот! А тебе свои мозоли и показать неудобно — не на том месте… Кто за зиму десять кубометров дров переколол? Выйдет утром, расколет одно полешко, кряхтит, пыхтит: «Ох, поясница болит, почки, седалищные нервы, радикулит…» Избаловались, изнежились в теплых кабинетах! Кто сарай перекрыл толем? Ты, что ли? Кто погреб вырыл? Кто картошку копал, возил?.. Там на поле хоть отметят мой труд. Я там еще не один рекорд поставлю! Орден, может, заслужу. А тут — целый день мотаешься как угорелая, и никто твою работу в грош не оценит. Хоть бы когда-нибудь щи мои похвалил: «Ну, Вареха, молодец, щи хорошие ты сегодня сварила!»
Мартынов в веселом изумлении пожал плечами:
— Фомич, как же это получается? Боялся — что скажет Варвара Федоровна?.. Настроения собственной жены не знаешь!
— Откуда же ему знать мое настроение, Петр Илларионыч! — с горячим укором сказала Варвара Федоровна. — Я уж и не помню, когда мы с ним по душам о чем-нибудь таком жизненном поговорили. Уходит рано, приходит поздно, либо книжку читает молча, про себя, либо — спать. Выйдет какое-нибудь постановление правительства — едете в колхозы, собрания проводите, а с нами об этих делах не беседуете. Ну, мы и сами грамотные, читаем газеты, разбираемся, что к чему… Может, вы думаете, что нам, женам, неинтересно, что у вас в районе делается? Не знаем, кого за что покритиковали? Не переживаем за вас? Не хотим вам помочь? Эх вы, умники-разумники!.. Пойдем в колхоз. Только одним моим Иваном, Петр Илларионыч, не отбудете! Тут многие товарищи геморрои да ишиасы понаживали на заседаниях. Туда их, в село! Пораньше вставать, пешечком по полям — на свежем воздухе все болячки заживут!..
На прощанье Мартынов спросил у жены Руденко:
— Все же скажи, Варвара Федоровна, почему ты считаешь, что мы плохо руководим районом?
— А то хорошо? — с вызовом ответила Варвара Федоровна. — Сколько у вас таких колхозов, где и в этом году дадут на трудодень граммы? Я смотрела сводку! Да когда ж это кончится? Разве ж можно с этим мириться, пусть даже в одном только колхозе останется такое безобразие! И там ведь — живые люди! В среднем, подсчитываете, по району выдали столько-то. Это все равно как бы, к примеру, вот я живу очень хорошо, а моя соседка, вдова, больная, очень плохо, — значит, можно считать, что в среднем мы с соседкой живем хорошо? Нет, чужой юбкой своей наготы не прикроешь!.. Дожидались сентябрьского Пленума! Сейчас только спохватились, начинаете посылать в колхозы стоящих людей, а не шантрапу всякую, самогонщиков! А о чем раньше думали? Не могли дойти до этого своим умом?..
— Да видишь ли, Варвара Федоровна, — возразил Мартынов, — если бы мы раньше затеяли то, что хотим вот сейчас сделать, нас, возможно, назвали бы загибщиками. Да и сейчас не знаю еще, как пойдет…
Руденко вышел проводить Мартынова за ворота.
— Ну, уговорили Варвару Федоровну, — сказал Мартынов.
— Уговорили!..
И оба расхохотались на всю улицу так громко, что в доме напротив открылась форточка и чья-то любопытная голова высунулась поглядеть — что там за веселье такое, возле квартиры председателя райисполкома, среди ночи?..
На собрании районного партийного актива Мартынов даже не использовал отведенных ему по регламенту двадцати минут — докладывал ровно семнадцать минут.
— Решения сентябрьского Пленума вы все читали. Нет надобности их пересказывать. Плохо мы выполняем решения Пленума. Не выполнили до сих пор главного: не укрепили все колхозы отборными кадрами. Давайте подумаем, как это сделать. И сделать, не теряя больше ни одного дня. Вот колхозы, — Мартынов зачитал список, — где, по нашему мнению, нужно немедленно сменить председателей.
Он рассказал собранию о положении дел в колхозе «Борьба».
— Кто может навести там порядок? Человек решительный, преданный делу колхозного строительства, честный, настоящий коммунист. С его помощью мы оздоровим там и партийную организацию.
— Там этих разложившихся повыгонять надо! — раздались голоса из зала.
— Для чего они примазались к партии?..
— На рядовых работах их проверить — достойны ли они называться коммунистами?
— Давайте приступим сразу к делу, — заключил Мартынов. — Выберем комиссию для подработки проекта решения, и пусть эта комиссия, невзирая ни на какие высокие посты, продумает: кого из нашего партийного актива следует послать в колхозы на постоянную работу. Предлагаю в состав комиссии: Опёнкина, Руденко, Глотова, Медведева… — Мартынов назвал еще трех председателей колхозов, редактора районной газеты Посохова, секретаря райкома по зоне Олешенской МТС Кольцова, нового директора Надеждинской МТС Долгушина.
Проголосовали.
— Созыв за товарищем Опёнкиным. Пока сделаем перерыв минут на сорок. Далеко не расходитесь. А потом откроем прения уже по проекту.
— Эх, — крякнул, улыбаясь, усевшись в кресло, толстяк Опёнкин, когда комиссия удалилась из зала в отдельную комнату. — Сколько раз участвовал я в таких комиссиях, но на этот раз, кажется, буду писать резолюцию с удовольствием! Наконец-то делом занялись!
— Одобряете, Христофор Данилыч? — обратился Мартынов к директору Надеждинской МТС Долгушину.
Долгушин, черноволосый, с проседью, с цыганскими глазами (кто-то в роду у него был из цыган), с глубоким рваным шрамом на щеке, искривившим рот, сняв пиджак, аккуратно повесив его на спинку стула, подтянув рукава свежевыглаженной рубашки, присел к столу.
— Вполне одобряю, Петр Илларионыч! Я, директор МТС, отвечаю не только за свой тракторный парк — отвечаю за все колхозы нашей зоны. Отвечаю даже больше, чем вы, первый секретарь райкома, — и в уголовном порядке отвечаю. Так дайте же мне хороших председателей колхозов, на которых я бы мог положиться!
— «Мне дайте», — прошептал на ухо Глотову Медведев. — Ишь ты! Министерская привычка. Он думает, вероятно, руководить колхозами путем приказов. А председателей — поставить на положение своих помощников.
— Пиши, Демьян Васильевич, — начал диктовать Руденко: — «Собрание партактива считает необходимым для успешного выполнения решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС послать ряд руководящих товарищей в отстающие колхозы… Собрание принимает к сведению заявление товарища Руденко о его желании поехать в любой колхоз на постоянную работу в качестве председателя…»
— Вот это здорово! — воскликнул с восхищением Глотов. — Ход королем!
— Так, так, Фомич! — склонив голову набок, скреб пером по бумаге Опёнкин. — Был колхозником — и опять в колхоз. От земли взят, в землю изыдеши. Хорошее дело! Валяй! Бери «Вехи коммунизма», по соседству, посоревнуемся!..
— О причинах, побуждающих меня идти на работу в колхоз, я доложу товарищам на собрании, — сказал Руденко. — Пиши дальше.
— Пиши, — стал диктовать Мартынов: — «Собрание считает также, что для пользы дела следовало бы поехать на постоянную работу в колхозы коммунистам…» Посохов! — обернулся он к редактору районной газеты. — Фотоаппарат при тебе? Будем фотографировать добровольцев и ночью же — в номер. Весь завтрашний номер — о добровольцах!.. «Следовало бы поехать товарищам…»
После небольшого раздумья Мартынов и члены комиссии стали называть фамилии. В список попали: заведующие отделами райкома Жбанов и Быстров, райпрокурор Нечипуренко, заведующий райфо Курков, начальник милиции Сазонов, управляющий госбанком Щукин, директор ликероводочного завода Юрьев, зампредрайисполкома Федулов, судья Грибов, секретарь райкома комсомола Рыжков, заведующий отделом сельского строительства Коробкин, инспектор по определению урожайности Бывалых, директор мясокомбината Корягин, заведующий районо Плотников и инструктор райкома партии Николенко.
— Так это у нас добровольцев набралось даже больше, чем нужно, — сказал Опёнкин, подводя черту.
— Добровольцев? А ты не шути. Вот поговорим ними по душам — и будут добровольцами.
— Больше, чем нужно, это не беда — в запасе будут.
Просмотрели еще раз список. Опёнкин, зачитывая фамилии, давал каждому короткую, но меткую характеристику.
— Жбанов… Неврастеник. Не умеет спокойно с людьми разговаривать. Колхозницы кричат, а он еще пуще. Какой-то он тонкокостный, вроде этих остфризских бруцеллезных коров. Выдержит ли в деревне — без теплой уборной? Сядет на ветру — и воспаление легких схватит… Щукин — гож, пойдет! Из колхозных бухгалтеров выдвинулся в управляющие госбанком. Уж он-то колхозные финансы знает! Будет беречь колхозную копейку. А меня бы — на его место, в госбанк. Вот бы я его прижал безналичными расчетами!.. Сазонов. Давно бы надо было послать его председателем! Бывший тракторист и председателем колхоза работал, майор, три ордена Славы, — чего его занесло после войны в милицию? Да я же наблюдал за ним. Как увидит новый трактор, дизель, дрожит весь — так хочется ему землю пахать!.. Юрьев. Редкий человек. Директор ликероводочного завода и не пьет. Говорит, только в воскресенье перед обедом — сто грамм перцовки. Побольше бы с такими твердыми характерами в колхозы!.. Коробкин. Ну, зачем этого пустозвона? В колхозе же надо дело делать. Как его жизнь протекает? В райисполкоме за него люди работают, а он — вечный уполномоченный. Безответственное занятие. Ходит за председателем колхоза и зудит: «Надо нажать! Мобилизовать!» А запрети ему болтать, брось его в гущу массы, заставь самого мобилизовывать — он же пропадет, как голый на морозе!
— Оставим его пока в списке, для проверки — как он сам к этому отнесется, — сказал Мартынов. — Надо же нам наконец и маски снять с некоторых «активистов». Двух зайцев убьем.
— Судья Грибов. Толковый дядька. Спокойный. Смотрит на человека — насквозь его видит. Двадцать лет в партии. Поймет, что сейчас нужно всем на передовую идти… Рыжков. Конечно, в колхоз его! Такому молодому парню с этих лет засесть в канцелярии? Надо же и практически поработать, свежим воздухом подышать. Есть в комсомоле второй секретарь? Вот второй останется пока за него… Бывалых? Да-а… «Солдат» партии. Мне про него рассказывали наши соседи, черемшанцы. Его уже возили раз в колхоз, когда он в их районе работал. Так он что заявил там, на собрании! «Что ж, — говорит колхозникам, — я солдат партии, подчиняюсь решению райкома. Выбирайте меня председателем. Зарплату будете платить вы, из колхозной кассы, а сельского хозяйства я не знаю, не специалист, колхоз ваш угроблю, так что, может, денег только на зарплату мне и хватит». Не выбрали. Ухарь! Не специалист. А к нам приехал на должность инспектора по урожайности. Как же так? Определить правильно урожайность по корню сможет только опытный хлебороб!..
— Тоже оставим, для проверки, — сделал отметку в списке Мартынов.
— Федулов…
— Этого отведем, — сказал Мартынов, и вся комиссия согласилась с ним. — Тут уж нечего проверять. Покровительствовал ворам в «Борьбе». Из партии будем гнать! И опубликуем решение в газете. Покажем всем, что надо оберегать колхозы от таких, нечистых на руку, как от чумы!..
Когда огласили проект решения партактива и список намеченных к посылке на постоянную работу в колхозы, в переполненном зале Дома культуры минуты три стояла гробовая тишина. Первым нарушил тишину районный прокурор Нечипуренко.
— Та-ак, — протянул он неестественным, сдавленным голосом, будто у него что-то застряло в горле. — Значит, ликвидируем райцентр! В том числе и органы юстиции? К коммунизму подошли? Отмирание государства?..
— Вот теперь давайте откроем прения, — оставив его реплику без ответа, сказал Мартынов. — Есть пища для разговора. Не вообще будем рассуждать о новом подъеме сельского хозяйства, а решим здесь — что мы должны сделать для этого подъема. Сделать собственным трудом, руками, а не языком.
Слово попросил Руденко.
Он заметно волновался, не от робости перед большим собранием — сто раз выступал он с речами перед такими собраниями, — а от сознания важности минуты, важности принятого им решения.
— Я, товарищи, действительно сам, без всякого нажима со стороны бюро райкома, заявил о своем желании пойти работать в колхоз председателем, — начал он. — Что меня заставило?.. Если бы я стал здесь говорить вам, что мне в городе жить надоело, очень хочется переселиться из города в село, что иду я в колхоз с восторгом, — это было бы вранье… Кхм, кхм… — Прокашлялся, отпил воды из стакана. — Не знаю, как через несколько лет: может, тогда меня и клещами не вытянете из колхоза, когда сделаю уже там что-то видное, но сейчас, сказать честно, сам себя тяну за шиворот туда.
Редактор районной газеты Посохов, неплохой рисовальщик, тут же набросал дружеский шарж для «Колючки»: Руденко тянет одной рукой за шиворот, другой подталкивает себя в спину вперед по дороге, по направлению стрелки-указателя на столбе — «В колхоз!» Через пять минут рисунок уже висел в фойе, приколотый к фанерной доске для всеобщего обозрения во время перерыва.
Руденко продолжал:
— В общем, не с таким удовольствием еду в колхоз, как к теще в гости на блины. Я ведь поеду не во «Власть Советов», не в «Красный Октябрь», на готовое, а в какой-то колхоз из тех, о которых тут товарищ Мартынов говорил. Придется поработать очень напряженно. На первых порах и за хозяйственника и за прокурора. Это я все ясно себе представляю — как будет трудно. И вижу, что надо сделать, чтобы стало легче. Поднять материальную заинтересованность колхозников — и пойдет дело, завертится машина. Но для того, чтобы осталось в колхозе много хлеба после поставок, надо вырастить высокий урожай. А высокого урожая можно добиться лишь в том случае, если люди очень хорошо поработают, веря, что их труд не пропадет. Но в тех колхозах, где мы слишком долго держали в руководстве бездельников, люди потеряли веру в трудодень, потому и работают плохо. Видите, как оно запуталось, дело. Ее надо укрепить, эту веру в трудодень! Иначе мы не вытянем такие колхозы!.. Так вот, почему же я, товарищи, невзирая на трудности, решил идти работать в отстающий колхоз? Да потому, что, если мы только будем изучать решения сентябрьского Пленума на наших партсобраниях, этого мало. Разъяснять их колхозникам — дело очень нужное, но и этого мало. Так можно в культурников превратиться, если только читать постановления да разъяснять. Эти решения ЦК партии надо выполнять!
Руденко справился с волнением, голос его окреп, звучал сильно, слова падали в зал весомо, убедительно.
— Решения Пленума ЦК — прекрасные, все колхозники это почувствовали. Но думают про себя: решения Пленума хороши, да вот наши районные руководители не подведут ли? Не сыграют ли с нами в испорченный телефон? Знаете такую игру? Пока от первого человека до последнего дойдет слово — уже не то слово, что было вначале сказано. Нас-то, думают колхозники, взяло за живое, а вот их, деятелей наших, взяло ли? Способны они выполнить то, что ЦК партии от них требует? Короче говоря, к решениям сентябрьского Пленума нужно еще, чтобы люди поверили нам, местным руководителям, что мы беремся за дело всерьез. Что нам тоже, как и тем, кто живет, кормится от земли, очень хочется, чтобы ни в одном колхозе не было тощих колосков на полях, пустых трудодней! Вера в своего ближайшего руководителя, в его партийную душу — великое дело! Отсюда и трудовой подъем и урожай — все! Надо самым видным в районе людям идти в колхозы!.. А насчет того, как это, не унизительно ли нам, ответработникам районного масштаба, спуститься из района в село, я так думаю: сегодня тот масштаб самый большой и почетный, где труднее всего!
Собрание, среди участников которого было много низовых колхозных работников, проводило Руденко одобрительным гулом и громкими аплодисментами.
— Так держать! — выкрикнул с места секретарь парторганизации колхоза «Власть Советов» Демченко, моряк в отставке, главный старшина, участник обороны Севастополя. — Правильные слова, Фомич! Берите, товарищи, пример с него, не стесняйтесь!
В передних рядах поднялся коммунист с 1918 года Поликарпов, пенсионер, очень дряхлый старик, — его-то уж лично вопрос о посылке в деревню не касался.
— Товарищ Мартынов! А вы все же не ответили товарищу прокурору насчет отмирания государства. Как же мы обойдемся без председателя исполкома, без начальника милиции? Совсем, что ли, их не будет?..
В наступившей тишине внятно прозвучал голос инспектора по определению урожайности Бывалых, сидевшего где-то в середине:
— Помесь анархизма с народничеством…
— Так, начинается, — шепнул Мартынов усевшемуся на свое место Руденко и встал. — Что говоришь, Бывалых? Это ты насчет проекта решения?.. Нет, народничество тут ни при чем. Укрепление связей с народом — это не народничество, в том смысле, как знаем его из истории партии. И анархизма тут никакого нет. Я же не сказал еще, как мы думаем переставить кадры. Районные учреждения мы ликвидировать не собираемся, мы их будем укреплять. Анархизма тут нет… А вот меньшевизм, товарищ Бывалых, — карандаш, который Мартынов вертел в пальцах, хрустнул и сломался, — меньшевизм не мешает вспомнить. Большевики отличались от меньшевиков тем, что меньшевики лишь болтали о революции, а большевики ее делали…
— Так это же было сказано о революции, — возразил звучным баритоном несмутившийся Бывалых.
— О революции, да… А сейчас, спустя тридцать шесть лет после революции, ты считаешь, можно уже не проводить различия между болтовней и делом?..
Секретарь райкома комсомола Рыжков, сильно волновавшийся с той минуты, как услышал в проекте решения свою фамилию, порывисто вскочил, поднял руку:
— Можно мне, товарищ Мартынов?.. Революция была давно, товарищи, я ее не помню. Вернее, меня тогда на свете еще не было, когда была революция. Но я думаю, что и на долю моего поколения работы осталось немало… Мне двадцать пять лет. У меня отец был коммунист с подпольным стажем. Два старших брата погибли в Отечественную войну. Но разве они все сделали за меня? Раз партия требует, чтобы нам быть сейчас на передовой линии, где трудно, — надо идти! Если колхозники не доверят мне по молодости колхоз — возьму бригаду. Прошу считать меня добровольцем!..
И когда утихли аплодисменты в зале, Рыжков, весело, во весь рот улыбнувшись, повернулся к президиуму:
— Ну, что — на этот раз не перерасходовал регламент? По-спартански выступил?
— Коротко и ясно! — одобрительные голоса из зала.
— А насчет того, кто займет мое место в райкоме, я не беспокоюсь. Есть заместители. Да если бы я сегодня помер — нашли бы парня на мое место?..
— Не помирай!
— Живи, Вася, сто лет!
— К нам его, Петр Илларионыч, в «Восход» секретарем парторганизации! Он уже вырос из комсомола.
— Погодите, товарищи! — поднял руку Мартынов. — Кого куда — это мы уже потом решим, на бюро. Я отвечу для ясности — что мы думаем насчет районных учреждений.
Он доложил собранию свой, «засекреченный» пока, план — то, о чем рассказывал уже Медведеву и Руденко: как он будет просить в обкоме кадры после того, как всех посланных в колхозы товарищей изберут там председателями.
— Я думаю, что нас поддержат, подкрепят кадрами. Но если даже на какое-то место нам не дадут из области человека, право же, обойдемся своими людьми, теми, что есть у нас. Куда труднее, — доказывал Мартынов, — подобрать хороших председателей колхозов, нежели заполнить те бреши, что образуются в районном аппарате. Свято место не будет пусто! Ну вот взять хотя бы тебя, Андрей Семеныч, — обратился он к прокурору Нечипуренко. — Сколько лет ты работаешь в районе?
— Пять лет, — хмуро ответил прокурор, согнувшись на стуле, упершись локтями в колени, опустив голову, — видимо, тяжело и напряженно обдумывал проект решения партактива.
— Так, пять лет. А сколько ты из этих пяти лет прожил в колхозах уполномоченным по разным кампаниям?.. Да не меньше трех лет!
— Не меньше, — буркнул Нечипуренко.
— Но ты же не вешал замок на прокуратуру, когда уезжал в колхозы? Кто за тебя работал? Аппарат, заместитель. Так, может, кто-то из твоих помощников тебя и заменит совсем? Да и институты у нас ежегодно выпускают молодых специалистов, в том числе и юридические вузы. Может быть, какой-то молодой прокурор приедет на твое место. Но кому же, как не тебе, старому районщику, идти в колхоз? Изучил хорошо район, сам из крестьян, сельское хозяйство знаешь не хуже агронома. А какой эффект будет, пойми! Тут уж колхозники скажут: да, крепко берутся наши руководители за подъем сельского хозяйства — даже прокурора послали председателем колхоза!.. А кроме всего прочего, Андрей Семеныч, тебе действительно нужно освежиться. Притупились у тебя и глаз и чутье. Нужно тебе, как Антею, прикоснуться к земле, чтоб набраться сил. Я настаиваю, чтобы ты пошел председателем именно в «Борьбу». Там ты увидишь и плоды собственной деятельности на посту блюстителя закона. Такие вещи увидишь, что сразу у тебя и злости, и энергии, и бдительности прибавится на двести процентов!..
Нечипуренко переменил позу, разогнулся, откинулся на спинку стула, обвел глазами стены, потолок, вытер ладонью мокрый лоб, вздохнул, но ничего не ответил Мартынову.
Прения продолжались.
Заведующий орготделом райкома Быстров так же коротко, как Рыжков, сказал: «Надо — так надо, пойду», порекомендовал на свое место заместителя из инструкторов и попросил лишь учесть, что у него трое детей учатся в старших классах, послать его в такое село, где есть десятилетка.
Судья Грибов заявил:
— Я, товарищи, выбрал профессию судьи случайно, не могу сказать, что пошел на это дело по призванию. Просто захотелось после демобилизации доучиться. Уже не молод был, но все же решил получить законченное образование. Учиться я мог только заочно — два года после фронта лежал, залечивал раны. Думал, может быть, на всю жизнь останусь калекой. Поэтому и выбрал такую сидячую специальность. Да и в юридический легче было поступить. А сейчас я здоров, ездить, ходить по полям могу. Дела нашего участка можно временно передать судье второго участка. Много, правда, работы у нас, трудновато будет одному. Но я думаю, что, если сильнее бороться с преступностью там, на месте, всюду повыгнать из колхозов воров, — работы здесь у следователей и судей значительно убавится. А колхозное дело я знаю. Был до войны инструктором сельского райкома. Да и фронт многому научил — батальоном командовал. Думаю — справлюсь.
— Ну, тут уж, мне кажется, мы немножко перегибаем, — сказал Глотов. — Как же так, судья — это же выборная должность, его народ выбирал, тайным голосованием!
— А должность председателя райисполкома разве не выборная?
— Ничего, можно, давай и судью!
— С желанием идет человек — хороший будет председатель!
Попросил слова бывший районный агроном Филатов, посланный еще месяц тому назад на работу в отдаленный колхоз имени Ворошилова (куда поехал он с большой неохотой).
— Вот вы, товарищ Мартынов, правильно решаете о других, а свою супругу устроили на работу в пригородный колхоз, без отрыва, так сказать, от домашнего уюта. А почему бы ей не поехать агрономом-садоводом в «Память Ленина» или в «Рассвет»? Туда, подальше — за сорок километров! Там тоже большие сады. Как-то оно нехорошо получается. Народ поговаривает.
Ему ответили:
— Ничего народ не поговаривает, товарищ Филатов, это ваши выдумки! Как же быть иначе? Товарищ Мартынов работает секретарем райкома, живет здесь, а жену услать в «Память Ленина»? Разбить семью? Как раз здесь ей и место, в пригородном колхозе. Все понимают, что иначе им устроиться нельзя. И работает Мартынова хорошо, колхозники довольны ею.
Другой агроном-коммунист из колхоза «Передовик», Сычев, добавил с места:
— Демагогия! Не следовало бы вам, товарищ Филатов, на таком серьезном собрании выступать с глупостями!
Мартынов ответил:
— Если нужно будет для дела, я готов, товарищи, тоже поехать председателем колхоза в любое село. И жена, конечно, поедет со мною. Дня не промешкаем. Если потребуется — поедем.
— Не требуется пока!
— Дельный секретарь райкома — вот кто нам требуется! Оставайтесь на своем месте.
— Не слушай его, Петр Илларионыч! Пустое!
— Ничего плохого народ о тебе не говорит. Никакой хитрости не видим в том, что определил жену в Слободку. А что ж вам, на самом деле, разводиться?
— Веди собрание, не обращай внимания!
Хорошо выступили управляющий госбанком Щукин, инструктор райкома Николенко, начальник милиции Сазонов, заведующий районо Плотников. Можно было надеяться по их искреннему тону, что у них слова не разойдутся с делом, что они действительно, как и говорили перед собранием, поняли сердцем, где сейчас место настоящего коммуниста, и приложат все силы, чтобы сделать те колхозы, куда их пошлют, передовыми.
После них попросил слово и прокурор Нечипуренко.
— Ты знаешь, товарищ Мартынов, — начал он, обтирая скомканным мокрым носовым платком могучую шею и грудь через расстегнутый ворот рубахи, — я немножко тугодум. До меня не сразу доходит. Мне нужно время — обмозговать… Но вот посидел я тут, послушал — пожалуй, можно сделать так, что и колхозы укрепим кадрами, и райцентр не ликвидируем. Возможно, и не будет тут нарушения…
— Нарушения — чего? — перебил его мягко Мартынов. — Ей-богу же, слушай, Андрей Семеныч, то, что мы сейчас делаем, записано в решениях сентябрьского Пленума ЦК! Надо только вдумчивее их прочитать. На сентябрьском Пленуме дали нам первый звонок. Неужели же нужно ждать еще второго звонка, потом третьего? «Оце нам!»
— Нет, не нужно ждать, пока в шею толкнут: «Оце ж вам, сукины сыны, ваш поезд отправляется, чего же вы сидите?» В крайнем случае на мое место пришлют работника из областной прокуратуры. Там штаты большие. А насчет того, что я с расхитителями социалистической собственности не боролся, что у меня чутье притупилось, тут ты не совсем прав, товарищ Мартынов. Не было разве таких случаев, когда совершил коммунист преступление и надо его судить, а вы, райком, не исключаете его из партии — строгий выговор ему с последним предупреждением. Борзов тут три года покрывал одного крупного вора на мелькомбинате. Сколько я с ним спорил! Конечно, нужно тщательно проверять поступившие на коммуниста материалы. Да, кстати сказать, как и на всякого гражданина. Но было время, когда мы особенно осторожно подходили к таким материалам на коммунистов. Классовая борьба, кулачество, белогвардейщина — мало ли чего эти враги могут наклеветать на нашего парня? И сейчас нужно очень тщательно разбираться, где правда, где наговор. Но если уж точно установлено, что залез в государственный или колхозный карман, — зачем же такого миловать?.. Один мерзавец, растратчик до чего обнаглел! Я завожу на него дело, а он мне заявляет: «Значит, хотите меня в тюрьму упрятать? Неужели вам какие-то несчастные десять тысяч дороже хорошего коммуниста?» Ну ладно, в «Борьбе»-то я порядок наведу! Прошу считать и меня добровольцем.
Инспектор по определению урожайности Бывалых сказал:
— Пойду в колхоз, если Москва разрешит такие эксперименты.
Директор мясокомбината Корягин заявил, что у него обострился аппендицит и он не может ехать сейчас в колхоз, должен лечь на операцию, чему очень удивились присутствовавшие на собрании коммунисты-врачи из районной поликлиники — на здоровяка Корягина у них даже не было заведено «истории болезни», никогда не жаловался он ни на какие боли.
Отмолчались на собрании только Жбанов и Коробкин. Однако когда поставили на голосование проект решения, в котором были и их фамилии, — подняли руки «за».
И в конце собрания — опять не в обычном порядке, уже после принятия решения — с заключительным словом выступил Мартынов.
— Все вы, товарищи, бывали в колхозах уполномоченными по многу раз, село знаете, колхозное строительство для вас дело не новое. Но одно дело, когда вы приезжали туда временно, когда ваши семьи, квартиры были где-то далеко в городе, когда кто-то больше вашего отвечал за неполадки, а вам в конце концов можно было от этих неполадок и уехать домой, отдохнуть там. С глаз долой — из сердца вон. И совсем другое дело будет, когда вы разъедетесь по колхозам на постоянную работу. Навсегда. Ну, может быть, и не навсегда, не до самой смерти, неизвестно, как у кого сложится дальше жизнь, но, во всяком случае, не на день и не на два. Нужно ли вас утешать, что, мол, ничего, привыкните, со временем даже понравится?.. Попадаются у нас в газетах статьи, написанные в таком утешительном тоне: «В Н-ском районе специалисты сельского хозяйства и товарищи из партактива не хотят ехать на работу в колхозы. Какое заблуждение! Сколь благородна их миссия! Сколь хороша жизнь на лоне природы! Сколь полезен для здоровья деревенский воздух!» В одной статье, помнится, утверждалось даже, что щи, сваренные в деревне в русской печи, вкуснее, чем те же щи, сваренные в городе на газовой плите.
В зале смеялись. Мартынов продолжал, без улыбки, серьезно:
— Авторы таких статей смахивают на попов из «Армии спасения». «Какое заблуждение! Сколь прекрасна жизнь среди полей и лесов!» Евангелистские проповеди! Не так надо разговаривать с людьми, едущими в отстающие колхозы. Надо разговаривать по-мужски, прямо, откровенно, не боясь напугать трудностями. А деревня пугливых и не любит, не нуждается она в пугливых… Так вот, говорю, совсем другое дело, когда вы теперь разъедетесь по колхозам на постоянную работу. Первая мысль у вас будет, когда вы приедете в колхоз и окинете взглядом все вокруг: «Навсегда…» Другими глазами посмотрите на то же самое село, глазами человека, которому здесь жить. И куда лучше станете работать, чем работали, будучи уполномоченными! Некому давать теперь указания, установки — самому себе! И товарищ Николенко не будет уже теперь привозить в райком из своего куста «мешок недостатков» и считать, что на этом его роль закончена. Никуда не денешься от этих недостатков, сам и должен их изживать… Вам самим жить в колхозе и семьям вашим, женам, детишкам, — и для них нужно постараться.
Мартынов поглядел на сидевшего в первых рядах Долгушина, на главного инженера Семидубовской МТС Чумакова, на агрономов, присланных из области.
— Вот тут у нас есть товарищи, приехавшие к нам на работу из Москвы, из областного центра. Вероятно, и их резнула по сердцу разница между той жизнью, что оставили они где-то в городах, и тем, что увидели в наших селах. Что же, эту разницу мы сгладим. Но сгладить ее можно только собственными руками! Район наш пока не передовой, и область не из самых богатых, не Кубань, средняя область. И посылаем мы не в такие колхозы, где уже миллионные доходы, дома под железом, «Победы» в правлении. Там уже дело налажено. Если бы всюду было так, то мы бы уже и не нуждались в кадрах. Посылаем в отстающие колхозы, где ничего этого пока нет. Но — будет. Будут и коттеджи с ванной и душем, и асфальтированные тротуары, и мичуринские сады, и собственные колхозные санатории, и Шекспир в сельском Доме культуры. Будет, если сделаем. Но делать это все нужно своими руками! Вот когда это дойдет глубоко до сознания каждого — работа у нас закипит! Своими руками… Завтра в десять утра — заседание бюро. Приглашаются все, кто в этом списке. Утвердим решение партактива и договоримся, кого куда, на какую работу будем рекомендовать.
Собрание разошлось не сразу. Разбившись на кучки в зале и коридорах, долго еще обсуждали отдельные выступления, спрашивали Коробкина и Жбанова, почему они отмолчались, посмеивались над аппендицитом директора мясокомбината Корягина и дружескими шаржами в «Колючке».
Посохов с фотоаппаратом выскочил за Мартыновым на улицу.
— Петр Илларионыч! Там товарищи просят, чтоб я отпустил их в парикмахерскую побриться. Обещают прийти через час. Можно?
— Кто просит?
— Жбанов, Нечипуренко, Сазонов…
— Не отпускай! Снимай так, небритых, а то еще кто-нибудь раздумает. И — в номер! И в областную газету передай материал… Хотя нет, туда погоди передавать. Сообщим, когда уже выберут всех в колхозах. Не отпускай никого! Снимай так. Прокурора рассмеши, чтоб улыбнулся. Очень уж у него мрачный вид.
Хорошо, как и ожидал Мартынов, принял народ в колхозах посылку на село видных районных работников. Всюду на выборных собраниях колхозники, уже читавшие в местной газете отчет о районном партактиве, чуть ли не овации устраивали добровольцам. Лишь кое-где были заминки.
В колхозе «Красный пахарь», куда сам Мартынов возил рекомендовать в председатели заведующего районо Плотникова и где он встретил старого знакомого Тихона Андроныча Ступакова, горючевоза тракторной бригады, колхозники не то чтоб возражали против смены руководства (возражать было нечего, старого председателя привлекали к уголовной ответственности за бесхозяйственность и растраты), а просто выступления пошли по другой линии.
Начал опять же дед Ступаков:
— Помните, товарищ Мартынов, как вы приезжали к нам в общежитие трактористов и зашла у нас речь о совхозе и вы сказали, что это я, как говорится, загнул? Вроде бы это только у одного меня желание в совхоз, а больше вы ни от кого таких речей не слыхали. Так вот послушайте, что вам целое собрание скажет — не я один.
Колхозники зашумели:
— Согласны все, хоть сегодня!
— Против товарища Плотникова мы ничего не имеем, может, он хорошим председателем будет, да лучше бы перевели на совхоз!
— К Андрею Макарычу будем проситься! Пускай принимает нас со всем имуществом! Отделение пусть сделает у нас.
— Все равно наши отходники из каждого двора у него в совхозе работают.
— Осталось только законно оформить.
— В совхозе — твердая зарплата.
— Там и порядки другие. Дисциплина! Потому и урожаи у них, и коровы по пять тысяч литров молока дают!
— Уж там бригадир не выйдет на работу пьяным.
— Оно-то и колхоз наш можно поднять при хорошем руководстве, но и насчет совхоза — не возражаем.
— Слыхали, Петр Ларионыч? — поднялся опять Ступаков. — Это уж не я один — народ говорит. Да вы у нас тут ни одного возражающего не найдете! Чего ж возражать? Если, скажем, сделать у нас отделение совхоза — живи на том же месте, огород при тебе, корова, поросенок, все, как и было, а работай в совхозе, на зарплате. За эти деньги купишь хлеба, и больше они ни на что и не нужны, приварок свой, остальное — на одежду, обувку. Чем не жизнь? Были колхозники, станем рабочими — так это ж лучше, все ближе к коммунизму! А насчет этой самой… моби-ли-зации или как?.. нацилизации…
— Экспроприации, — подсказал кто-то.
— Во-во! Об этом вы не сомневайтесь. Не будем в обиде, если наше колхозное имущество в совхоз перейдет. Верно говорю, давно уж забыли люди, что они обобществляли, когда сходились в колхоз. Никто не бережет тех актов. И опять же, что уже гуртом нажили в колхозе, постройки там какие, инвентарь, — пусть и это переходит в совхоз. Рано или поздно все равно ж придем к тому, что все будет одного хозяина — народное!
— Если это, может, не по закону — просто забрать у нас наше колхозное имущество, — пусть государство его выкупит.
— Да оно ведь и мы должны немало государству по всяким долгосрочным кредитам. Может, никому ничего и не придется приплачивать.
Колхоз «Красный пахарь» находился в полуокружении землями крупного животноводческого совхоза «Челюскин». Хозяйство там велось образцово, директора совхоза Андрея Макаровича Кулебякина знали по всей округе как хорошего организатора, образованного, талантливого агронома, строителя. Рабочие совхоза на глазах у колхозников ежегодно, при любой погоде, даже в засуху, убирали прекрасные урожаи хлебов и кормовых трав. В совхозном клубе, куда собиралась по вечерам молодежь из окрестных колхозов, все стены были увешаны дипломами и почетными грамотами, присужденными совхозу за хозяйственные достижения. Поголовье скота на фермах росло, возводились новые постройки, совхозу требовалось все больше рабочих, и много колхозников из «Красного пахаря» работало уже там, в порядке отходничества, не порывая пока совсем с колхозом.
Человек пятнадцать выступили на собрании после Ступакова, и все говорили о том, что можно бы присоединить их колхоз к совхозу «Челюскин», преобразовав его в отделение совхоза.
— Насчет других колхозов ничего вам не скажем, товарищ Мартынов, — заключил один колхозник, — не знаем, как там народ настроен, а про себя вот говорим — согласны. Ежели только по этой части сомнения: как, мол, понравится ли нам, если станем мы рабочими? — а чего ж, понравится! Где рабочий класс, там порядку больше.
Мартынов договорился с колхозниками так: ни в коем случае не ослаблять работу по укреплению колхоза, обновить руководство (Плотникова избрали председателем единогласно), продолжать работать на Уставе сельхозартели, как раньше, а тем временем, если уж здесь назрело, вынести постановление общего собрания, что все колхозники единодушно просят присоединить их хозяйство и земли к совхозу «Челюскин» и сами желают стать рабочими совхоза, и послать это постановление в Москву, в Совет Министров.
В другом колхозе, «Памяти декабристов», с Мартынова семь потов сошло, пока он добился решения собрания о снятии старого председателя, горького пьяницы. И против нового председателя колхозники не возражали — Мартынов рекомендовал собранию члена райкома, управляющего госбанком Щукина, — и старого, Грищенко, не хотели снимать. Грищенко, бывший летчик-истребитель, капитан запаса, с орденскими колодками в три ряда, сидел за столом президиума и всем своим жалким видом подтверждал, что дальше его никак нельзя оставлять на ответственной работе в колхозе, — опухший с тяжелого похмелья и, кажется, успевший уже «заложить» с утра, сонный, небритый, безучастный ко всему, что происходило в зале колхозного клуба.
— Нельзя его снимать, товарищ Мартынов! — доказывали колхозники. — Ведь хороший человек был! Простой, обходительный. А колхоз наш как поднял! Первые два года он так работал, что мы за него богу молились, чтоб ненароком не забрали его от нас на другую должность. Ночей не спал, мотался по полям, по фермам. Уговорит, докажет, расскажет человеку, закоренелого лодыря в сознание введет!
— С таким председателем нам — жить и помирать не надо!
Мартынов недоумевал:
— Поднял колхоз — и сам же его и посадил?..
— Что верно, то верно. Посадил… Теперь вот опять попали в самые отстающие.
— Значит, надо снять его с поста председателя, как не оправдавшего доверия народа. Кто за это предложение?..
В зале не поднималась ни одна рука. Женщины всхлипывали, утирали кончиками головных платков глаза.
— Жалко человека, товарищ Мартынов! Как же так — снять? Позор ему какой!
— Сколько сил положил на наше хозяйство!
— А водки выпил еще больше!.. Нет, товарищи! Пьяницы причинили столько вреда колхозному делу, что мы должны поднять всенародный гнев против них! И уж оставлять их в руководстве мы не намерены нигде! Ведь, говорят, дня не бывает, чтоб ваш председатель не напился? Да он и сейчас, полюбуйтесь, пришел на собрание в нетрезвом виде.
— То старый хмель, товарищ Мартынов.
— Проспиртовался. Если б он теперь и бросил, так еще с месяц бы дух из него не выходил.
— Кто за то, чтобы Грищенко снять?
— И опять — никакого движения в зале, две-три руки за снятие, вздохи, всхлипывания…
— Товарищ Мартынов! Да ведь мы сами человека испортили, — заговорила одна колхозница. — Сами испортили, мы виноваты, а теперь заставляете нас голосовать против него!.. Колхоз большой, нас много — он один. Там крестины, там поминки, там свадьба, там новоселье. А у нас совести нет, зовем его: «Да зайди, Николай Андреевич, уважь, не погребуй нашим хлебом-солью!» Того не понимаем, что, если он у каждого выпьет по стакану, сколько же это получится? Мы — бессовестные, вот кто, а не он! Вот он и привык к этому зелью так, что теперь дня не может без него прожить!
— Там свадьба, там крестины, а там подводу дай съездить на базар, — опять пол-литра ему на стол?..
Весь зал возмущенно загудел:
— Нет, чего не было, того не было!
— Напраслину на него не возводите, товарищ Мартынов!
— Такими делами он не занимался!
— Не взяточник!
Мартынов немного смущенно, виновато покосился в сторону клевавшего носом за столом Грищенко.
— Прошу прощения. Значит, просто честно — спился?
— Честно, честно!
— Только пьет, больше никаких грехов за ним не водится!
— Но, вероятно, кто-то этим у вас в колхозе пользуется, — продолжал Мартынов. — Раз председатель вечно пьян, хоть и сам не безобразничает, — другим раздолье.
— Что раздолье, то правда ваша. Как говорится: гуляй, черти, пока бог спит!
— Петушиную ферму организовали.
— Какую петушиную ферму?
— Да это у нас тут у одного бригадира компания собирается, в карты играют под деньги, в «петушка». Мы их прозвали «петушиная ферма».
— Вот к этим-то, на «петушиную ферму», без пол-литра не ходи, если в чем нужду имеешь!
— Для нас поросят продажных нет, а себе по свинке и кабанчику в счет трудодней выписали!
— Колхозное сено пропили!
— Которое пропили, которое погноили. Некому было присмотреть за кормачами. Сметали стога так, что в дожди до самого исподу протекло.
— Вот, все это происходит потому, что колхоз ваш — без головы, — настаивал Мартынов. — Такое положение дальше терпеть нельзя.
— Эх, товарищ Грищенко, Николай Андреич! — хлопнув шапкой по скамейке, с горечью и болью в голосе сказал один колхозник. — Ежели б ты с самого начала не пошел в тот первый дом, куда тебя позвали, — все было бы в порядке! Сказал бы, мол: извиняюсь, не могу, медицина запретила, и не приставайте ко мне, капли в рот не возьму, — так бы и привыкли люди к тому, что ты, стало быть, непьющий, и не обращали бы на тебя внимания. А раз пошел к одному, то надо уж и к другому, и к третьему, — не то обидятся. Как же так, мол, товарищ председатель, у таких-то на свадьбе гулял, к таким-то на именины ходил, а наше новоселье не хочешь почтить? Вот тут-то тебя и закружило. Слабость твоя! Не выдержал характера!
— А не выдержал — значит, не годен я в председатели, — встал проснувшийся Грищенко. — И нечего вам тут время терять. Голосуйте. Сам буду голосовать за то, чтоб сняли меня… Потерял скорость… Верно говорю, товарищи. Я уже стал для вас вроде обледенения на крыльях, тяну колхоз вниз… Выбирайте вот товарища Щукина!.. Я его знаю по госбанку. Ругался с ним. Хозяин! Во!.. Всё…
И, тяжело качнувшись, сел опять, почти плюхнулся на стул.
Мартынов, подумав, уточнил свое предложение:
— Наказывать мы его не будем. Человек болен, его надо лечить. Есть специальные больницы для таких больных алкоголизмом. И попробуем вылечить, вернуть его к нормальной жизни!.. Давайте запишем так: «Освободить товарища Грищенко от должности председателя колхоза и направить его на лечение». Вот так. Не снять, а — освободить… А новому председателю, товарищу Щукину, если выберете его, это — серьезное предупреждение! Выдержать характер — с самого начала! И вы, товарищи колхозники, тоже сделайте для себя выводы. Не докучайте ему своим гостеприимством. «Не введи во искушение». Тоже — с самого начала! Не зовите его в посаженые отцы, в кумовья. Справляйте свои свадьбы и новоселья без председателя. Действительно, таким колхозом, как ваш, — восемьсот дворов, — можно не только человека, слона можно споить!..
Так, со смехом и со слезами, колхозники все же проголосовали за освобождение Грищенко и выбрали председателем колхоза Щукина.
Жбанов поехал секретарем парторганизации в Олешенскую МТС, Бывалых — председателем колхоза. Оба не торопились перевозить свои семьи из райцентра: один, видимо, надеясь на то, что высшие инстанции не санкционируют перемещения его в колхоз с поста инспектора по определению урожайности, другой — неизвестно на что, может быть, на постепенное выдвижение со временем опять на какую-нибудь районную должность.
Директора мясокомбината Корягина, видимо, кто-то из знакомых с медициной «проконсультировал», как симулировать острый приступ аппендицита. Скорая помощь увезла его в больницу. Там ему сделали операцию, аппендицита не обнаружили, вырезали червеобразный отросток слепой кишки, зашили живот и сказали: «Ну, теперь, как отлежитесь после операции, можете смело ехать в самый неблагоустроенный колхоз, где даже фельдшерского пункта нет: полная гарантия, что аппендицита у вас никогда не будет».
Коробкин на другой день после собрания партактива пришел в райком к Мартынову бледный, осунувшийся, похудевший за одну ночь.
— Не могу, Петр Илларионыч, но могу!.. — простонал он, присев к столу, опустив голову, нервно потирая ладонью восково-желтую лысину. Казалось, и лысина его, обычно блестевшая, точно лакированная, сегодня как-то потускнела, сморщилась. — Не могу… Я сойду с ума там. «Навсегда»!.. Поймите по-человечески! Кто к чему приспособлен… Может быть, это у меня болезнь. Что-то, может быть, еще в детстве потрясло меня на всю жизнь… Эта осенняя грязь, эти долгие зимние ночи при керосиновой лампе, вой собак. Такая тоска!.. Я не могу без ужаса подумать об этом. Я там потеряю и сон и аппетит. Просто тяжело заболею и выйду из строя. Не принесу никакой пользы…
Мартынов удивленно моргал глазами, слушая Коробкина. До чего же жалки были слова и вид этого представительного детины, всегда такой уверенной походкой входившего в кабинеты, с таким апломбом выступавшего на пленумах райкома: «Некоторые председатели колхозов преступно недооценивают значение строительства силосных башен. Я предлагаю указать товарищам на недопустимость срыва строительства силосных башен!..» Как его оглушило! Действительно, пошли такого слабонервного в отстающий колхоз — припадки начнут его бить.
— От керосиновых ламп есть спасение, — сказал Мартынов. — Электростанцию построишь. Тебе не привыкать строить. Ты же заведовал отделом строительства.
— Не шутите, Петр Илларионыч!.. Не только в керосиновых лампах дело. У меня вообще отвращение ко всему укладу деревенской жизни. Это у меня — в крови. Меня всегда тянуло в город, к рабочему классу!..
— Постой, постой, товарищ Коробкин! Почему — в крови? Насколько мне помнится — я смотрел твою учетную карточку, — ты же сам из крестьян, вырос в деревне?
— Из крестьян, да… Но я не думал навсегда оставаться в деревне. Я даже не ходил за плугом. Я не умею лошадь в телегу запрячь. Когда я вступил в комсомол, мне сразу дали должность делопроизводителя в сельсовете. Потом заведовал паспортным столом. Ушел от отца, жил на квартире в культурной семье, у ветфельдшера. Чисто, уютно. И когда меня приняли в партию, я тоже в колхозе не работал. Пошел по госстраху, потом был председателем сельпо, директором инкубатора, заведовал мельницей. Потом, после пожара, когда мельница сгорела, меня взяли в район… Петр Илларионыч! — взмолился Коробкин. — Пошлите меня на учебу в областную партшколу.
— Боюсь, что теперь тебе придется все же поработать в колхозе. С учебой погодим.
Коробкин засунул руку за борт пиджака, дрожащими пальцами вытащил что-то из внутреннего кармана, положил себе на колени, накрыл ладонью.
— Что это? — спросил Мартынов.
— Если так… В таком случае… Я вынужден. Если вы не входите в мое положение…
— Что ты вынул из кармана?
Коробкин показал Мартынову партийный билет.
— Поймите, Петр Илларионыч, мне нелегко решиться на этот шаг. Но я вынужден… Не могу!.. И жена моя ни за что не поедет в колхоз. Что же нам — разводиться? Я пятнадцать лет с нею живу, дети есть…
— Ну что ж, раз сам отдаешь… — Мартынов вынул из крепко сжавшихся, точно сведенных судорогою пальцев Коробкина партийный билет, открыл сейф, положил его туда, замкнул на ключ. — Пока на сохранение. На бюро все же мы тебя вызовем.
И, желая до конца изведать этого человека, сделал усилие над собою, изобразив на лице нечто вроде сожаления о случившемся, стал расспрашивать Коробкина участливым тоном:
— Ну, а что же ты думаешь делать дальше? Чем будешь жить? Понимаешь, товарищ Коробкин, ведь теперь нам неудобно оставлять тебя на руководящей работе в райисполкоме.
— Сам знаю, что неудобно… Что ж, найду работу. Все же человек я грамотный, имею опыт… Не та, правда, зарплата будет… Жена у меня бухгалтер, при месте. Дом свой. Сад у нас хороший… Проживем.
Мартынов встал, прошел по кабинету.
— К рабочему классу, говоришь, тебя тянуло? Почему же не поехал еще в молодости, комсомольцем, в Магнитогорск? А здесь у нас в Троицке — какие же заводы?.. К чернильнице тебя тянуло, а не к рабочему классу! Волостной писарь!.. Легко с партбилетом расстался.
И — не выдержал. Подошел к двери, резким толчком локтя распахнул ее, осиплым, сорвавшимся голосом негромко сказал:
— Уходи, шкура!..
Коробкин, сгорбившись, сразу укоротившись на целых полметра, вздрагивая спиной, выскользнул в дверь.
Его исключили из партии на первом заседании бюро. На том же бюро исключили и Федулова. В этой фигуре, при ближайшем рассмотрении, тоже ничего сложного не оказалось. Тоже «волостной писарь», к тому же еще и жулик. Как выяснилось, кроме леса для постройки дома в городе, много еще всякого добра потянул он из амбаров и кладовых колхоза «Борьба» — «по себестоимости». И глушил все сигналы о неблагополучии в этом колхозе, поступавшие в райисполком. Федулова исключили из партии и отдали под суд. Разбор дела Корягина о симуляции аппендицита пришлось отложить до выхода его из больницы.
Через неделю во всех колхозах, где намечено было сменить руководство, выбрали уже новых председателей. Руденко, Грибов, Николенко сразу перевезли и семьи на новое местожительство. В районных учреждениях за выбывших товарищей работали пока временные заместители.
Много получил Мартынов в эти дни телеграмм, много было звонков из областного центра и даже из Москвы.
— Товарищ Н. состоит в нашей номенклатуре. Как же вы без согласования с нами перевели его на другую работу.
— На какую другую работу, давайте уточним. На очень важную работу. Мы же не газированную воду послали продавать. На передний край послали — председателем колхоза.
— Самоуправство!..
Когда голос в телефонной трубке переходил на крик, Мартынов говорил:
— Жалуйтесь на нас в ЦК. Мы так поняли решения сентябрьского Пленума: лучших людей — в колхозы. Если неправильно поняли — поправят нас. Жалуйтесь, жалуйтесь, не теряйте времени.
После чего обычно разговор обрывался и трубки на обоих концах провода клались на вилку аппарата.
Поздно ночью — Мартынов был дома, собирался уже ложиться спать — раздался звонок, которого он давно ждал. Телефонистка предупредила: «Будете говорить с секретарем обкома».
— Алло!.. Ты, Мартынов?
— Я вас слушаю, Алексей Петрович!
— Как живешь?
— Ничего, спасибо.
— Здоровье как? Семейство?
— Все в порядке.
— Дуги гнешь, говорят?
— Нет, Алексей Петрович, такого производства у нас в районе нет. Колеса делаем, хомуты шьем, кирпич выжигаем, а дуги не делаем.
— Я говорю: гнешь дуги, как медведь… Ты чего там с кадрами натворил?
— А-а…
Слышимость в телефоне была такая резкая, что жена Мартынова, Надежда Кирилловна, и не желая, все равно подслушала бы разговор. Взглянув на серьезное лицо мужа, приложив руку к сильно забившемуся сердцу, она опустилась на диван рядом с ним.
— Тут на тебя, брат, у нас в обкоме жалоб — целая куча.
— Почему целая куча, Алексей Петрович? Большинство товарищей поехало в колхозы добровольно. На что же им жаловаться?
— Ну, не куча, есть, в общем, письма… Так как ты думаешь дальше жить — без председателя исполкома, без прокурора?..
Мартынов начал было подробно излагать свой план — секретарь обкома перебил его:
— Ладно, понятно… Будете просить у нас кадры? Ну конечно, я так и подумал, сразу догадался, когда мне рассказали. Раскусил. Знаю уже тебя немного… Председателя райисполкома мы вам дадим. Знаешь, кого? Начальника Управления водного хозяйства Митина. А? Главного водолея области. Это по должности его так прозвали, а на самом деле — толковый парень. На его место попросим министерство прислать человека. Прокурора тоже дадим, кого-нибудь из областного аппарата. Мы тут тоже, пожалуй, разошлем народ в районы, может быть до второго секретаря включительно. В некоторых районах надо нам укрепить руководство… Это все хорошо, правильно, товарищ Мартынов. Но вот тут есть жалоба на тебя: неколлегиально ты это как-то сделал, без решения бюро.
— Как — без решения бюро? Мы потом утвердили это все на бюро. В бюро у нас девять человек, Алексей Петрович, а на партактиве было двести человек. Мы предварительно посоветовались с партийным активом района. Чем плохо?
— Так, так… Значит, потом рассмотрели этот вопрос на бюро?
— А как же!
— Но почему же, товарищ Мартынов, я узнаю обо всем этом не от тебя лично, а от своего аппарата, из писем ваших обиженных? Почему, когда ты задумал эту операцию, не сказал мне сразу? Не позвонил? Боялся? Чего?
— Да нет, Алексей Петрович, я не боялся…
— Но все же сомневался — разрешим ли? Давай-ка, мол, для верности поставлю обком перед фактом. Да?.. Напрасно молчал столько времени. Ведь и в других районах нам нужно укреплять колхозные кадры. Вы нашли форму, как лучше двинуть это дело. Надо поделиться с другими. Ты — старый газетчик, а ну-ка распиши это все для нашей газеты — как проходил у вас партактив… Когда пришлешь? Завтра? Хорошо.
Надежда Кирилловна заглянула смеющимися глазами в лицо мужу, запустила пальцы в его густые волосы, взлохматила их. Тот нетерпеливым жестом слегка отодвинул ее.
— Слушай, товарищ Мартынов…
— Я слушаю.
— Вот мы тут будем тоже делать передвижку кадров. Кого в районы, кого из районов… Если мы заберем тебя в обком, а?
— Как — в обком?
— Ну как — на работу в обком. Подберем тебе что-нибудь по плечу. Не инструктором — покрупнее дадим работу. А? В обкоме ведь тоже люди нужны.
— Ну вот!.. — вырвалось у Мартынова.
— Что — «ну вот»?
— Да зачем же меня срывать с района? Я еще тут ничего не успел сделать. Нет, нет! Ни за что!..
— Подумай.
— И думать об этом не хочу! Не буду думать!
— Зачем же так капризно отвечаешь? Ты не девушка, тебя не замуж сватают.
— Простите, Алексей Петрович. Не пойду я в обком. Никуда из района! Если только, может, снимете меня… Мы тут говорили как-то с товарищами: когда офицер много лет батареей командует — батарея стреляет хорошо. Зачем же меня так быстро выдвигать в область? Я еще района не освоил… Нет, Алексей Петрович, прошу вас — оставьте меня здесь. Только стало дело налаживаться! Мне ведь тоже хочется сделать что-то в районе своими руками… Нет, нет! Не надо. Очень прошу!..
— Не хочешь?.. Эх, брат, если бы ты знал, как мне трудно в обкоме!.. Ну ладно, спи спокойно. Не будем тебя пока трогать. Привет супруге!
— А вот она тут рядом со мною сидит. И вам привет передает.
— Спасибо. Может быть, я найду в ней союзницу? Вместе уговорим тебя?..
— Нет, не хочет, крутит головой.
— Значит, оставить тебя навечно командовать батареей?.. Тоже не совсем правильно. А кто же будет дивизиями, армиями командовать?.. Тридцатого — пленум обкома. Получил телеграмму? Приезжай пораньше, зайдешь ко мне перед пленумом, потолкуем обстоятельно о кадрах — какое тебе требуется подкрепление, на какие должности… С огоньком работаешь, товарищ Мартынов. Молодец. А хитрить не надо. В таких делах ты всегда найдешь у нас поддержку. Ну, спокойной ночи. Всего доброго!
— До свиданья, Алексей Петрович!
Надежда Кирилловна, сияя от радости, крепко обняла мужа и поцеловала.
— За что? — спросил Мартынов, вытирая тыльной стороной ладони губы.
— Ни за что… За то, что все хорошо кончилось!
— А, за это! Значит, если б выговор мне влепили, не поцеловала бы?
— Дурень! — рассмеялась Надежда Кирилловна.
— Вот-вот! Чего еще скажешь?.. Секретарь обкома не поругал, а от нее слышу: «Дурень».
— Критика снизу, товарищ секретарь! Похвалили его, предложили в газету написать о собрании!.. Зазнаетесь, кажется?
И долго еще Мартынов и Надежда Кирилловна разговаривали о событиях последних дней, подшучивали друг над дружкой, болтали о всяких пустяках, возбужденные и радостные оттого, что все закончилось благополучно и можно ждать завтрашнего дня без особых треволнений.
И утром, лишь только проснулся Мартынов и подошел к окну, откуда открывался вид на крутой спуск к реке, луг и молодые березовые рощицы за рекой и села на далеком взгорье, — первые его мысли были о ночном разговоре с секретарем обкома.
— Нет, нет, никуда мы отсюда не поедем. Лет пять хотя бы пожить. А, Надя? Полюбился мне этот городишко, район. Надо поработать здесь. Так поработать, чтобы люди потом добрым словом поминали нас!..
1954
Трудная весна
В конце февраля Мартынов, директор Надеждинской МТС Долгушин, председатель колхоза «Власть Советов» Опёнкин и новый председатель райисполкома Митин ехали из К-ска в Троицк, возвращаясь с пленума обкома.
Мартынов уступил место впереди толстяку Опёнкину, иначе Долгушин, Опёнкин и Митин, тоже крупный, полный мужчина, не уместились бы втроем на заднем сиденье «Победы». Ехали с приключениями: застревали в балках, оборачивались на полном ходу задом наперед, на горки толкали машину. Всю дорогу в ветровые стекла хлестал крупный дождь.
Стояла странная, необычная для средней полосы зима. В ноябре и декабре давили сильные морозы, выпало много снегу. А с января пошли дожди, чуть не каждый день ливни, по-летнему бурные, тучевые. В ночь под Новый год была даже гроза. Хлеборобы тревожились за озимые. Дожди вперемежку с морозами превратили снег на полях в толстый слой льда, под которым озимые задыхались.
Выехали из города в два часа и к вечеру не проехали и половины пути. Шофер Василий Иванович рано зажег фары. От напряжения лицо его покрылось мелкими капельками пота, он скинул шапку и то и дело вытирал рукавом стеганки лоб. Дорогу плохо было видно за дождем и туманом, поднимавшимся в низинах от нерастаявшего снега. Местами ехали по лужам воды, перед буфером вздымались фонтаны, задок заносило в кюветы. На ночь оставалось ехать еще километров шестьдесят, по льду и воде, при фарах. И было впереди опасное место, которое особенно беспокоило шофера, — Долгий Яр под Анастасьевкой, большой подъем с крутым обрывом у самой дороги.
— Можно бы на Кудинцево объехать, кабы знать, что там мост целый, — бормотал Василий Иванович, вытирая шапкой вспотевшее изнутри стекло. — Может, закончили уже ремонт. А тут как мы на гору выберемся?..
— Подтолкнем, — угрюмо отозвался Мартынов.
— Далеко толкать! Целый километр!..
Опёнкин — по привычке старого председателя колхоза использовать для сна каждую свободную минуту на заседаниях и в дороге — дремал, откинувшись головой на спинку сиденья. Долгушин рассказывал Митину что-то из своей московской жизни. Мартынов молчал, отвернувшись, глядя в окно, за которым, вырванные из темноты боковым отсветом фар, изредка показывались то скирда соломы на полевом току, то одинокий столб на развилке дорог со стрелкой-указателем расстояния до ближайшей деревни…
Мартынов вспоминал вчерашний разговор с секретарем обкома — не очень приятный разговор, с оттенком выговора ему.
Еще в декабре Крылов, побывав в Троицке, поездив с Мартыновым по району, посоветовал ему ввести в колхозах с нового года ежемесячное денежное авансирование колхозников. Мартынов согласился, что дело это хорошее, пообещал секретарю обкома обсудить его предложение с председателями колхозов, но сам как-то не очень загорелся, и кончилось тем, что авансирование ввели только в трех колхозах. Мартынову даже подумалось тогда, что секретарь обкома забегает вперед, увлекается нереальными на сегодня вещами. Ежемесячное авансирование, полагал Мартынов, можно вводить лишь в самых богатых колхозах, с устойчивыми доходами, без риска, что окажешься в конце года вралем перед колхозниками и не покроешь всем годовым фондом распределения выданных месячных авансов.
Крылов после пленума зазвал Мартынова к себе в кабинет и сердито отчитал за потерю времени.
— Три месяца прошло после нашего разговора, и ты, по существу, ничего не сделал! Я пощадил тебя и не распушил на пленуме только потому, что ежемесячное авансирование еще никем не декретировано. Это наше местное начинание, нельзя ругать человека за невыполнение того, чего по закону с нас еще не требуют. Эх! Понадеялся на тебя, как на руководителя, не лишенного чувства нового. Подвел, подвел, товарищ Мартынов! Ведь дал слово, что сделаешь. Я бы с другими секретарями райкомов договорился.
Мартынов, оправдываясь, стал высказывать свои опасения, что в колхозах с неустойчивым доходом рановато еще вводить такой порядок оплаты трудодней. Секретарь обкома перебил его:
— Если бы авансирование касалось только самых богатых колхозов, это было бы не так важно для нас. Я вижу здесь именно один из рычагов, который поможет нам поднять отстающие колхозы!
Только теперь, при вторичном разговоре с Крыловым, после довольно резкого упрека в консерватизме, Мартынов понял до конца мысли секретаря обкома, «диалектику» его предложений.
— В отстающих колхозах упала материальная заинтересованность колхозников в общественном труде, — вот тут-то и надо применить авансирование! — говорил Крылов. — Именно там, где есть опасение, что годовой доход будет низок, надо пойти на «риск», чтобы поднять трудовую активность. И председателей колхозов мы заставим этим ежемесячным авансированием в двенадцать раз лучше работать!
— Почему в двенадцать раз? — спросил Мартынов.
— По количеству месяцев в году.
«Да, — думал теперь Мартынов, сожалея, что сразу «не дошло» до него, — это, конечно, намного повысит ответственность каждого председателя. Грубо-арифметически — в двенадцать раз. То он один раз, после первого января, с бухгалтером костяшки подбивал, а то каждый месяц будет следить за движением хозяйства. Раз в году распределить доход — это очень уж спокойная жизнь, фаталистом можно стать. Что уродит, мол, то и пожнем. Легче всего свалить на бога неудачи. А уж если пообещал людям по три рубля на трудодень за такой-то месяц, тут само дело заставит председателя вертеться вьюном!.. Поеду в один колхоз, засядем вместе с правлением и с карандашом в руках подсчитаем все возможности. Все до копейки, что можно выкроить в хозяйстве для авансирования. Составим месячные приходо-расходные сметы. Молока за месяц каждая доярка должна надоить столько-то, а все вместе столько-то. Свиней на ферме должно быть откормлено столько-то, да такого-то веса. Пилорама стоит, не работает, а стройтрест в городе нуждается в досках — взять подряд на распиловку. Старики слоняются по селу без дела, а все мастера — кто корзины плести, кто веники вязать, — засадить всех за работу. Лишнее тягло, что простаивает и зимой и летом, пустить на извоз, на лесозаготовки. Да мало ли откуда можно выбить живую копейку! И уж если колхозники твердо усвоят, что для получения такого-то аванса за такой-то месяц нужно обязательно выполнить приходную смету, тут все станут контролерами да ревизорами. Доярка Марья не надоила за месяц положенного количества молока — к ответу Марью перед народом, на собрание! «Срываешь нам план, отщипываешь от нашей мартовской трешки гривенники!» Не только ревизионная комиссия, весь народ будет контролировать! И на работе это так скажется, что в конце года потом к той трешке еще, может, столько же добавят… Да, неладно получилось. Консерватором обозвали, и поделом! Не текучка ли стала заедать тебя, Петр Илларионыч? Теряешь вкус к таким новшествам!..»
Были вчера еще неприятности у него.
Мартынов перебрал в памяти разговор в редакции областной газеты, куда он заходил после пленума.
— Заставь дураков богу молиться… — вслух сказал Мартынов. — Придется еще одну статью писать.
— О чем ты? — проснулся Опёнкин.
— Оказывается, товарищи, — обратился ко всем Мартынов, — у нас в области завелась уже «мартыновщина». Пишут об этом в редакцию областной газеты.
— Как это понимать?
— «Мартыновщина» — сиречь головотяпство в подборе колхозных кадров.
— Что, что?..
В Верхне-Никольском и Подгорном накуролесили с кадрами. Сделали по нашему примеру, и ничего у них не вышло. И колхозы не укрепили, и учреждения оголили.
— Как же это получилось? — Долгушин повернулся к Мартынову. — Интересно!
— Интересно, да. Клянут меня там люди. Сам читал. Возмущенные письма от колхозников, сельских учителей, коммунистов… В Верхне-Никольском прочитали ту мою статью, что я написал после собрания партактива, и сделали точь-в-точь по-нашему: послали председателями колхозов и предрика, и прокурора, и начальника милиции, и управляющего госбанком, и судью. Но управляющий госбанком у них горький пьяница и исключался из партии за многоженство; начальник милиции — страстный охотник, тридцать пять зайцев убил за зиму и успел уже сгноить в колхозе пятьсот центнеров семенной пшеницы; прокурор — юноша двадцати трех лет, из горожан, в сельском хозяйстве, как вот Демьян Васильевич в индийском балете, разбирается; а судья на двух протезах, полуслепой, через дорогу не перейдет без поводыря и к тому же болен туберкулезом. А в Подгорненском районе поехали под шумок председателями те, которым уже в райцентре не улыбалось получить должность. И совсем прекратили в этих районах выдвижение кадров в самих колхозах.
— Но ты разве писал в своей статье, что надо брать кадры только из районных учреждений? — спросил Митин.
— Нет, не писал. Может, как раз в этом и ошибка моя, что не написал, сколько у нас выдвиженцев работают председателями: Дорохов — в «Родине», Самойлова — в «Красном Октябре» из бригадиров выдвинули, Григорьев — в «Искре», бывший тракторист. Мы же сочетаем одно с другим.
— Так как же можно называть «мартыновщиной» этакое обыкновенное тупоумие? — пожал плечами Долгушин. — Вы-то при чем, если кто-то где-то натворил глупостей?
— По-моему, ни при чем. Я писал для тех, у кого есть голова на плечах. О дураках не подумал, каюсь. Выпустил таких из виду. Полагал, что это само собою разумеется — надо продолжать и местные кадры выдвигать и специалистов направлять в колхозы.
— Дело же в принципе, — заметил Митин, — а не в том, чтобы скопировать в точности.
— Прокурор прокурору рознь, — сказал Опёнкин. — Мы своего послали в колхоз не по чину, а по его хлеборобской душе. А у них в Никольском, может, свои председательские таланты скрывает уполномоченный Министерства заготовок или начальник политотдела железной дороги. Район крупный, при железнодорожном узле, там поискать — найдешь кадров даже больше, чем нужно, необязательно посылать в колхоз больного судью, которому три дня до смерти осталось.
— Вот и надо это все разъяснить, — сказал Мартынов. — Придется мне еще раз писать в газету.
— А как? В какой форме? — спросил Митин. — Ты же не секретарь обкома, чтоб поправлять ошибки в других районах.
— Ту первую статью я написал по предложению Алексея Петровича. Не подумайте, что хотел прославиться как инициатор некоего «мартыновского движения». Он мне два раза звонил. Нужно было, чтобы я рассказал для всей области, как мы провели партийный актив. Ну а теперь опять надо писать. Раз моя фамилия становится нарицательной: «По методу Мартынова наломали дров». Какой же это мой метод?.. Жаль, когда был у товарища Крылова, не знал еще про эти письма, я бы поговорил с ним. Приедем — позвоню ему по телефону.
За косыми потоками дождя перед машиной в неярком свете фар забелели хаты.
— Ровно половину проехали. Ногаевка, — сказал шофер. — «Шесть сестер», — кивнул он на огромное дерево — липу, распростершую могучую ветвистую крону над окраинными строениями придорожного села. Казалось, что это одно дерево с густым сплетением веток — летом под его листвою в тени укрылась бы целая рота солдат, — но это были шесть лип, выросших ствол к стволу, в родственных объятиях. Так и прозвали их проезжавшие через село путники, всякий раз любовавшиеся этим чудом природы: «Шесть сестер».
— Может, заночуем здесь?..
— А к утру, думаешь, улучшится дорога? — отозвался Опёнкин. — Дождь, видно, на всю ночь зарядил. Нет уж, лучше ехать.
Мартынов зажег свет в машине, вынул из кармана пальто исписанный листок бумаги, развернул:
— Вот взял в редакции одно письмо, анонимное. Подписано: «Группа коммунистов». Вероятно, кто-то из тех писал, кого наметили послать в колхоз. Пишет: «И если товарищ не может ехать на постоянную работу в колхоз по какой-либо причине, по слабости здоровья или потому, что не чувствует призвания работать в сельском хозяйстве, то его сразу причисляют к лику «коробкиных» и отбирают у него партбилет. Так можно без партии остаться, всех переисключаем… И опять же получается, что мы навязываем колхозникам в председатели людей со стороны, нарушаем колхозную демократию. Я думаю («я» — это группа-то пишет!), что наши руководители поторопились с подражанием Троицкому райкому. Этого Мартынова и редактора, который напечатал его статейку, по головке не погладят».
— Не чувствует призвания в колхозе работать. Ишь ты! — усмехнулся Опёнкин. — А в партию вступал по призванию? Небось, когда подавал в партию, писал в заявлении: «Буду выполнять любые задания, готов отдать жизнь за идеи коммунизма!» Портфельщик какой-то пишет, не обращай внимания, Илларионыч.
— Вообще-то, Петр Илларионыч, в вашей статье — я уж после, когда прочитал ее в газете, думал об этом — есть скользкие места, к которым можно придраться, — заговорил Долгушин с сердитым выражением на лице. — Вот вы там бросили, помнится, такую фразу: «Те бреши, что образуются в районном аппарате, куда легче заполнить, чем подобрать хороших председателей колхозов». Но ведь из аппаратов взяли не технических секретарей, а ответственных работников. Значит, вы их цените ниже председателей колхозов? В колхоз — самого крепкого человека, а на пост председателя райисполкома можно кого-нибудь и послабее? Недооценка руководящей роли районных организаций! Нигилизмом попахивает! Или вы считаете, что колхозы с хорошими председателями просуществуют и без районного руководства?
Сердито-грубоватое выражение лицу Долгушина, будто он не разговаривал спокойно, а всегда спорил или огрызался, придавал глубокий шрам на щеке, искрививший его рот. Странно контрастировали с этой застывшей на губах презрительно-злой гримасой глаза его, черные, цыганские, внимательно всматривающиеся в собеседника, чуть подернутые грустинкой, умные, добрые глаза.
— Та-ак… Еще где там, по-вашему, в статье нигилизм? — нахмурившись, покосился Мартынов на Долгушина.
— Потушите свет, Петр Илларионыч, — попросил шофер. — Совсем не вижу дороги, когда в машине свет горит.
Мартынов щелкнул выключателем.
— Я не сказал, что это, по-моему, нигилизм, — продолжал Долгушин. — Вот еще уязвимое место… Речь в вашей статье шла только о председателях колхозов. Не об укреплении колхозных парторганизаций, не о бригадирах, заведующих фермами, специалистах, а только о председателях. Значит, председатель — единственно важная фигура в колхозе? Культ председателя!
— Ого!
— Да, да. И к тому же вы как-то перевернули с ног на голову обычную, нормальную ступенчатость выдвижения кадров. Вы писали: «Мы послали на работу в колхозы районных работников и ждем, что на их места нам дадут товарищей из области, а обком пусть просит работников из центральных аппаратов». Стало быть, вы предлагаете передвижку кадров сверху вниз. Но всегда было так, что кадры росли снизу вверх. Да иначе какой же это рост, если не снизу? Я не работал в деревне, но, вероятно, обычно лучших организаторов из села выдвигали в район, из района — в область. Так ведь? А в армии? Пополнение кадрами идет от командиров взводов, рот к командирам батальонов, полков, дивизий, отнюдь не в обратном порядке. Да вот я из своей практики работы в промышленности знаю: если на должность директора какого-нибудь небольшого заводишка в захолустье присылают проштрафившегося работника из министерства, он смотрит на свое назначение как на ссылку, работает спустя рукава, с пренебрежением к такому ничтожному участку и все мечтает, как бы удрать снова в столицу. А выдвинь директором этого заводика хорошего мастера из местных — это для него рост, движение вперед, новые масштабы, он будет работать в полную силу, с увлечением. Видите, Петр Илларионыч, сколько спорных положений в вашей статье.
Мартынов с настороженным интересом слушал директора Надеждинской МТС, человека, безусловно, умного, образованного, начитанного, но во многом для него еще не понятного. Долгушин попал к ним на должность директора МТС с большой работы в Министерстве черной металлургии, и в районе многие были убеждены, что неспроста попал. Сам Мартынов с трудом перебарывал подозрение, что Долгушин в Москве где-то в чем-то провинился. Велика сила привычки. Не так уж много приходилось Мартынову видеть людей, по доброй воле менявших должности с высокими окладами и удобства жизни в больших городах на деревню.
— Христофор Данилыч, на самом деле считаете мою статью путаной? Я в статье описал только то, что мы сделали. Значит, по-вашему, мы наломали дров? Но ведь вы же тогда на партактиве, если мне не изменяет память, были согласны с нами.
— И сейчас полностью согласен, — ответил Долгушин, улыбаясь одними глазами и с той же неизменной отталкивающе-презрительной гримасой на губах. — Согласен полностью. Не вижу никакого нигилизма в вашей передвижке кадров. Я говорю: это может показаться кой-кому нигилизмом или головотяпством. Догматикам, формалистам. Могу и объяснить, почему я с вами согласен.
Долгушин, помолчав минуту, продолжал развивать мысли, не сегодня, видимо, пришедшие ему в голову:
— Да, сейчас мы все внимание направили на укрепление кадров председателей колхозов. Действительно, это главная фигура в колхозе, и «культ» тут ни при чем. Но сама жизнь выдвинет перед нами и другие задачи. Одно потянет за собой другое. Представьте себе, что все председатели колхозов у нас будут прекрасные хозяйственники, с хорошим образованием, талантливые организаторы. На две головы выше тех председателей, которым мы сейчас даем отставку. Вот такие, — Долгушин показал рукой, коснувшись пальцами потолка кузова машины. — А райком, значит, должен быть еще выше? Еще на голову, на две выше? Конечно. Таких председателей нужно уже учить не азбуке колхозного строительства, а вершинам этой науки. Согласитесь, Петр Илларионыч, что вот таких председателей колхозов, — Долгушин опять коснулся рукой потолка кузова, — может не удовлетворить нынешний стиль работы некоторых районных организаций. Уполномоченных к ним не следует посылать, чтоб ходили за ними по пятам, подсказывали, когда начинать пахать, сеять. Неграмотного лектора такой председатель может, пожалуй, и в шею погнать из колхоза. Да и агронома иного поучит творческому отношению к делу. И легче с такими председателями, но и труднее. Руководить ими труднее будет. А? Как вы думаете, товарищи?
Мартынов, переглянувшись с Митиным, кивнул головой.
— Мы и сейчас уже это испытываем.
— Вот, вот! Руководить такими председателями, что много знают, много умеют, — надо самому знать еще больше, видеть дальше, чем они видят! Значит, придется укреплять и районное звено. В общем, Петр Илларионыч, чего вы не договорили в своей статье, сама жизнь договорит. Не останутся районные работники в обиде, что о них забыли. Начнут и вашего брата подтягивать «к уровню»!.. А возражения насчет обратной передвижки кадров тоже нетрудно опровергнуть. Мне в Московском комитете, когда вызвали меня для направления в МТС, прочитали одно место из статьи Ленина «О продовольственном налоге». Помните, где говорится о перемещении некоторых работников с центральной работы на местную? Там Ленин вспоминает польскую войну, когда не боялись отступать, как он говорит, от бюрократической иерархии, перемещать членов Реввоенсовета на низшие места. И теперь, говорит Ленин, почему бы не переместить некоторых членов ВЦИК и членов коллегий на уездную и волостную работу? Не настолько же мы «обюрократились», чтобы смущаться этим. Найдется много центральных работников, которые охотно пойдут на это. И дело хозяйственного строительства очень выиграет от этого. Не помню дословно, но смысл таков. Значит, естественное выдвижение кадров снизу может благополучно сочетаться в некоторых случаях с такими нарушениями «бюрократической иерархии». К тому же, — добавил Долгушин, — вы не проштрафившихся районных работников послали в колхозы, а хороших коммунистов. Таких, что сами поняли, где их настоящее место.
— А вообще-то за все время Советской власти слишком много мы навыдвигали работников снизу верх, — сказал Опёнкин. — На кой-какие кресла, что освобождаются сейчас в учреждениях, можно бы совсем никого больше и не сажать. Или хотя бы повременить, присмотреться хорошенько: а как оно, не будет большой беды, если эту должность совсем упразднить? Вот же инспекцию по определению урожайности ликвидировали как класс — и ничего, живем не хуже, как и жили.
— Аппараты у нас разбухли непомерно, — согласился Долгушин. — То, что намечено сейчас по сокращению аппаратов и передвижению оттуда людей на производство, я думаю, это только начало большого государственного дела. Очень трудного дела! Сопротивление ему будет яростное. До сих пор, сколько мы ни сокращали, заметных результатов не видно. В одном учреждении сократят штаты, в другом раздуют, из одной графы штатного расписания вычеркнут работника, в другую впишут — и опять все по-старому.
Дорога за селом пошла лучше — старый, запущенный грейдер с почти заровнявшимися кюветами. Разбитый лед перемешался с талым снегом и песком. Машина не скользила. Шофер Василий Иванович попросил у Мартынова папиросу, закурил, откинулся на спинку сиденья, отдыхая.
— Штаты нужно сокращать так, как при товарище Дзержинском беспризорников ловили, — сказал он. — Я тогда работал шофером в нашем уездном наробразе, знаю, отвозил их в детские колонии.
— А как их ловили? — поинтересовался Опёнкин.
— В одну ночь сразу во всех городах. Кинутся из Белгорода в Харьков — и там их ловят. В Курск — и тут на них облава. Некуда податься!
Все засмеялись.
— Значит, рекомендуешь в один день по всему Советскому Союзу, во всех учреждениях на столько-то процентов?
— Ну да. Чтоб без перебежек…
— Всякий раз, когда мы заводим речь о сокращении аппаратов, мне кажется, что мы не добираемся до главного, — вступил в разговор Митин. — Ведь не только в каком-нибудь маслопроме сидят лишние писаря. В самих партийных и советских органах много ненужных должностей. Ей-богу, у меня в райсовете столько работников, что иной раз приходится придумывать, чем их всех занять, чтоб не зря жалованье получали. А в области! Насмотрелся я там чудес, когда работал по орошению. Сколько параллелизма, лишней суеты! И в обкоме партии, и в облсовете одни и те же отделы, одними вопросами люди занимаются, одинаковые решения готовят, только там подписи, печать обкома, а там — облсовета. Или вот учреждение — облплан. Во всех отделах облсовета есть плановики, а в областном Управлении сельского хозяйства есть своя плановая группа и еще, кроме того, облплан. Тридцать человек изнывают от тоски, некуда день убить. Вот и планируют, сколько должны сдавать колхозы кож крупного рогатого скота поквартально, при таком-то проценте падежа.
— Можно мне еще слово сказать? — оглянулся на Мартынова Василий Иванович, пожилой человек, далеко уже за пятьдесят, седой, шофер с тридцатилетним стажем. — Еще хочу сказать о штатах… Я в нашем райкоме партии работаю с тридцать первого года. «Студебеккер» был у нас тогда легковой, напополам с райисполкомом. Откуда он взялся у нас, не знаю, должно быть, еще в революцию у какого-то помещика отобрали. Секретаря райкома возил и предрика. И жалованье мне платили сообща — половину райком, половину рик. Так вот, ежели припомнить то время, легче или труднее было работать районным руководителям? Район был большой, потом его разукрупнили, два района из него сделали. Коллективизация только начиналась, все еще не построено, не налажено. Раскулачивание проходило, банды были. Каждую ночь то в одном селе, то в другом какое-нибудь происшествие. Труднее, по-моему, было тогда работать. И сколько ж было народу в райкоме? Ну, секретарь, конечно. Тогда не называли еще первый или второй, просто секретарь. Заместителем у него был зав… забыл, каким отделом.
— Заворготделом, — подсказал Опёнкин.
— Так, заворг его звали. Ну, культпроп еще, тот больше по массовой работе, с докладами выступал. Потом еще была у нас по женской работе, женорг, товарищ Змиевская, рябая, некрасивая, трубку курила, как калмычка. Еще пара инструкторов, управдел, он же и на машинке печатал, конюх при выездных лошадях, ну и я, стало быть, шофер, пол-единицы, так меня и звали шутейно: в райкоме звали Василием, а райисполкоме Иванычем. Вот и весь аппарат. Работали, не гуляли. Управлялись. Для перекурки, правда, времени мало оставалось. Так же и в райисполкоме, лишних не было. Раз, два — и обчелся. Райисполком помещался в том доме, что сейчас пионерам отдали. Кабинет председателя и три комнатки небольших — все там умещались. Работы было больше, а работников меньше.
— Правильно, — подтвердил Митин. — У меня отец работал в те годы председателем Ясновского райисполкома, я всех помню, кто к нам в гости приходил. На Первое мая все сотрудники за одним столом усаживались. А сейчас, если мне пригласить на праздник в гости мой аппарат, надо иметь в квартире такой зал, как в Министерстве иностранных дел для приемов. Четырнадцать отделов. Два освобожденных заместителя! Зачем они нужны?..
Мартынов только кивал головой и изредка вставлял в разговор слово-два, соглашаясь с тем, что говорили Василий Иванович, Долгушин и Митин. Он уже не хмурился, посматривая на Долгушина: директор Надеждинской МТС достаточно ясно изложил свои взгляды на вопросы, одинаково, оказывается, волновавшие их.
— И главное зло тут, по-моему, даже не в том, — сказал Мартынов, — что мы расходуем лишние миллионы рублей на зарплату управленческим работникам. Это материальные убытки. Но мы расплачиваемся за раздутые штаты еще и другим, что дороже всяких денег. Мы портим людей. Десять человек должны подписать какую-то важную бумажку, и никто не решается первым сказать «да» или «нет». Прячутся один за другого. Есть кому и за кого спрятаться. Перестраховка и безответственность — вот к чему привыкают люди там, где громадные штаты. Сокращение аппарата нужно в первую очередь для него же, для аппарата! Для улучшения его работы!
— А коллегиальность? — легонько толкнул Мартынова локтем в бок Долгушин.
— Вот у нас и коллегиальность некоторые поняли так, как в Верхне-Никольском мою статью, — сердито возразил Мартынов. — Шиворот-навыворот поняли! Согласовывать и увязывать до бесчувствия — так поняли коллегиальность. Пять человек на такую работу, где и один может справиться. Это уже не коллегиальность, а коллективная бестолковщина!
— Я не совсем еще вошел в курс дела, — сказал Долгушин, — но кажется мне, что даже у нас, на самом низу, в МТС много лишних людей в администрации.
— Да, если посчитать, на сколько прибавилось штату во всех наших трех МТС, пожалуй, больше окажется, чем было раньше в райсельхозотделе, — кивнул Опёнкин.
— Но тогда все специалисты жили в райцентре, а теперь все же ближе к колхозам спустились, — заметил Митин.
— Еще ближе надо бы кой-кого спустить! Прямо в колхоз, на трудодни!
— Ну, тебе дай волю, Демьян Васильич, ты бы и самого секретаря райкома перевел на трудодни.
— А что? Чем плохо? И секретаря райкома, и председателя райисполкома. Не на трудодни, но все же надо как-то увязать вашу зарплату с колхозной доходностью. Чтоб был вам интерес лучше руководить колхозами!
— Демьян Васильич давно мне об этом толкует, — сказал Мартынов. — Вообще-то резонно. В одном районе колхозники получают по пяти рублей на трудодень, в другом — по полтиннику, а зарплата для районных работников одинаковая. Выходит: производственники все на сдельщине, а руководители на поденной оплате.
Минут пять ехали молча. Шофер вдруг рассмеялся.
— Чего ты? — спросил Опёнкин.
— Да вспомнил один случай. Как мы на том «студебеккере» ездили… Запчастей к нему не достать, резина латаная-перелатанная. Двадцать километров проедешь — десять раз баллоны накачиваешь. Света не было, а по ночам ездить приходилось частенько. Фонарь «летучую мышь» вешал на радиатор. А однажды такой был случай. Едем мы с секретарем райкома ночью из Семидубовки. На заднем сиденье у нас заврайфо товарищ Некрашевич. Верх на кузове у этого «студебеккера» был кожаный, толстая кожа, в палец толщиной, с носорога, должно быть, или с того зверя, что в воде живет, как его…
— С бегемота, — подсказал Митин.
— Вот, с бегемота. Толстая, но трухлая, потрескалась вся от давности, в дождь даже кое-где протекало. Вот едем мы, пассажиры мои дремлют, а, знаете, когда люди рядом с шофером спят, и ему трудно со сном бороться. Едем, дорожка неважная, поперек паханого поля, яма на яме. Секретарь райкома похрапывает, заврайфо носом в спину мне клюет, и у меня глаза стали слипаться. Ка-ак подбросит нас на колдобине, думал, вот тут наша катафалка и рассыплется на кусочки! Нет, едем дальше, даже мотор не заглох. Едем и слышим с секретарем: хрипит кто-то, голос откуда-то загробный, не то из-под машины, не то сверху: «Сто-о-ойте-е!» Что такое? Оглянулись, смотрим и не поймем, что случилось. Товарищ Некрашевич вытянулся во весь рост, стоит, плечами уперся в потолок, а головы не видать. Оказывается, его так подкинуло на той колдобине, что он головою тент пробил, а кожа хоть и гнилая, но твердая, толстая, взяло его под жабры и не пускает голову назад, руки в машине, а голова снаружи, повис и хрипит оттуда, со двора: «Сто-о-ойте-е!..» Вот какое было происшествие. После этого в райкоме без смеху смотреть не могли на товарища Некрашевича. Пришлось ему просить перевод в другой район.
Посмеялись. Разговор с делового перекинулся на разные воспоминания.
Опёнкин стал рассказывать, как он работал в товариществе по совместной обработке земли, еще до сплошной коллективизации, трактористом на «фордзоне»; как они выжимали из этой американской техники все, что можно было выжать: и пахали «фордзоном», и косили, и молотили, и мельницу крутили, и свадьбы гуляли, украшая трактор разноцветными ленточками и цепляя к нему целый поезд телег; как владельцы «фордзонов» устраивали на районной выставке в День урожая тракторные гонки и как он однажды завоевал первый приз на таких гонках — детекторный приемник и четвертную бутыль водки.
Митин, оказалось, в прошлом был летчиком гражданского воздушного флота и мелиоративный институт окончил уже после того, как его отчислили из авиации по нездоровью — сердце стало шалить. Он рассказал несколько случаев из своих полетов: как однажды попал в сильную грозу и чуть не погиб; как сажал машину на деревья в лесу, когда отказал мотор и небольшая высота не позволила дотянуть до поля за лесом.
Проехали еще одно село, Василий Иванович заговорил было опять о ночлеге, его никто не поддержал.
Дождь не утихал. По балкам бежали ручьи, как весной. За селом спустил баллон. Шофер промок до нитки, пока сменил скат. Мартынов заставил его снять стеганку и верхнюю рубаху, дал ему свое пальто. В машине было жарко от печки. Поехали дальше.
Из Долгого Яра машина выбралась своим ходом лишь до половины горы. Подъем пошел круче, колеса забуксовали на ледяной, омытой дождем дороге, «Победа» дергалась из стороны в сторону и не подвигалась вперед ни на сантиметр, даже как бы сползала понемногу назад, вниз. Слева от дороги показывался в свете фар молодой березовый лесок, справа, за редко расставленными полосатыми столбиками, чернел глубокий обрыв.
Как ни уютно было в теплой машине, под непромокаемой крышей, надо было вылезать на дождь и толкать.
— Эх, погодка! — открыв дверцу, прокричал Опёнкин. — У кого папиросы в кармане, советую выложить. А ты сиди, Илларионыч. Хоть ты не мокни. Сиди для груза, сцепление будет лучше.
Втроем стали подталкивать «Победу», оскальзываясь на льду в темноте, падая в лужи. Натужно ревя мотором, по метру в минуту машина двигалась вперед.
— Идет, идет! — поддавая могучим плечом под задок кузова, покрикивал нараспев Опёнкин. — Раз, два, взяли-и! Еще разок! Иде-ет! Еще раз! Недалечко!..
И тут вдруг навстречу с бугра, из-за поворота узкой дороги, блеснув фарами, высунулся грузовик. Громадная пятитонная машина шла на хорошей скорости, и зад ее забрасывало по льду то вправо, то влево. Водитель ее либо принял в попутном селе граммов двести «от сырости», либо ни рулевое управление, ни тормоза уже не слушались его на скользком спуске — машина неслась с горы прямо на буксовавшую у края дороги «Победу».
Опёнкин, Митин и Долгушин еле успели отскочить в сторону. Рев мотора пятитонки, звон бьющегося стекла, скрежет железа… Последнее, что слышал Мартынов, теряя сознание от удара обо что-то головой, был отчаянный крик Василия Ивановича: «Что же ты делаешь, бандит? У меня же люди…» — и «Победа» покатилась по крутому откосу, несколько раз перевернувшись, в глубокий, метров пятьдесят, яр. А грузовик с залепленными снегом и грязью номерами и без фары сзади, пройдя немного «юзом» и чуть не сорвавшись тоже в обрыв, выровнялся, свернул опять на дорогу и скрылся под горою за поворотом, в темноте.
…Пока Опёнкин с Долгушиным выносили из яра живых, дышавших, но не приходивших в сознание Мартынова и Василия Ивановича, Митин добрался до ближайшей деревни на горе, взял там в колхозе лошадей с повозкой и примчался к месту аварии. В ту же ночь Мартынова и шофера доставили в районную больницу.
Василий Иванович, с проломами черепа и разбитой грудной клеткой, умер ночью в больнице на операционном столе. Мартынов к утру очнулся. У него были переломаны ноги, руки и ключицы. Врачи за жизнь его не опасались, но пролежать в больнице, в гипсе и бинтах, ему предстояло несколько месяцев.
Не вовремя и надолго вышел Мартынов из строя.
Вторым секретарем в Троицком райкоме партии работал Василий Михайлович Медведев. К нему и перешли временно обязанности первого секретаря.
Дел Медведев от Мартынова никаких не принимал, напутственных слов не выслушивал — врачи с неделю не допускали к Мартынову никого, кроме жены, — обстановка в районе ему была известна, просто пересел из своего кабинета в кабинет первого секретаря и оттуда стал разговаривать по телефону с директорами МТС и председателями колхозов уже более требовательным и строгим голосом, нежели позволяло ему раньше его скромное положение второго секретаря.
Медведев долгое время не то не находил себе места среди других руководителей района, не то неуверенно чувствовал себя в малознакомой сельской обстановке — был он тем «пятым колесом» у машины, без которого ехать можно и которое возят лишь про запас, на случай аварии. Молчаливый, с неизменной предупредительной улыбкой на лице, когда к нему обращались, вежливый, обходительный, как будто даже слабохарактерный, он иной раз с утра до вечера просиживал в райкоме за подготовкой очередной лекции или чтением полученной райкомовской библиотекой новой литературы, и за целый день его никто не беспокоил ни телефонным звонком, ни посещением. Коммунисты из колхозов, приезжая в район по разным делам, заходили к нему лишь в том случае, когда, кроме него да дежурного по общему отделу, в райкоме больше никого не было.
Медведев окончил педагогический институт в 1939 году и успел поработать учителем в своем родном городе Низовске до войны всего один год. Первые месяцы Отечественной войны он провел на фронте, был ранен под Смоленском, около года пролежал в госпитале в Саратове, потом, встретив в городском военкомате родственника, устроился туда делопроизводителем, там и находился до конца войны. Демобилизовавшись, вернулся в Низовск, к матери, поработал немного на старом месте учителем, а затем получил назначение на должность директора семилетки.
Учился Медведев в свое время в школе и институте отлично. Не пропало для него и время службы в Саратовском горвоенкомате: много читал, посещал вечерние курсы марксизма-ленинизма. В Низовске вскоре обратили внимание на образованного коммуниста, точного в формулировках, с хорошей памятью на цитаты, способного прочитать лекцию на любую тему: «О диалектическом и историческом материализме». «О противоречиях между американским и английским империализмом», «О коммунистической морали и этике». Его зачислили в лекторский актив. В школе у него дела шли неплохо, успеваемость была приличная, никаких жалоб из школы от учителей и учащихся в городские организации не поступало. Молодой, статный, благообразный, с высоким лбом философа, всегда чисто одетый, в толстых очках с золотой оправой, директор школы Медведев становится все более заметной фигурой в городе. Через год-полтора его взяли на работу в горком партии пропагандистом, а еще через год он стал заведующим отделом агитации и пропаганды и был избран членом бюро горкома.
Прошлой весною его вызвали в обком и спросили, не хочет ли он переехать в Троицкий район, к Мартынову вторым секретарем? Медведев слышал от работников обкома о Мартынове, что это человек с тяжелым характером, заносчивый, что к нему хорошо относится первый секретарь обкома и он поэтому зазнался; что из-за него «полетел» опытный старый кадровик Борзов, что с ним нелегко сработаться, что он третирует работников своего аппарата, что вообще держится на своем месте лишь до «больших перемен» в области и прочее. Подумав, Медведев дал согласие. Отказываться от такого быстрого продвижения на партийной работе не следовало. А насчет «больших перемен» в обкоме действительно ходили тогда упорные слухи: Крылова хотели забрать будто бы в Москву, в аппарат ЦК.
Но и Крылов остался пока на месте, и Мартынова никто не собирался снимать. И у Медведева, вопреки ожиданиям, за все время, что он работал в Троицке, не было крупных стычек с Мартыновым. Сам Медведев старался всегда обойти спорные вопросы, чаще отделывался молчанием на бюро или осторожно присоединялся к большинству, когда уже было ясно, как поделятся голоса. Да и Мартынов не проявлял недобрых чувств к нему, не «зажимал» и не третировал его.
Не было стычек, но не было у них и душевной близости. Мартынов не очень загружал его колхозными делами, больше требовал от него помощи по части партийной учебы, лекционной пропаганды, работы с интеллигенцией. В хозяйственной жизни района ближайшим его советником был Руденко, а после него новый предрайисполкома Митин. Часто Мартынов то с Руденко, теперь с Митиным засиживался в своем кабинете до поздней ночи. Медведева не звали, да и сам он не заглядывал к ним «на огонек», даже когда шел мимо райкома домой из кино или с какого-нибудь собрания. Не очень интересовали его эти беседы, мечты вслух о будущем района, строительство в тиши ночной «воздушных замков». Если какие-то вопросы назрели, можно о них и днем поговорить, в официальном порядке, на заседании бюро или исполкома райсовета.
Руденко однажды пошутил: «На Кавказе часы проверяют по реву ишаков, а у нас их можно проверять по приходу товарища Медведева на службу и уходу домой — каждый день минута в минуту!»
Когда зимой перед памятным собранием партактива Мартынов, раздумывая, как «сломать лед», завел разговор с Руденко и Медведевым, что надо бы кому-то из них начинать, и Медведев отделался кислыми шутками, понял Мартынов, что, если нажать и заставить его все-таки подать заявление о посылке в колхоз, толку из этого не будет. С тех пор он просто как бы не стал замечать Медведева. Встречался и разговаривал с ним только по делу. Не мог забыть того ночного разговора в райкоме и перебороть в себе неприязнь к Медведеву. По должности были они люди самыми близкими друг к другу — первый и второй секретари, а по душе — чужими.
И вот случилось, что Медведев на неопределенное время стал первым секретарем Троицкого райкома партии.
И, как бывает иногда с такими, как будто не уверенными в своих силах, на вид мягкими и деликатными людьми, лишь сел Медведев за стол первого секретаря, как появился у него и крик, и стук кулаком по столу, — возможно, от этой самой неуверенности, — и такие выражения в телефонную трубку, что у девушек на почте уши краснели, и начальственная осанка, и первые признаки молодого, еще не окрепшего, не развившегося по-настоящему самодурства.
Троицкие коммунисты наблюдали за ним с удивлением, не веря своим глазам и ушам: наш ли это тишайший, добрейший Василий Михайлович Медведев, не подменили ли человека?..
Недели за две до начала полевых работ проходил пленум райкома. Обсуждался вопрос о весеннем севе. Это был первый пленум, который самостоятельно проводил Медведев. Доклад сделал Митин. Развернулись, как всегда, прения.
Выступил инструктор райкома по зоне Надеждинской МТС Зеленский и рассказал, что делается в колхозах, где четыре месяца тому назад были выбраны новые председатели. В его группе было три таких колхоза: «Борьба», где председателем работал бывший райпрокурор Нечипуренко, «Вехи коммунизма», куда поехал Руденко, и «Рассвет», где выбрали председателем бывшего инспектора по определению урожайности Бывалых.
Зеленский рассказал много хорошего о работе первых двух председателей, взявшихся за дело энергично, с душою, и обрушился на Бывалых, который, по его мнению, просто саботировал: тонко придерживался такой грани, чтоб и не потерять партбилет за полный развал дела, но и чтоб не держали его там долго, чтобы все же удрать из колхоза не позднее лета.
Говорил Зеленский и о предстоящем весеннем севе, о посевах кукурузы и закончил свою речь в смысле внутренней логики вообще-то правильно, но по форме выражения так, что кой-кому резнуло ухо:
— Все же, товарищи, нам нужно продолжать укреплять колхозные кадры, а таких бездельников, где они еще остались, гнать в шею! И тогда мы справимся со всеми нашими задачами! Кадры решают все! С хорошим председателем, с хорошими бригадирами никакая кукуруза не страшна!
В зале засмеялись, а Медведев, строго нахмурившись, не сводя глаз с усевшегося на место Зеленского, тут же вышел из-за стола к трибуне и «дал отпор» его выступлению.
— Что хотел сказать товарищ Зеленский этими словами: «никакая кукуруза не страшна»? Значит, по его мнению, кукуруза — культура страшная? С нею страшно, опасно иметь дело? Да, такой вывод можно сделать из его слов. Он не сказал об этом прямо, но это мы уловили между строк. Видимо, товарищ Зеленский против решения Цека и обкома!..
Сразу же после закрытия пленума Медведев позвал членов бюро в свой кабинет, чтобы обсудить «антипартийное» выступление Зеленского.
Растерявшийся Зеленский не знал, что и сказать в свое оправдание.
— Да я же ничего, товарищ Медведев! Я же не против кукурузы. Зачем вы цепляетесь к слову?
За него вступился Нечипуренко — он, Руденко и Жбанов оставались еще членами бюро до очередной партийной конференции.
— Что мы тут делаем из мухи слона? К чему такая архибдительность? Ничего антипартийного не вижу в выступлении Зеленского! Ясно же, что он хотел этим сказать. Что хороший председатель справится с этой культурой, сумеет и посеять сколько нужно, и убрать, и засилосовать. А плохой председатель завалит это дело. Факт! И есть еще у нас такие председатели!
Бывшего прокурора поддержал Руденко:
— Зачем нам глаза закрывать на правду? Действительно, кукуруза — новая у нас культура, нет еще у нас опыта, как ее выращивать. Если от нее хозяйству большая выгода, то и трудности будут большие, особенно на уборке. Время подойдет и сахарную свеклу копать, и зябь пахать, и озимые сеять. Траншей надо много вырыть под силос, облицевать их. Куча работы! А товарищ Зеленский вот сообщает, что в «Рассвете» по-прежнему половина колхозников сидит дома, семена некому чистить. Какая же там будет кукуруза? Ее же обрабатывать некому будет. А если и уродит, так осенью до ума не доведут, не уберут, не засилосуют. Я так понял Зеленского: чтоб был в колхозе хороший урожай, нужен хороший председатель. Правильно сказано! О чем спорим? Не все наши добровольцы работают на совесть. И Корягин в «Пятилетке» тоже воет на луну, поглядывает, как бы махнуть через тын. Аппендицит вырезали — теперь на сердце жалуется, в обморок уже два раза падал на заседании правления. Не на то порох тратим, Василий Михайлович! Не Зеленского бы нам тут распинать, а подумать о таких колхозах, что с ними делать. Стоит ли держать там дальше в председателях этих нытиков припадочных?..
Митин и другие члены бюро тоже не нашли повода, чтобы «распинать» Зеленского. Медведев остался в меньшинстве. За его предложение объявить выговор Зеленскому голосовали только он и Жбанов.
Закрыв заседание бюро, Медведев встал, рывком отодвинул кресло, вышел из-за стола, повернулся к окну и стоял молча, не оборачиваясь и не прощаясь, пока все разошлись.
Руденко и Нечипуренко, пройдя длинный темный коридор и выйдя на крыльцо, переглянулись с невеселой усмешкой и разом тяжко вздохнули: «Охо-хо-хо…» Руденко пропел сквозь зубы, застегивая крючок под воротником овчинного полушубка: «Начинаются дни золотые-е…»
Нечипуренко сразу поехал домой на попутном «газике» Долгушина, а Руденко постоял немного, подумал, зашел в магазин, купил банку клубничного варенья и пяток лимонов, разыскал во дворе райкома своего конюха с санями и подъехал к больнице, где лежал Мартынов, большому красивому, в готическом стиле дому, принадлежавшему некогда князю Барятинскому, в сосновом парке на окраине Троицка. Врачи допускали уже к Мартынову посетителей, и редкий день у него обходился без гостей из колхозов.
До поздней ночи стояли сани Руденко в затишке под каменной оградой больницы, конь, привязанный вожжами к телеграфному столбу, подбирал, нагибаясь и позвякивая удилами, брошенное ему под ноги сено, сторожко поводил ушами, прислушиваясь к глухому гудению проводов в вышине на сыром мартовском ветру, а конюх, опорожнив перед дальней дорогой четвертинку и закусив домашним салом, сладко храпел на санях под двумя тулупами.
Ушел Руденко от Мартынова, наговорившись вдосталь обо всех районных делах, лишь когда дежурная сестра стала уже гасить свет в палатах. Закурив папиросу, умащиваясь поудобнее в санях, спиною к ветру, оглядываясь на высокое, со шпилями, исчезавшее в темноте за поворотом дороги здание больницы, Руденко бормотал про себя: «Нас — на передовую, а сам — в медсанбат… Непорядок, непорядок! Угораздило же тебя, Илларионыч! Кого оставил за себя? Хлебнем мы, кажется, с этим ортодоксом горячего до слез!..»
Особенно трудно пришлось без Мартынова директору Надеждинской МТС Долгушину. В сложный переплет попал этот человек в свою первую деревенскую, за пятьдесят с лишним лет жизни, весну…
Из всех горожан, приехавших на работу в Троицкий район, Долгушин был, пожалуй, самым «высокопоставленным» по должности, занимаемой до посылки в деревню, — заместителем начальника главка в Министерстве черной металлургии. В его учетной карточке значились такие посты: уполномоченный Наркомтяжпрома на крупном строительстве на Востоке, директор завода в Донбассе, заместитель директора треста. В гражданскую войну он служил в ЧОНе (части особого назначения), был в комсомоле с 1918 года, в партию вступил в 1925 году.
Среди других приехавших в деревню специалистов Долгушин повел себя необычно. Не обращался в райсовет за помощью насчет жилья, снял себе комнату, пока был еще без семьи, в доме одного бригадира на усадьбе МТС, получил сразу же в госбанке причитающийся ему долгосрочный кредит и стал понемногу закупать лес и прочие материалы для строительства собственного дома в Надеждинке.
Медведев заметил тогда Мартынову:
— Хочет показать, что приехал к нам навсегда и не думает о возвращении в Москву. Пыль в глаза пускает. Как будто нельзя продать дом в случае, если будет отсюда удирать. Еще заработает на этом доме тысяч пять.
На что Мартынов неопределенно пожал плечами.
— Поживем — увидим. Ему уже пятьдесят четыре года. Он мне говорил: «Много шатался но свету, а теперь уж буду устраиваться так, чтоб здесь и доживать на пенсии, когда выйду по старости в тираж». Посмотрим, как будет работать. Зачем заранее плохо думать о человеке.
А работать оказалось нелегко. Знал Долгушин, когда ехал в деревню, что ему предстоят большие трудности, но такого все же не ожидал.
Надеждинка была одной из тех забытых министерством и областью молодых, организованных после войны на голом месте МТС, которым как дали в первом году тракторы, прицепной инвентарь, несколько изношенных станков для ремонтной мастерской и мизерную сумму денег на самое необходимое обзаведение, так с тех пор и не отпускали больше ни копейки на капитальное строительство. Тракторы, комбайны, сеялки, культиваторы — все зимовало в снегу, да и ремонтировалось почти на снегу, если не считать сарая, крытого соломой, с жердевыми необмазанными стенами, куда можно было загнать на ремонт сразу не больше трех тракторов.
О Надеждинке забыли, да и сам бывший, последний перед Долгушиным, директор МТС Зарубин не очень старался напоминать о ее существовании, чтобы не нажить себе лишних хлопот в виде строительства новой мастерской или общежития для трактористов. Зарубин был бесцветной личностью, из тех руководителей, о которых в народе после их снятия «ни сказок не рассказывают, ни песен не поют». Единственное, чем вспоминали Зарубина, — поразительное незнание им дорог в зоне своей МТС. За три года, что пробыл директором, он запомнил дорогу только в колхоз «Верный путь», где его жена работала акушеркой, да еще в один-два самых богатых колхоза, хотя и сам водил «газик». Однажды заехал в тракторную бригаду, стал ругать трактористов за то, что плохо пашут, а те смотрят на него с удивлением: откуда ты взялся у нас, такой начальник? Оказалось, не в свою бригаду попал, по ошибке в соседний район заскочил. Ни дорог в колхозы не знал, ни своих трактористов в лицо.
Кроме того, Зарубин не отличался большой точностью в сводках областным организациям. После уже, когда Долгушин стал немного разбираться в тракторах, а Зарубина отозвали из района и он уехал по торговой части куда-то на Камчатку, Долгушин обнаружил, что семь дизелей в числе принятых им ходовых машин, деньги на ремонт которых получены и уже израсходованы, нуждаются не в капитальном даже, а в восстановительном ремонте.
Принял он МТС с арестованным счетом в госбанке, с двухмесячной задолженностью по зарплате рабочим и служащим, с перерасходованным лимитом горючего, без ремонтной базы, с почти голой усадьбой. Даже лампочку над письменным столом в обшарпанном директорском кабинете Зарубин выкрутил, как собственную, и унес домой.
Чем больше знакомился Долгушин с положением в МТС, тем сильнее негодовал и недоумевал. Однажды, уже перед весною, он зашел в райком к Медведеву и высказал ему свое возмущение.
— Вот только сейчас, Василий Михайлович, когда растаяли сугробы, я вижу все хозяйство МТС, вижу наш инвентарь и в каком он состоянии. И я просто поражаюсь: как Петр Илларионыч, вы и товарищ Руденко — он тогда был председателем райисполкома, — как вы отпустили с миром из района Зарубина. Ведь за такие дела расстреливают! Это же государственные миллионы!
Медведев выслушал его с неудовольствием.
— Не с того начинаете, товарищ Долгушин. Этим не поправите положение, что будете валить вину на предшественника. Пора уже самому что-то сделать видное в МТС. Для того вас и послали туда, чтобы вы наладили дело.
— Сам знаю, — отвечал Долгушин, — что это не бог весть какая доблесть охаивать все, что было до тебя, и в этом искать оправдание сегодняшним непорядкам. Но, знаете ли, то, что я увидел, переступает всякие границы терпимого. Не могу молчать об этом. Если я поработаю в Надеждинской МТС года три и в таком виде стану передавать ее новому директору — и меня нужно будет судить как вредителя… Два года тому назад МТС получила пять новеньких льнокомбайнов, хотя, как вам известно, льна мы не сеем ни гектара. Какой-то растяпа, если не хуже, заслал их в нашу область вместо другой области — Псковской, может быть, не знаю, где лен сеют. И Зарубин ничего не сделал, чтобы эти льнокомбайны перебросили куда следует. Не писал в министерство, не обращался ни в областное управление, ни в обком, никуда. Поставили их на усадьбе МТС на проходном месте, кому нужны гайки, болтики — идут, откручивают, и сейчас от этих комбайнов остались одни скелеты. Новые машины, каждая стоит десятки тысяч рублей. А жнейки! Я принял в числе прочего инвентаря двадцать конных жнеек. Они были переданы под сохранные расписки в колхозы. На прошлой неделе я проверил в четырех колхозах, где эти жнейки, в каком они состоянии. И следа от них не нашел! В «Коммунаре» только видел на поле колеса и раму от одной нашей жнейки. Оказывается, их в колхозах растащили по частям и употребили на ремонт своих жнеек. Боюсь, что все двадцать постигла такая участь. Из пяти новых зерновых комбайнов, полученных в прошлом году, два, как мне доложил главный инженер, требуют уже капитального ремонта. Да что ж это такое? И человек, который отвечает перед государством за эти миллионы, благополучно, с партийным билетом, уехал в другую область на новую работу!
— Он был не в нашей номенклатуре. Не мы ведаем перебросками таких работников.
— «Не мы ведаем»… Он коммунист, Василий Михайлович, и мы коммунисты! — возражал Долгушин. — Ведь он же где-то и там, на Камчатке, будет губить народное имущество, разваливать дело! Скажите просто: умыли руки. Не захотели затевать скандала. Надо выносить решение, а потом отстаивать его перед областью, Москвой. Пусть уж убирается от нас с богом. Где угодно пусть вредит государству, лишь бы не в нашем районе… Я не понимаю, как можно было за три года ничего не построить на усадьбе! Трактористы за пятнадцать километров ходят из сел на ремонт тракторов. Три-четыре часа поработают и идут домой. Нет общежитий. Не давали ему средств на капитальное строительство, так можно было что-то сделать, хоть немного, своими силами, хозяйственным способом, мобилизовать как-то народ! Собрал бы жен трактористов — осенью, когда еще было тепло, — привез бы их на усадьбу: «Вот смотрите, в каких условиях ваши мужья ремонтируют тракторы», — и они бы, в порядке воскресника, обмазали глиной этот сарай, что мы называем мастерской. Чтоб хоть снегом станки не засыпало.
Медведев, перелистывая бумаги на столе с видом очень занятого человека, которому не до лишних разговоров, кисло усмехнулся:
— Ну вот посмотрим, посмотрим, как у вас пойдут дела, как вы там будете мобилизовывать народ.
— Я прошу, товарищ Медведев, — твердо сказал Долгушин, — не только смотреть, как у меня пойдут дела, но и помогать мне.
— Вот как! — поднял голову Медведев. — Значит, вы считаете, что райком вам не помогает?
— По совести сказать, пока что помощи я видел мало, — сказал Долгушин, глядя в толстые стекла очков Медведева, за которыми нельзя было разобрать ни цвета его глаз, ни их выражения. — Когда вы мне звоните и требуете, чтобы к такому-то числу был закончен ремонт последних тракторов, нельзя сказать, чтобы вы раскрывали передо мною какие-то новые перспективы, которых я сам еще не видел. Я был бы круглым идиотом, если бы не понимал, что перед весенним севом полагается отремонтировать весь тракторный парк. Но как инженер, имевший дело с машинами, я знаю, что тракторы должны быть не только в срок отремонтированы, но и хорошо отремонтированы. Мне уже известно, что в прошлом году Зарубин первым по области рапортовал об окончании зимнего ремонта тракторов, а на весеннем севе у него половина машин стояла… Когда я сижу на заседании бюро райкома и три оратора подряд называют меня человеком, лишенным чувства ответственности, не дорожащим государственными интересами, непонимающим, недооценивающим, неуважающим, несознающим и так далее, — не могу и это признать помощью. Вряд ли это может кого-нибудь окрылить в работе. Я выхожу из райкома просто в недоумении: зачем же меня, такого ничего не понимающего бездельника, назначили директором МТС…
— Насколько мне помнится, бездельником вас еще никто не называл, — сказал Медведев.
— Хуже! Преступником называли!.. — рассмеялся Долгушин. — И не кто иной, вы сами называли, Василий Михайлович! Когда вы говорите на бюро, не указывая на меня пальцем, что Надеждинская МТС преступно срывает ремонт тракторов, то кто же все-таки там этот первый и главный преступник? Конечно, я, директор МТС.
Медведев, выпрямившись в кресле, начал нервно постукивать согнутыми пальцами по столу.
— Ну, это вы, дорогой Христофор Данилович, бросьте! Это мы вам не позволим! Не удастся! Не выйдет!
— Что?
— Вам не удастся лишить нас, райком партии, права руководить! Требовали и будем требовать от всех наших коммунистов ответственности в выполнении государственных заданий! Не вы руководите районом, а мы! А в какой форме требовать, это уж разрешите нам знать. У нас не институт благородных девиц, в выражениях мы не стесняемся. И исключений не делаем никому. Для нас все директора МТС и председатели колхозов равны. Мы не будем смягчать форму наших требований для некоторых товарищей, принимая во внимание их высокое положение в прошлом.
Долгушин пожал плечами.
— Дело не в прошлом моем положении, а в настоящем… Я помню первый наш разговор, в этом же кабинете, с товарищем Мартыновым и с вами, когда я приехал. Мне была обещана помощь.
— Какой же вы еще хотите помощи?
Долгушин помолчал минуту.
— Я прошу вас, товарищ Медведев, усилить политическую работу в нашей МТС. У нас есть зональный секретарь товарищ Холодов, ему надо помочь нащупать главное. Он, может, человек и не пустой, но как-то не нашел еще себе места. То он пытается встать надо мною в роли начальника политотдела, то превращается в мою тень, ездим вместе, и он повторяет вслед за мною те же слова, что я говорю колхозникам. Было бы бестактно, если бы я стал учить его, как ему следует построить свою работу. А вам это можно и нужно сделать… И еще прошу вас: займитесь колхозными парторганизациями.
Медведев снял очки, протер носовым платком стекла. Глаза его были опущены, глядели в чуть выдвинутый ящик стола. Лицо, обычно свеже-розовое, с приятным матовым оттенком кожи, словно припудренное, покраснело. Одна бровь подергивалась.
— Да? Вы советуете нам заняться колхозными парторганизациями? — насколько смог спокойно сказал Медведев. — К вашему сведению, мы всегда ими занимались и занимаемся. Этого от нас требуют обком и Цека. Мы не ждали ваших указаний по этому поводу… Насчет Холодова я запишу и проверю, что у вас там получается, кто над кем пытается встать. — Медведев сделал пометку в настольном блокноте. — А колхозы вообще-то не ваша печаль, товарищ Долгушин. Знайте свой тракторный парк, комбайны, трактористов, прицепщиков и не лезьте, куда вас не просят.
— Нет, простите, товарищ Медведев, — тоже подчеркнуто спокойно возразил Долгушин, — я не собираюсь уподобиться бывшему директору Зарубину, который не знал дорог в колхозы. Я буду знать эти дороги, буду ездить по ним, уже езжу. В решениях пленумов Цека записано, что машинно-тракторные станции отвечают за все колхозное производство, за урожай, за надой молока, за настриг шерсти. И не только за производство. Заготовки, строительство, учеба колхозников — за все отвечает МТС. Как же я могу не лезть в колхозы?.. Я не знаю, Василий Михайлович, как вы занимаетесь колхозными парторганизациями, но я встречаюсь кое-где с такими фактами, что у меня с непривычки, после работы в промышленности, волосы дыбом встают. На заводе ведь не бывает, чтоб половина коммунистов, состоящих в парторганизации, болталась без определенных занятий и не принимала никакого участия в производственной жизни. Можно ли себе представить, чтоб там собирались на партийное собрание и обсуждали вопросы жизни завода коммунисты, не имеющие никакого отношения к заводу, к производству? Праздношатающиеся коммунисты? Начальники без портфелей? Этого на заводе не бывает и быть не может. А в колхозе «Рассвет» у товарища Бывалых именно так обстоит. Там четыре бывших председателя колхоза, снятых за всякие провинности, бывший заготовитель, бывший кладовщик. На рядовые работы не идут, слоняются по селу без дела, ожидают, пока подвернется еще какая-нибудь должность, хотя бы экспедитора в сельпо или заведующего паромом. Что же это за парторганизация? А на секретаря Чайкина у меня в МТС уже десять жалоб от колхозников. Он заведует молочносливным пунктом. Обсчитывает колхозников на процентах жирности… Вы спрашиваете, товарищ Медведев, чем мне еще нужно помочь. Не мне — колхозам нужно помочь. Если мы хотим добиться большого подъема в массах колхозников, то надо же в первую очередь коммунистов поднять. Так всегда было в нашей партии — коммунисты шли в авангарде.
— Спасибо за сообщение, — Медведев склонил голову в вежливом полупоклоне. — У нас в плане работ на апрель записано: провести через нашего инструктора обследование работы парторганизации колхоза «Рассвет» и заслушать на бюро отчет секретаря товарища Чайкина. Как видите, и без вас информация к нам поступает. Ваши новости не первой свежести.
— Тем хуже! Чего же вы терпите там такое положение?
— А что прикажете сделать? Снять секретаря? Исключить из партии бывших председателей? Избиение учинить? Кто нам утвердит такое решение?..
— Не знаю, кто утвердит. Поговорить надо с этими неработающими коммунистами. Если не проймет, может быть, придется и исключить кой-кого из партии. Надо разобраться, во всяком случае, с этой парторганизацией!..
— Разберемся. А вы, товарищ Долгушин, во всяком случае, учтите, что с вас, директора МТС, мы в первую очередь все же будем спрашивать за работу тракторов, за качество сева, за сроки выполнения спущенных вам производственных планов, а не за воспитание коммунистов и не за колхозные избы-читальни. Не отвлекайте наше внимание в другую сторону. — Тут голос Медведева сорвался наконец на крик. — И колхозы мы вам на откуп не отдадим! Райком партии руководил и будет руководить колхозами! Мы свои обязанности знаем! А вы, товарищ директор МТС, знайте свое место!..
— Министерские привычки… — бормотал Медведев дрожащими губами, вытирая платком потное лицо, поглядывая на дверь, закрывшуюся за Долгушиным. — Хочет превратить свою МТС в удельное княжество! Райкому указывать!.. Парторганизации, наши инструкторы — это, видите ли, для него, ему в помощь!.. Подсобные службы… Ну, погоди, мы собьем с тебя спесь! Шелковым станешь! Будешь навытяжку вставать вот перед этим столом, в этом кабинете!
А Долгушин, усаживаясь в доставшийся ему по наследству от Зарубина, видавший виды, с разнокалиберными скатами, погнутыми, дребезжащими открылками и дырявой, облезлой фанерной будкой директорский «газик», думал, пожимая плечами: «Или просто не умен, хотя и считается в районе образованным марксистом, или…»
А что еще «или», и самому Долгушину было пока не ясно.
Вот так с самого начала сложились у него отношения с Медведевым.
Вторая трудность была у Долгушина — полное незнание сельского хозяйства. Не знал и не понимал он первое время в сельском хозяйстве ничего решительно, до смешного. Есть горожане, выходцы из деревни, которые хоть в далеком детстве гоняли лошадей в ночное или воровали на бахчах арбузы. Долгушин ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте никакого дела с деревней не имел. Узнал он немного деревню, лишь когда в отрядах ЧОНа гонялся за бандами. А после он видел ее только из окна вагона, едучи куда-либо железной дорогой.
Долгушин вырос в семье мелкого кустаря-лудильщика на Волге, в городе Вольске. Дед его, цыган, был изгнан из табора за то, что сошелся с русской женщиной. Отец, по наружности тоже цыган, был оседлым уже с рождения. И Христофор вышел лицом в деда. Часто на базаре цыгане, приняв Долгушина за соплеменника, заговаривали с ним на своем языке, но он в ответ лишь разводил руками и смеялся: не знал ни слова по-цыгански.
Жена Долгушина была по происхождению крестьянка, до восемнадцати лет жила в деревне, пахала, боронила, вязала снопы. И вот к ней-то первое время, когда она еще жила в Москве, Долгушин и обращался частенько за консультацией по разным сельскохозяйственным вопросам.
Поздно ночью, оставшись один в конторе МТС, он вызывал почту и заказывал номер своей московской квартиры.
— Люда? Здравствуй! Разбудил?.. Ну, как живешь?.. Коля пишет? А от Нади есть письмо?.. Ну хорошо, хорошо… Дом? Пока только навез кучу бревен. Не скоро, пожалуй, отстроюсь. Придется тебе переезжать пока на квартиру… Да вот так, как и я живу, у хороших людей… Ничего, ничего, перетерпим. Весна на носу, сама понимаешь — не до строительства мне сейчас… Милочка, вот у меня к тебе вопрос. Перерыл все справочники, нашел разные породы коров: сентимен… симментальскую, костромскую, холмогорскую, ярославскую, швицкую, шортгорнскую, бестужевскую, остфризскую, а яловой не нашел. Часто слышу и не знаю, что это за порода — яловая?.. А?..
Из далекой Москвы доносился в трубке сначала сонный и недовольный, а затем повеселевший, смеющийся голос:
— Дружок мой, это не порода. Это нестельные коровы.
— Как?.. Давай по буквам. Никифор, Елена, Степан, Терентий, Елена, Леонид, мягкий знак… Так. А что значит — нестельные? Которые уже не ходят с телятами? От которых отняли телят?..
В трубке слышался хохот.
— Ох ты, господи, и зачем только таких городских пижонов назначают директорами МТС!..
— Ну ладно, брось смеяться, ты мне объясни по-человечески.
— Это небеременные коровы. Понятно тебе? Такие, что или вообще почему-то не способны давать приплод, или перегуливают.
— Ага, понятно. Не желают рожать, чтоб фигуру не испортить. И молока, конечно, такие красавицы дают меньше?..
— Меньше, меньше. Совсем не дают!
— Так, учтем… Милочка, вот еще вопрос. Какими машинами шаруют сахарную свеклу? Не вижу никаких шарообразных орудий на нашей усадьбе и спрашивать людей как-то неловко. Тут уже одного главного инженера в соседней МТС прозвали «зябликом» за то, что сказал: «зябликовая пахота»… А-а, вот что такое шаровка. Понятно… А это правда, что куры могут нести яйца и без петухов? Не разыгрывают меня колхозницы? Я вот на одной птицеферме здесь видел одних кур… Правда?.. Ну, спасибо. Нет, пока все. Хочу поездить дня два по колхозам, тогда еще будут вопросы… Какие отношения с начальством? Да так себе… Ничего, наладятся… Почему поздно звоню? После двенадцати ночи — по дешевому тарифу. Ну, отдыхай, спи. Прости, что побеспокоил. Целую. До свидания!
Но Долгушин зря опасался, что к нему может пристать какое-нибудь смешное прозвище, вроде «зяблика». Люди в МТС видели, что он берется за дело по-честному, всерьез, приехал в деревню не в гости, и охотно шли ему на помощь в изучении сельского хозяйства. Никто и не думал потешаться над его городской «необразованностью». Все знали, что он инженер-металлург, был, возможно, большим специалистом в промышленности, а что не пришлось ему повидать, как сеют и убирают хлеб, что ж тут удивительного. Так сложилась жизнь человека — все по городам, заводам, по металлу. Колхозники, простой народ, очень деликатны и чутки к новому, приехавшему к ним на работу человеку, будь он трижды горожанин, если только видят, что он действительно хочет жить и работать в деревне и всерьез интересуется их исконной земледельческой профессией, не ленится встать на зорьке, пройти пешком по полям, не гнушается похлебать с ними полевого супа «кандёра» и не зажимает нос надушенным платком, переступая порог свинарника. Пожилые колхозники помнили и двадцатипятитысячников-рабочих, и политотдельцев, которые поначалу тоже не знали сельского хозяйства, но были хорошими организаторами и с задачами, поставленными перед ними партией, справились успешно.
Добровольных учителей у Долгушина нашлось очень много. Даже шофер Володя, с которым он ездил на «газике», молодой парень, только что отслуживший действительную в армии, часто останавливал, без просьбы директора, машину среди пути, молча выходил на обочину дороги и подзывал к себе Долгушина.
— Вот тут, Христофор Данилыч, вспахано под зябь просто так, без предплужников. Видите — гребни корневища сверху. А вот это — с предплужниками. Как слитая пахота, и вся дернина уложена на дно борозды. Можно чуть тронуть боронкой, в один след, и сеять. А вот это мы называем — огрех. Заснул, должно быть, тракторист и поехал с плугом не туда. Вон какую балалайку бросил. А вот это — перекрестный сев, озимая пшеница. Видите — и так и так рядки. А делается это вот для чего.
Володя садился на корточки и начинал чертить сухой бурьянинкой по земле, показывая, как размещаются семена в почве при обычном севе и при перекрестном, как увеличивается площадь питания для каждого зернышка и устраняется угнетение одного растения другим. И хотя Долгушин знал уже о таком способе сева от своих агрономов и из литературы, он терпеливо выслушивал и эти объяснения молодого своего наставника, чтобы не отбить ему охоту рассказать в другой раз, может быть, и такое, что ему, Долгушину, было еще не известно. Володя окончил в армии школу шоферов и там же прослушал курс лекций по агрономии, готовясь по возвращении домой поступить в сельхозтехникум. Но домашние обстоятельства — болезнь матери и маленькие братишки и сестренки — не позволили ему уехать на учебу. Пошел работать в МТС шофером.
За зиму Долгушин если еще не на практике, то все же хоть в теории овладел основами земледелия и животноводства. Дни у него были до отказа заполнены деловой сутолокой на усадьбе МТС, вызовами в область, в район, отчетами, сводками, заседаниями, совещаниями. Если Долгушина вызывали в областной центр, он прихватывал с собою и кого-нибудь из своих специалистов, агронома или зоотехника, чтобы всю дорогу в поезде, туда и обратно, десять часов, в разговоре с ним выуживать из его знаний необходимое и полезное для себя. На сессии райсовета Долгушин подсаживался в задних рядах к какому-нибудь старому опытному председателю колхоза и, если выступления ораторов были неинтересны, все шептался с ним, расспрашивал, как он ведет хозяйство, какие культуры в какие сроки высевает, как при нехватке леса думает обернуться со строительством и т. п.
Для сна Долгушин оставлял четыре-пять часов в сутки. Завалил свою квартиру учебниками, сборниками агрономических статей, читал и перечитывал ночами нужные книги по нескольку раз, занося все непонятное в особый вопросник для консультации со своими специалистами или с женой, при очередном телефонном разговоре с нею. Даже из художественной литературы в Когизе внимание Долгушина в первую очередь привлекали книги с сельскохозяйственными названиями: «Жатва», «Урожай», «Комбайнеры», «Глубокая борозда».
Инженер-металлург, старый коммунист, Долгушин отнесся к своему переезду на работу в деревню как к боевому приказу партии. За тридцать лет пребывания в партии он привык только так принимать ее поручения: как приказ, который надо выполнить беспрекословно, даже не заикаясь о трудностях, не щадя себя, думая лишь о деле, отодвинув все остальное на задний план.
Неладно складывались отношения у Долгушина и с Управлением сельского хозяйства.
Ему, свежему человеку из промышленности, выработавшийся в этом областном учреждении стиль руководства машинно-тракторными станциями показался просто пародией на руководство.
За зиму у него в МТС перебывало десятка два всяких ответственных работников из областного управления. Бог знает зачем они приезжали. Ответственными они числились лишь по штатной ведомости там у себя, в учреждении. Здесь же, «на поле боя», они были обыкновенными сборщиками сводок и не решали самостоятельно ни одного вопроса, ни большого, ни малого. «Что делать с этими семью «ДТ-54», на ремонт которых еще Зарубин получил и израсходовал деньги?» — «Не знаем». — «Как быть, если глубокая пахота по системе Мальцева потребует горючего больше против норм? Дадите добавочные лимиты?» — «Не знаем». — «Планировать ли в колхозах на весну новые лесозащитные насаждения? Будет ли финансироваться это дело?» — «Не знаем». — «Можно колхозам отказаться от договоров с Водстроем, который дерет бешеные деньги за строительство колодцев, и бурить скважины собственными силами, если найдем специалистов и оборудование?» — «Не знаем». — «Вернут нам комбайны, которые в прошлом году отправили на уборку на Восток? Планировать их ремонт? Или заменят их новыми?» — «Не знаем». — «Ну, сможете хотя бы помочь нам достать шифер на крышу новой мастерской, если поставим стены своими силами?» — «Не знаем».
Пустая трата времени на разговоры с такими «ответственными» начальниками…
Бумаг из областного управления в МТС стали слать меньше, чем раньше. При Зарубине дневная почта весила до килограмма, при Долгушине уменьшилась граммов до трехсот — четырехсот. Зато стало больше телефонных звонков из разных отделов. Редкий день обходился, чтобы директора не вызвали к телефону раз семь-восемь только из областного управления, не считая районных организаций. Настойчивый и сердитый голос требовал лично директора, его разыскивали по всей усадьбе. Он прибегал, запыхавшись, в контору, но оказывалось, что нужны всего лишь сведения о количестве вывезенного навоза за последние два-три дня после десятидневной сводки — для какого-то неочередного доклада обкому.
Долгушин терпел, терпел — шесть-семь таких звонков, и рабочий день пропал начисто! — а потом установил в общей комнате бухгалтерии второй телефонный аппарат, спарил его со своим и завел такой порядок: при звонке трубку поднимал кто-нибудь из работников бухгалтерии, спрашивал, кто звонит и откуда. Если звонил кто-нибудь из колхоза, то без дальнейших расспросов стучали в стену Долгушину, и он брал трубку и разговаривал. Если же звонок был из областного управления, то первый подошедший к телефону сотрудник обязан был подробно расспросить, по какому вопросу хотят говорить, и, в зависимости от характера вопроса, направить позвонившего либо к главному агроному, либо к зоотехнику, либо к главному инженеру, либо просто к статистику. И выяснилось, что в большинстве случаев нетерпеливых и грозных областных начальников вполне мог удовлетворить цифрами из своей неразлучной потертой и замызганной папки Онуфрий Артемьевич, статистик МТС.
С этим спаренным телефоном получился как бы бюрократизм, но необычный — снизу, по отношению к вышестоящему органу. И действительно, в областном управлении сельского хозяйства за директором Надеждинской МТС в первые же месяцы его работы утвердилась репутация заядлого бюрократа.
Однажды ему позвонил заместитель начальника областного управления.
— Это директор Надеждинской МТС?
— Да.
— Говорит Федоров. Можете назвать несколько фамилий лучших трактористов, отличившихся на зимнем ремонте тракторов?
— Нет, не могу.
— Что?!
— Не могу назвать фамилий.
— Почему?
— Не знаю фамилий трактористов.
— Какой же вы директор МТС, если не знаете фамилий своих трактористов? Как вас там держат?
— Вот так и держат. Нет пока лучшего на мое место. Терпят.
В кабинете Долгушина рядом с ним сидел зональный секретарь Холодов. У него глаза на лоб полезли от такого разговора. На столе лежал только что подписанный Долгушиным приказ, в котором он объявлял благодарность десяти лучшим трактористам-ремонтникам. Холодов потянулся одной рукой к телефонной трубке, другой — к списку трактористов. Долгушин спокойно отстранил его.
— Так что же будем делать, товарищ директор? — гремел раздраженный голос в трубке. — Мне, что ли, приехать к вам и самому на месте узнать фамилии лучших ваших ремонтников? И вам их потом сообщить?
— Приезжайте, будем рады. А скажите, товарищ Федоров, вы знаете фамилию директора Надеждинской МТС?
— Как? Не понимаю. А… что вы этим хотите сказать… товарищ… Долгушин?
— Да, Долгушин. У вас в области директоров МТС меньше, чем у меня трактористов. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мы, кажется, не поздоровались с вами.
— Здравствуйте… Христофор Демьянович.
— Данилович. Ну, неважно. Вспомнили мою фамилию? Ну и я запомнил фамилии трактористов, могу вам назвать их. Записывайте. Торопов Семен Ильич… По буквам: Терентий, Ольга, Роман, Ольга…
Не от хорошей жизни прибегал Долгушин к таким крутым мерам «воспитания» начальства, и эти крутые меры в свою очередь не способствовали улучшению его жизни. Все же в руках Федорова и других начальников были и лимиты, и кредиты, и снабжение, какое ни есть, там и шифер, и лес, и цемент. А «ласковое теля двух маток сосет». Не научил никто Долгушина этой мудрости с детства, а под старость уже поздно было учиться. Да и характер его не принимал таких мудростей…
В довершение всего и Холодов стал дуться на Долгушина. Медведев сдержал свое обещание поговорить с Холодовым и помочь ему составить план работы, но поговорил так, что получилось, будто Долгушин приходил в райком с жалобой на бездеятельность зонального секретаря. Холодов стал чаще выезжать в колхозы самостоятельно, без директора, но с этих пор завел у себя на квартире особую тетрадку, вроде дневника, куда по вечерам заносил все обнаруженные безобразия в колхозах и МТС. Не всегда рассказывал он об этих безобразиях Долгушину, не для сообщения директору вел учет им. В этой же тетрадке он отвел место и для самого Долгушина, для всех его «трюков», вроде спаренного телефона и разговора с заместителем начальника областного управления. Ничего хорошего эта «особая папка» Холодова не предвещала.
До Мартынова стали доходить в больницу самые разноречивые слухи о директоре Надеждинской МТС. Рассказывала ему о Долгушине, что слышала от людей, и жена. Были у него и Руденко, и Грибов, и Щукин, и Рыжков. Редактор районной газеты и Саша Трубицын показывали ему письма, полученные в райкоме и редакции из Надеждинской МТС, с подписями и анонимные. Одни корреспонденты называли Долгушина актером, позером и бюрократом, другие горячо вступались за него, считали его настоящим коммунистом, а бюрократами называли тех, кто стал ему с первых дней работы в МТС чинить препятствия. Показал ему как-то Трубицын и донесение Холодова Троицкому райкому (копия обкому КПСС) о «художествах», как тот писал, директора Надеждинской МТС, где с большой точностью были перечислены все ошибки и промахи, совершенные Долгушиным за время его работы в МТС.
Мартынов передал Медведеву записку через Трубицына, попросил Медведева зайти к нему в больницу.
— Знаешь, Василий Михайлович, — сказал Мартынов, — я думаю, нам нужно бы для пользы дела перевести Борзову из Семидубовской МТС в Надеждинку к Долгушину. На ту же работу — секретарем парторганизации МТС.
— За Марьей Сергеевной дважды уже приезжал ее муж из Борисовки. Уговаривает ее вернуться к нему.
— Да?.. Почему — вернуться? Не она ведь ушла от него, он отсюда уехал без нее и не принял ее, когда она ездила туда.
— Не знаю, как у них было. Зовет, в общем, в Борисовку. Он опять пошел в гору. Заместителем председателя райисполкома работает. А сейчас там председатель болеет тяжело, отправили его на лечение — Борзов третий месяц сидит в райисполкоме за хозяина.
— А, вон что. И, вероятно, посоветовали ему исправить свою бытовую ошибку? Разошелся с этой лаборанткой, чтобы не портила ему анкету, и зовет назад Марью Сергеевну с детьми?.. Ну и как она? Собирается переезжать?
— Ничего пока не заявляла нам.
— А если не заявляла, что ж… Вот, я думаю, надо бы сделать так. В Семидубовке зональный секретарь Кольцов — сильный работник. С Глотовым у них ладится. Старик тоже из тех коммунистов, что интересы партии на мелочи не разменивают. В общем, там у нас благополучно. Сработаются. А вот у Долгушина с Холодовым что-то не получается. Дело пахнет не контактом, а конфликтом. И кто прав, кто виноват — трудно пока разобраться. Оба для нас люди новые. Надо бы туда еще нашего проверенного работника. Марью Сергеевну туда — секретарем парторганизации.
— А в Семидубовку кого секретарем?
— Там можно из местных коммунистов выбрать.
— Нехорошее это дело — перебрасывать часто людей с места на место. Она в Семидубовке успела без году неделю поработать. Ну, если настаиваешь, поговорю с нею и обсудим на бюро, — согласился не очень охотно Медведев.
Прощаясь с Мартыновым, осторожно коснувшись кончиков пальцев его правой забинтованной руки, лежавшей поверх одеяла, Медведев заметил с некоторым неудовольствием:
— А вообще-то, Петр Илларионович, ты же сейчас на бюллетене. Чего беспокоишься? Лежал бы себе, почитывал романы. Я тебе пришлю двухтомник О’Генри, американские рассказы. Вчера взял в Когизе. Занятные рассказы.
— Литературы-то у меня хватает. — Мартынов повел левой рукой вокруг себя, указывая на белые больничные табуретки, заваленные газетами и журналами. — Да, ты прав, — усмехнулся он. — Я на бюллетене и формально, так сказать, не у дел. В отставке на неопределенное время. Вы вообще можете к черту послать меня с моими советами. Пока я болен — ты первый секретарь. Но давай, Василий Михайлыч, без формализма. Заходи ко мне почаще. Ум — хорошо, два — лучше… Или думаешь, что я уже из больницы не вернусь на старое место? Привыкаешь к самостоятельности? Не знаю, может быть, и не вернусь. Месяца два еще проваляюсь. Воды за это время много утечет. А там — как обком решит.
Марья Сергеевна, узнав, что это рекомендация Мартынова, и будучи тоже наслышана о Долгушине как об интересном человеке, дала согласие на переезд в Надеждинскую МТС. Через неделю она уже была избрана там секретарем парторганизации.
Из райкома позвонили в МТС Холодову и сказали, что Медведев требует представить ему к двенадцати часам дня социалистические обязательства на весенний сев всех бригадиров тракторных бригад и трех-четырех трактористов от каждой бригады.
Бригадиры по случаю последних сборов перед выездом в поле были все на усадьбе МТС. Были здесь и трактористы. Холодов разыскал Марью Сергеевну и вместе с нею быстро «оформил» понадобившиеся Медведеву сведения. Перед тем как передать их по телефону в райком, они зашли к Долгушину, показали ему список трактористов, взявших обязательства.
Долгушин, внимательно прочитав бумажку, усмехнулся, отложил ее в сторону, придавил пресс-папье.
— В десять часов, говорите, позвонили? И потребовали представить к двенадцати часам? И вы уже это дело провернули? Быстро, быстро!.. Марья Сергеевна! Когда вы были трактористкой, вы тоже вот так необдуманно давали соцобязательства? Называли первую пришедшую в голову цифру?
Борзова покраснела.
— Я, Христофор Данилыч, если обещала вспахать за сезон столько-то гектаров, то все учитывала, как именно я это смогу сделать. И сколько обещала, столько и вырабатывала.
— Все учитывали, говорите? А когда ж эти ребята, — Долгушин провел пальцем по списку, — успели все учесть? Они же это вам на ходу говорили, а вы на ходу записали… Григорий Петрович! — обратился он к Холодову. — Если эти сведения нужны товарищу Медведеву лишь для формы, то можете, конечно, их передать сейчас. Я-то их не подпишу. Не вижу смысла и пользы в этих взятых с потолка цифрах. Если же это нужно для дела, то прошу вас поговорить с Медведевым и убедить его подождать до завтра. Сегодня я занят, а завтра мы соберем трактористов и потолкуем с ними обстоятельно. Целый день для этого отведем, если ничто не помешает.
Холодов ничего не сказал, взял свой список, сунул в полевую сумку, которую носил всегда на ремне через плечо, и пошел в соседнюю комнату звонить по телефону. Медведев разрешил представить сведения завтра.
На другой день у конторы МТС спозаранку кипела работа: трактористы вынесли из конторы табуретки и брились-стриглись прямо под открытым небом, на легком утреннем морозце. Предприимчивый надеждинский парикмахер, узнав о собрании механизаторов в МТС, сообразил, что в это утро ему представится там возможность хорошо подзаработать. Всем известны уже были новые порядки, вводимые директором Надеждинской МТС. Долгушин не раз делал замечания трактористам в шутливой форме, но довольно неприятные и надолго запоминающиеся, — приходившим на собрание в грязном виде, с небритой неделю бородой, а чуть выпивших просто выпроваживал из своего кабинета; за появление же в нетрезвом виде на работе строго наказывал, штрафовал. Не всем нравились такие «московские» порядки, кое-кто и за это поругивал Долгушина бюрократом.
Трактористы торопили парикмахера:
— Ты по разу брей, Варфоломеич, а то не успеешь всех обработать. Вишь, какая очередь.
— Почище пройди один раз, без огрехов, и хватит — следующего!
— Нету, товарищи, калькуляции, на такое бритье — по разу. Как с вас деньги получать? Скажете: бреет наполовину, а берет деньги полностью.
— Вот законник! Это же с нашего согласия.
— Не бойся, не потребуем жалобную книгу.
— А кто вас знает?
— Нет, уж если один раз брить, пусть и плату берет в половинном размере!
— Вот видите, есть несогласные.
Парикмахер кинул взгляд на свои ручные часы, на ожидающих очереди бородатых трактористов.
— Да, всех не успею привести в порядок. Могу для ускорения дела дать вам две бритвы. Есть умеющие бриться самостоятельно?
— Есть, есть!
— Вот вам и помазок. Мыло я видел у вас в конторе на умывальнике. А вместо зеркала — вон ледок в кадушке с водой. Которые фронтовики — обойдутся таким зеркалом. За амортизацию инструмента на пол-литра мне.
— Много на пол-литра!
— И как ты, Варфоломеич, догадался прийти к нам сегодня?
— Прямо бог тебя к нам послал!
— Это я ему вчера сказал, что у нас собрание.
— Смышлен, смышлен, Варфоломеич!
— И сам подработал, и нас выручил.
— А не то опять бы кой-кому досталось!
— Как тогда директор на Михаила: «Вы что, говорит, в артисты записались? Для киносъемок партизанскую бороду отращиваете?»
— А к Селихову пристал: «Какое у вас несчастье дома случилось?» Тот не поймет, про какое несчастье спрашивает. «Дети у вас померли или жена тяжело болеет? Почему так себя запустили? Так, — говорит, — древние народы траур по покойникам справляли: разрывали на себе одежду и голову пеплом посыпали».
— Ваське дал трояк из своего кармана на бритье.
— А Васька, не будь дурак, пошел домой, побрился сам, а за ту трешницу кружку пива выпил.
— Не взял я у него трешницу! Еще чего не хватало! Будто я по бедности не брился. У меня тогда на щеке, вот тут, чирей сидел.
— Пусть построит нам сначала баню, а потом спрашивает культуру!
— Может, еще прикажет галстуки прицепить к этой робе?
— Это ему, мать его, не в Москве в министерстве по паркету ходить! Посмотрим, каким сам станет, пока сев закончим! Может, еще грязнее нашего коростой обрастет!
Ровно в девять часов Марья Сергеевна позвала всех в кабинет директора. Тот тракторист, что обругал Долгушина, дольше всех, однако, обтирал сапоги соломой, наваленной для этой надобности у крыльца. В небольшую комнату, именуемую кабинетом, снесли все лишние лавки, табуретки и стулья из конторы и заполнили ее так густо, что дверь из бухгалтерии в кабинет можно было приоткрыть лишь с трудом, спрессовав, не жалея сил, уместившихся против нее на длинной лавке трактористов.
Долгушин сидел за столом не только гладко выбритый, но и со следами пудры на лице, в темно-сером, хорошо выутюженном, отличного покроя костюме, в сорочке с белоснежным воротничком, с аккуратно вправленным под шерстяной джемпер галстуком. Выглядел он гораздо моложе своих пятидесяти четырех лет. Даже густая проседь в пышных черных волосах не старила его. Он был, видимо, совершенно не расположен к полноте. По легкой, подтянутой фигуре его можно было принять за вышедшего в запас старого офицера-строевика, хотя в армии он после гражданской войны не служил. Щеку разорвало ему осколком бомбы не на фронте, а при эвакуации одного донбасского завода на Урал.
У края стола сидел Холодов, в военном кителе без погон, красивый мужчина лет сорока, чуть начавший лысеть блондин с темными бровями, бывший сотрудник областного управления МВД.
Подперев щеку рукой, Долгушин посмотрел на усевшихся трактористов, на список, лежавший на столе перед ним, и открыл совещание.
— Вот вы, товарищи трактористы, вчера брали социалистические обязательства на весенний сев, и меня удивило несовпадение между этими цифрами и вот этими. — Он ткнул пальцем в список взявших обязательства и в ведомость производственных заданий тракторным бригадам. — Семен Васильич! Как это получается? По производственному заданию ты должен закончить весновспашку и сев ранних яровых в восемь рабочих дней, а в обязательстве стоит шесть дней? Значит, у тебя есть возможность раньше закончить сев? Может быть, у тебя еще один трактор где-то припрятан? Или открыл какой-нибудь секрет, как повысить выработку машин? Чего ж ты не признался нам, когда мы составляли задания бригадам?..
Бригадир седьмой тракторной бригады Семен Чалый, молодой парень лет двадцати пяти, не сразу сообразил, что это к нему обращается по имени-отчеству директор, и, помедлив минуту, встал.
— Никакого секрета мы не открывали… Это же, товарищ директор, так…
— Как «так»? — вцепился Долгушин.
— Ну, это же необязательно. Это так, для газеты…
— Необязательное обязательство! — рассмеялся Долгушин, и все сидевшие в кабинете заулыбались, кроме Холодова и Марьи Сергеевны. — Вот вы как привыкли брать соцобязательства!
— Конечно, это же добровольно, вроде как наше обещание постараться. А законный план тот, что вы нам дали. За тот план спросят с нас… Нам товарищ Холодов сказал, что надо назвать срок поменьше, чем в производственном задании записано.
— Ну и ты, значит, бухнул: в шесть дней посеем! А сам не надеешься в шесть дней управиться?
— Нет, не надеюсь. Весновспашки дюже много. Чем пахать? Если бы вы хоть один колесник нам заменили дизелем.
— Замены не будет. Машины все распределены. Общая нагрузка у тебя даже ниже средней по МТС. Так, ясно… А ты, Андрей Ильич, — обратился Долгушин к другому бригадиру, — тоже давал свое соцобязательство «так»?
Поднялся бригадир Андрей Савченко, фронтовик, ради собрания не только побрившийся дома, но и подшивший к гимнастерке белый подворотничок и прицепивший орденские колодки.
— Нет, Христофор Данилыч, мы с ребятами это дело обсудили. И с председателем колхоза договорились. Надеюсь, что при таком председателе, как у нас сейчас товарищ Руденко, не придется нам стоять из-за семян или воды. Я не наобум сказал. Сможем в шесть дней управиться с ранними колосовыми. Конечно, не считая плохой погоды, ежели, скажем, дождь перебьет.
— Понятно. В шесть рабочих дней… А как же ты все-таки рассчитываешь поднять выработку против запланированной? За счет чего? Расскажи-ка нам подробно.
— За счет чего?.. Да вот подобрали хороших прицепщиков, не пацанов, таких, что спят на плугах и на пашню сваливаются. Заправляться горючим и водою будем только в борозде, есть уже развозки, лошадей нам выделили с ездовыми. И как рассчитали мы с председателем, через неделю в аккурат будет полнолуние. Такими светлыми ночами на наших полях вполне можно сеять. Лишь бы агроном не запретил. Но я за своих трактористов ручаюсь, что посеют не хуже, чем днем. И сеяльщики у нас мужики самостоятельные, можно доверить им ночную работу.
— Хорошо. Мы с главным агрономом приедем, посмотрим ваш ночной сев. Но ты дал обязательство за всю бригаду. А что трактористы твои скажут? Кто тут есть из твоих трактористов?
Поднялся богатырской комплекции, с пышущими жаром пухлыми щеками и большим животом тракторист Дудко.
— Посеем, Христофор Данилыч, за шесть дней. Отремонтировали трактора так, как никогда еще мы их не ремонтировали. И товарищ Руденко обещается хорошо кормить нас. Завтра кабана колют. А знаете, в здоровом теле и дух здоровый.
— После свинины?.. Тебе, — Долгушин раскрыл один из блокнотов на столе, искоса заглянул в него, — Иван Поликарпович, должно быть, вредно есть свинину. На сердце не жалуешься?
— Ого! — засмеялись трактористы. — У него сердце как у воронежского битюга!
— В прошлом году еще в футбол играл!
— Он на жену только жалуется!
— Почему на жену?
— А не слушайте их, товарищ директор! — смущенно ухмыльнулся Дудко. — Дурочку валяют. Издеваются надо мной, что жену себе взял не по росту. А чего они знают про мою жену? Что с того, что маленькая? Вовсе я не жалуюсь на нее.
Дудко, не зная, что еще сказать, затянул потуже пояс на штанах, вобрав живот, от чего полные щеки его еще ярче заполыхали румянцем, и опустился на лавку.
— Сколько у тебя детей, Андрей Ильич? — спросил Долгушин у Савченко, переждав смех.
— Четверо, с маленьким.
— Уже четверо? Родила жена?
— На прошлой неделе. А откуда вы знаете, Христофор Данилыч, что у меня жена собираясь родить? — удивился Савченко.
Директор обязан все знать, что у него в МТС делается, — усмехнулся Долгушин.
— Уже всех нас по батюшке знают, — подал голос кто-то на задней лавке. — А от товарища Зарубина только и слышали — по матушке.
— Как здоровье жены? Благополучно разрешилась? — продолжал расспрашивать Долгушин бригадира.
— Благополучно. Здорова. Уже работает по домашности.
— Значит, за детей спокоен? Будет в доме хозяйка, мать?.. Слышал я, товарищи, такую хорошую пословицу: домашняя дума в дорогу не годится. Верно сказано? А ваш выезд в поле на всю весну — это же все равно что отправиться в дальнюю дорогу.
— Дом меня не тревожит, Христофор Данилыч, — отвечал Савченко. Подумав, добавил: — Этот дом, что здесь. А вообще-то есть беспокойство. Об другом доме.
— О каком другом?
— Отец наш живет у моего меньшого брата, в Челябинске. Поехал к нему в прошлом году погостить и заболел там. И пишет мне, что очень ему там плохо. Невестка — женщина безжалостная, такая, что только о себе думает, о нарядах да гулянках. Валяется он там без ухода, иной день и супу горячего не похлебает. А брат все в разъездах, в экспедициях, он по геологии работает. Забрать бы надо отца оттуда домой, но кто ж поедет за ним? Мне невозможно отлучиться. Зимою ремонтом был занят, теперь вот посевная начинается. И жену с маленьким не пошлешь. А без провожатого он один не доедет, такую даль. Боюсь, помрет отец и не увижу его больше. Может, вы бы помогли? Если бы как-нибудь договориться, чтоб дали ему оттуда сиделку в дорогу? Я бы ей и билет оплатил в оба конца.
Долгушин посмотрел на Марью Сергеевну, та понимающе кивнула головой и вытащила из своей дамской сумочки маленькую записную книжку.
— Попробуем помочь тебе, — сказал Долгушин. — Вот Марья Сергеевна, секретарь парторганизации, сделала себе заметку. Напишет в Челябинский областной здравотдел, попросим, чтоб отправили твоего отца домой с сиделкой. Должны бы уважить нашу просьбу. И в Цека профсоюза напишем. Поможем… А больше ничего такого нет? Колхоз рассчитался с тобою и с трактористами? Хлеб есть?
— Рассчитались полностью. Вот уже теперь, при товарище Руденко.
— С нами не рассчитались, товарищ директор, — поднялся один тракторист. — Колхоз «Рассвет». Дает нам прелую пшеницу, такую, что и куры клевать не станут, а мы не берем. Мы хорошую пшеницу убирали, а что колхозники погноили ее в кучах на токах — при чем мы? Себе пусть гнилую берут по трудодням, а нам пусть дают хорошую.
— Погоди, Селихов, — остановила его Марья Сергеевна. — Не перебивай. Дойдет до вас очередь.
— Значит, точно рассчитал, Андрей Ильич? — продолжал Долгушин. — В шесть дней можешь закончить сев?.. Рассчитал — и молчишь. А производственное задание тебе на восемь дней. Двойная бухгалтерия получается. Нехорошо. Да садись, чего ты стоишь. За сокрытие резервов в промышленности, знаешь, нашего брата, руководителей, не хвалят… Ну, а ты как, Игнат Сергеич? — глянул Долгушин на бригадира Зайцева, работавшего в колхозе «Рассвет». Тот поднялся с лавки. — Сиди, сиди! Тоже давал обязательство?
— Давал.
— Сколько дней?
— А я не помню. Там товарищ Холодов записали…
Трактористы засмеялись.
— Вот это здорово! Давал обязательство и сам не помнит, на сколько дней!
Зайцев угрюмо поглядел на трактористов.
— Чего ржете? Потому не помню, что это есть одна голая бумажная писанина. Хоть шесть, хоть семь дней скажи — все одно не выполним. Куда нам уложиться в срок! Полмесяца нам долбаться с севом колосовых, а если еще дожди будут перепадать, то и целый месяц.
— Почему у бригадира такое паническое настроение? — нахмурился Долгушин. — В наших руках растянуть или сократить сроки сева.
— Кабы только в наших! Вы, товарищ директор, не знаете еще колхозной работы. Вам показывается, будто вы на заводе, где все в руках этого инженера или рабочего, который к машине поставлен. Нет, у нас маленько не так.
— Да уж разобрался, что не так.
Зайцев все же встал: так ему удобнее было говорить.
— Вот на нас, трактористов, валят всю ответственность за урожай. В ваших руках, мол, техника, вы, механизаторы, всю главную работу на полях делаете своими машинами. Мэтэес — фабрика зерна. Оно-то так, конечно. Похоже маленько на фабрику — дым идет. Только порядку нет такого, как на фабрике. Вот ежели мы, к примеру, пашем, культивируем, стараемся как лучше разделать землю, а колхоз дал негодные семена. Вот тебе и урожай! Либо навоза нет у них, скота не развели, нечем удобрять поля, либо вот, как Селихов говорит, готовое зерно погноили. Вот тебе и фабрика!
— Это я знаю, товарищ Зайцев, что над колхозным урожаем у нас пока два хозяина. Но ты все же объясни, почему целый месяц собираешься сеять?..
— Ну, не месяц, меньше. Это я сказал, если дожди будут нам мешать… С прошлого года беру пример. Как было у нас в прошлом году? И сами ездили «Универсалом» за водой, и поля очищали под пахоту, и сами за прицепщиков работали. Какая она работа, ежели день за сеялкой, а ночь за рулем? Не было у нас ни вагончика, ни кухарки. За харчами домой за десять километров бегали. Опять же, хлынет ливень, негде ребятам обсушиться, расползлись по домам; назавтра с утра хорошая погода, можно бы запускать машины, а они только к обеду в бригаду соберутся. Сколько у нас вот так, дурьм, пропало золотого времени! И в нынешнем году в этом колхозе, Христофор Данилыч, никаких перемен против прошлого не намечается. Опять те же полеводческие бригадиры, самогонщики, бездельники, что все лето под скирдами в карты резались. Будем, значит, опять загорать без прицепщиков и без горючего. Новый председатель там ни рыба ни мясо. Ничуть не лучше старого. Тот был малограмотный и пьяница, так хоть видели его колхозники в поле, хоть глаза мозолил, покрикивал кой-когда на людей. А этот три раза на неделе ездит к жинке в Троицк, покажется в колхозе, как молодой месяц, на час — и закатился. И зачем было посылать этого Бывалых председателем колхоза? Там народ так соображает, что Бывалых не справился на районной должности и это ему сделали вроде как последнее испытание: годится ли он вообще в ответственные работники? Оно-то не вредно, конечно, такой опыт сделать, может, его нужно проверить так, чтобы и партийным билетом больше не козырял, но это же все на колхозе отражается! Время-то идет! Вот он уже там четвертый месяц, весна на носу — и никакого сдвигу! Если верно, что районные организации хотели испытать его, то пора бы уже кончать с ним. Все ясно. И надо, пока не поздно, искать другого председателя… А есть там один человек, член партии, — поднял бы колхоз, дать ему только права в руки!
— Кто? — спросил с интересом Долгушин. — Я там знаю кой-кого из коммунистов.
— Артюхин, Филипп Касьяныч. Не приметили? Старичок такой, с бородкой, в очках, но еще крепкий. Он там у них сейчас на рядовой работе, по ремеслу — кадушки делает, ведра починяет. Человек он вообще замордованный. Пробовал бороться с этой шайкой-лейкой, что колхоз пропивают, так они ему подстроили штуку. Загорелся ночью телятник — а Филипп Касьяныч был тогда заведующим на животноводстве, — ни печку там не топили в тот день, ни корма не варили, и загорелся. Много погибло телят, и помещение сгорело. Выезжала комиссия, установила, что не было у него там каких-то предохранений против пожара, — припаяли ему, в общем, по суду что-то много тысяч, до сих пор выплачивает. И опять же он не унялся, еще написал письмо в Москву, в Цека. Все описал, что у них в колхозе творится. А у этих бандитов дружок-приятель был на почте, перехватил, должно быть, письмо, не пошло оно в Москву. Через сколько там дней едут колхозники с поля, стучат Артюхину в ворота: «Касьяныч! Там в Гадючьей балке твоя корова лежит, дошла уже. Голова порубана топором». Вот так помыкался-помыкался человек — и согнулся. Что сделаешь один против них? Постукивает себе молоточком, обручики набивает, книжки по вечерам почитывает. А дельный старик. Грамотный. У него там дома и Ленина сочинения, и Карла Маркса, и Льва Толстого. Когда он заведовал животноводством, порядок был на фермах! Все делалось по науке, кормов в достатке, падежа не знали. Вот я и говорю: кабы этого Филиппа Касьяныча выбрали председателем, он бы повел дело не так! Только, может, сам не захочет, откажется. Надоело ему уже своей головой рисковать.
— Не знаю Артюхина, — сказал Долгушин. — Может быть, вы, Григорий Петрович, знаете его?
Холодов отрицательно покачал головой.
Долгушин задумался.
— Ты вот, Игнат Сергеич, негодуешь на пьяниц в «Рассвете», а говорят про тебя, что ты и сам грешен по этой части. Говорят, крепко зашибаешь.
— Не крепко, это неверно…
Зайцев, пожилой человек, с сединой на висках, с худым, морщинистым лицом, смущенно потупившись, мял в руках шапку.
— От хорошей жизни не запьешь, товарищ директор… Был за мной грешок. Прошлым летом товарищ Зарубин два раза застал меня в поле выпившим. Так по какой причине я выпил? По той причине, что нет порядку. Трактора стоят, людей нам не обеспечили, бригадиры магарычи за ворованное сено пропивают, никто об урожае не беспокоится. Ну и сам… Упадешь духом и выпьешь с горя… А ежели на то пойдет, чтобы бороться с этим, то обещаю вам в рабочее время не пить. За выходной, конечно, не ручаюсь.
— Хорошо. Запомню твое обещание.
Долгушин внимательно посмотрел на Зайцева.
— А у тебя есть корова, Игнат Сергеич?
— Есть. Корова и телок. Свинья есть.
— Не боишься, что вот этот наш разговор про шайку-лейку станет известным в колхозе и твою корову постигнет та же участь, что корову Артюхина? Или хату спалят?..
— Все может быть, товарищ директор… Как не бояться. Боюсь. Но и терпеть уже невмоготу! — Зайцев поднял голову. — Один посовался было — замолчал, другой будет молчать — что ж оно получится? Читаем газеты, кругом после постановления Цека жизнь пошла в гору, а у нас как в стоячем болоте!
— Ты коммунист?
— Нет, беспартийный… Коммунисты там примирились. А которые и сами замешаны… Есть там один тип, не коммунист, простой колхозник, Кашкин, «демократом» его зовут по-уличному. Когда-то давно, еще до коллективизации, все выступал на сходках: «Я за демократию! За братство, за равенство!» А сам у родного брата в голодный год за пуд муки хату купил; народный суд потом отменил эту куплю-продажу, как кабальную сделку. Вот этот «демократ» любит там коммунистов опутывать! Пасека у него большая, сад, рыбу вентерями ловит, всегда есть у него выпить-закусить. И уж если кого подобьет на грязное дело и привезет себе коммунист украдкой охапку сена или соломы, так этот Кашкин потом, вокруг того коммуниста, себе десять возов сена натаскает!
Долгушин, склонившись к Холодову, сказал ему тихо:
— Вот как, Григорий Петрович, переплетается наше эмтээсовское с колхозным! А Медведев говорит мне: не лезьте в колхозы. Как же не лезть? И наша тракторная бригада не может работать в полную силу, если такое творится в колхозе!
Холодов молча, как бы соглашаясь, кивнул головой.
— Ну, теперь еще расскажи нам, Игнат Сергеич, про свою бригаду. — Долгушин откинулся на спинку стула. — Насчет колхоза ясно. Ну, а как ты сам подготовился к севу? В каком состоянии машины? Как качество ремонта? Обкатал машины, испробовал? Как с прицепным инвентарем? В чем имеешь нужду? Какие у тебя претензии к нашей мастерской, к главному инженеру?
Зайцев рассказал, чего недостает ему из инвентаря, какие нужны запасные части. Беседу с ним Долгушин завершил так:
— Значит, главное, что нам нужно сделать поскорее, — навести порядок в колхозе «Рассвет». Так?
— Так, Христофор Данилыч. Дальше терпеть нельзя.
— Порядок наведем.
Холодов вскинул глаза на Долгушина и тотчас опустил их. На губах его скользнуло нечто вроде улыбки. Его поразил самоуверенный тон директора.
— Наведем порядок. И если не будет тебе никаких помех со стороны колхоза, за сколько дней сможешь управиться с ранними колосовыми?.. Ты же старый механизатор, Игнат Сергеич, двадцать лет стажа, не одну, а три собаки съел на этом деле! И трактористы у тебя как будто неплохие.
— На трактористов не обижаюсь. Есть двое без практики, с курсов, ну ничего, подучим…
— Так за сколько рабочих дней?..
Зайцев сел, вытащил из внутреннего кармана пиджака, будто из-за пазухи, замасленную ученическую тетрадку, где у него было выписано количество гектаров весновспашки, культивации, сева, нормы сменных выработок, раскрыл ее и долго молча шевелил губами, что-то подсчитывая про себя.
— На таких условиях, — улыбнулся наконец Зайцев и решительно хлопнул тетрадкой себя по колену, — могу, Христофор Данилыч, подписать обязательство на семь рабочих дней!
— Вот это деловой разговор! Без паники. Твердо?
— Твердо! Лишь бы вы свои обещания выполнили.
— Жму руку. — Долгушин встал и потянулся через стол. — Марья Сергеевна! Разбивай, за свидетеля.
Борзова, под громкий смех трактористов, сильно рубанула ребром ладони по черным от въевшегося в поры кожи масла, заскорузлым, толстым пальцам бригадира, крепко сжавшим небольшую белую руку директора.
— Так и запишем… Бригада номер девять. Бригадир Зайцев. Сев ранних колосовых за семь рабочих дней.
Целый день продолжался такой разговор директора с трактористами. Было выяснено все: и обнаруженные в последние дни недостатки ремонта машин, требующие немедленного устранения, и обстановка в колхозах, и взаимоотношения тракторных бригад с полеводческими, и характер, слабости отдельных трактористов и бригадиров, и их семейные дела. Для себя Долгушин, кроме того, много узнал нового о сельскохозяйственной технике и особенностях предстоящих посевных работ в каждом колхозе. Лишь обдумав и обговорив все, бригадиры со своими трактористами брали и подписывали социалистические обязательства на весенний сев.
— А теперь, — подвел Долгушин итоги собрания, — давайте условимся, что будем в своей работе следовать такому правилу: обещал — сделай! Я всю жизнь провел среди рабочего класса на заводах. Там люди дорожат словом, привыкли слово товарища считать реальной вещью. Там не дают обязательства «просто так», для газетки, как понял было это дело товарищ Чалый. Такие обязательства — это болтовня, липа. Болтовню будем изгонять из нашей жизни беспощадно! Я не для того потратил день на разговоры с вами, чтобы этот список с вашими обязательствами завести в красивую рамку, повесить вот тут и любоваться им. Я буду требовать выполнения обязательств. И поскольку мы здесь всем нашим собранием выяснили, что обязательства эти не фантастические, вполне реальные, мы, руководство МТС, пересмотрим производственные задания бригадам. То, что взято в обязательствах, будет записано и в производственные задания. Не к чему нам вести этот двойной счет — один для дела, другой для болтовни. Будем отныне заниматься с вами здесь, в Надеждинской МТС, только делом! Есть возможности сократить сроки сева ранних колосовых — сократим. И еще запланируем дополнительно какие-то работы тракторному парку на эти дни. Вот видите, как это важно — выполнить свое обязательство! На нем будут построены все расчеты. Не выполнит один, не выполнит другой — подведете МТС, сорвете все расчеты. А МТС — это твои товарищи, друзья по работе, это большой рабочий коллектив. Не подводить товарищей, не бросать слов на ветер; дав слово, помнить его как присягу! Самый опасный в обществе человек, слову которого нельзя верить. Пустую болтовню долой из нашей МТС! Вот так будем жить с вами, друзья.
Хотя всех разморило от жары и духоты в переполненном кабинете, ни один тракторист не задремал на этом необычном собрании, продолжавшемся — с небольшими перерывами для куренья — часов шесть. С кем бы ни вел разговор директор, слушать этот разговор было интересно и поучительно всем.
— Много вы им наобещали, Христофор Данилыч, — сказал Холодов, открыв форточку и закуривая, когда трактористы, захватив с собою скамейки и табуретки, на которых сидели, вышли из кабинета.
— Так же, как и они нам, — ответил Долгушин. — И чтобы они свои обещания сдержали, нам надо сдержать свои. Очень прошу вас, Григорий Петрович, заняться колхозом «Рассвет». Думается мне, что вам там найдется работа и по вашей бывшей профессии следователя.
— Возможно, — согласился Холодов.
— Не кажется ли вам, дорогие товарищи, — сказал Долгушин, надевая пальто и шапку, весело поглядев на Марью Сергеевну и Холодова, довольный, видимо, удачно проведенным собранием трактористов, — что я сегодня отбил у вас кусок хлеба?
— Да, нашу с Григорием Петровичем зарплату за сегодняшний день надо перечислить вам, — ответила в тон ему, шутливо, но все же смущенно Марья Сергеевна. — Такое собрание трактористов нам нужно было провести вчера! Я сегодня, слушая вас, многое поняла.
Но Холодов не сдавался:
— А соцобязательста в основном остались те, что мы записали. По двум бригадам только изменили, — сказал он, запихивая свои блокноты в туго набитую разными документами полевую сумку. — Цифры были правильные.
— Души не было в тех цифрах, Григорий Петрович! — горячо возразила ему Борзова, не думая в ту минуту, что критика — вещь не всем приятная и что рискованно называть бездушной работу старшего по должности товарища.
Разошлись из конторы МТС в разные стороны. Долгушин пошел пообедать на свою квартиру, к бригадиру Смородину, который жил тут же, на усадьбе, за мастерской, в бывшем поповском доме, — в поповском потому, что сама МТС обосновалась на бывшей церковной площади и контора стояла как раз на месте разобранной немцами в войну для ремонта моста через Сейм старой деревянной церкви. Холодов поехал на «газике» в Троицк, в райком, докладывать о проведенном собрании трактористов. А Марья Сергеевна пошла в село, где жила тоже пока на частной квартире, у одной бывшей учительницы, пенсионерки, которая охотно присматривала за ее детьми, когда она отлучалась из дому. Надо было постирать белье себе и ребятам, наварить, напечь им чего-нибудь побольше — перед выездом с тракторными бригадами в поле на посевную.
Холодов не выехал в «Рассвет» ни на другой день, ни на третий. Ему мешали разные, как он говорил, «оперативные дела»: он выполнял какие-то срочные поручения райкома, собирал сведения, составлял ведомости, передавал их по телефону и лично отвозил в Троицк, задерживаясь там всякий раз до ночи.
Посевная началась недружно. Почва плохо подсыхала из-за ночных заморозков. Местами, где на южном склоне можно было уже кое-как пахать и сеять, тут же, через перевал, на северном склоне плуги по самую раму утопали в грязи и тракторы буксовали в борозде. Но все же гектаров по пять — семь кое-где в колхозах удавалось посеять за день.
Холодов посоветовал Долгушину не давать пока сводок в район о таком выборочном севе.
— Почему? — удивился Долгушин.
— Потому, что с первой же сводки нам зачтут начало сева. И если мы потом даже закончим сев раньше других МТС, все равно будет считаться, что мы сеяли не семь-восемь рабочих дней, а двенадцать — пятнадцать.
— Черт возьми! — сказал Долгушин. — Мы с вами, Григорий Петрович, вместе начали работать в сельском хозяйстве. И моложе вы меня лет на пятнадцать. Но откуда у вас такой житейский практический опыт? Я бы ни за что не догадался!
— Передадим ли мы в район сводку или не передадим, все равно в область она оттуда не пойдет до начала массового сева.
— Да?.. В область не пойдет?
— Но внутри района будут считать, что мы начали сев такого-то числа.
Долгушин подумал.
— Значит, можем очутиться на последнем месте в районе по севу?.. Но как же так: посеяно уже почти двести гектаров — и молчать?.. Ладно, дело товарища Медведева передавать или не передавать сводку в область, а мы в район передадим. Не будем копить гектары про запас. В конце концов, Григорий Петрович, первенство на севе еще ничего не решает. Дело в урожае. Из сельскохозяйственных пословиц мне очень нравится одна: цыплят по осени считают.
В колхоз «Рассвет» поехал на второй день массового сева сам Долгушин.
Он был еще мало знаком с работой колхозных животноводов и поэтому решил в первую очередь побывать на фермах. Молочная ферма «Рассвет», свинарники и птичник были по пути, на этой стороне реки Сейма, дорога на наром и в село пролегала как раз мимо животноводческого поселка. Долгушин выехал из дому, чуть забрезжило на востоке. Он хотел поприсутствовать при утреннем доении коров — нигде, никогда не видел он еще, как это делается.
Делалось это в «Рассвете» самым обычным путем — руками. Ни доильных аппаратов, ни автопоилок, ни подвесных дорог на ферме не было. Тем не менее присутствие директора МТС, которого доярки видели уже однажды у себя в колхозе на собрании, странным образом сразу же сказалось на количестве надоенного молока.
Первым заметил смятение среди доярок шофер Володя, ходивший с директором по коровнику в качестве консультанта.
— Да где же он, наш Голубчик? — закричала одна доярка. — Девки, Харитон еще не пришел? Это он у Дашки Караваихи зорюет. Пригрела его под мышкой. Куда молоко сливать? Посуды нет.
Другая доярка, тоже обеспокоенная, вышла из коровника, вытирая руки полой синего халата, надетого поверх стеганки, взобралась на кучу навоза и закричала в сторону села:
— Эге-ей!.. Харито-он Иваны-ыч! Эге-ей!.. Что-сь маячит возле парома, кажись, он идет, — сообщила она, вернувшись в коровник. — Чертов пропойца! Когда он уже нажрется той водки, чтоб она ему в брюхе загорелась!
— Что ты, Пашка, сдурела? Чего желаешь человеку! — укоризненно покачала головой одна доярка, самая старая из всех и, должно быть, сдержанная на язык.
— А докуда ж нам мучиться с таким заведующим? Бог не берет его от нас, пусть сатана заберет! Сколько ни говори ему, ни доказуй: того надо, другого надо, — ничего не делает! С утра помнит, к обеду уже забыл. Похмелился, чертики заиграли в голове, уже какая-сь сорока пригласила его ночевать, чуб накручивает, сапоги начищает — до коров ли ему?..
— Чего, девушки, бросили доить? Посуды не хватает? — подмигнув Долгушину, спросил Володя.
— Да надо бы еще бидона три…
— А вчера куда сливали? Хватало посуды?
— Обходились…
— Чем же вы таким питательным накормили коров, что сегодня молока прибавилось?
— Чем питательным? А вон посмотри, что в яслях. Тем и накормили. Соломой пшеничной.
— И больше ничего не давали?
— Силосу еще давали немного. Сена давали. Вон, видишь, какое. С осени еще попрело на лугу, в воде. Его и не едят коровы.
— С чего ж прибыло молока?..
Доярки угрюмо молчали.
— Может, ваши коровы начальства испугались? Так с испугу или от какой другой помехи корова дает меньше молока.
Володя обернулся к директору.
— Соображаете, Христофор Данилыч? Вчера им хватало посуды, а сегодня, при вас, не хватило. Значит, или недодаивали, или прямо на землю…
Доярка, которую звали Пашей, обвела сердитым взглядом подруг.
— Чего ж молчите, девчата? Так и говорите, правду говорите: недодаивали. И на землю шло молоко. Верно, так и было. Так разве ж мы виноваты?..
— А куда его девать, раз посуды не хватает? — зашумели доярки. — В подол, что ли?
— В сапоги бы сливали, так нам сюда и сапог не дают. Вот в чем бродим по грязи! — выставила одна доярка ногу в стоптанном дырявом валенке, из носка которого торчали тряпки и солома.
— Привезли в сельпо резиновые сапоги, так их враз расхватали мужики, которые охотники да рыболовы, а нам опять нету!
— Сколько было в колхозе этих бидонов в прошлом году! Чи побили их, чи поворовали?
— Самому председателю уже заявляли насчет посуды, и тот мер не принимает!
— А тут еще возчик у нас такой, с принципом: что заберет за один раз на телегу, то везет, а другой раз ехать не хочет.
— Как зовут вашего заведующего? — спросил Долгушин.
— Бесфамильный.
— Как?
— Фамилия у него такая — Бесфамильный. А по-уличному зовем его «Голубчиком». Поговорка у него за каждым словом: «Вы, мои голубчики»… Да вот он идет сам.
К коровнику приближался медленной развалистой походкой, подкручивая пышный рыжий ус, высокий мужчина лет сорока пяти, в галифе, черной сатиновой стеганке и шапке-капелюхе с опущенными, неподвязанными наушниками. Хромовые сапоги его были начищены действительно до зеркального блеска, и весь его вид — сытая, плотная фигура, лоснящееся, румяное лицо — говорил о том, что человек хорошо выспался, успел уже, вероятно, позавтракать и вообще доволен жизнью.
«Колхозный альфонс Харитон Голубчик», — отметил про себя Долгушин.
Остановившись метрах в десяти от коровника, Бесфамильный окинул хозяйским оком двор и закричал зычным голосом:
— Эй, девки, голубчики, что ж вы делаете? Сколько разов приказывал вам! Манька! Куда ж ты объедья бросаешь, тудыть твою!.. — и осекся, увидев за углом коровника знакомый «газик» директора Надеждинской МТС.
Бросив быстрый взгляд в темный со двора проем двери коровника и заметив там среди столпившихся доярок две мужские фигуры, Бесфамильный подтянулся, вынул руки из карманов и подошел к Долгушину почти строевым шагом.
— Здравствуйте, товарищ директор! — пахнул он в лицо Долгушину густым винным перегаром. — Приехали нас навестить? Ночевали в колхозе или прямо из дому? Раненько, раненько вы встаете!
— Кто рано встает, тому бог дает, — тряхнул Долгушин своим запасом деревенских пословиц.
— Приехали к нам, товарищ директор, на нашу работу полюбоваться, а у нас опять незадача — посуды не хватает. Дойку бросили, — сказала старуха доярка. — Куда ж молоко сливать?
Недодоенные коровы беспокойно метались в стойлах, мычали. Доярки зло, исподлобья поглядывали на заведующего.
— Это что за новости — посуды не хватает? — удивился Бесфамильный. — А вчера хватало?
— Вчера хватало, мы уже выяснили. По случаю приезда директора МТС надоили три лишних бидона, — Володя улыбнулся. — Вот бы вам, Христофор Данилыч, ничего не делать, ездить только по фермам и присутствовать, когда коров доят. Глядите, процентов на тридцать прибавилось бы молока. Без лишних кормов, без концентратов.
— Где ж вам посуды взять?.. — Бесфамильный, сдвинув шапку на лоб, почесал затылок.
К коровнику подошел колхозник, по виду ездовой, с кнутом, — вероятно, тот самый, «с принципом», о котором говорили доярки, инвалид на деревяшке, поздоровался.
— Приехал, Тюлькин? Где твой драндулет? — обратился к нему заведующий.
— А там, — указал колхозник кнутом куда-то за коровник.
— Ну-ка, голубчик, смотайся в село, поищи там еще бидонов несколько. Пройди по нашей улице. У Гашки Кузьменковой, кажись, есть один. У Феньки Сорокиной видел вчера, сушился на плетне. Чертовы бабы, берут, ездят на базар, а не приносят в кладовую. И к моей там загляни… Живо, голубчик, духом! Одна нога здесь, другая там! — и сам расхохотался над своей шуткой.
Колхозник, недовольно бормоча, заковылял на деревяшке за сарай, к повозке.
— Сколько у вас коров на ферме? — спросил Долгушин Бесфамильного. — Всего, фуражных?
Заведующий подумал с минуту.
— Всего, значит, так… семьдесят восемь коров у нас.
— А сколько доится?
— Сколько доится?..
— Сорок две коровы доим сейчас, — подсказала Паша-доярка.
— Так мало? Остальные что же — еще не отелились? Яловые? — храбро продолжал Долгушин задавать такие вопросы, в которых сам еще недавно был не силен.
— Есть которые и не растелились. А есть и вообще не годные к госпроизводству.
— Как? К чему негодные?
— К госпроизводству, — важно повторил Бесфамильный. — Так называется у нас по зоотехнике.
— В зоотехнике есть термин — воспроизводство стада, — пояснил Володя.
— Догадываюсь, — кивнул Долгушин. — Проще сказать — держите на ферме коров, которые вообще не способны давать приплод?
— Неспособные, да. По два-три года уже не телятся.
— Зачем же вы их держите? У вас же молочная ферма, а не мясная.
— Ставил вопрос на правлении. Сдать бы надо их в мясопоставку, чтоб и корма на них не переводить.
— Но действительно ли все они бесплодны? Специалисты осматривали их? Может быть, не случали их?
— Нет, случали, как же.
— Учет ведете при случке? Какая корова покрыта, какая не покрыта?
— Да, и учет ведем… А вообще я, товарищ директор, на быков надеюсь… У нас хорошие быки-делопроизводители. Три быка. Вот стоят, посмотрите. Сам выбирал в совхозе. Цементальской породы.
Долгушин не выдержал, рассмеялся.
— Нет, у вас тут, товарищ Бесфамильный, какая-то особенная зоотехника! Такого я еще не слышал!..
— Так мы называем, — обиженно надулся заведующий.
— Бык-производитель, — поправил его Володя. — Эх ты, животновод! Делопроизводители в канцеляриях сидят.
Долгушин с Бесфамильным и Володей молча прошли взад-вперед по длинному, грязному, с дырами-просветами в соломенной крыше коровнику, постояли возле быков, возле одной коровы крупного мясного экстерьера, которая, как объяснил заведующий, за всю свою уже немолодую жизнь не дала ферме ни одного теленка. Скот был нечищеный, тощий. Доярки кучкой ходили следом за ними.
— Ох! Харитон Иваныч, голубчик ты наш! — тяжело вздохнула Паша. — На быков, говоришь, надеешься?.. А скажи, какой доярке у нас лучше: у которой все коровы отелятся или у которой половина яловых?
— Конечно, для общего дела лучше, чтоб у нас не было яловых коров, — ответил Бесфамильный.
— Я тебя не про общее дело спрашиваю, а про доярок!.. Товарищ директор! — вскипела наконец Паша и, покраснев от волнения, горячо жестикулируя, стала говорить: — Послушайте, товарищ Долгушин, как у нас делается. Все вам расскажу! А вы, — кинула взгляд на доярок, — скажете, верно ли я говорю или брешу. Вот за мною с позапрошлого года закреплено десять коров. Как и за всеми. У каждой у нас тут по десять коров. Мои коровы прошлой весною все были покрыты, сама последила, пастуху пол-литра поставила, чтоб следил. Зимой, в феврале, в марте, все отелились, как одна. Десять телят. А куда их девать? Телятника приспособленного нету. Тыкаемся с этими телятами по всем куткам. Пять телят взяла к себе в хату, а больше некуда. Другим вот тут, за кладовкой, отгородила место. Возилась с ними, пока трое телят пали. Одного теленка отдала в колхоз от своей коровы на то место, а двое вот теперь на моей шее.
— Как на вашей шее?
— А так, что грозятся вывернуть с меня при отчетном годе за телят из тех денег, что по трудодням заплатят. Видите, какие порядки! Теперь слушайте дальше. Все мои десять коров потелились, всех десять дою. Работы, значит, мне больше? А вот вам Катька Архипова. У нее тоже десять коров. Как она их там случала, не случала, не знаю. Четыре коровы у нее всего отелились. Четыре теленка. Выходила их без забот, без хлопот, все живые, передала их телятницам, никакого ей убытку. И теперь всего четыре коровы доит. А трудодень что мне, что ей — одинаково!
— Верно говорит Зайцева! Кто шесть коров доит, кто восемь — всем трудодень!
— Зайцева? — навострил ухо Долгушин. — Вы Зайцева? Не жена ли нашего бригадира?
— Жена.
— Она самая. Жена Игната Сергеича, — подтвердили доярки.
— Ну, будем знакомы. Как вас по батюшке?
— Никитишна. — Зайцева улыбнулась. — Прасковья Никитишна. Мне про вас Игнат рассказывал, как вы там в мэтэесе кой с кого дурь выгоняете. Вот бы еще у нас тут!..
— Так почему же вам одинаково начисляют трудодни? Разве вы не получаете дополнительной оплаты за надой молока?
— Какая же дополнительная оплата, когда мы плана не выполняем. А чем его выполнять? Какие у нас корма? Сами видите. Разве это сено? Его только на подстилку, гнилье такое! А чтоб там жмыху какого или картошки дать коровам — этого у нас и в помине нет. На смех поднимут тебя на собрании, ежели о концентратах заговоришь. Но все же мы считаем, товарищ директор, это неправильно!
— Что?
— Да вот, что поровну трудодни пишут. Пусть мы плана не выполняем, а все же кто десять коров доит, кто четыре — разница? Нам говорят: ухаживает доярка все равно за всем десятком. Так одно дело кормить, а другое дело еще и доить! Какой же нам интерес не допускать, чтобы коровы яловели? Я за своих поставила пастуху пол-литра, чтоб случал, а Катька, может, за своих поставила два пол-литра, чтоб не случал!
— Ничего я ему не ставила, пустое мелешь! — озлилась Катерина Архипова. — Что я, вредительница какая, чтоб нарочно коров портить? Так пришлось, что мои не огулялись.
— Может, и пришлось так, кто его знает. Но все одно неправильно, что нам с тобою плата ровная!
— Об этом начальники наши знают, как нам платить! Ты тут своих законов не установишь!
— На быков, значит, надеетесь, товарищ заведующий? — Долгушин взял под руку Бесфамильного и прошел с ним несколько шагов по коровнику к выходу. — Если так будете на них надеяться, скоро совсем останетесь на своей ферме без госпроизводства. Я еще нигде не видел в хозяйстве таких идиотских порядков — прошу не обижаться. Это же просто какое-то самоубийство! Оказывается, колхоз платит дояркам не за надои молока и сохранение телят, а за то, чтобы не было на ферме ни телят, ни молока!
— Не я эти порядки здесь заводил, товарищ директор. До меня тут сто заведующих перебыло. Не мною это началось, не мною и кончится.
— Да как сказать… Началось не вами, а кончится, может быть, вами.
— И вообще обзывать нас адиётами хватает тут кому и без вас! — вдруг обиделся Бесфамильный и, высвободив руку, отошел от директора. — Приезжают товарищи из района, из области. Есть над нами начальники. А вы валяйте в свою мэтэес и там командуйте!
— Да, товарищ Бесфамильный, я у вас тут никакой не начальник, — не повышая голоса, наружно спокойно, раздумчиво сказал Долгушин. — Таково уж мое положение: отвечаю за все, что делается в колхозах, а распоряжений, приказов вам здесь давать никаких не могу. Но есть еще начальник и над вами, и надо мною — народ. Народ может приказать и вам и мне. Может и совсем оставить нас министрами без портфелей. Вот к этому начальнику и придется, пожалуй, обратиться.
— У вас здесь на животноводстве был когда-то заведующий Артюхин Филипп Касьянович. Кто из вас работал при нем на ферме? — спросил Долгушин у доярок, когда Бесфамильный вышел из коровника и стал что-то делать у колодца, поправлять и укреплять столб журавля, который и без того достаточно прочно стоял на своем месте.
— А вы знаете Касьяныча? — заговорили доярки.
— Как же, многие при нем работали. И я работала, и Настя вот работала, и Марья.
— Вот то был заведующий! Хозяин!
— На быков не надеялся!
— У меня и сейчас похвальная грамота висит в красном углу, что при нем получила от партийного комитета из области!
— Премии нам давали. По пятьсот литров молока дополнительной оплаты получали!
— Курсы тут были на ферме, обучали нас по зоотехнике.
— Горькими слезьми плачем о Касьяныче, кто помнит, как он здесь руководствовал!
— А вы чего спрашиваете про него, товарищ директор? Может, думка есть — назад его к нам повернуть?
— Не пойдет он. Обидели человека!
— Вон на том месте стоял телятник, что сгорел. Вот там, где куча самана. Подожгли какие-сь головорезы. А его потом затягали по судам.
— И в колхозе эти наши фулиганы на него злобились, и власть — на него же. Разобрались, защитили человека!
— А кто эти ваши хулиганы?..
Доярки замолчали.
— Да есть такие…
— Кто?
Женщины, поглядывая друг на дружку, молчали. Катерина Архипова взяла метлу, стала подметать проход между стойлами, другая доярка отошла к коровам.
— Вот так у нас всегда! — махнула рукой, горько усмехнувшись, Зайцева. — Промеж собою шумим, лютуем, готовы на мелкие кусочки их растерзать, а как до дела — языки прикусили!
— «Кто, кто»! Чего у нас спрашиваете, товарищ Долгушин? — выступила вперед, отважившись, доярка, которую звали Марьей. — Целый час вы разговаривали с Голубчиком. Либо вам еще не ясно, что он за человек? Наш колхозный объедала, опивала! Трутень в нашем бабьем рою! Может, кому неловко про него так говорить, — Марья бросила вызывающий взгляд на Катерину Архипову, — а я скажу! Он ко мне ночевать не ходит, я его яишней с салом не кормлю, у меня свой мужик есть. Вот вам один такой безобразник! Живут в свое удовольствие, а на хозяйство им наплевать!
— И на фронте сумел как-то отвертеться от передовой. — К Долгушину подошла другая доярка. — Всю войну где-то в тылу огинался.
Женщины заговорили враз:
— Наши там головы положили, а он трофеи собирал! В трофейной команде был начальником!
— С такой мордой! Туда бы инвалида какого-нибудь, в тыл, а ему — пулемет на горбу таскать!
— Пять аккордеонов привез из Германии! А еще там всякого добра — на тридцать лет продавать и работать не надо!
— Должно быть, какой-то начальник за трофеи и в партию его там принял. Задобрил кого-то.
— Его выгоняли уже раз из партии, перед войной. И судить надо было, да как-то замотали. По пьяному делу одного бригадира ножом пырнул. И два центнера меду у него в кладовой не хватило. Нет же, опять партейным пришел с фронта! Оправдался!
— Когда вот такие там заседают, так неохота и идти к ним в правление с какой-нибудь жалобой.
— Кому жаловаться?..
К коровнику подъехала, дребезжа пустыми бидонами, телега. Ездовой сердито закричал, не слезая с нее:
— Эй вы, мокрохвостые! Забирайте свои бидоны! Растащат посуду по всему селу, а я ездий, собирай! Кто мне полтрудодня запишет за лишнюю работу? А ну, живей поворачивайтесь! Когда я теперь доберусь до завода? И молоко ваше к черту прокиснет!
— Хоть бы уж ты не орал на нас, Тюлька! — зло замахнулась на него метлой Катерина Архипова. — Одно слово — Тюлька, а орет тоже, как начальник!
— А как же, — зашумели доярки, — начальник над слепой кобылой!
— Вожжи в руках — значит, начальник!
— Ежели ты еще, Тюлька, будешь обзывать нас такими словами, гляди, как бы эти вожжи по тебе не походили!
— А чего, простое дело: штаны спустим и так тебя почешем, что и правнукам закажешь над бабами изгаляться!..
Ездовой Тюлькин, опасливо поглядывая на разъярившихся по неизвестной ему причине доярок, понимая, что, если они вздумают привести свою угрозу в исполнение, ему от них не отбиться — директора МТС и шофера, стоявших в глубине коровника, он не заметил, — сразу притих и, чего, видно, никогда не бывало, даже слез наземь и сам стал выносить из кладовой и устанавливать на телегу полные бидоны.
Женщины с цибарками разошлись по коровнику додаивать ревущих в стойлах коров. Долгушин и Володя, попрощавшись с доярками, поехали дальше.
«Вот тебе и яловая порода! — думал Долгушин, пытаясь на тряском ходу «газика» записать в блокнот кое-что из разговора с доярками. — Сколько вокруг этой породы новых новостей открывается!..»
Решение провести в этом колхозе открытое партийное собрание пришло к Долгушину уже перед вечером.
Часа в три дня пошел сильный дождь, густой и обложной, надолго, на весь остаток дня, пожалуй, и на всю ночь. Тракторы остановились, народ повалил с поля домой в село. Можно было созвать собрание без ущерба для посевных работ.
— Проводились ли здесь, в колхозе, открытые партийные собрания? — спросил Долгушин у инструктора райкома по зоне Надеждинской МТС Зеленского.
— Никогда, должно быть, не проводились, — ответил Зеленский. — Сколько ни проверял я у них протоколов — все закрытые и закрытые собрания. А знаете, почему закрытые? Не потому, что секретные вопросы обсуждают. Стыдятся народа! Боятся приглашать на свои собрания колхозников!
С зональным инструктором Зеленским Долгушин встретился еще утром, едучи с фермы в полевые бригады. Зеленский шел из Надеждинки напрямик, полями, по не просохшей еще местами стерне, волоча по пуду земли на сапогах, в сером прорезиненном плаще, со свертком газет в кармане плаща и папкой под мышкой — типичный вид «уполномоченного». Он рассчитывал провести в «Рассвете» два дня — для изучения работы партийной организации на весеннем севе. Долгушин пригласил его в машину.
Зеленский бывал уже в «Рассвете» много раз.
— Нечего мне тут уже изучать, — говорил Зеленский. — Для чего изучать? Делать что-то надо с этим колхозом, а не изучать! Что мы, диссертации будем писать на тему о недостатках? Я уже десять докладных вручил Холодову об этом колхозе, а он их к делу подшивает. Что тут изучать? Я знаю, как они расставили коммунистов, сам был у них на собрании. Все прикреплены к бригадам. Но толку-то от таких прикрепленных!.. Вот приедет к колхозникам Егор Трапезников — есть тут такой член партии, был и заведующим мельницей, и председателем сельсовета, и председателем колхоза; отовсюду выгоняли его за всякие грязные дела, а теперь живет спекуляцией. Всю осень брал в автоколонне машины, скупал у колхозниц картошку и возил ее в Донбасс. Придет в бригаду и станет разъяснять колхозникам решения Пленума, убеждать их честно и добросовестно трудиться. А им тошно смотреть на него, противно его слушать! Чья б мычала, а твоя молчала. У самого за прошлый год пятнадцать трудодней, и у жинки всего трудодней десять. Такие агитаторы только на нервы людям действуют. У них и Харитон Голубчик числится агитатором. Тоже — разъясняет народу, как надо жить, трудиться.
Долгушин с Зеленским побывали в полеводческих бригадах, на парниках, в колхозных мастерских. Нашли и Филиппа Касьяныча Артюхина. Старик оказался не таким уж запуганным, как говорил о нем на собрании трактористов бригадир Зайцев. Он откровенно высказал свои соображения о делах в колхозе, дал обстоятельные характеристики всем членам правления, новому председателю Бывалых, местным коммунистам.
Зеленский, парень простой, без начальнического гонора, умеющий вовремя и скрепить разговор острым словцом, и шутку пустить, располагал к себе людей. Колхозники рассказали ему и Долгушину о своей жизни много такого, чего другим «представителям», возможно, и не стали бы рассказывать. Видимо, и о Долгушине прошли уже всюду хорошие слухи как о директоре, не на шутку взявшемся наводить порядки в МТС и отстающих колхозах.
В третьей полеводческой бригаде они не нашли на поле бригадира коммуниста Милушкина, бригада начала сев без него. Милушкин в воскресенье справлял именины и все никак не мог протрезвиться. Во второй бригаде с утра не было прицепщиков, потом, когда они пришли, оказалось, что вывезли непротравленные семена. В первой бригаде некому было убирать с поля прошлогоднюю солому. Сами трактористы приспособили к «натику» волок и стягивали ее на дорогу, вместо того чтобы пахать трактором. Зайцев был прав. Такая расхлябанность с первых же дней полевых работ не предвещала ничего хорошего в смысле сроков сева.
В тракторной бригаде повариха, молодая девушка, комсомолка, рассказала Долгушину и Зеленскому, как правление назначило ее зимою старшей птичницей и почему она сбежала с той работы.
— Как-то мы на нашем комсомольском собрании стали говорить: почему это никого из комсомольцев у нас не посылают на животноводство? Разве нету нам доверия или мы такие неспособные? Записали в протокол, передали секретарю парторганизации товарищу Чайкину. Потом, слышим, было у них заседание правления. Зовет меня товарищ Бывалых: «Назначаем тебя, Кострикина, старшей птичницей. Принимай птичник и с завтрашнего дня приступай к работе». Ладно. Пошла я туда, посчитала кур. Выписала корму на неделю. Помощницей у меня — девочка одна, сирота, глухонемая и немножко не все дома, но работать может. А до меня там была старшей птичницей Крутькова, жинка одного нашего бригадира. Заболела, положили ее в больницу на операцию. Потому и назначили меня, что место освободилось.
Приезжает ко мне на птичник завхоз Мамченко. «Ну, смотри, Клавдия, чтоб все в порядке было. Вон берданка висит, вот тебе два патрона, вот так надо заряжать, вот за это дергать. Если будут лисы поблизости ходить — стреляй! Работай, говорит, доверяем тебе это дело. А продукция чтоб была на уровне». И не поняла я его с первого разу — про какой такой уровень он говорит! «Постараюсь, говорю, кормов только давайте побольше». Приезжает он еще дня через три. «Сколько вчера вечером сдала яиц в кладовую?» — «Двести тридцать штук». — «А сегодня сколько собрала?» — «И сегодня, говорю, около того — двести двадцать семь. Может, какая где-то не в гнезде снеслась, не нашла еще». — «Как приедет Тюлькин, отдай ему сто двадцать штук, остачу придержи пока, до особого распоряжения. Сложи в сундучок и замкни на замок». Приезжает опять через несколько дней: «Ты ж чего меня не слушаешь? Зачем все яйца сдаешь! Сказано тебе — держи на том же уровне. Сколько у Лукерьи была сдача?» Посмотрели мы тетрадку, что осталась от Крутьковой, — сто, сто десять яиц принимал от нее Тюлькин. «Вот и ты, — говорит, — около этого сдавай, на яйцо больше, на яйцо меньше. А то — в особый фонд. Разберемся потом. Что ж нам, ревизию теперь назначать, почему у Крутьковой такая была сдача, а у тебя такая? Женщина в больнице лежит, может, при смерти, а мы тут дело на нее будем заводить?»
Иду я как-то из дому на птичник селом, тем краем, за оврагом, слышу — у Милушкиных гулянка. Танцы, песни. Орут! И товарищ Чайкин там, на гитаре бренчит. И Мамченко там. Все там. Про товарища Бывалых не скажу, его голоса не слыхала. Вечером, по-темному — я уже все позапирала и спать ложилась в сторожке, — прибегает Петька Мамченкин с кошелкой. «Батя сказали, чтоб ты дала сотню яичек из особого фонда». Отсчитала ему сотню. «Батя говорили: и себе можешь взять десятка два, это тебе премия от правления». Потом на масленой у Бесфамильного собрались. Там компания побольше была. Две сотни яиц им дала и пять петушков зарубала… Поработала две недели и вижу: если на таком уровне держать, то и комсомольский билет свой потеряю тут и еще, может, чего похуже будет. Отказалась. «Не могу, говорю, работать там. У меня мама больная, возле нее надо ночью кому-то быть, не могу ночевать на птичнике». Сдала кур Надьке Филипенковой, невестке нашего бухгалтера. Не знаю, у нее теперь — на каком уровне…
— И не заявляла никому об этом? — возмутился Зеленский. — Молчала? Факты на руках — и молчала! Или, может, тебе пригрозили, чтоб молчала?
— А кому заявлять? Чайкину? Так он же с ними лег, с ними встал. Одна чашка-ложка. К товарищу Бывалых не добьешься. Пошла как-то к нему, а он меня выгнал.
— Как — выгнал?
— В правлении, когда ни заглянешь, там люди всегда, неудобно при людях рассказывать. Я пришла к нему вечером на квартиру. Он лежит на диване в полосатой пижаме, слушает патефон. «Я, говорит, на квартире не принимаю по колхозным вопросам. Я здесь отдыхаю от ваших дрязг. Приходи в правление по вторникам и четвергам от десяти до двенадцати». И прямо взял меня за руку и вывел из. комнаты. Очень был сердитый. Может, по дому взгрустнулось, жена, детишки вспомнились, в Троицк к ним захотелось, а тут я как раз не вовремя, со своим заявлением…
— Колхоз — дело общественное, тут в одиночку не украдешь, обязательно компания нужна, — объяснял Долгушину «механику» воровства колхозный кузнец Тихон Кондратьевич Сухоруков. — Это Егор Трапезников здесь целую шайку развел, когда еще был председателем. На рынок полномоченным по колхозной торговле назначил жинкиного родича Ваську Жмакова. По полгода жил в городе, и кто его там проверит, что почем продавали, ежели на базаре цены каждый день меняются? Объездчиком в поле держали пьянчугу Мишку Святкина, который за литру водки голый по селу среди бела дня пробежит. А зерно ночевало в кучах на всех токах, и сторожей не было. И шофером на машине работал Мамченкин брат родной, Степка. Люди, может, не скажут, а кабы ту машину допросить, на которой Степка ездил, она бы рассказала, сколько тонн пшенички перевезла в город на мельницу, сколько муки из той пшенички Васька Жмаков на базаре продал! А бухгалтер у нас тоже гусь хороший. Бывший снятый заведующий сберкассой, в денежную реформу дружкам-приятелям незаконно сто тысяч обменял. Пьют же сукины сыны до умопомрачения! От водки болеют, водкой лечатся, водкой все дела вершат. Один пьет с баловства, другой со страху, что рано ли, поздно придется отвечать, а третий — от стыда, ежели еще остался стыд. Сами пьют, и кого хочешь возле себя споят. Приезжал прошлым летом следователь из Троицка, так они его так накачали на прощанье, что тот и портфель с бумагами по дороге потерял.
Старик Артюхин рассказал о «методах» зажима критики.
— Про телятник ничего не известно, может, и случайно загорелось, из мужиков, может, кто заходил да бросил цигарку. А корова моя, конечно, не сама себя зарубила. А то есть еще у них такой способ — оклеветать человека. Вот тут одного колхозника у нас, Грачева, довели, что хоть в петлю лезь! Задал Грачев вопрос на отчетном собрании: для какой цели Егор Трапезников с Бесфамильным целую скирду сена не заприходовали, продать собирались или по домам развезти? А Трапезников на него: «Ты власовец, изменник родины, какое имеешь право на собрании голос поднимать?» Так и прицепилось к нему — «власовец». Создали комиссию, следствие вели. И я был в комиссии. Никаких материалов нет на Грачева. Ни в эмгэбэ, ни в военкомате. Сущая клевета! Что Грачев в плену был — это известно. Пять лет пробыл в лагерях, в немецких и американских. Это все знают. Документы есть у него от наших органов, прошел проверку. А насчет власовца сам Трапезников пустил слух: будто кто-то на фронте говорил ему, что видел Грачева у власовцев. Так они и делают! Сказал человек слово — сразу же ему кляп в рот! А не клеветой, так другим доймут. Нарядами могут донять. Есть в колхозе такие работы, что давно уже видно всем: не годятся нормы. Какой бы ни был хороший работник — и двадцати соток не натянет за день, хоть пуп тресни! И не пересматривают. Нарочно! Чтоб было чем наказывать людей за критику. Выступил на собрании — вот тебе наряд на неделю на такую работу, где ноль без палочки получишь.
Доярка Зайцева, которую Долгушин встретил еще раз в селе, когда они с Зеленским шли из мастерских к конторе, говорила:
— Мы уже так и привыкли понимать, что не все то идет от партии, что наши здешние партейцы делают. Слышим Москву по радио — вот то партия с нами разговаривает, то ее голос. Читаем газеты, постановления Цека — это партии слова. А на своих перестали уж и внимание обращать. Раз ты говоришь одно, а делаешь другое — какой же ты партеец? Хоть вы и считаете Харитона Бесфамильного коммунистом, а мы его все одно за члена партии не признаем! Нас эти поганцы не собьют с того пути, куда нас Цека зовет, не потеряем мы из-за них веру свою. Но все же трудно нам, колхозникам, хозяйство поднимать, когда вот такие люди у нас руководствуют!
Разговоры с колхозниками так разволновали Долгушина, что он, пожалуй, и не смог бы уже уехать сегодня ни с чем, не начав немедленно, сейчас же, что-то делать для оздоровления колхоза.
И Зеленский был настроен на решительные меры. Зеленский говорил:
— Некоторое время назад у нас в сельском хозяйстве была круговая порука плохого. Станешь критиковать какого-нибудь председателя, а он говорит: «Чего вы ко мне привязались? Вон у соседей, в «Красном пахаре», еще хуже, чем у нас!» А в «Красном пахаре» говорят: «И мы не самые первые от заду, в «Рассвете» еще хуже». Вот так и прятались друг за друга. А теперь нам надо создать круговую поруку хорошего! Все тянут в гору, а кто-то тормозит. Где осталось еще вот такое, как здесь, надо всеми силами наваливаться на него и приканчивать! Облаву надо делать на плохое, как на волка! Брать его под перекрестный огонь!
— Круговая порука, да! Именно круговую поруку создать! — Долгушину очень понравилось это выражение, он несколько раз повторил его. — Руденко, Щекин, Нечипуренко, Грибов — все взялись за дело честно. Мы могли бы за год нашу МТС со всеми колхозами зоны вытянуть в передовые! А этот Бывалых нож в спину нам всаживает. Предатель! Волчью облаву — на такое плохое! Правильно!
Рассказал Зеленский, между прочим, Долгушину и о себе, как он попал в партийные работники.
В партию он вступил на фронте в сорок третьем году. После демобилизации его, двадцатипятилетнего парня, капитана запаса, райком послал председателем кустпромартели «Геркулес». Но ему не пришлось там ломать голову над новым для него делом, изучать производство пива, халвы, джемов. В артели за него работал технорук, а он сам зиму и лето был уполномоченным в колхозах. Потом, при Борзове, его взяли в райком инструктором. Это было продолжением все той же кампанейщины, вечных разъездов по колхозам в качестве «толкача». Меньше всего приходилось ему в этих командировках заниматься партийной работой. Обижался Зеленский и на Мартынова — за его невнимание к работникам аппарата райкома. У Мартынова все заботы ушли в кадры председателей колхозов, видимо, кроме хороших председателей, ему больше никого и не нужно. На аппарат смотрел тоже как на порученцев и на писарей. Есть кому расследовать жалобы и отвечать на бумажки обкому — и ладно. Не учил он инструкторов, как построить работу, чтоб интереснее им было жить на свете, чтоб видели они хоть какие-то результаты сделанного ими. Вообще до партийных организаций, до рядовых колхозных коммунистов у Мартынова не дошли руки.
Когда организовывали зональные группы, Зеленский сам напросился в Надеждинскую МТС — все же ближе к живому делу, к народу. Но и здесь настоящего удовлетворения не получил.
— Надоело уже мне, Христофор Данилыч, — говорил он, — ходить вот так, пешим апостолом, из колхоза в колхоз. Четыре колхоза у меня — значит, ни за один как следует не отвечаю. Да и что я могу сделать своими советами? Должность у меня очень уж бесправная. Где хорошо в парторганизации, там и без меня обойдутся, а где плохо, как вот здесь, в «Рассвете», моих прав не хватает, чтоб улучшить положение. Что толку давать Чайкину советы? Ему надо коленом в одно место! Я бы больше пользы принес, если бы сел где-то секретарем колхозной парторганизации. Хотя бы здесь, в «Рассвете». Нет у нас освобожденных секретарей — ладно, не надо зарплаты, на трудоднях. Считали бы за мною всю культурно-массовую работу, учебу колхозников, и за это — трудодни.
Найдя в Долгушине внимательного слушателя, Зеленский охотно делился с ним своими мыслями.
— Очень много у нас стало работников в партийных аппаратах. Если всех посчитать — по нескольку человек на колхоз придется. Но все они какие-то разъездные, командировочные. А еще — советские работники, заготовители всякие, земельные работники. Гастролируем по колхозам. И так как маршруты не согласованы, то иной раз в каком-нибудь звене, что при большой дороге работает, человек десять представителей за день побывает. Десять женщин работают с тяпками, и — десять уполномоченных за день. Там машины и из области, и из района, и из МТС, и на линейке кто-то подъедет, и пешим ходом подойдет, вроде меня. И даже не то раздражает людей, что много ездит к ним начальников. Пусть бы ездили, да дело делали. Но дела-то и нет. Безобразий в колхозе куча, и все мимо проскакивают. Не серьезно все как-то, по верхам. «Давай-давай!» Можно представить себе, сколько проехало начальников по полям «Рассвета» за все послевоенные годы, а в колхозе что творится!.. Был бы я здесь один-единственный партийный работник в должности секретаря парторганизации, и никаких больше уполномоченных, и мне легче было бы работать, чем вот сейчас, когда нас слишком много да по пятам друг за дружкой ходим. По крайней мере, не пришлось бы краснеть перед народом за гастролеров и оправдывать как-то наши раздутые штаты. Но думается мне, что все же к тому идет: кончать будем эти командировки. Сажать каждого прочно на какой-то участок, и чтоб дело делали! А из наших райкомовских инструкторов, да и из обкомовских тоже, много бы вышло хороших секретарей колхозных парторганизаций! Председателей в колхозы подбираем, а об этих кадрах еще и не подумали!..
Вот после таких разговоров и почти целого дня езды по бригадам Долгушин с Зеленским и решили на свой страх и риск созвать вечером в колхозе открытое партийное собрание. Зеленский по лютому настроению Долгушина догадывался, какое именно он хотел провести собрание: вывести на чистую воду всех разложившихся, а коммунистов, не связанных с колхозными «объедалами» и «опивалами», но и не боровшихся с ними, заставить почувствовать свою ответственность за судьбу колхоза.
Секретарь парторганизации Чайкин стал было возражать против собрания, без подготовки, в рабочий день. Его убедили тем, что дождь все равно сорвал работы в поле и люди все дома и что от него или от председателя колхоза не требуется обширного доклада — надо сделать лишь короткое сообщение о ходе полевых работ. Зеленский добавил:
— Непременно надо провести собрание! Иначе план работы парторганизации на этот месяц останется невыполненным. У вас же только одно собрание было. А знаешь, как Василий Михайлович требует, чтоб все запланированные мероприятия выполнялись? Поедешь, товарищ Чайкин, отчитываться на бюро двадцать третьего, это тебя, может, только и спасет, если на плане работы будут всюду стоять мои галочки: «выполнено».
Бывалых, только к концу дня появившийся в колхозе — ездил по каким-то делам в район, — пытался безуспешно дозвониться в райком Медведеву, сообщить ему, что директор МТС занялся в колхозе не своим делом, посягает на функции партийных органов. Один раз ему ответили, что Медведев вышел, потом — что у Медведева представители из области и он просил его пока ни с кем не соединять, наконец, девушка на почте сказала, что грозой поврежден провод и связи не будет до утра. Холодова тоже не оказалось в МТС. Отменить скоропалительное партийное собрание было некому.
Зеленский, прихватив с собою для порядка секретаря парторганизации, поехал на директорском «газике» по всем бригадам, фермам.
Если бы колхозников оповестили, что созывается обычное общее колхозное собрание, сходились бы долго и пришло бы, пожалуй, как всегда, человек сто — из семисот членов колхоза. Но когда народ узнал, что состоится партийное собрание, открытое, и принять участие и даже выступить на нем приглашаются все желающие, что приехал директор МТС и собрание, видимо, будет по очень важным вопросам, — к восьми часам вечера — на дворе было еще совсем светло — в клуб пришло человек четыреста. Двенадцать членов и кандидатов партии и четыреста беспартийных колхозников.
Сообщение о ходе сева сделал Бывалых. Зеленский рассказал, что видели они с Долгушиным днем в бригадах. Никаких перемен, все то же, то было здесь осенью, прошлым летом.
И начались прения… Выступили все, с кем Долгушин разговаривал днем, и еще много незнакомых ему колхозников. Поднималось сразу по десятку рук — просили слова у председателя собрания Артюхина. Разговор с сева перешел на общее положение в колхозе. Началось собрание в восемь часов вечера, а закончилось в два часа ночи.
Все высказали колхозники, что накипело у них. В последнее время, видимо, каждый много передумал, что же делается в колхозе. Всюду вокруг жизнь на их глазах круто пошла в гору, а они в своем «Рассвете» остались как в поле обсевок. Шайка бессовестных мазуриков захватила в свои руки главенство. Потому и отпала охота у людей работать. Говорили колхозники о коммунистах, о каждом, кто чего, по их мнению, стоит. Говорили и о таких, что стали общипанными воронами, а были орлами. Бригадир Милушкин вступал в партию в партизанском отряде. Человек кровью своей доказал преданность партии. У немцев в гестапо был. Под пытками ни слова не сказал о партизанских базах. Из-под расстрела бежал. Что же сейчас случилось с ним? Кто его опутал? Говорили о Бывалых. Чистоплюй, барин. Приехал в колхоз, как на дачу. Семью не перевозит, больше в Троицке бывает, чем здесь. Раньше девяти утра в правление не является, и боже упаси потревожить его на квартире по какому-нибудь срочному делу! Компании с этими «объедалами» он не водит, но что толку. И не трогает их, не мешает бесчинствовать. Просто не хочет человек работать в колхозе и наплевать ему на все, что здесь творится.
Долгушин в конце собрания, подводя итоги, сказал:
— Такое могло случиться с вашим колхозом только потому, товарищи колхозники, что вы позабыли свои хозяйские права. Колхоз — это ваш дом, ваше общественное хозяйство, и хозяин этому дому — вы, общее собрание колхозников. А у вас в последние годы, говорят, с трудом удавалось созвать даже годовое отчетное собрание. Не идете на собрание, не желаете пользоваться своими правами. В жизни всякое может быть. Может случиться, что в райкоме будет худо с руководством, в партийной организации будет худо, как сейчас. Но при всем этом, что бы ни было, вы хозяева своему колхозу. За вами остается право сойтись вот таким собранием и прогнать в три шеи тех, кто ведет ваше общественное хозяйство к развалу, а вас — к копеечным доходам. Всегда, при любых обстоятельствах, это — ваше неотъемлемое право!
Когда подошли к принятию решения, Долгушин предложил первым пунктом исключить из партии Бывалых: за полное бездействие в течение четырех месяцев, за попустительство врагам колхозного строя, за намерение удрать из колхоза, ничего не сделав для его подъема.
За исключение Бывалых проголосовали семь членов партии, и за ними в зале поднялся еще целый лес рук. Секретарь собрания, писавший протокол, вопросительно поглядел на Долгушина, Зеленского.
— Ничего, — сказал Долгушин, — можно отметить в протоколе, что и столько-то беспартийных присоединилось к решению партсобрания. Это учтется.
Зеленский подсчитал поднятые руки — четыреста три.
Исключили из партии Трапезникова и Бесфамильного. Отстранили от руководства парторганизацией Чайкина. Выборы нового секретаря решили согласовать с райкомом, отложили до следующего собрания. И записали в решении, что новое руководство должно продолжить и довести до конца очищение партийной организации от примазавшихся шкурников и социально опасных людей.
А затем тут же, с тем же составом, открыли общее собрание колхозников. Собрание сняло с должности председателя колхоза Бывалых и распустило правление, как не заслужившее доверия народа.
Кандидатуру нового председателя назвали сами колхозники: Артюхин. Видимо, люди знали с хорошей стороны и любили этого старого коммуниста: выбрали его почти единогласно, человек десять только воздержалось от голосования. В новое правление, кроме Артюхина, вошли доярка Зайцева, комсомолка Кострикина, Грачев, кузнец Сухоруков и бригадир Милушкин.
Зеленский сказал Долгушину, что будет просить в райкоме, чтоб его освободили от работы в зональной группе и рекомендовали секретарем парторганизации в колхоз «Рассвет».
На другой день с утра нельзя еще было начинать полевые работы, но к обеду, когда просохло и загудели тракторы, народу в бригады вышло столько, что у бригадиров даже и нарядов на всех не хватило; пришлось часть людей из полеводческих бригад отослать на строительство в село и на парники.
Ничего ужасного не случилось из-за того, что сменили председателя и все правление в разгар весеннего сева. Новый председатель Артюхин знал как пять пальцев все хозяйство колхоза, поля, людей, ему не требовалось много времени, чтобы войти в курс дела. На севе это отразилось лишь самым благоприятным образом. В первую же пятидневку колхоз «Рассвет» показал такие темпы полевых работ, что можно было уже не опасаться затяжки сева на целый месяц.
Тем не менее Долгушину попало за это партийное собрание и самовольные выборы нового правления в «Рассвете». Да еще как попало!..
Представители из области, что сидели в райкоме, когда Бывалых пытался созвониться с Медведевым, были один из секретарей обкома партии Маслеников и заместитель председателя облисполкома Рыбкин.
Они задержались в районе на несколько дней, ездили с Медведевым в колхозы, приехали и в Надеждинскую МТС. И здесь, в кабинете Долгушина, при закрытых дверях, в присутствии лишь Холодова (Марья Сергеевна была на поле в тракторных бригадах), завязался, слово по слову, разговор о партийном собрании в колхозе «Рассвет».
— Что-то вы, товарищ директор, очень чистенько выглядите, — заметил Рыбкин после нескольких обычных вопросов: о количестве работающих в борозде тракторов, о ходе сева, о подкормке озимых.
— Чистенько выгляжу? — Долгушин удивился замечанию Рыбкина и даже провел ладонью по гладко выбритой щеке. — Это, вероятно, потому, что каждый день умываюсь.
— По вашему костюмчику не похоже, чтобы вы близко соприкасались с тракторами.
Долгушин был одет в недорогой, расхожий, купленный в местном сельпо костюм из полушерстяной ткани «под коверкот», сшитый не очень ловко, но хорошо выутюженный. Как всегда, был в довольно свежей сорочке, при галстуке, повязанном с каким-то особым» столичным» шиком. За его спиной на вешалке висела новая, еще не потертая и не замызганная стеганка защитного цвета, в которой он недавно приехал с поля. На ногах желтые модельные туфли — забегал на квартиру пообедать и успел переобуться. Шапку Долгушин носил лишь зимой, в морозы, остальное время года ходил с непокрытой головой, красуясь пышными, черными с проседью кудрями.
— Разрешите, товарищ Рыбкин, понимать ваши слова буквально, — ответил Долгушин. — Близко соприкасаться с тракторами — это значит разбирать, собирать моторы, залезать под картер. Но зачем же мне это делать? У нас есть главный инженер, заведующий мастерской, разъездные механики, бригадиры. Не обязательно мне обтирать полой этого пиджака магнето и свечи. Стараюсь обходиться без подмены специалистов.
— Колючий вы человек, — переглянувшись с Медведевым, сказал, улыбаясь, Маслеников, добродушный на вид толстяк в широком сером макинтоше и зеленой плюшевой шляпе.
— Не всегда колючий, — не согласился Долгушин. — Только при виде опасности.
— Какая же опасность вам угрожает сейчас?
— Да вот разговор начинается с замечаний, почти выговора. Настраиваюсь на оборону. Мне ставят на вид, что у меня нос не в мазуте. Директор-белоручка — это я уже слышал от некоторых товарищей. Однако менять свой стиль работы не собираюсь! Под трактором вы меня никогда не увидите, даю слово! Заставлю это сделать кого нужно, но сам не полезу.
— Все-таки большой оригинал у нас директор МТС в Надеждинке! — залился тихим смехом Рыбкин, маленького роста человек, с большой лобастой головой. — Вы первый раз его видите, Дмитрий Николаевич? — обратился он к Масленикову. — А в управлении сельского хозяйства он уже стал притчей во языцех. Никто, говорят, не хочет брать командировку в Надеждинскую МТС. Ему — слово, а он в ответ — двадцать. Ужас навел на людей!
— Не знаю, кто на кого наводит ужас, — Долгушин пожал плечами. — Прав моих не хватает, чтобы навести ужас на вышестоящий орган. А вот я уже получил пять взысканий в приказах начальника областного управления.
Долгушин положил руки на стол перед собой и стал нагибать пальцы.
— За перерасход ремонтного фонда выговор — раз. Хотя виноват не я, а бывший директор — очковтиратель Зарубин. За непринятие на должность заведующего ремонтной мастерской рекомендованного из области инженера — два. Хотя этот человек здесь, в кабинете, упал на колени и умолял, чтобы я под каким угодно предлогом не принял его, вернул назад, домой, к семье. У него, говорят, жена красавица, и он боится, что она не переедет сюда с ним. И оставлять ее одну в городе надолго не решается. Зачем нам такие нежные домоседы? Это уже два выговора?.. За вывоз удобрений из Каменского района, где колхозы их не брали…
— Не трудитесь считать, товарищ Долгушин, — перебил его Маслеников. — У нас не вечер воспоминаний. Нас интересует не прошедшее, а то, что делается у вас сегодня.
— Это прошедшее, Дмитрий Николаевич, — сказал Долгушин, — не вековой давности. К сожалению, это и прошедшее и наше настоящее. Это и есть та обстановка, в которой приходится работать нам, новым директорам. Директора новые, а методы руководства машинно-тракторными станциями старые… Я начал здесь с укрепления трудовой дисциплины и повышения ответственности каждого работника станции за его участок работы. Мне пришлось уволить из МТС двух закоренелых бездельников — агронома и механика. Беспробудное пьянство, вранье в донесениях, всякие пакости в коллективе. Выгнали их. Двум бригадирам на ремонте я за частые опаздывания на работу объявил выговор. И мне поставлено на вид, что я разгоняю кадры и администрирую. Двух человек уволил — по законной причине, и профсоюз согласился с моим приказом — и дал по выговору двум человекам — это сочли администрированием. А мне одному за пять месяцев пять выговоров из области закатили! Да на бюро райкома дважды записывали: «поставить на вид», «строжайше предупредить». Если я администрирую, то это лишь десятая часть того администрирования, которое испытываю на своей собственной шкуре! За что же меня наказывать?.. По-моему, я заслуживаю даже благодарности — за стойкость характера и выдержку. За то, что не переношу на своих подчиненных полностью тех методов руководства, что обрушиваются на меня самого.
Долгушин усмехнулся пришедшему в голову сравнению и добавил:
— Нахожусь в положении буфера между руководящими организациями и трактористами. Принимаю на себя все удары, но не передаю их дальше с той же силой, стараюсь по возможности смягчить.
Маслеников хмурился, а по лицу Медведева скользила легкая сдержанная улыбка. Он, видимо, доволен был тем, что Долгушин произвел неприятное впечатление на секретаря обкома.
— Хотите, Дмитрий Николаевич, скажу вам все, что думаю о стиле руководства нами, низовыми работниками, со стороны вышестоящих организаций? — разошелся Долгушин. — Я ведь новый человек в вашей области, мне кое-что, может быть, даже виднее на свежий глаз, чем старожилам.
— Ну, ну, говорите, послушаем, — кивнул головой Маслеников.
— Поражает меня, с одной стороны, простите за выражение, гнилой либерализм по отношению к тем, кого нужно гнать из партии, к прохвостам, примазавшимся — я уже видел таких в нашем районе немало, — а с другой стороны, бурное администрирование над людьми, честно работающими, но в чем-то, может быть, иногда и ошибающимися. Негибкие, дубовые методы руководства. И тому, чье место в тюрьме, — выговор, и тому, кто не по злому умыслу ошибся, — тоже выговор. Какой-то общий стандарт. Партийные и административные взыскания как единственная форма воспитания низовых работников. Очень упрощенная и облегченная система руководства. По такой системе можно руководить и не напрягая особенно мозги. Но ведь в том и отличие работников умственного труда…
Из бухгалтерии постучали в стену. Долгушин снял телефонную трубку. Звонил Руденко из колхоза «Вехи коммунизма».
Холодов, встретившись взглядом с Маслениковым, повел искоса глазами на Долгушина, чуть заметно кивнул головой в его сторону, как бы говоря: «Какой бюрократ, полюбуйтесь! Не берет трубку, пока из той комнаты не постучат».
— Вот так, Дмитрий Николаевич. Я недавно работаю в деревне, для меня здесь многое еще непонятно, — кончив разговор по телефону и положив трубку, продолжал Долгушин. — Я не знаю, каково положение было здесь в первые годы коллективизации. Может быть, это увлечение администрированием идет еще с тех времен? Когда в деревне была жестокая классовая борьба, когда к руководству колхозами пробирались кулаки, председатели прятали хлеб в «черных амбарах», саботировали решения партии? Когда без большого нажима не проходила ни одна кампания? В то время многие строгости, вероятно, оправдывались чрезвычайной обстановкой. Так вот, может быть, с тех пор по инерции и повелись у нас эти излишества в администрировании? Все еще с некоторым недоверием относимся к местным кадрам? Нужно и не нужно — грозим, стращаем, нажимаем…
Помолчав немного в раздумье, Долгушин добавил:
— Нет, это, конечно, полностью не объясняет вопроса. Помнится, в те времена не было такой примиренческой середины: и тем и другим по выговору. С чужаками и шкурниками, пробравшимися в партию, не нянчились. Были периодические чистки партии…
— Вы кончили, товарищ Долгушин?
Маслеников снял шляпу, положил ее на стул, потер ладонями пухлые, круглые колени.
— Надо отдать вам должное, человек вы последовательный. Все, что рассказывали о вас товарищи, и то, что я сейчас услышал сам, все это — продолжение одной линии. Вы против какого бы то ни было вмешательства сверху в дела вашей МТС.
Долгушин, широко раскрыв глаза, попытался было возразить.
— Погодите. Мы вас слушали терпеливо.
Маслеников тяжело повернулся на заскрипевшем под ним стуле, выпрямил спину. Добродушно-сонливое выражение сошло с его красного округлого лица. В уголках большого рта появились жесткие линии. Подбородок стал каменным, чуть выдался вперед. Долгушин же как-то сник, отвернулся, стал глядеть в окно. Этот новый человек из верхушки областного руководства, с которым он до сих пор ни разу еще близко не встречался, сразу потерял для него интерес.
— Да, да, вы восстаете против нашей социалистической системы руководства и управления хозяйством. Вы хотите, чтобы райком и областные организации не давали вам никаких директив, чтобы вам здесь была полная свобода действий. Не выйдет, дорогой товарищ Долгушин!
— Не выйдет! — подтвердил, протирая очки носовым платком, сурово нахмурившись, Медведев. — Руководили и будем руководить! Ослабить организующую и направляющую роль партии никому не удастся!
Маслеников поднялся, откинул ногой стул к стене и тяжелыми шагами, от которых задребезжали стекла в окне, стал ходить из угла в угол по тесному кабинету.
— Выговоров, видите ли, много ему записали! Областные организации администрируют! Обижают, унижают человека! Лучше надо работать, вот и меньше будет выговоров!.. Да откуда вы, собственно, взялись у нас, такой самостийник? Кто вас выдвигал, рекомендовал на ответственный пост в деревню? Надо все-таки, — Маслеников остановился перед Медведевым, — проверить, запросить Московский комитет. Как он там работал в главке?
Кровь бросилась в лицо Долгушину.
— В райкоме партии лежит моя учетная карточка. Там вся моя жизнь записана — где и как я работал, — сказал он, подняв голову.
— Да знаем мы, как у нас иногда учетные карточки заполняют! Хотят избавиться от ненужного человека — и отпускают его с чистым личным делом, лишь бы уехал поскорее. Скатертью дорожка! Выдвижение, называется! А у этого «выдвиженца» десять выговоров было!
— Помнит свекруха свою молодость — и невестке не верит, — вырвалось у Долгушина.
— Что?..
— Сами, что ли, выдвигали так коммунистов из своей парторганизации, по разверсткам Цека?..
— Вы с кем разговариваете, товарищ Долгушин? Не забывайтесь! — почти крикнул на него Медведев.
— Разговариваю с секретарем обкома, которого высокое положение обязывает тем более вести себя достойно и не оскорблять незаслуженно коммуниста.
Изумленный Маслеников не нашелся что ответить, постоял немного у стола, глядя в упор на Долгушина, громко крякнул, как после хорошей стопки водки, и принялся опять ходить по кабинету. Неловкая пауза тянулась несколько минут.
— Интересно получается, что вот он, — заговорил Маслеников, указывая через плечо большим пальцем на Долгушина, — протестует против повседневного оперативного руководства сверху машинно-тракторной станцией, а сам в то же время — за очень широкие права директора. Права директивных организаций ему хотелось бы поубавить, а свои — раздуть до бесконечности! Ко мне не лезь никто, не признаю над собой никаких начальников! А я буду лезть всюду, буду командовать колхозами, как мне вздумается!
— Именно этого он и добивается — полной бесконтрольности и диктаторства в зоне своей МТС, — сказал Медведев. — Вы очень правильно подметили, Дмитрий Николаевич!
— Вообще товарищ Долгушин любит заниматься не своим делом, — подал голос Холодов. — Вызывает, например, рабочего, члена партии, и начинает беседовать с ним: «Я говорю с тобой как с коммунистом». Кто вас обязывает, Христофор Данилыч, говорить с ним как с коммунистом? Говорите просто как с рабочим, а как с коммунистом мы сами с ним поговорим!
Сказано это было так неудачно, что Долгушин, как ни грустно было ему в эти минуты, даже улыбнулся. Рыбкин откровенно засмеялся, покачал головой. Маслеников досадливо махнул рукой на зонального секретаря.
— Не об этом речь, товарищ Холодов! Вы нетипичный пример привели. В вашей МТС директор взял на себя вообще все функции зональной группы!
— Что вы имеете в виду, товарищ Маслеников? — спросил Долгушин.
— Да вот хотя бы это знаменитое партийное собрание, что вы провели здесь на днях без ведома райкома в одном колхозе.
— А, вот что. Ну, по этому вопросу я готов держать ответ где угодно. С этого бы и начинали — ближе к делу, — а не с моего чистого костюма.
Долгушин открыл ящик стола, достал оттуда три исписанных тетрадочных листа бумаги.
— Вот посмотрите, передали мне вчера из этого колхоза «Рассвет». Заявления о вступлении в партию. Простите, Григорий Петрович, — он взглянул на Холодова, — не успел вручить их вам — не видел вас со вчерашнего дня. Секретаря парторганизации там сейчас пока нет, а товарищ Зеленский, видимо, где-то в другом колхозе своего куста, и заявления передали прямо в МТС. Одно — от Прасковьи Зайцевой, лучшей, как я успел заметить, работницы у них на животноводстве. Другое — от кузнеца Тихона Сухорукова. Третье — от колхозницы Надежды Ивановны Прониной, матери погибшего на фронте Героя Советского Союза. Три заявления о вступлении в партию от рядовых колхозников. Вот что происходит там сейчас, после этого собрания. А вообще в районе, насколько мне известно, за последние годы очень мало было принято в партию колхозников. Единицы. Так, товарищ Медведев?
Заявления пошли по рукам. Особенно долго и внимательно, одобрительно покачивая головой, читал их Рыбкин. Маслеников, прочитав, передал заявления Холодову.
— Это все хорошо, товарищ Долгушин, но вы не отвечаете прямо на вопрос: кто вам, директору МТС, хозяйственнику, дал право подменять партийные органы? Вы там сняли секретаря колхозной парторганизации, исключили из партии председателя колхоза, учинили новые выборы правления, черт знает что натворили, и все это самовольно, не испрашивая ни у кого разрешения на эту операцию!
— Во-первых, не я снимал и исключал, — напрягая все душевные силы, чтобы сохранить спокойствие, ответил Долгушин. — Я вносил предложения, а решало партсобрание. Во-вторых, и товарищу Медведеву и товарищу Холодову давно было известно о положении в этом колхозе. Я несколько раз просил их заняться «Рассветом». Время шло, упустили зиму, приступили наконец уже к севу. А вы лучше меня знаете, что посеешь, то и пожнешь. Если колхоз провалит сев, весь хозяйственный год загублен. Еще, стало быть, на год оставим там людей без урожая, без хлеба, без денег. Пришлось ехать туда самому. И то, что я увидел там на месте, что услышал от колхозников, в чем убедился собственными глазами, — это уже было последней каплей. Тут я, простите, забыл о своих правах, хватает или не хватает их для созыва такого собрания, тут я действовал просто как коммунист.
— Просто как коммунист! Ха! — Маслеников продолжал сотрясать стены тяжелыми шагами. — Да вы понимаете, что вы там чуть ли не чистку партии учинили? Где, в каких инструкциях записано, чтобы на открытом партийном собрании ставился вопрос об исключении из рядов партии коммунистов?..
— У них там беспартийные даже голосовали, — добавил Холодов. — В протоколе записано.
— Даже голосовали? Еще лучше! Старый член партии, не знаете Устава партии, в которой состоите!
Долгушин поднялся, подошел к окну, распахнул его — в кабинете было душно и сильно накурено, атмосфера сгущалась во всех смыслах, — присел на подоконник.
— Если я ошибся по форме, то неужели вас, Дмитрий Николаевич, совершенно не интересует существо дела? Почему вы начинаете с формы, а не с главного: что было в колхозе и что вынудило меня к таким действиям? Разве вы не согласны, что тех мерзавцев действительно нужно было гнать с позором из партии? Воров, спекулянтов, пропойц? Сейчас там, за эти дни после собрания, еще много нового раскрылось. Развязались языки. Стали люди говорить обо всем, не боясь. Уже известно и кто телятник спалил. Дело кончится судом над целой шайкой бандитов! Но я думаю, что и по форме все было сделано правильно. То, что мы вынесли на открытое партийное собрание такие вопросы, — именно это и помогло там начать оздоровление обстановки. Вы что, боитесь подрыва авторитета партии? Так в этом же и сила и авторитет партии — в связи ее с народом! Когда мы открыто говорим о своих промахах и болезнях, на глазах у людей очищаемся от всякой дряни — это лишь поднимает доверие народа к партии.
— Может быть, для связи с народом и пленумы и партийные конференции наши предложите проводить открыто?
— Да, да! — подхватил Медведев. — Вообще растворить партию в массах! Отсюда один шаг и до ликвидаторства!
Долгушин чувствовал, что его слова падают в вату, но все же продолжал говорить.
— Буду доказывать где угодно, что и с Бывалых поступили правильно! Нельзя в таких случаях формально подходить к делу. Человек, мол, недавно только послан председателем, как же его снимать, а тем более исключать из партии? Ну, а если с посылкой его в колхоз действительно ошиблись? Что ж, теперь людям так вечно терпеть последствия этой ошибки? Недавно послан, да, но уже успел показать себя во всей красе. Нет надобности еще три года к нему присматриваться. Человек может и в один день вдруг раскрыть свои душевные тайники — в трудной обстановке. Как трус или перебежчик на фронте. Бросил винтовку, поднял руки — вот и все уже ясно.
— Я думаю, товарищ Долгушин, — перебил его Маслеников, — придется все же вытащить вас с этим делом на бюро обкома.
— Зачем же меня «вытаскивать»? Позвоните — сам приеду.
— Райкома вы, как видно, совершенно не боитесь. Вероятно, здесь сказываются ваши прошлые московские масштабы работы. Но вам и на обком наплевать! Вы даже забыли, что председатели колхозов — в областной номенклатуре!
— Эх, Дмитрий Николаевич! Если бы вы тогда со мной в «Рассвете» походили по фермам, бригадам, поговорили с колхозниками, посидели на том собрании, и вы бы забыли, в чьей номенклатуре Бывалых!..
Долгушину вдруг стало невыносимо обидно за себя, за те хорошие, светлые чувства, с которыми он ехал из Москвы на постоянную работу в деревню, за то немногое еще пока, что он успел сделать в МТС и колхозах.
— Выражения у вас, товарищ Маслеников!.. — сказал он с горькой усмешкой. — «Вытащим на бюро». В какое-то пугало превращаете бюро обкома! А мне бы хотелось приезжать в обком, как в дом родной, за советом, помощью, теплым, ободряющим словом…
Долгушин соскочил с подоконника, заметив, что Маслеников, переглянувшись с Медведевым, взялся было за шляпу.
— Нет, погодите! Я еще имею кое-что вам высказать. Вы здесь предъявили мне тяжкое обвинение, что я вообще против какого бы то ни было руководства со стороны директивных органов. Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Ведь это же все равно, что обвинить меня в эсеровщине, скажем, или оппортунизме. О ликвидаторстве уже говорилось… Присядьте, Дмитрий Николаевич, еще на минутку. Я не вижу вашей машины во дворе. Вы же отпустили шофера пообедать?
Долгушин сел за стол, вытащил из ящика несколько толстых тетрадей в клеенчатом переплете, полистал их.
— Не часто мы видим у себя в МТС секретарей обкома. Много рассказал бы я вам. Это мои дневники. С первого дня начал записывать все, что видел, узнавал, думал. Но это надолго разговор. Я вижу, вы торопитесь…
Долгушин, вздохнув, спрятал тетрадки обратно в стол, задумался.
Хотя он среди собравшихся в кабинете людей находился в положении лица подначального, тем более провинившегося, которому делают выговор, обязанного больше слушать, чем говорить, невольно все же как-то получалось, что разговор вел он. И даже, когда он умолкал на минуту, ждали, что он еще скажет. Самая тема разговора и упорство Долгушина заставляли его слушать. И неприятно было то, что он говорил, и все же слушали.
— Сколько встает перед нами каждый день таких вопросов, с которыми нам самим трудно справиться или где нам нужен дельный совет! Не знаю, есть ли еще человек на свете, который бы так горячо желал, чтобы им руководили, как желаю в эту весну я! Но руководили по-настоящему!.. Вот трактористов мы зачислили в штат МТС. Но разве этим и кончается превращение колхозника-механизатора в настоящего рабочего?.. А хозрасчет? Вероятно, машинно-тракторные станции будут скоро переводить на хозрасчет, надо же наконец взять на карандаш себестоимость продукции. Но хозрасчет в условиях нынешнего сельского хозяйства, такой вот двойной ответственности за урожай и работников МТС и колхозников, это совершенно не похоже на промышленность… А севообороты? А вопрос о переднем крае в колхозах?..
— Это еще что за передний край? — спросил Маслеников.
— Как на фронте передовая проходит извилисто, а не всюду ровно по линеечке, так и в колхозах сейчас передний край нового не на одной черте. В нашей зоне двенадцать колхозов, и все разные по своему уровню организованности, дисциплины, культуры. Этот колхоз вряд ли еще справится с такой-то задачей, а другому она как раз по плечу. Для одного колхоза это увлекательная мечта, рывок вперед, для другого — скучный, пройденный этап. Давать сейчас одинаковые задачи всем колхозам — все равно что собрать в лекторий людей с разным образованием: и за три класса, и за десятилетку, и за два курса университета — и начать читать им всем лекции о методе меченых атомов в химии. Опёнкин во «Власти Советов» дошел уже до расщепления атомного ядра, этому можно уж и за антипротоны браться. А кой-кому следует таблицу умножения хорошенько повторить. «Власть Советов» может сегодня приступать уже к строительству соцгорода на месте старого села. На текущем счету у них свободных средств три миллиона. Круглосуточные детские ясли, детсады, Дворец культуры, радиоузел, водопровод, колхозный санаторий — на все хватит у них сил. Этот колхоз может уже в полной красе показать всем новую жизнь нашей деревни. Пора ему уже блистать не только высокими урожаями и образцовыми коровниками, а именно счастливой жизнью людей! На могучие плечи Опёнкина — и ношу богатырскую! А где-то в другом колхозе надо добиваться пока еще хорошего выхода на работу и хозяйского отношения колхозников к общественному добру… Даже болезни у отстающих и у передовиков неодинаковые. Сегодня мы распутываем этот клубок преступлений в «Рассвете», а завтра надо что-то делать с колхозом «Спартак».
— А что случилось в «Спартаке»? — осведомился Медведев.
— Ничего особенного, Василий Михайлович, кроме того, что колхоз свернул с социалистического пути, куда-то на купеческий путь.
— Что-о?..
— Да, так. Колхоз этот у вас считали много лет благополучным. Поставки выполняют, на трудодень выдают прилично, миллионеры — чего еще надо? И товарищ Мартынов, естественно, редко туда заглядывал, и вы, очевидно, полагаете, что в «Спартаке» районным руководителям не над чем ломать голову. Побольше бы, мол, таких хозяйственных председателей, как Золотухин. Мне тоже, когда я приехал сюда, расхвалили этот колхоз. По десяти рублей на трудодень дали, семь автомашин имеют, у председателя — «Победа». А недавно я там был, посмотрел хозяйство, посидел вечер в бухгалтерии и разобрался в источниках колхозных доходов. Животноводство у них средненькое, урожаями не блещут. Выезжают на некоторых прибыльных вещах — на чесноке, конопле, клубнике. И умеют продать свой товар. Куда что повезти, чтобы выгоднее продать, этому их учить не надо. Как в бюро погоды сходятся из разных областей Советского Союза метеосводки, так у Золотухина на столе в кабинете каждый день свежие телеграммы — где что почем на колхозных рынках. Но этого мало, что свои продукты продают. Оказывается, колхоз содержит в разных городах целый штат агентов по купле-продаже всего, что под руку попадется. Накупили лошадей в Ставропольщине, перегнали в Татарию, продали втридорога, заработали на этой операции двести тысяч рублей. В Казахстане покупали баранов, в Харькове торговали молдавским вином, в Ленинграде — кубанским рисом. Это уже похуже, чем просто коммерческие загибы в колхозной торговле. Самое настоящее барышничество… Вы, товарищ Медведев, ломитесь в открытую дверь: «Руководили и будут руководить, не отдадим колхозы никому на откуп!» Никто не посягает на ваши права. Руководите, пожалуйста. Очень просим! Не упускайте из поля зрения и такие колхозы, как «Спартак». Ведь в конце концов все наши хозяйственные планы — для социализма, для воспитания социалистического человека. Нам не все равно, каким способом наживают председатели эти миллионы. Что там за парторганизация в «Спартаке»? Как позволяют коммунисты Золотухину заниматься такими вещами? Декларируете свое право на руководство, а сами не руководите по-настоящему. Избегаете трудных, щекотливых вопросов, выбираете, что полегче. Если интересоваться только сводками по текущим кампаниям, не много узнаешь о жизни колхозов. Очень отстает у нас работа партийных организаций от уровня хозяйственных дел!..
— Значит, вас не удовлетворяет работа наших партийных органов? — с самокритичным смиренным выражением на лице сказал, покачивая головой, Маслеников. — Линия райкома, обкома?
— Насчет линии, Дмитрий Николаевич, ничего не могу вам сказать, — ответил Долгушин. — Я ее пока не видел. Первый раз разговариваю с членом бюро обкома. Но думаю, что ваш лично стиль руководства директорами МТС — это еще не линия обкома.
Во дворе просигналила машина.
— Ну, довольно, поговорили! — Маслеников резким взмахом руки оборвал разговор, встал, застегнул макинтош, надел шляпу. — В общем, так, товарищ Долгушин. С севом у вас неважно. Многие МТС, позже приступившие к массовому севу, догоняют уже вас по выработке на трактор. Есть факты недоброкачественной пахоты, перерасхода горючего, нарушения трудовой дисциплины. Сделаем так, Василий Михайлович. Подождем до конца сева, подытожим все и поставим его отчет. Или на бюро райкома, или, может быть, у нас в обкоме. Вот так. Там поговорим обо всем. До свидания! Советую все же вам, товарищ Долгушин, меньше философствовать, а больше заниматься практическим делом. И именно вашим кровным делом — тракторным парком, ремонтом комбайнов, механизацией ферм. С колхозом «Рассвет», товарищ Медведев, я думаю, надо все же довести дело до конца. Бывалых и секретаря парторганизации, которого сняли, вряд ли нужно восстанавливать там, поскольку за ними действительно имеются грехи. Присмотритесь, как будет работать новый председатель, помогите ему. Если этот зональный инструктор очень настаивает на переводе в колхоз, рассмотрите его заявление. И займитесь колхозом «Спартак». Как же это получается, что вам неизвестны такие факты? Колхоз покупает и перепродает скот! Укажите председателю на недопустимость! До свидания, товарищи! Желаю успехов!
Долгушин, как гостеприимный хозяин, вышел проводить гостей на крыльцо. Стоял, пока отъехали, глядел вслед. Машина быстро скрылась за поворотом дороги, спускавшейся под гору к реке, но долго еще курилась в той стороне над улицей пыль и истошно визжала чья-то собака — видимо, попала под колесо.
«Подытожим все» прозвучало откровенной угрозой. Мало ли можно подытожить промахов и ошибок в огромном хозяйстве МТС, в ее восемнадцати тракторных бригадах за все время весеннего сева? Особенно когда этих промахов ждут и не очень стараются предостеречь от них человека.
Теплым майским днем Марья Сергеевна шла полевой дорогой из Арсеньевки в Березняки. Она так рассчитала свое время, чтобы успеть сегодня побывать еще в тракторной бригаде Семена Чалого, а к вечеру добраться домой, в Надеждинку. Завтра рано утром отправляли машину в райцентр — она хотела съездить на полдня в Троицк, свезти дочку на рентген в поликлинику.
На полях цвела весна. Молодая озимь на уцелевших от вымерзания участках, еще не тронутая сушью и жарой, жила, играла под солнцем переливами чистой, яркой зелени и, когда налетал ветер, уже «пробовала голос», чуть начинала шуметь своей стрельчатой густой гривкой; но солидно покачиваться невысоким ершистым стебелькам еще не удавалось, ветер гнал по ним пока не волны, а мелкую зыбь. Чернели квадраты свежей, дымящейся пахоты. Над полевыми болотцами кувыркались, сшибались в воздухе, падали чуть не наземь и вновь взмывали вверх с стенящим криком чибисы. И в небе и на земле беспрерывно, не умолкая ни на минуту, пели жаворонки. Солнце сияло нестерпимо ярко, весь купол неба над головой излучал потоки света, пушинки, поднятые ветром вверх с какой-то отцветшей еще прошлым летом старой травы, вспыхивали в небе искорками. Глазам было больно от этого сплошного сияния вокруг.
У поворота дороги к стану тракторной бригады Чалого Марья Сергеевна увидела эмтээсовский «газик». Задок был приподнят на домкрате, снятое колесо валялось рядом. Вокруг машины похаживал Холодов. Володя, подстелив стеганку, лежал на боку под дифером, силился привернуть какую-то гайку.
— Две беды, Григорий Петрович, — сказал Володя, кивком головы здороваясь с подошедшей Марьей Сергеевной. — Баллон-то мы починим, а вот это, видите? — Он постучал ключом по железу. — Так нельзя ехать. Не привертывается гайка до конца, резьба на болту забита.
— Нельзя ехать? А что ж ты дома думал?
— Я и дома думал, Григорий Петрович, что этому калеке давно пора в утиль, на переплавку. Одно отрегулируешь — другое не годится.
Холодов с сердцем плюнул. Володя вылез из-под машины, задумчиво повертел в руке болт с гайкой, оглянулся вокруг. Вдали, километрах в четырех, у небольшого леска, виднелся полевой вагон бригады Чалого. Возле вагона маячило что-то вроде автомашины с высокой будкой.
— Придется сходить к трактористам, — сказал Володя. — Ничего другого не придумаешь. А вы здесь отдохните. Может, у них есть такой болт. Или нарежем резьбу на этом. Вон к ним и походка, кажется, приехала.
— Ну, иди, чего ж раздумываешь! Да скорее справляйся, некогда нам тут загорать!
Володя зашагал прямо через пахоту к вагону. Холодов отошел с дороги к старой, прошлогодней развороченной скирде, откинул с кучи носком сапога заплесневевшие, гнилые комья, докопался до чистой соломы, бросил на нее плащ, сел, позвал Марью Сергеевну:
— Садись, отдыхай… Вот так и работаем! Транспорт называется. Гроб с музыкой! Да и тот делим пополам с директором. Как милости, просишь машину в колхоз выехать. И ты тоже — секретарь парторганизации МТС, а ездишь по бригадам одиннадцатым номером. Хождение в народ!
— Ох, Григорий Петрович, — сказала Марья Сергеевна, садясь рядом с Холодовым на плащ, — сколько нас здесь, начальников, да если еще каждому машину, что ж это получится? Целой автоколонной будем ездить. Зачем мне машина? Я ушла из дому на несколько дней, вчера ночевала в пятой бригаде, позавчера — в восьмой, наговорилась там с ребятами вволю. Делаю свое дело не торопясь, шофер меня не ждет, горючее не трачу. Гораздо лучше так, спокойнее. А пройти пешком из колхоза в колхоз — вместо прогулки. Я вот за это время, что работаю здесь, похудела на восемь килограммов — это мне только на пользу. Не нужно и на курорты ездить. Будто молодые годы вернулись. Опять хожу по полям, степным воздухом дышу, трактористы вокруг меня, свои люди. Жить стало интереснее!..
Марья Сергеевна, загорелая, с выбившимися из-под косынки растрепанными ветром каштановыми кудряшками, по-здоровому похудевшая, вся какая-то окрепшая, выглядела действительно намного моложе своих тридцати семи лет. Одета она была в легкий летний ситцевый сарафан, пальто держала на руке. Холодов покосился на голое плечо Марьи Сергеевны, почти касавшееся его, скользнул взглядом по ее ногам в парусиновых тапочках, полным сильным икрам, снял фуражку, вытащил из нагрудного кармана кителя расческу и зачесал назад, на небольшую лысину, светло-русые, длинные, шелковистые волосы.
— Что делала в пятой бригаде? — спросил он.
— Решения Пленума читала ребятам, кто в подсмене был. Хорошего агитатора подобрала я там, Григорий Петрович! Василий Лукашов, тракторист, комсомолец. На каждый пункт решения у него факт из жизни: «А у нас в колхозе вот так-то делается», «А я вот говорил с нашим агрономом, и у нас можно это сделать». Вообще, я думаю, надо нам поломать этот порядок — назначение агитаторами людей по должности. Всюду у нас в бригадах агитаторами учетчики. Они, мол, самые грамотные и не работают на тракторе, им удобнее всего проводить читки и выпускать боевые листки. А может, у этого учетчика совсем нет пропагандистских способностей? Надо назначать тех, кто сможет поднять людей на живое дело!
— Это правильно, — согласился Холодов.
— Оформила у них партийно-комсомольскую группу, — продолжала рассказывать Марья Сергеевна. — Для начала обсудили на собрании вопрос о себестоимости центнера натуроплаты. Приезжал наш плановик, по моей просьбе, и рассказал ребятам подробно, из чего складывается эта самая себестоимость. С большим интересом слушали его! Все как-то по-хорошему призадумались: вот что мы теряем на горючем, на лишних перепашках, на пустых переездах. Много было вопросов. Я думаю еще раз поговорить с ними, и можно будет с этой бригады начать соревнование в МТС за снижение себестоимости урожая.
Холодов раскинулся на соломе в вольной позе, расстегнув китель. Закинув руки за голову, запел, фальшивя: «Дывлюсь я на небо…» Оборвав песню, повернулся на бок, опершись на локоть, пристально посмотрел в лицо Борзовой, на ее миловидный профиль с небольшим, чуть вздернутым носом, полными губами и мягким округлым подбородком.
— В четырех бригадах у нас есть девчата и женщины, — говорила Марья Сергеевна, нагнув голову и натянув на лоб косынку от бьющего прямо в глаза солнца, вертя в пальцах длинные соломинки, сплетая из них кнутик. — И в колхозах есть бывшие трактористки на других работах. В Семидубовке мы организовали женскую тракторную бригаду. Хорошо работают! Надо бы и здесь нам сколотить такую бригаду. Получим новые машины. Трактористки есть, согласны, я уже говорила с ними. Бригадира надо подобрать хорошего, лучше бы из женщин. Вот присмотрюсь еще к одной трактористке, Кате Быковой. Машину знает отлично, пятый год работает.
Солнце припекало по-летнему. Жаворонки заливались. В затишке за скирдой жужжали пчелы. Пахло ранними полевыми цветами.
— Как живешь, Марья Сергеевна? — спросил вдруг Холодов.
— Что? — не поняла Борзова. — Я же вам рассказываю, чем занималась эти дни.
— Я тебя про личную жизнь спрашиваю. Не собираешься в Борисовку переезжать?
— Если б собиралась переезжать, не пошла бы сюда на работу… Не люблю я, Григорий Петрович, когда меня об этом спрашивают. Я уж начинаю забывать о своей прошлой жизни.
— Все же трудно тебе жить одной, без мужа. Женщина ты, как говорится, в самом соку.
Холодов приподнялся, сел, оглянулся по сторонам — километров на пять вокруг в степи ни души, Володя скрылся в лощинке за перевалом, — придвинулся плотнее к Марье Сергеевне, положил ей руку на тугое, налитое плечо.
— Чего вы, Григорий Петрович? — удивленно спросила Борзова, отстранившись от Холодова и сбросив его руку. Посмотрела на него внимательно, в глазах ее заиграли веселые искорки. — А-а. Я думала, вы какого-то жучка сняли у меня с плеча. Это вы хотели меня обнять?..
— Да. Чего отодвигаешься? Нас никто не видит. Дай руку. Сними косынку, тебе так лучше. А знаешь, ты женщина в основном довольно красивая. И, видно, с огоньком. Таких мужчины любят.
Даже в эту минуту в голосе внезапно почувствовавшего расположение к Борзовой зонального секретаря зазвучали привычные начальнические интонации.
Косынку Марья Сергеевна сняла, положила на колени (какая женщина не сделает чего-то, когда ей говорят, что ей так лучше?), но руку Холодову не дала.
— Чего это вы так сразу, Григорий Петрович? Никогда таких слов от вас не слыхала. Давно в Троицке не были? Надо перевозить семью в Надеждинку.
— А, брось ты о семье! Не к месту разговор! — отмахнулся Холодов. — У меня, может, с семьей положение не лучше твоего. Не холост, не женат. Еле уговорил жену приехать в Троицк на время, а о селе и слушать не хочет. Такая мещанка!.. Так ты мне не ответила на вопрос, трудно жить одной, без мужчины?
— А вы можете мне помочь?..
— Могу, конечно!..
Красивое, каменно-строгое лицо Холодова как-то обмякло, тонкие губы повело в улыбке. Оказалось, и он умеет при позволяющих обстоятельствах улыбаться.
— Слышишь, как птички поют? Все живое жизни радуется. Весна! А ты у нас как солдатка-бобылка.
Положив руку на колено Борзовой, добавил:
— Как говорил Пушкин: «И тайный цвет, которому судьбою назначена была иная честь…» Забыл дальше.
Полагая, что на этом можно и закончить лирическое вступление, Холодов крепко обнял Борзову и притянул к себе. Но поцеловать не удалось. Губы его встретили не лицо Марьи Сергеевны, а кулак, небольшой, но достаточно твердый, чтобы умерить его пыл.
Вырвавшись из объятий Холодова, Марья Сергеевна, рассерженная, покрасневшая, вскочила, отошла от него на два шага, повязала косынку, стряхнула с сарафана приставшие соломинки.
— Получили?.. Вон у вас на губе кровь, вытрите. Если подойдете ко мне, еще съезжу. Лучше сидите там, успокойтесь.
Холодов благоразумно остался сидеть на соломе.
— Чего это вам взбрело в голову? Вот уж никак не подумала бы!.. «Одна ты у нас, как солдатка-бобылка». Заботу проявляете о своих сотрудниках?.. Не утирайтесь рукавом, запачкаете китель.
— Чтоб это осталось между нами. Слышишь? — хмуро сказал Холодов.
— Да уж в стенгазету не напишу.
— Что бы ни произошло между мужчиной и женщиной, это не должно отражаться на их служебных отношениях. Всякие бывают случайности. Понятно?
— Да не отразится, говорю, не бойтесь! — Марья Сергеевна уже отсердилась, и в голосе ее слышался смех. — Не в моем вы вкусе, Григорий Петрович, не обижайтесь. Многого вам, на мой взгляд, не хватает. И вообще… Рассказала бы я вам, как наша сестра смотрит на вашего брата, да надо в бригаду идти. — Подхватила брошенное на соломе пальто. — Думаете, если видный мужчина, то женщины, особенно одинокие, прямо так и тают перед ним?.. Не всякий тот мужчина, что штаны носит. До свиданья!
И, что досаднее всего было Холодову, отойдя шагов на двадцать от скирды, Марья Сергеевна вдруг стала хохотать. Хохотала до слез, утирая глаза уголком косынки, споткнулась о кочку, поглядела на него, расхохоталась еще громче. Холодов поднялся, ушел за скирду, но и там долго еще слышал ее звонкий удалявшийся смех.
В палате, где лежал Мартынов, было тихо, прохладно, уютно от развешанных по стенам вышитых ковриков и картинок в рамочках и не слышно было даже запаха лекарств; открытое окно выходило в сад, старый, тенистый, деревья густо цвели, и аромат яблоневого цвета перешибал запахи всяких больничных дезинфекций. Палата была на две койки. Больной со второй койки ушел погулять в сад, задернув постель одеялом.
Ключица и рука у Мартынова уже заживали, но перелом ноги оказался тяжелым, и ему еще не разрешали никаких движений, раза два в день только осторожно переворачивали его на бок, чтоб не належал на спине пролежней. Он сильно похудел в больнице, смуглое, обычно со здоровым загаром лицо как-то посерело, под глазами легли тени, кадык на тонкой, мальчишеской шее выпирал остряком.
Марья Сергеевна сидела в плетеном кресле у койки и осматривала палату. Шестилетняя дочка ее, Верочка, взобравшись на подоконник, перелистывала журналы, сосала леденцы, которыми угостил ее Мартынов.
— Нигде в больнице не видела такой обстановки, — сказала Марья Сергеевна, указывая на кружевную скатерть на тумбочке и вышитые коврики над койкой.
— Это жена натаскала из дому, — ответил Мартынов. — Разрешили ей обставить палату по-своему. «Если не позволяете, говорит, забрать его домой, так я сделаю, чтоб здесь ему хоть немного было похоже на дом».
— Часто бывает у тебя Надежда Кирилловна?
— Каждый день заглядывает. Когда идет на работу в «Прогресс» или домой.
— Не шали, Верочка, сиди тихо. Ты ножками стену оббиваешь… Привозила дочку на рентген. Зимою в Семидубовке переболела воспалением легких, а тут начала чего-то кашлять. Наш участковый врач посоветовал проверить на рентгене. Нет, ничего, все благополучно. Вообще она слабенькая здоровьем. Если дадут мне отпуск хотя бы в конце лета, съезжу с ребятами на Черное море, там она поправится. Сестра у меня в Севастополе, замужем за моряком…
С домашнего разговор перекинулся к делам в МТС, к Долгушину.
— Попал в район большой человек, надо бы радоваться, что хорошего директора прислали нам, а у нас такое с ним получается, что, боюсь, выживут его из МТС, — говорила с грустью Марья Сергеевна. — За каждым шагом следят, так и ловят, чтоб на чем-нибудь его подсидеть. Говорит мне как-то Холодов: «Ты проверь, у него, кажется, третий месяц уже членские взносы не плачены». Я проверила по ведомости — да, третий месяц пошел. Сказала Долгушину — тот за голову схватился. «Первый раз, говорит, за тридцать лет, что состою в партии, такой случай со мною! Вот что значит замотался!» Тут же уплатил. А Холодов стал пенять: «Зачем сказала ему? Секретарь не для того существует, чтоб напоминать членам партии об уплате членских взносов, сами должны знать. Пусть бы истек третий месяц, мы бы тогда проучили его на партсобрании!» Вот в какой обстановке работает человек. Боюсь за него. И в области уже нажил себе недругов. Говорит всем в глаза прямо, что думает, не оглядываясь, нравятся его слова или не нравятся…
— Да, характер у него, видно, такой, что жить ему нелегко, — сказал Мартынов.
— А у тебя лучше характер? — усмехнулась Борзова. — Не знаю, как бы у вас с ним было, если б ты работал сейчас в райкоме. Он бы и тебе наговорил всяких неприятностей.
— За что?
— Мало ли за что. За твои упущения… Да нет, я шучу. Ты бы не стал обижаться на него за критику. И не дрожал бы так за свой авторитет, как Медведев. Если Медведев станет председателю колхоза говорить, что вот надо бы сделать то-то или то-то, а председатель ему в ответ: «Да вот посоветуюсь с товарищем Долгушиным, что он скажет», — это Василию Михайловичу прямо нож в сердце! К директору МТС охотнее идут люди за советом, чем к нему, секретарю райкома! Как это пережить?.. Не понимаю я, Петр Илларионыч, взрослые люди, коммунисты, на ответственный пост поставлены, — как можно из-за какого-то мелочного самолюбия забывать о деле? Ну вот взять меня. Молодой партийный работник, да и по возрасту Долгушин почти на двадцать лет старше меня. Он в партию вступил, когда я еще вот такой была, — кивнула на дочку. — Был на крупной работе, заводы строил, людьми руководил. Почему бы мне не поучиться у него? Именно у таких людей нам и учиться. Он из тех коммунистов, что живут для народа, все силы отдают работе. И как его полюбили у нас, Петр Илларионыч, трактористы! А поначалу встретили с недоверием. Шрам этот у него, вечно гримаса такая презрительная, как у бюрократа, будто ему с людьми разговаривать противно. И цыган к тому же. Не верили, что цыган всерьез возьмется за сельское хозяйство. Ему бы чем-нибудь торговать или руководить ансамблем песни и пляски. Но теперь уже все убедились, что если б таких директоров побольше, то, может, и не хромало бы у нас сельское хозяйство. И любят его, и уважают, и боятся. Председателей колхозов так прибрал к рукам, что некоторые было взбунтовались. Потребовал, чтоб из всех колхозов представляли ему ежемесячные сведения: какие суммы числятся у председателя и членов правления под отчетом. Даже Опёнкин обиделся: «Это же вам, товарищ Долгушин, не совхоз, и я вам не управляющий отделением, чтоб отчитываться в деньгах перед директором! Наши деньги, не ваши!» И я было подумала, что тут Христофор Данилыч немножко перегнул, но он показал приказ министра сельского хозяйства — оказывается, право такого финансового контроля директору МТС дано, только никто из бывших директоров им не пользовался. И выявил уже таким способом двух растратчиков — экспедитора в «Заре» и завхоза в «Активисте». Один за восемь тысяч не мог отчитаться, другой — за двенадцать. Не все, конечно, люди у нас полюбили Долгушина. Вот этим растратчикам, ясно, любить его не за что. В самой МТС тоже не всем угодил, есть очень недовольные им.
Марья Сергеевна стала рассказывать о партийном собрании в колхозе «Рассвет».
Мартынов выслушал ее и сказал:
— Об этом собрании я уже знаю. Один колхозник рассказывал мне.
— Кто?
Мартынов повел глазами в сторону пустой койки.
— Больной из «Рассвета» лежит здесь со мной, Сухоруков. На прошлой неделе привезли с переломом руки.
— Сухоруков?.. Погоди-ка, это, кажется, их кузнец? Так он в партию подал заявление. Говорил он тебе?
— Да, подал. Говорил. Все рассказал, что там было. Как Долгушин налетел коршуном на их жуликов.
— Ну как думаешь, Петр Илларионыч, — забеспокоилась Марья Сергеевна, — верно ли, что он там чего-то неладно сделал? Ведь это ему сейчас ставят в вину. Из обкома приезжали товарищи. Но как ему там было удержаться? До чего довели колхоз!..
Мартынов долго молчал.
— Дело вообще-то рискованное. Созвать весь колхоз на открытое партийное собрание! Коммунисты потонули в этом море беспартийных. Получилось действительно что-то вроде чистки партии… Но, может быть, эту парторганизацию и стоило почистить таким способом? Положение чрезвычайное — и меры чрезвычайные!.. Я осенью в «Борьбе» почти с подобным положением столкнулся, но все же не решился на такой шаг. А подумывал!..
— Вот я и говорю, Петр Илларионыч, у него больше опыта работы в партии, он лучше нас с тобой понимает, что и как нужно сделать, — сказала простодушно Борзова, не задумываясь, радует ли Мартынова, что в районе появился человек с более смелой, чем у него, хваткой и глубже вникающий в колхозную жизнь.
— Очень уж ты восторженно рассказываешь о нем, — заметил Мартынов. — Какой-то идеал коммуниста. Ты секретарь парторганизации, тебе нельзя такими влюбленными глазами смотреть на директора, а то еще проглядишь какие-нибудь ошибки.
— Ему шестой десяток, в него-то я не влюблюсь, слишком велика разница в годах, — не смущаясь, ответила Марья Сергеевна. — Думаю, что он не идеальный человек, Петр Илларионыч, но и я не виновата, что ничего плохого за ним пока не замечаю.
Борзова рассказала о предвесеннем собрании трактористов.
— Конечно, мы с Холодовым как бюрократы отнеслись к соцобязательствам. А Долгушин нам наглядно показал: вот как надо проводить массовую работу! И Холодову, по-хорошему, надо бы только спасибо сказать за науку, а не злиться. То же самое и с Медведевым происходит… Нехорошо говорить это тебе, больному, волновать тебя, но ты, должно быть, и сам уже знаешь, слыхал от других. Оставил ты нам за себя работничка, Петр Илларионыч! Осчастливил район!
— Не я его вытребовал сюда. Его обком рекомендовал.
— Ты с ним полтора года работал бок о бок, должен был изучить человека.
— Работал, ну что ж. Никаких особенных грехов не замечал. Так себе, ни рыба ни мясо.
— Вот и стал этот «ни рыба ни мясо» первым секретарем! Конечно, ему трудно, ответственность, первый год в такой большой роли. Так надо же советоваться с коммунистами, привлекать к себе на помощь актив. А он орет на тех, у кого должен учиться! Так орет, будто всех мудрее, один он понимает все, а вокруг него — несмышленыши. Хоть и разные они люди с моим супругом бывшим, но методы их что-то очень схожие.
— Значит, меня ругаете за Медведева?..
— Видишь ли, Петр Илларионыч, можно много лет проработать в районе, много хорошего сделать, но надо же, чтобы это хорошее и закрепилось. Тебе самому разве не жалко, если кто-то после тебя загубит твои начинания?.. Он уже всех председателей колхозов против себя настроил. Не очень и мне приятно, когда хожу по колхозам и слышу, что у нас в районе опять борзовщиной запахло. Фамилию мою треплют. Надо паспорт переменить! На девичью фамилию. А Долгушина он прямо поедом ест. Но и тот не дает спуску Медведеву. Требует, и правильно, конечно, требует: «Отвыкайте от старых методов руководства. Ведь в промышленности такого не бывает, чтобы кто-то пришел на завод и без ведома директора и главного инженера стал переставлять по-своему станки в цехах. В промышленности этого нельзя делать, почему же можно это делать в сельском хозяйстве? Вы едете в колхоз и даете там какие-то распоряжения по хозяйству, о которых я, директор МТС, ничего не знаю. Да и с кем вы там, в райцентре, консультируетесь? У вас же там и специалистов не осталось, все специалисты теперь у нас, в МТС».
Мартынов закинул руку за голову, потянул подушку за угол, неловко повернувшись, поморщился от боли.
— Чего тебе? — нагнулась к койке Борзова.
— Подбей, пожалуйста, подушку чуть повыше. Вот так, спасибо… Ох, как мне надоело здесь лежать!
— Что ж поделаешь, надо лежать. Хорошо, хоть жив остался и на поправку дело идет… А сколько времени тебя еще продержат здесь?
— Месяц, говорят, надо еще вот так вылежать, а потом начну учиться ходить на костылях.
— Христофор Данилыч забрал семью вашего погибшего шофера в Надеждинку, — сказала Борзова. — Жену устроил на работу в мастерскую, к шлифовальному станку, а старшего сына отправил на курсы комбайнеров.
— Да?.. Сколько у него детей осталось?
— Два сына и четыре дочки. Большая семья… А ты и не знал, сколько детей у вашего шофера?
— Да как-то не приходилось спросить.
Борзовой показалось, что смугло-серое лицо Мартынова чуть покраснело.
— Сердечный он, Долгушин, широкой души человек, — сказала она, глянув на Мартынова с легкой укоризной. — Хватает его и на большое государственное дело, и не пройдет мимо чьей-либо нужды… А Виктор Семеныч мой, когда, бывало, стану упрекать его в черствости, отвечал: «Я делаю такое дело, что сразу тысячам людей добро принесет. Мне некогда думать о единицах». И мне иногда казалось, что он прав. Я, маленький человек, колхозница, недавняя трактористка, смотрела тогда на секретаря райкома как на бога.
— Ну, а как наши посланцы работают? — перевел Мартынов разговор на другое. — Как Руденко? Прокурор?
— Прокурор по-прокурорски и начал. Да ему и колхоз достался не лучше «Рассвета». Довел до конца ту ревизию, что ты еще назначил, наши ревизоры там целый месяц копались. Был суд, показательный процесс. Человек пять пришлось и там исключить из партии. Ничего, работает Андрей Семеныч, не хнычет! Как перемучился на том партактиве, так с тех пор, может, хоть и тоскует по своей прежней канцелярии, но виду не подает. Со злостью взялся за дело. Но заявил у них на колхозном собрании так: «Работаю у вас три года. Обязуюсь поднять колхоз, догнать доход до пяти миллионов и вырастить за этот срок из местных кадров хорошего председателя себе на смену, такого, что будет работать не хуже меня. А сам дослужу несколько лет в органах юстиции и — на пенсию, рыбу удить». А Руденко срока не устанавливал, тот прямо сказал: «Буду работать у вас председателем до смерти, если сами не прогоните». Варвара Федоровна взяла свекловичное звено. Молодец у него жена, Петр Илларионыч! Если бы у всех начальников были такие жены! Никакого форсу, и не жалеет и не вспоминает, что была городничихой. Да и здоровье позволяет ей работать в поле. Не всякий мужчина поднимет такой мешок с зерном, какие она ворочает возле сеялок. Иван Фомич там начал с бытовых вопросов. Продал председательскую «Победу» — это не «Победа» у них была, а позорище, колхозникам на трудодни ничего не давали, а председатель ездил на «Победе», — продал ее и оборудовал за те деньги детские ясли в бригадах. Очень это понравилось колхозникам! Вагон хороший сделал для трактористов, выделил строительную бригаду для ремонта хат, таких, что совсем уж плохи, а стоимость ремонта — в рассрочку на три года. Правильно начал.
— Про других тоже говорят, что хорошо пошли у них дела, — сказал Мартынов. — Письма были от колхозников в райком, хвалят новых председателей, приносил мне Трубицын. В общем, можно считать, что двоих только послали неудачно — Бывалых и Корягина. Ну что ж, и этих теперь проверили до конца. Правильно исключили из партии Бывалых. Ведь о нем не скажешь, что он не сумел вытянуть колхоз. Он же и не пробовал. Пальцем не пошевелил! Не думаю, чтоб бюро райкома не утвердило решения парторганизации. А?
— Да Медведев, когда хочет какой-то вопрос по-своему решить, не полностью созывает бюро, только тех, кто не будет ему возражать.
— Работать не умеет, а ловчить уже научился?.. А Митин как работает? Как у него с Медведевым?
— Ездит все по району, в кабинете сидеть не любит, степной человек. Ругается за лесопосадки — почему забросили это дело. Депутатов сельских Советов собирал у нас, про которых много лет уже не вспоминали. Взялся за дело как будто крепко. А как у них с Медведевым — не поймешь. На бюро не ругаются, а что бывает, когда они вдвоем остаются, — это нам неизвестно.
— Чем дольше лежу я здесь, тем реже Медведев заходит ко мне, — сказал Мартынов. — Да и Митин что-то стал забывать. Отвыкают от меня… Вот так уехать из района, где столько сил положил, и года через два никто уж тебя и не вспомнит. Спроси колхозников: «А кто такой у вас был Мартынов?» — скажут: «Да приезжал какой-ся начальник на зеленой «Победе», может, то и Мартынов был».
— Нет, — покачала головой Борзова, — тебя, Петр Илларионыч, здесь не скоро забудут. — Засмеялась. — Председатели-то эти новые, во всяком случае, долго тебя будут помнить!..
Девочка давно уже слезла с подоконника, перелистала и те журналы, что лежали на табуретках, походила по палате, подошла к матери, потерлась о ее колени, заглянула в глаза, захныкала потихоньку.
— Заскучала, Верочка? — Марья Сергеевна взяла дочку на колени. — Час посидела и уже заскучала, а дядя Петя сколько времени здесь лежит и не скучает.
— Скучаю, положим, — возразил Мартынов, — но не реву. Спусти ее, Марья Сергеевна, через окно в сад, пусть побегает. Видишь там больного, высокий такой, халат на нем по пояс, рука на перевязи? Вот это мой товарищ, Тихон Кондратьич. Он ей покажет соловьиные яички. Рассказывал мне вчера, что нашел в кустах соловьиное гнездо.
Верочка запросилась в сад. Борзова, перегнувшись через подоконник, спустила ее, взяв под мышки, на землю.
— Больше всего злится Медведев, когда Долгушин станет говорить, что в районе запущена партийная работа, — продолжала рассказывать, вернувшись на место, Марья Сергеевна. — Но ведь это же правда. И ты, Петр Илларионыч, партийными организациями не занимался. Что за состав парторганизации, лицо колхозных коммунистов, как они работают в колхозе, какой у них авторитет в народе — до этого ты не добрался. В секретарях ходили случайные люди. Председателей колхозов ты всех знал, конечно, и по имени-отчеству, и знал, какой у кого характер, а секретарей парторганизаций, признайся, ты так не знал. Верно?
Мартынов молчал.
— Это же действительно показательная цифра — за три года в нашем районе вступило в партию рядовых колхозников всего четыре человека. Принимали служащих, учителей, агрономов, а от рядовых колхозников не было заявлений.
— А как же ты работала в Семидубовской МТС? — сердито возразил Мартынов. — Около года там работала, и не принимали в партию трактористов.
— Да и я как-то не придавала значения этому делу… Долгушин правильно говорит: коммунисты в колхозах ближе всех к народу, без них мы колхозные массы не поднимем. Колхозники ждут от них примера. А пример может быть всякий — и хороший и плохой. И в том и в другом случае пример коммунистов сильно влияет на колхозников. Плохая парторганизация в колхозе — это не просто пустое место, это большой вред для колхоза. Коммунисты не работают в поле — чего ж с нас, беспартийных, спрашиваете? Коммунисты пьянствуют, тащат общественное добро — нам, значит, и подавно можно. А Медведев так и взовьется, как услышит от Долгушина о партийной работе. Долгушин ему: «Займитесь, Василий Михайлович, наведением порядка в колхозных парторганизациях, очень вас прошу!» А Медведев: «Не указывайте нам! Сами знаем, чем нам заниматься!» Ему представляется, будто Долгушин в каких-то личных интересах добивается помощи себе как директору МТС. Да ведь МТС существует и работает для колхозов! Долгушин просто хочет, чтобы мы все с разных сторон били в одну точку. Он из тех коммунистов, которых на какую работу ни поставь — будут делать свое дело только по-партийному. Он не может думать о хозяйстве, не думая о воспитании людей. Когда бывает в колхозе, и работой комсомольцев интересуется, и в клуб зайдет, и в детские ясли. На партийном собрании он у нас поднял вопрос о создании кружка художественной самодеятельности из сотрудников МТС. Так Медведев потом острил, назвал его на бюро «директором Надеждинской МТС по культпросветработе»… Удивляет меня, Петр Илларионыч, как вот такие истуканы попадают на партийную работу? За какие доблести выдвинулся Медведев в партийный аппарат? Ведь партийная работа — это самое главное, выше всего! А теперь вот побыл он секретарем райкома, что бы дальше ни случилось, эту должность ему уже запишут, теперь уж он в номенклатуру попал, так в ней и останется. Не у нас, так в другом районе будет сушить мозги людям.
— Любимое выражение Руденко: «сушители мозгов», — заметил Мартынов.
— И старика Глотова. Это я у Глотова научилась, когда в Семидубовке работала.
Марья Сергеевна встала, подошла к окну, посмотрела — белое платьице Верочки мелькало в кустах в глубине сада, невдалеке от нее ходил больной в коротком халате, с рукой на перевязи, — вернулась к койке, села опять в кресло.
— Я вот, Петр Илларионыч, по своей бабьей простоте думаю иногда: почему у нас на выборных собраниях, на конференциях так уж строго придерживаются списка? Нужно выбрать в бюро или в комитет пять человек или там тридцать — столько и в списке стоит; не успеют зачитать его, уже кто-то вскакивает: «Подвести черту!» А что страшного, если б еще было записано лишних человек пять? Было бы из кого выбрать самых достойных. Это тот спешит «подвести черту», кто боится другой кандидатуры рядом с тобой, кто не уверен, что хорошо работал и заслужил доверие людей. Если б при нашем тайном голосовании да еще как-то свободнее составлялись эти списки, меньше бы таких Медведевых попадало в партийные органы… И вообще, если бы как-то заставить наших руководящих работников больше дорожить доверием масс. А как заставить?.. Секретарь райкома, конечно, не станет отчитываться в своей работе на колхозных собраниях, на то есть партконференции. Но он же и депутат райсовета, член исполкома. Вот пусть как депутат объедет пяток колхозов и отчитается перед избирателями. И пусть люди свободно говорят, пусть запишут даже в протокол, как они его работу оценивают. А то ведь у нас привыкли только перед верхами отвечать. Таких случаев не было, чтобы народ разжаловал, скажем, председателя облисполкома. Вот они и не очень-то оглядываются на низы, на колхозников. Все равно, мол, не от вас зависит наше благополучие. Ругайте нас про себя сколько влезет, нам от вашей критики по-за углами ни холодно, ни жарко!..
Мартынов закрыл глаза, но не спал: видно было по нахмуренным, сведенным к переносице бровям и наморщенному лбу, что думал о чем-то.
— Ну, я тебя совсем заговорила, — спохватилась Марья Сергеевна. — Пришла к больному человеку и тараторю, тараторю! Чего ты хмуришься? Может, чем огорчила тебя?..
— Крылов не был за это время у нас?
— В нашей МТС не был, а в Троицке — не знаю. Маслеников приезжал к нам. Метал громы-молнии на Долгушина.
— А, Маслеников! — махнул здоровой рукой Мартынов. — С Голубковым два сапога пара. Это такой же грех на душе Алексея Петровича, как на моей — Медведев. Ведь тоже кандидат на высокий пост, в случае, если Крылова заберут от нас. Что удивительно, Крылов даже неплохого мнения о Масленикове. Исполнительный, мол, работник. Большой пробивной силы. Как будто у нас, районщиков, дубовые головы и нам надо пробивать черепа, чтоб внушить какие-то новые мысли… Ну, ладно, довольно об этом. Расскажи о себе. Как живешь? Квартиру тебе в Надеждинке дали?
— А мне там, Петр Илларионыч, и не нужна отдельная квартира. Я нигде лучше не устроюсь, как у этой учительницы. Занимаю у нее две комнаты, одинокая старушка, подружилась с моими ребятами, присматривает за ними, когда меня дома нет.
— Что слышно о Викторе Семеныче? В Борисовке не была? По последним сведениям, доходившим до меня, он там уже председатель райисполкома?
— Был. А по самым последним сведениям — послали его председателем колхоза.
— Да?..
— Да, писала мне одна борисовская знакомая. Провели у них перед весенним севом такой же партактив, как у нас, и послали человек десять председателями колхозов.
— Борзова — в колхоз?..
— А что, думаешь — не справится?
— Не знаю… Может, это и на пользу ему пойдет. Он ведь никогда не был на такой работе, где уже некому посылать телефонограммы… А вообще интересное время настало, Марья Сергеевна, а? Посылаем человека с большим стажем ответственной работы в колхоз и сомневаемся: справится ли? Ведь это же колхоз! А раньше доверяли ему руководить целым районом. Поняли наконец, какая это серьезная штука — один колхоз! Может быть, он там, на низу, испытает на самом себе методы руководства, похожие на его собственные. Борзов — в борьбе с борзовщиной. Любопытно!..
Помолчали.
— Почему ты не оформишь развод? — спросил Мартынов.
Марья Сергеевна тяжело вздохнула.
— О детях никак не решим. Все просит, чтоб отдала ему мальчика. Детей он любит. И они скучают по нем. Невозможно им еще объяснить, что у нас произошло, почему не живем вместе. Верочка все канючит: «Ну поедем к папке, поедем!» Душу рвет!..
— Но надо же все-таки вам кончать это. Не собираешься же ты вековать соломенной вдовой? Вышла бы еще замуж.
— За кого?.. В Долгушина я не влюблюсь, уже говорила. А ты на мне не женишься, у тебя Надежда Кирилловна есть.
Мартынов принял это за шутку, засмеялся.
Марья Сергеевна посмотрела на него долгим серьезным взглядом, встала, отошла к окну.
— Не знаешь ты ничего, Петр Илларионыч, не рассказывала я тебе, — заговорила она тихо, изменившимся голосом, стоя боком к нему, глядя куда-то в глубь сада. — Ведь это ты мою жизнь так повернул. Не узнай я тебя, может, и до сих пор жила бы с Виктором. Я бы многого не замечала в нем, если б не знала тебя… И он, может, не ушел бы к той женщине.
Под окном послышался детский голос:
— Мама, я уже нагулялась. Возьми меня, мама!
Борзова втащила дочку в комнату.
— Ладно! Хоть бы уж ты не спрашивал меня про личную жизнь. Живу! Хорошо живу. Спасибо, что послал меня на интересную работу. Вот и все! Пойдем, Верочка. Скоро автобус отправится в Надеждинку, поедем домой. А твой Димка тебя проведывает?
— Был утром. И вечером еще забежит, после школы.
— Вон я оставила там на табуретке корзиночку. То тебе.
Марья Сергеевна взяла правую, больную руку Мартынова, несильно пожала ее.
— Поправлялся бы ты скорее!..
Нагнувшись, поцеловала его в щеку.
— Больного можно…
Вымощенная камнем дорожка к выходу со двора больницы огибала корпус как раз под окном палаты, но Марья Сергеевна не задержалась у окна. Мартынов услышал только быстрые ее шаги, шлепанье по каменным плитам маленьких ножек девочки.
— Мама, ты быстро идешь, я не поспею за тобой! — захныкала девочка.
Марья Сергеевна подхватила дочку на руки и почти побежала к калитке.
Кузнец Сухоруков, высоченный, худой, усатый мужчина лет сорока пяти, в коротких, чуть ниже колен, больничных кальсонах и халате, по длине походившем на нем скорее на куртку, пришел из сада к вечернему чаю. Сиделка Люба только что разнесла по палатам кружки с чаем и булочки.
— Нагулял аппетит, а пищи маловато, — сказал Сухоруков, опустившись на койку. — Что тут этой закуски! — Повертел булочку. — Слону дробина.
Мартынов молча раскрыл тумбочку и жестом пригласил товарища по палате подойти и взять из его запасов, что ему желательно.
— Да и у меня тут еще осталась передача, — ответил кузнец. Достал из своей тумбочки кусок сала, стал резать его тупым больничным ножом, помогая здоровой руке локтем другой, забинтованной. — Неудобно с одной рукой жить. Кабы мою ногу тебе, а твою здоровую руку мне, вот бы мы с тобой были люди, Илларионыч. А чего ж это Любка убежала? Ты ж на спине не поужинаешь. Помочь тебе повернуться?
— Не надо, потом. Она еще придет.
Соловьи гремели во всех кустах вокруг больницы.
— До чего же, Илларионыч, у этих соловьев получается похоже на нашего брата. Вот сейчас они поют и еще будут петь какое-то время. Пока, значит, ухаживает за своей любезной, поет, заливается, и когда она сидит на яичках, а он рядом с нею, тоже — развлекает ее, поет. А как вылупятся птенцы, пятеро, шестеро, да все жрать хотят, пищат, рты разевают, кормить их надо, мотается бедняга соловей, добывает им пропитание, козявок, букашек ловит весь в мыле и сам не жравши, — тут уж ему не до песен, бросает петь до будущей весны. В аккурат как и нашему брату, отцам.
Сухоруков сходил в кубовую за добавкой чая, взял предложенное Мартыновым печенье.
— Вот и у меня шестеро их. Сейчас-то немножко легче стало. Дочку выдал замуж, старший сын поступил на работу. А как были все маленькие — ох, не до песен!.. А парнем я был — любитель! Без меня и улица не улица. Куда тебе баян! Голос у меня был, — кузнец откашлялся, — не хуже, как у Козловского. Кабы записали тогда мои песни на пластинку, можно бы теперь сравнить. Тенор. Не одна девка от моего голоса горько плакала. И сейчас могу, но уже не то. На фронте горло застудил. Чего молчишь, Илларионыч? Задумался? Это к тебе Борзова приходила, та, что у нас в мэтэесе работает?
— Она.
— Должно быть, чего-то нехорошее рассказала? Работа неладно идет? То не твоя вина, если без тебя чего-то там в районе хуже сделают.
— Да нет, выходит, Тихон Кондратьич, моя вина, — возразил Мартынов.
— Это ж почему так?
— Почему?.. Ты рассказывал, что и машинистом на молотилке работал?
— Работал по началу коллективизации на старых кулацких молотилках. Теперь-то их и не осталось в нашем мэтэесе.
— Как у хорошего машиниста должна быть настроена молотилка? Чтоб не лазить ему там всякую минуту с молотком и ключом, чтоб крутилось, вертелось само, нигде ничего не заедало, не задирало, не скрипело. А ему сидеть в холодке и цигарку покуривать. Так?
— Вон ты к чему. Это-то верно… Где ж это Любка? Должно быть, в пятой палате, у того больного, что с операции принесли. Дай-ка я добуду тебе свежего чайку, да поешь все же, подкрепись. Пища, она, знаешь, помогает человеку всякую болезнь перебарывать.
Косой лучик солнца упал в окно, медленно пополз по стене, все выше и выше к потолку. По этому лучу, не глядя на часы, Мартынов узнавал время. Было около семи. Скоро солнце скроется за высокими деревьями сада, начнет постепенно темнеть. Соловьи защелкают еще громче и дружнее, в их хор вступят «ночники», которые молчат днем. Придет с обходом дежурная сестра, посидит немного, расскажет больничные новости. Похолодает, придется закрыть окно. Может быть, забегут на минутку жена, сын. Если будет хороший накал лампочки, удастся дочитать «Землю золотых плодов». Так день за днем, вечер за вечером. А где-то там в это время, в селах и на полях района, идет своим чередом, шумит, бурлит жизнь. Без него… Черт бы побрал ту февральскую ночь, Долгий Яр и того лихача на грузовике!..
Поужинав и улегшись опять на спину, Мартынов подозвал кузнеца и выкурил с ним по папиросе.
— Почему ты, Тихон Кондратьич, не подавал раньше заявления в партию? — спросил Мартынов.
Кузнец вынул из пальцев Мартынова окурок, отнес его и свой окурок в коридор, выбросил их там куда-то, вернулся, сел на свою койку.
— Что тебе ответить?.. Как в таких случаях говорится: не созрел политически.
— Это ты брось. Политически ты, вероятно, и пять лет назад был такой уже, как сейчас. Давай рассказывай откровенно.
— Откровенно?..
У кузнеца было характерное лицо: длинное, горбоносое, с острыми скулами и впалыми щеками. Черные усы он подстригал щеткой. Глаза щурил, словно все время смотрел на огонь.
— Главная причина, Илларионыч, почему не подавал долго в партию, — малограмотный я. Три зимы походил в школу — вот и вся моя наука. Прочитать книжку могу и пойму все, что написано, ежели русскими словами, без этих всяких ситоуций, а пишу как курица лапой. Дюже некрасивый у меня почерк.
— Значит, первая причина — плохой почерк?
— Да. Глянь на руку. — Тихон Кондратьевич показал растопыренную огромную пятерню. — Руки у меня возле горна задубели, мне карандаш в пальцах удержать все одно, что тебе блоху кузнечными клещами поймать. Думаю: вступлю в партию, поставят меня на должность, как же я с таким почерком бумажки буду подписывать? Людям на смех.
— Разве обязательно как в партию, так и на должность?
— Да так оно выходило, что вроде бы обязательно. Глядишь: кто ни вступит из наших сельчан в партию, всех на должность определяют. Того в сельпо, того в заготовители, того в сельсовет, того в дорожные начальники. А я на должность не стремлюсь, мне мое ремесло нравится, ничего в жизни другого не надо, был бы порядок в колхозе да платили бы хорошо по трудодням. В партию мне желательно, а на должность не хочу. Но думаю, значит, у них так заведено. Вступлю — и могут мне приказать в порядке партийной дисциплины: бросай свое горно, бери-ка портфель. А мне он ни к чему, портфель. Я не лезу в начальники. Потом уже один член партии, Филипп Касьяныч, которого у нас сейчас председателем выбрали, объяснил мне: нету такой установки, чтобы обязательно всех коммунистов распихивать по канцеляриям; это, мол, тут наши писарчуки сами такое развели. Гнушаются простой крестьянской работой, хоть яйца собирать с кошелкой по селу, лишь бы не в бригаде работать. Вот, значит, по нежеланию выдвижения в начальство не подавал я долгое время в партию.
— Одна причина. А еще?
— А еще, по-честному сказать тебе, Илларионыч, как завелась у нас в колхозе эта грабиловка, да смотришь — и половина коммунистов замешана там, вот тут-то и отшибло нас, многих, которые, может, давно бы уже были в партии. Думаешь: напишу я заявление, а кому его подавать? Чайкину в руки, этому губошлепу с гитарой, что все полы в хатах каблуками попробивал? А кто будет принимать, голосовать? Голубчик, Трапезников? Нет, повременю…
Тихон Кондратьевич подсел поближе к Мартынову, в плетеное кресло, взял у него еще папиросу.
— Говорят, Илларионыч, чужая душа — потемки. Человека узнать — пуд соли надо с ним съесть. В больших городах, конечно. Там бывает и так: работают двое в одном цеху, на работе каждый день встречаются, и за всю жизнь друг у дружки дома не побывают, не знают даже, где кто живет. А у нас в деревне все на виду: и как работает человек, и что у него дома делается, и какое к людям отношение — все нам известно. Вот расскажу тебе про Егора Трапезникова, этого самого, что исключили у нас из партии.
Кузнец прикурил, пустил густую струю дыма в открытое окно, помолчал.
— Разве товарищ Ленин для того затевал революцию, чтобы стать самому правителем в России и длинные рубли за это получать? Он же был не из бедного классу. Отец его директором по училищам был, в дворянство их произвели. Ленину с его головой, с его наукой и в старое время министром быть! А захотел бы — капиталами ворочал бы, заводами управлял, а там, гляди, и себе завод построил, не хуже того Форда, и на это хватило бы у него ума. И жил бы припеваючи, в шампанском бы купался, на золоте ел. Нет, отказался от всего! Пошел по ссылкам, по тюрьмам. За народ! Не для себя лично добивался он улучшения жизни, а для народа! И когда уже при советской власти стал он главой правительства, и тут для себя копейки лишней не брал от государства. Читал мне Филипп Касьяныч, как Ленин кому-то там в Совнаркоме выговор строгий объявил за то, что жалованья ему прибавили на триста рублей, не спросясь его самого. Вот какой был Ленин! Вот для чего он партию создал и сам в нее вступил — для народа!.. Теперь расскажу про Трапезникова. Егор Фомич старше меня на десять лет. Происхождения он самого что ни есть беднейшего. Земли у них было до революции полдесятины, а нахлебников — человек девять. В гражданскую войну он и в Красной Армии был. Я, конечно, не участвовал, мне в революцию было восемь лет. Но рассказывали мне про него наши мужики, которые с ним служили. Зайдет у них там на фронте, бывало, разговор об этой самой революции, из-за чего идет война белых с красными и какая жизнь будет после войны, Егор и говорит: «А вот так и будем жить — поменяемся местами. Мы будем жить, как помещики, а они — как мы жили. Сказано ведь, что революция — это есть переворот!» Вот о чем ему, значит, мечталось — местами поменяться! Товарищи ему станут доказывать: «Это ты политически неверно говоришь. На заводе капиталист один, а рабочих тыщи. Помещиков в губернии, может, сотня, а бедняков миллионы. Местов ихних для нас не хватит, ежели поменяться». Егор: «На всех не хватит, ну, а я себе местечко как-нибудь захвачу».
Пришли мужики с гражданской, поделили землю. Получил Егор свой пай, кредит взял в банке на лошадь — вцепился в хозяйство зубами и когтями! Работал как чумовой, день и ночь, ни воскресенья, ни праздников не признавал, аж когда лошадь уже ног не тянет, тогда и себе даст немного отдыху. Еще тогда звали его в селе коммунистом, но, может, только за то, что в бога не верил, на пасху пахал. Года два-три подвезло ему с урожаем — купил вторую лошадь. Потом стал приарендовывать землю у тех бедняков, что сами не могли ее обработать без тягла. Пошел наш Егор Фомич в гору! Дом построил новый, скота завел порядком. Третью лошадь купил, еще больше стал сеять, поденщиков брал на косовицу. Но постоянных батраков не держал, остерегался все же, чтоб сельсовет его не подвел под классовый элемент. В лишенцах ходить — радости мало.
Вот так и жил до самой коллективизации. Конечно, в те времена он о партии и не думал. Вступать в партию? Зачем, для чего? От работы только будут отрывать на собрания, да членские взносы еще платить. Вся душа его ушла в хозяйство. Потом стал у нас в селе колхоз. Ну, некуда деваться — и Трапезников вступил. Первые годы работал рядовым. Но уже не было у него того рвения, что раньше, когда единолично землю пахал. Смотришь на него, как он вполсилы мешок с семенами берет, — раньше, бывало, сам поднимал, присядет, крякнет только — и мешок на плече, а теперь обязательно зовет кого-нибудь, чтоб подали, — не тот стал Егор Фомич! Нету той хватки, того жару! И вот тут он, должно быть, и стал размышлять насчет дальнейшей жизни. Раз уж повернуло, мол, на колхозы, единоличному хозяйству крест, то нет теперь никакого расчету в навозе копаться. Надо как-то приспосабливаться и себе какой ни есть портфель добывать. Слышим, подал наш Егор Фомич в партию. И как вступил в партию, тут уж он больше за плугом не ходил. То весовщиком, то кладовщиком, то объездчиком. По начальству, в общем, пошел. Вот что привело Трапезникова в партию. Мы-то знаем его натуру. Хоть и из батраков, но душа у него кулацкая.
До войны председателем его не выбирали — получше были у нас коммунисты. А как погибли на фронте старый председатель и лучшие бригадиры, а он вернулся из эвакуации — тут и он стал на виду. На бесптичье и кулик соловей. Бригадиром назначили, потом год в завхозах походил, потом и председателем стал. Три года был председателем до укрупнения. Ну и что ж хорошего сделал для людей? Ничего! Для себя только старался. Тут уж он как дорвался до власти, охулки на руку не положил! Поначалу понемногу тянул, а потом расставил родичей и приятелей по амбарам, фермам, и сколько они там наворовали колхозного добра — вот, может, теперь только на суде выяснится!.. И уж так привык к доходному месту, что как не выбрали его при укрупнении председателем — на рядовую работу уже не пошел.
Кузнец покрутил головой, засмеялся:
— Гарантированный минимум!.. Придумали же, сукины сыны!
— Что? — спросил Мартынов.
— Да вспомнил ихнее выражение… Ничего не делает Егор в колхозе с тех пор, как не председатель. За прошлый год двадцать трудодней отломил. А живет припеваючи. Картошку возил в Донбасс на паях с одним колхозником, Кашкиным. У того свояк в автоколонне. Всю осень спекулировали картошкой. На том партийном собрании, когда товарищ Долгушин к нам приезжал, спрашивают колхозники у Трапезникова: «Можно ли члену партии заниматься спекуляцией?» А он: «Мы не спекулировали, мы свою картошку возили. Если соседка попросит и ее мешок прихватить, какая же это спекуляция?» — «Да что, у вас с Кашкиным десять гектаров ее было? Раза два возили свою, а потом чужую. Скупали здесь у колхозниц и возили туда продавать». Приперли его. Одна кричит: «У меня купили пять мешков!» Другая, третья подтверждают: «И мы продали им свою картошку!» — «Да мы не покупали, у нас был договор с людьми». — «Какой договор?» — «Установили гарантированный минимум. Берем у женщины картошку и выплачиваем ей по рублю пятьдесят копеек. Может, мы там и дешевле продадим, себе убыток, но чтоб ее, значит, не обидеть, устанавливаем твердую оплату». — «А если по пять рублей продадите, ей все равно — по рублю пятьдесят?» Вот обормоты!
Тихон Кондратьевич, видя, что Мартынов слушает его очень внимательно, продолжал рассказывать.
— А есть у нас люди, Илларионыч! Какие люди! В партию бы их — было б кому направлять колхозную жизнь!.. Есть у нас звеньевая Ксения Панкратова. В самое тяжелое время, когда ничего на трудодни не получали и все бросали работать, она, бывало, уговорит двух-трех женщин из своего звена и идет в поле. Смеются над ними, проходу не дают: «Ударницы! За идею коллективизации — на своих харчах!» Так они, чтоб не слыхать этих насмешек, стали по ночам ходить на свой участок. Ночи были светлые, лунные, хорошо видать рядки на свекле, они и работают себе до вторых петухов. И как ни плохо было с урожаем, все же в звене Панкратовой свекла всегда лучше всех. Это ли не коммунистки? Есть парень, Гриша Зубенко, ездовой при лошадях. Все его сверстники поразбеглись — кто на железную дорогу, кто на сахзавод, кто в совхоз, а он как пришел из армии в сорок шестом году, как взял пару лошадей молодых, трехлеток, так и до сих пор на них работает. И не то, чтоб какой-нибудь недотепа или с придурью, которого на производство не возьмут. Парень как парень, грамотный, при здоровье. Ему по его ухватке и на заводе цены не было бы. Лошади у него всегда сытые, справные, сбруя починена, повозка в порядке. Позапрошлой зимой возил корма на фермы. Морозы стояли лютые, метели, и не было такого дня, чтоб отказался, не поехал за сеном. Ногу приморозил, и то не признавался, пока аж улеглись метели и навозили запас кормов дней на несколько. Говорил мне Гриша: «И я бы в город подался, ничего плохого нету в том, чтоб колхознику стать рабочим: всегда из деревень шли люди на заводы, и на новостройки вербуют рабочую силу по деревням. Но в это время не могу. Буду вроде как дезертиром. Перед батей совестно». Может, приметил, когда едешь в Степановку большаком, стоит там при дороге каменный столб, остряком, звезда на нем высечена? На том месте кулаки в двадцать девятом году убили отца Гриши Зубенко. Комсомольцы есть у нас хорошие. Вот эта девушка, Клава Кострикина, что отказалась воровать на птичнике яйца для ихних банкетов. В правление колхоза ее сейчас выбрали. Правильно выбрали! Что с того, что молодая, девятнадцать лет всего? Когда зачиналась коллективизация, из такой молодежи-то и был самый актив!
— А почему ты сам, Тихон Кондратьич, не ушел из колхоза в МТС или в город? — спросил Мартынов. — Тебе-то уж и подавно работать бы где-нибудь на производстве — специальность в руках.
— Так я же один кузнец в колхозе, Илларионыч! — ответил просто Сухоруков. — На мне там все хозяйство держится. Как мой сынишка читал книгу про индейцев: «Последний могикан». Вот и я остался один на весь укрупненный колхоз. В Ореховке кузнец помер, в Степановке бросил ковать по старости. И молодежь не обучили. Ну, уйду и я из колхоза, что ж оно получится? Все дело станет. Кто бороны в порядок приведет, прицепы к тракторам поделает, жнейки отремонтирует? Кто Грише Зубенко колесо ошинует, лошадей перекует? Ручка на веялке у баб отломится — и то некому починить. Уйду я — весь колхоз из-за меня пострадает. Нет уж, видно, мне в колхозной кузне и век свековать.
— А рука?
— Рука заживет. Доктор обещается, что через месяц будет как новая. Это я не в кузне покалечился, плотники угостили меня. Помогал им стропила на крышу поднять, а они не удержали бревно — и по руке. Раньше не ушел из колхоза, а теперь и вовсе не к чему уходить, — продолжал Сухоруков. — Мы было сойдемся — я, Зубенко, Ксения Панкратова, еще такие колхозники, которые работали, не бросали, — и разговариваем промеж собою: нет, все же в дураках останемся не мы, а те, что над нами насмехаются! Не может быть, чтоб допустили наш колхоз до развалу!.. Я тебе скажу, Илларионыч, как ни худо было, а колхоз мы не ругали. Такого сомнения не было в народе, что, мол, колхоз — это неправильно, ничего не выйдет, надо к единоличной жизни повернуть. Об этом не жалели, что сошлись в колхоз. Но за непорядки ругались последними словами! И своих правленцев ругали, и вам, районным руководителям, доставалось, и повыше кой-кому.
— Ругали поделом, но почему же молчали столько времени, не обращались в райком? Директору МТС рассказали все, а ко мне не обращались. Ну вот ты хотя бы. Почему не закрыл на день свою кузницу и не приехал в Троицк? Не рассказал вот это все, что здесь я от тебя узнал?..
Кузнец смущенно почесал затылок.
— Разве там у вас, в райкоме, как пустят тебя в кабинет на десять минут, перескажешь все? То заседания у вас, то телефоны, такая суета. Тут мы уж сколько времени вместе лежим, никто не мешает, целую неделю рассказываю тебе про наш колхоз, и то еще не все рассказал… Знаешь, Илларионыч, — махнул он рукой, — мы столько повидали у себя уполномоченных, таких, что дальше правления носа не казали и ни с кем, кроме председателя, не разговаривали, что уже не всем начальникам верили. Про тебя поначалу хороший было слух прошел в народе. А вот за этого нового председателя, за Бывалых, очень мы были недовольны на райком! Тут ты, можно сказать, сам себе подорвал авторитет. В такой пострадавший колхоз дали такого никчемного человека! Бюрократ бюрократом, и уши холодные! Думаем: не иначе товарищ Мартынов с этим Бывалых приятели. Ну, и куда ж жаловаться?..
Мартынов даже задвигал плечами и головой на подушке — так ему захотелось встать. Он начал объяснять кузнецу «стратегию» райкома (сколько раз уж объяснял он ее многим людям!), почему среди других посланцев из партактива оказались и такие типы, как Бывалых.
— Надо было проверить их на деле! А за Руденко колхозники нас не ругают. За Грибова не ругают. Какой он мне приятель, этот Бывалых?..
— А не слишком ли горячо жестикулируете, товарищ секретарь? — послышался женский голос. — Может, попробовали бы еще пошагать по палате?
За окном стояла Надежда Кирилловна, положив подбородок на нижний переплет рамы. Она, вероятно, поднялась на цыпочки — подбородок смешно выдался вперед, нос задрался кверху.
— А, Надя! Заходи.
— Я на минутку. Димка не забегал?
— Утром был.
— Он после школы пошел с ребятами ловить рыбу на Сейм. Был у меня в саду, сказал, что на обратном пути зайдет за мной, и не зашел. Уже темно, а нет его. Беспокоюсь.
— Значит, хорошо клюет. Задержался.
И лишь только Надежда Кирилловна успела отойти от окна, чтоб пройти к мужу в палату через приемную, на подоконник, подброшенная снизу на веревочке, шлепнулась порядочная низка окуней, по стенке заскреблось, показалась взлохмаченная, без кепки, голова мальчика, а через секунду и сам он уже сидел на подоконнике. Его путь в палату оказался короче, и, когда вошла мать в накинутом на плечи халате, Димка с кузнецом, сидя на корточках посреди комнаты, уже пересчитывали окуней на кукане.
— О! Земля треснула, и чертик выскочил! Он уже здесь! А вот за то, что ты ходишь сюда без халата, тебе, Димка, когда-нибудь влетит от врача.
— …двадцать один, двадцать два, двадцать три. И вот этого бубырика можно присчитать. Здорово клевало! Никогда в жизни еще так не клевало!.. Мама! А для чего надевают халат? Если я принес на себе каких-нибудь микробов, то разве они не вылезут из-под халата? Я же весь не закроюсь, все равно щелки останутся. Это не от заразы, а так. Лишь бы что-нибудь белое было на плечах. Ну, накинь на меня папино полотенце.
— Рассуждение вполне реалистическое, — удовлетворенно кивнул Мартынов. — Не будет формалистом, когда вырастет.
— Тоже мне борцы с формализмом! Да еще рыбой напачкал на полу.
— Ничего улов, — сказал Тихон Кондратьевич. — Килограмма два будет. Были бы у меня обе руки справные, мы бы сейчас с тобой, парень, выпросили на кухне чугунок, развели в саду костер и такой полевой ушицы сварили бы из свежачка!..
— Вот больные! Начнут еще тут кухарить. Хотите ухи — я вам дома сварю и принесу.
— Не откажемся, — сказал Мартынов. — Нас здесь ухой не кормят. Только лаврового листику побольше и перцу.
— Да уж знаю, как уху варят. Ну, Димка пришел, тогда я посижу здесь немного. — Надежда Кирилловна уселась в кресло. — А ты беги домой. Нечего до полуночи шататься. Экзамены на носу, сидел бы больше за учебниками. Ужинайте с тетей и ложитесь спать.
— Боюсь, Димка, — сказал, улыбаясь, Мартынов, — что наша веселая и деятельная мать станет под старость ворчливой.
— Тоже того боюсь, — вздохнул Димка.
Надежда Кирилловна рассмеялась.
— Так и мучаюсь с ними, — обернулась к Тихону Кондратьевичу. — Мужики! Вдвоем против одной женщины.
— Дочку надо еще, — сказал кузнец. — Вот и вам будет подмога.
Димка взял рыбу и тем же путем, через окно, выбрался из палаты. Попрощался уже со двора.
— Спокойной ночи, папа! Скажи маме, каких тебе книжек нужно, я завтра принесу.
Сухоруков пошел в соседнюю палату посидеть там до отбоя, чтобы дать мужу с женой поговорить наедине.
Надежда Кирилловна одернула простыню под Мартыновым, поправила одеяло, вынула из своих волос гребенку и причесала его. Нахолодавшие руки ее пахли какой-то душистой травой или древесным соком. Одета она была как колхозница-щеголиха на работе — в короткой, сшитой по фигуре, перехваченной в поясе стеганке, в небольших, по ноге, запыленных сапогах, в яркой, цветастой косынке, повязанной назад.
— Весна, — вздохнула она, — а ты лежишь. Какие ночи! Воздух такой густой и сладкий, хоть на хлеб его намазывай! Про соловьев уж не говорю, ты их и отсюда слышишь. Как у нас в старом саду хорошо! Никогда еще не видела такого сильного цвета на деревьях. Яблони стоят, как невесты в фате.
— Или как медсестры в операционном зале в белых халатах, — сказал Мартынов.
— Ну, сравнил! Больничные образы. Запомнилась бедному операционная! Боюсь только заморозков. Жаль, если такой цвет погибнет. Сегодня целый день развозили перегной и солому по саду в кучки. Все наготове. Прогноз опасный. Завтра не приду домой, останусь ночевать в саду в сторожке. Если потянет на мороз, будем окуривать. А саженцы мои уже оживают. Но не все принялись, на некоторых сухие почки.
— Еще рано. Отойдут.
— Скоро клубникой тебя угощу, есть уже завязь.
Надежда Кирилловна рассказала мужу о севе в колхозе «Прогресс», о последних колхозных новостях. Рассказала о своих селекционных работах в саду. Взгляд ее упал на плетеную соломенную корзиночку, стоявшую за книгами на табуретке.
— У тебя сегодня кто-то был? Кто это принес? Какая хорошенькая корзиночка! И ручки связаны ленточкой. Это женщина принесла. Погоди-ка, у кого я видела такие корзиночки, кто их умеет плести? Сейчас вспомню… Марья Сергеевна?
— Она.
— Чего она там принесла?
— Не знаю. Посмотри.
Надежда Кирилловна развязала шелковую голубую ленточку, стала вынимать из корзиночки свертки.
— Пирожные. Лимоны. «Мишки». Коробка «Казбека». Пастила. Сыр. Копченая колбаса… Зачем это? Как будто ты здесь голоден, некому позаботиться о тебе.
— Не обижайся, Надя. Это уж так принято — приносить что-нибудь в больницу. Найдется здесь кому съесть.
— Вот еще букетик фиалок…
В коридоре послышались шаги, стоны. Несли что-то тяжелое — вероятно, больного на носилках. Прошлепала босыми ногами санитарка. Где-то раскрыли дверь другой палаты, и оттуда доносились громкие стоны. За стеной надсадно закашлялся больной, которому всегда становилось хуже к ночи, — теперь будет кашлять всю ночь. Больница есть больница, не только соловьиное пение услышишь, лежа в палате. Да и окно в сад уже закрыла снаружи проходившая по двору дежурная сестра.
— Скорее бы уж разрешили забрать тебя домой, — сказала Надежда Кирилловна. — Там тебе спокойнее будет.
Она взяла прочитанные книжки, салфетки и платки для стирки, пустую баночку из-под варенья, спросила, чего ему принести завтра, вспомнила: «Ах, да, ухи сварить из Димкиных окуней!» — поцеловала мужа и пошла. На пороге оглянулась, грустно улыбнувшись, помахала рукой…
Вошел кузнец, посидел немного на своей койке, скинул халат, лег.
— Два дамских поставил мне этот, что с забинтованной головой, обгорелый, — сообщил он. — Ну и сильны эти пожарники в шашки играть!
Пришла дежурная сестра Тамара Васильевна, пожилая, лет за пятьдесят, мощного телосложения женщина, которую все больные звали не «сестрицей», а «мамашей», повернула Мартынова на бок, помассировала ему бедро, рассказала, кого привезли сегодня к ним, кого выписали, какое меню на завтра утвердил главврач.
— Хорошо стало у нас, Петр Илларионыч, с тех пор как вас к нам привезли, — зашептала она доверительно, склонившись к Мартынову. — Сегодня главврач собрал весь персонал и говорит нам: «Вы же понимаете, кто у нас лежит в больнице! Не простой больной — секретарь райкома! Вот он скоро начнет ходить на костылях — неизвестно, куда ему захочется заглянуть. Может, и на кухню заглянет, и на склад, и ко мне в кабинет. Я ему не могу запретить: не простой больной. Надо, чтоб везде был порядок, чтоб все блестело, сияло!» Ремонт у нас сейчас идет полным ходом, белье стали лучше стирать, повар лучше готовит, санитарки тише ругаются. Почаще бы такие большие начальники попадали к нам в больницу!
И сама спохватилась, что сказала неладное, рассмеялась, всплеснула руками.
— Ой, что это я говорю, дуреха? Не подумавши ляпнула! Нет, если б порядки остались такие, как при вас, а вам бы уже поправиться и дома быть!..
Спросив Мартынова, не нужно ли ему чего на ночь, Тамара Васильевна уложила его опять на спину, укрыла одеялом, погасила свет.
Отбой. Темнота. Колеблющийся на стене луч от далекого уличного фонаря. Кашель и стоны за стеной. Глубокое, с присвистом, дыхание спящего кузнеца. Мысли…
Долго лежал с закрытыми глазами Мартынов, пока из всего услышанного, передуманного за день стало выступать главное, как в густом тумане выступают очертания деревни или леса, когда подходишь ближе к ним.
«Много заделано, да мало сделано — вот как получилось у тебя, Петр Илларионыч, — пришел Мартынов к горькому выводу. — Разбросанно работал, не подыскал ключа к самому главному. Старое, негодное ломал, а новое, хорошее в систему не привел. Увлекался одним — забыл другое. Тот подъем, что виден в колхозах, — это результат работы пока небольшой группы людей. Для настоящего же, резкого и крутого подъема надо привести в движение всю массу колхозников. Этого не было сделано. В районе тридцать тысяч колхозников. Армия. Может быть, авангард оказался невелик для такой армии? Да, конечно. Он сам, даже с этими новыми хорошими председателями, не мог поднять всю массу народа… Если бы все было приведено в движение, не осталось бы на карте району до последнего дня таких позорных белых пятен, вернее, черных пятен, как «Рассвет». До последнего дня! Без него уже «дошли руки» других людей до этого колхоза…
Какая все же огромная махина — район! Сколько людей — и хороших, и так себе, и плохих. И просто пока не знакомых, не известных, не узнанных. Как та звеньевая, что выходила ночами полоть свеклу, как Гриша Зубенко, о которых рассказал сегодня кузнец… Немало и он сам нашел таких людей в колхозах, но как-то не закрепил с ними связи, не познакомился ближе, не сошелся проще, роднее…
Да, самое главное упустил он из виду — колхозные партийные организации. Вот кто может повести за собой всю массу колхозников — рядовые колхозные коммунисты! Если они действительно коммунисты… В этом, в здоровых партийных организациях, залог прочности дела. Больше будет в партии рядовых колхозников, по-настоящему болеющих о хозяйстве и своей колхозной жизни, — сотни зорких глаз будут следить за тем, чтобы эта жизнь шла по верному пути! Никакой райком, никакой обком сам за всем не уследит без рядовых коммунистов!.. Если бы все партийные организации в районе были связаны по-настоящему с народом, а он и все работники райкома крепко связаны с колхозными коммунистами, — куда лучше бы шли дела! Район бы стал за эти годы действительно передовым!..
Второй его грех — Медведев. Какая-то дурацкая щепетильность, боязнь, что за ним окончательно закрепится дурная слава «разгонщика кадров», помешали ему своевременно поставить вопрос перед секретарями обкома о Медведеве. Видел же он, что Медведев совершенно неподходящий для партийной работы человек. Обыватель, заучившийся цитатчик, «служащий» в райкоме. Видел — и молчал. Примирился с тем, что в райкоме, по существу, нет второго секретаря, пустое место. Вот теперь за его молчание расплачивается своими боками целый район!..»
Порывом ветра донесло с центральной площади городка из уличного динамика арию князя Игоря: «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!..»
— Тьфу, черт! — выругался вслух Мартынов. — И музыка, как по заказу!..
«Много заделано — мало сделано. Партия, партия и еще раз партия — вот ключ ко всему!.. И вот появился в районе человек, который взялся доделывать его недоделки. Что ж, спасибо ему. По всему видно, этот Долгушин — большой человек. И председатели колхозов из Надеждинской МТС реже стали ездить к нему в больницу с тех пор, как Долгушин вошел там в курс дела. С ним, с директором МТС, решают все трудные вопросы… Так, значит, теперь он, Мартынов, уже не «первая голова» в районе? Что же делать, если он вернется из больницы на старое место в райком? Как будут они работать с Долгушиным? «Два медведя в одной берлоге»? Уживутся ли? Кому у кого занимать ума и умения руководить людьми? Не придется ли одному медведю вылезать из берлоги?..»
До кузнеца Сухорукова с Мартыновым лежал в палате учитель из Семидубовской средней школы, а еще раньше — колхозный бухгалтер. И после Сухорукова вторая койка не пустовала — с ним положили одного рабочего райпромкомбината. Новые люди — новые темы для разговоров, новые вопросы для раздумья. Ходячие больные из других палат часто заглядывали к нему решить какой-то спор или просто побеседовать.
Ни звонков из обкома, ни телеграмм, ни заседаний. Лежи и думай… Тут только, в больнице, понял Мартынов, что и для мозговой работы требуется время и более или менее спокойная обстановка. В сутолоке райкомовских будней, где все соображаешь и решаешь на бегу, мелькнет иной раз новая мысль — как крысиный хвостик из норы покажется — и тут же исчезнет. Не удержал ее сразу, не додумал до конца — завтра забудется. А здесь лежи на спине, смотри в потолок и тащи эти ускользавшие было когда-то мысли «за хвостик», сколько тебе нужно!
По старой журналистской привычке Мартынов записывал эти мысли в блокноты. Заносил туда и всякие меткие выражения, услышанные от собеседников, их рассказы. Для этого пришлось учиться писать левой рукой, да еще лежа, примостив блокнот к стопке книг на табуретке у койки, — трудное дело! Но свободного времени у него хватало, можно было записывать не торопясь, хоть по одному слову в минуту.
Вот некоторые заметки из его блокнотов.
«Он из тех людей, которые дважды об одну и ту же кочку не спотыкаются». Хорошо сказано! Самая лучшая характеристика, какую только можно дать человеку!»
Приписано другим карандашом, вероятно, через несколько дней:
«Хотелось бы и себе заслужить такую характеристику в народе».
«Из разговоров с бухгалтером Корзинкиным.
Мы наложили на систему организации и оплаты труда колхозников столько латок, что под ними уже не видно самой системы, как, бывает, под заплатами на зипуне не видно того основного материала, из которого сшит зипун. По таким-то культурам — особое постановление, особый расчет, за то-то — такие-то привилегии, там — дополнительная оплата, там — премия, — а где же основная оплата обыкновенного колхозного трудодня? Иной раз по дополнительной оплате колхозник получает больше, чем по трудодням. Надо отодрать все латки и посмотреть — осталось ли под ними что-нибудь от самого зипуна? Или, может быть, надо весь зипун шить заново?»
«Приезжал лектор в Семидубовку с путевкой райкома читать лекцию на тему: «Есть ли жизнь на других планетах?» Народ собирался медленно, и лектор с заведующим клубом успели раз пять сходить в закусочную. Пока началось, завклубом был уже так хорош, что объявил собравшимся: «Сейчас товарищ из района прочитает вам лекцию о загробной жизни». Кто же это приезжал? Надо выяснить».
«Некрасов:
«Оказывается, еще Герцен называл идиотским закон, одинаково карающий и взяточника и взяткодателя, так как это связывает их круговой порукой молчания».
«Помню выражение этого Масленикова: «Пропустите сегодня за ночь через бюро человек пятнадцать председателей колхозов по хлебопоставкам!» «Пропустите»! Как будто у нас какой-то санпропускник!»
«Жизнь человека — целый роман, а мы иногда пытаемся втиснуть ее в несколько строчек решения об этом человеке, в докладную записку».
«Учитель Сорокин:
Раньше бывало, если у кулака сын учился в городе в гимназии, то от хозяйства все же не отрывался, на каникулы приезжал домой и отрабатывал отцу вдвое расходы по учению. Пахал, косил, возил снопы наравне с батраками. А сейчас иногда получается так. Девушка, дочь колхозников, потомственных хлеборобов, заканчивает в селе десятилетку и не умеет сено грести, снопы вязать. Восемнадцать лет парню, вырос в колхозе на маминых трудоднях, — с грехом пополам лошадь запряжет, заставят его телегу смазать — жмет ключом гайки в одну сторону, не знает, что на левой стороне левая резьба на осях».
«Хвалим человека: «Напористый товарищ! Энергичный!» Только по этим качествам иногда и судим о человеке: «Годится! Силен! Потянет!» А куда потянет? Разве при Николае Втором не было энергичных чиновников?»
«Юлиус Фучик: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что он должен сделать».
«Социализм отличается от капитализма, кроме всего, еще тем, что здесь общество, в противоположность капиталистическому, берет на себя ответственность за личную судьбу каждого человека».
«Колхозы для нас не только производители хлеба, мяса, молока, овощей и прочего. Колхоз — это люди, полторы, две тысячи людей, которые хотят жить хорошо. Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни. Мы, партия и советская власть, взяли на себя ответственность за судьбы нашего крестьянства, обещали им в колхозах справедливую, материально обеспеченную, культурную жизнь, и мы должны добиться этого всюду!»
«Критика должна стать у нас безвозмездной» (пожарник Костин)».
«А народ наш сейчас уже не удивишь и не напугаешь высоким чином. Разговор двух больных из седьмой палаты: «Что ты говоришь?! Разве так можно его ругать? Он же депутат!» — «Депутат? Ну что ж, значит, плохой депутат. Ошиблись, когда голосовали за него».
«Все же холуй и угодник урожая не сделает. Урожай скорее сделает строптивый и колючий председатель, спорщик, «нарушитель», а не такой что: «Чего изволите?»
«Но что же все-таки нам делать с Советами? Кричим о параллелизме, о том, что партийные и советские органы занимаются одними и теми же делами, что райкомы подменяют райсоветы, а где же выход, по какому направлению должна пойти перестройка? Давать большую самостоятельность Советам? Укреплять права и авторитет советских органов? Как укреплять?.. Об этом еще надо думать и думать!..»
«Только слабый, неуверенный в себе, в своем авторитете руководитель может бояться политической активности масс, инициативы, демократизма».
«Председатель «Искры» Федосей Григорьев сказал библиотекарше: «Зачем нам книжки читать? Все, что надо делать, нам райком подскажет». Вот как привыкли! Ах ты ж, Федосей! Погоди, поправлюсь, я тебе подскажу, что делать!»
«Это огромной важности задача и дьявольски трудная: направить на производство тех людей, что высвободятся из сокращенных управленческих аппаратов и всяких ненужных ликвидированных учреждений. Таких людей будет много, среди них и высокопоставленные в прошлом. Я бы создал что-то вроде резерва, как в армии, и томил бы их там на минимальном содержании, на «тыловом пайке», пока сами не запросились бы в колхозы и на заводы».
«Шутки шутками, но, видимо, придется открывать какие-то особые учебные заведения, без ограничения приема по возрасту, где человек, ничему не научившийся пока, кроме как «руководить», мог бы и в сорок лет приобрести какую-нибудь полезную производственную специальность. И надо это дело ставить с большим государственным размахом. Иначе мы не вылезем из этих бюрократических проблем».
«Фельетон в стихах Степана Олейника:
Здорово! Надо перепечатать в районной газете. А размер стиха такой, что можно петь, как песню. Попросить какого-нибудь композитора, чтоб положил на музыку. Да чтоб девчата во всех колхозах разучили! Пусть ходят по селу и поют под окнами у тех, кто «возле дуба чешут спины». Вот такая песня действительно «строить и жить помогает», она сработает в колхозах за полсотни уполномоченных! Молодец Степан Олейник, спасибо ему!»
«Инициатива и дисциплина. Самостоятельность и подчинение приказам сверху. Как это совместить? Где тут «дозволенные пределы», где грань, за которую нельзя переступать, чтоб не получилось вообще анархии? Не знаю, пока не совсем ясно. А ясно ли это тем товарищам, которые так часто стали упоминать сейчас слово «инициатива» во всех газетных передовицах…»
«Черт возьми, а все же этого мало от председателя колхоза — чтобы он был честным человеком и не пьяницей! Надо же еще уметь и хозяйничать на тысячах гектаров, и руководить людьми! Вот в «Рассвете» выбрали Артюхина. Я его совсем не знаю. Может быть, он честнейший старик, но хватит ли у него этого самого уменья?.. Учить надо председателей. Не все ведь такие «от бога» талантливые, как Опёнкин. А Грибов, Сазонов, Плотников, Нечипуренко? Тоже ведь — не агрономы и не зоотехники. По происхождению-то все мужики, хлеборобы, но этого сейчас мало — старых навыков. Было ведь и раньше такое. Рядом два помещичьих имения, одинаковые земли, равноценные угодья. Одно имение дает крупный доход, там хозяйство поставлено на научной основе, у другого помещика все валится, земля тощает, скот дохнет, годового дохода от имения не хватает на один хороший кутеж в Москве. Но всех председателей разом на трехгодичные курсы не пошлешь, да и время не ждет. Значит, надо учить их «на ходу», дома, в работе. Кто должен учить? Мы, конечно, районные руководители. Стало быть, мы сами в первую очередь должны все это отлично знать — и кормовые рационы, и всякие системы севооборотов, и колхозную бухгалтерию… Культура руководства».
«Учить новому. Открывать новые перспективы. Но не надо учить людей тому, что они и без нас отлично знают: что вспаханную землю надо засевать, а созревший хлеб надо косить. Нельзя руководить колхозами точно так же, как руководили двадцать лет назад — путем проведения «хозяйственно-политических кампаний». Мы иногда перед народом бываем похожи на ту излишне заботливую мамашу, которая никак не может примириться с фактом, что сын ее давно вырос, что он уже с усами, женить его нора. Все хочется ей по-прежнему кормить его с ложечки и водить по улице за ручку».
«А это как совместить — единоначалие и демократию? Талант, властность, ярко выраженная индивидуальность человека и — коллегиальность?..»
«Если писатели — инженеры человеческих душ, то до какого ранга? Распространяются их права на души больших начальников? Если распространяются, то почему нет у нас в романах среди главных персонажей министров хотя бы? Алексей Александрович Каренин у Толстого — крупный был чин!»
«Ленин о коллегиальности: обсуждение — сообща, а ответственность — единолична. Вот как. А у нас частенько бывает наоборот: сам решит, а ответственность потом в случае неудачи сваливает на других».
«Некоторые товарищи полагают, что высокий авторитет того учреждения, где они работают (райком, обком), возместит их собственное невежество, нежелание думать».
«Надо кончать с этими рывками в нашей работе, однобокими увлечениями какими-то далеко не главными и не решающими дела частностями. Нужны планомерность и комплексность мероприятий и настойчивость в доведении начатых дел до конца. Настойчивость, но не упрямство, если в чем-то ошиблись».
«А с очковтирательством надо бороться, как с чумой, проказой! Сколько бед причинила нам трусливая, угодливая, лживая информация!»
«Вот что говорил Ленин о Советах: «…необходимо разграничить гораздо точнее функции партии (и Цека ее) и Соввласти; повысить ответственность и самостоятельность совработников и совучреждений, а за партией оставить общее руководство всех госорганов вместе, без теперешнего слишком частого, нерегулярного, часто мелкого вмешательства».
«Судя по печати, местами идет опять укрупнение, местами разукрупнение колхозов. Но мы уж у себя больше не будем ни укрупнять, ни разукрупнять. Довольно! Опять ломать границы колхозного землепользования, еще больше запутывать севообороты, которые и так запутаны до безобразия?.. Больной из четвертой палаты говорил: «С этими постоянными ломками живем будто на разорванной улице при большой дороге. Нет уюта в нашей колхозной жизни. Как на вокзале или на постоялом дворе, все меняется, одни уходят, Другие приходят, люди на чемоданах спят, гудки, шум, суета». Нет, довольно! Пусть люди хоть привыкнут немного к названиям своих колхозов».
«А старик Глотов, помню, говорил как-то: «Мечтаю дожить до того дня, когда на моих глазах завершится хотя бы одна ротация севооборота в колхозах».
«Я думаю, в некоторых районах продолжают укрупнять колхозы потому, что секретарю райкома проще иметь дело, скажем, с десятью председателями, чем с двадцатью. Ради личных удобств районного руководства это делается».
«Самым нужным для нас из всех укрупнений (совершенно безболезненным, не связанным ни с какими ломками внутри колхозов) было бы укрупнение районов и МТС. Тут мы уже подошли бы как-то практически к сокращению наших аппаратов. Могучие штаты районных учреждений распространили бы по крайней мере свою деятельность на большее количество колхозов. Но и здесь у нас какая-то неразбериха. «Левая рука не ведает, что делает правая». Начали поговаривать об укрупнении районов, а области разукрупняем. Разукрупнили Воронежскую область, Курскую, Ростовскую. Области были по размерам средние, ничего такого гигантского, в смысле территории, не представляли. Не Красноярский край. Территория вполне позволяла хорошо руководить всеми районами. Если где неважно шли дела, то не в территории причина. Зачем понадобилось выделять из них еще новые области? Увеличивать вдвое на то же количество колхозов партийный, советский аппараты?»
«Не могу читать наши сатирические журналы! В фельетоне — возмутительнейшие факты, самодурство и произвол, доходящие до уголовщины, читаешь и зубами скрипишь: да что ж это такое делается, за это же расстрелять мало мерзавцев! А потом появляется: «По следам наших выступлений…» «Произведено расследование, факты подтвердились, виновным объявлено по выговору». От такой «сатиры» с счастливыми концовками пользы ни на грош! От нее даже вред. Она убивает у людей веру в силу советской печати и вообще в успешность борьбы с бюрократизмом и прочими нашими болячками».
«Применяем мягкие, милые, безобидные формулировки, когда речь заходит о зажимщиках критики. Записываем иногда в решении: «Товарищ Н. болезненно реагировал на критику…» А это «болезненность» заключается в том, что он за деловое критическое выступление на собрании уволил, как самовластный «хозяйчик», наплевав на все советские законы, рабочего с завода, да еще позвонил на другой завод директору: «Не принимай такого-то, если придет: демагог и склочник!» Какой «болезненный», несчастный человек! Нервы не в порядке, потому и не терпит критики! Подлечить надо на курорте за казенный счет!»
«А. А. Жданов ругал наших философов за то, что они не разработали в своих теоретических исследованиях вопрос о большевистской критике и самокритике, как могучей движущей силе социалистического общества. Да, нам нужны такие философские разработки, но еще больше нужны практические действия в помощь развертыванию критики. Несколько громких дел за зажим критики, с преданием, может быть, суду. И уж, во всяком случае, предусмотреть, чтобы ответственные работники, снимаемые с должности за зажим критики, впредь навсегда лишались нрава занимать руководящие посты. Надо, чтобы уважительное, внимательное отношение к критике снизу стало атмосферой, климатом нашего государства!..»
«А вообще-то вопрос об единоначалии и демократии решается просто. Умному человеку власть нужна не ради власти, а ради того, чтобы делать, пользуясь своими широкими правами, хорошие дела».
«Власть ради развития демократии. Парадокс? Нет. Настоящий руководитель именно о том и заботится, чтобы общественная жизнь кипела ключом, чтобы вокруг него росли, поднимались люди, расцветали таланты. Власть свою он направляет на борьбу с плохим, властью же, данной ему, поддерживает все здоровое, хорошее в нашей жизни».
«Вот Долгушин, видимо, из тех директоров-единоначальников, которые не употребят свои права во вред народу».
«Хорошо сказал этот комсомолец агроном Шорин, что заходил ко мне с Нечипуренко: «Своей ответственностью за судьбу родины, революции, социализма я равен любому, самому высокопоставленному нынешнему авторитету — разница в возрасте и масштабах работы особого значения здесь не имеет». Надо познакомиться с этим парнем поближе».
«А между прочим, это очень серьезный вопрос — о возрастном составе наших кадров! На моих глазах секретари райкомов стареют. Сейчас средний возраст секретарей райкомов по нашей области, вероятно, так где-то между сорока и пятьюдесятью, ближе, пожалуй, к пятидесяти. Мне тридцать семь, и как посмотрю на своих коллег — я чуть ли не самый молодой. А через две пятилетки средний возраст секретарей райкомов будет — под шестьдесят? А потом под семьдесят? И в колхозах мало выдвигаем молодежи на руководящую работу. А как было в гражданскую войну, в начале советской власти, в первые годы коллективизации? Аркадий Гайдар в семнадцать лет был командиром полка! Щорс в двадцать четыре года командовал дивизией! Двадцати-двадцатипятилетние парни заворачивали в ревкомах, организовывали колхозы. Нет, что-то неладно у нас сейчас с воспитанием молодежи и с отношением к ней».
«В США молодежь развращается голливудскими фильмами, а у нас многие ненормальности в среде молодежи — от канцелярской скуки в комсомоле».
«Собственно, молодежь у нас попадает на руководящую работу, но тут уже тоже выработался какой-то штамп выдвижения. Иной засидевшийся в комсомольском комитете «переросток», которому перевалило на четвертый десяток, иначе и не представляет себе дальнейшей своей жизни, как переход на партийную работу. Имеет, так сказать, на это преимущественное право, специализировался уже на произнесении речей, проведении пленумов, конференций. Выдвигаем молодежь, да, но — из ограниченного круга «избранных», отмеченных уже печатью более или менее руководящей номенклатуры. Бывшего секретаря горкома комсомола — на заведование отделом в обком партии и т. и. Вряд ли можно назвать таких «выдвиженцев» свежими кадрами. У них есть уже опыт работы с массами? Есть, конечно. Но — какой работы? Может, это только опыт — писать резолюции и читать речи по бумажкам?»
«Так что молодость — это еще не все. Блеск в глазах и розовые щеки — еще не признак живой комсомольской души. Зародыш карьеризма может появиться у человека в очень раннем возрасте. Есть ребята, как говорится, из молодых, да ранние. От такого «раннего» чинуши в государственном или партийном аппарате вреда не меньше, как и от старого бюрократа».
«Еще — об инициативе. Всякий приказ, всякое обязательное хозяйственное предложение — сверху — это уже есть как бы некоторое подавление инициативы местных работников. Но кто поручится, что наша инициатива — самая лучшая и поэтому ее нельзя «подавить»? Может, действительно нам нужно занять ума у соседей? Ведь разумное предложение сверху тоже основывается на чьей-то хорошей инициативе, это — аккумулятор многих цепных предложений, идущих снизу, это «циркулярное» распространение какого-то полезного, родившегося в определенном колхозе или районе новшества, до которого люди в других местах не успели еще додуматься. Инициатива более перспективная с помощью государственных органов побеждает инициативу менее перспективную. Естественный процесс!.. Да, но все это будет так, все будет хорошо и нормально при одном лишь непременном условии: если предложение действительно правильное, действительно выражает собою назревшую жизненную необходимость и стоит на твердой реальной почве, в смысле возможностей его осуществления».
«Нечипуренко рассказывал, как в том районе, где он работал до войны, держали одного коммуниста — «штрафника» в районном активе — специально для отвода от себя критики. Штук пять выговоров у него было, раз десять перебрасывали с места на место и все же держали на ответственной работе — для критики. На партконференциях весь огонь обрушивался на этого деятеля за его безобразия. Не было бы его — какого-нибудь другого стали бы критиковать».
«Датская пословица, Андерсен Нексе: «Шагает шире, чем позволяют штаны».
«А в общем, если об инициативе только кричать, декларировать ее, не подкрепляя декларации практическими делами, то из этого можно сделать очередную вселенскую говорильню».
«Да, но все ли у нас такие начальники, как Долгушин? Которым смело можно давать широкие права? Нет, не все. Как же быть в тех случаях, когда человек может во вред народу употребить свою власть? Вот тут-то и нужны сильные низовые парторганизации! Да чтоб побольше было в них рядовых производственников. Рабочему нечего терять, он как «заведовал» станком или кузнечным молотом, так и будет им заведовать, не на этом, так на другом заводе. Конечно, могут и рабочего прижать за критику, но все же, у кого меньше привилегий, тот не так дрожит за свое благополучие. Смелая, здоровая критика — и своевременная сигнализация с места, если с начальником творится неладное. Надо добиться путем каких-то крепких государственных мер, чтобы критика у нас стала действительно «безвозмездной».
«Здоровые низовые партийные организации, народный контроль — вот самое верное средство от самодурства, беззакония, комчванства».
«И — поиски такой организационной системы, при которой и незадачливый начальник не мог бы так уж много напакостить. Чтобы его глупости, по крайней мере, не били по карману трудящегося человека».
«Думается, надо продолжать поиски такой системы хлебопоставок, которая бы надежно гарантировала колхозникам, что при высоком урожае они хлеба по трудодням получат гораздо больше. Надо, чтоб колхозники твердо знали наперед, что же останется у них из валового сбора зерна на внутрихозяйственные нужды — если не в центнерах, то хотя бы в процентах от фактического урожая. Почему мы так упорно придерживаемся ныне действующей старой системы, которая тоже уже вся в заплатах, как тот зипун? И которая — что греха таить — смахивает на продразверстку, если учесть всякие дополнительные закупы. В прошлом году четыре раза давали нам план! Нет ничего вреднее для сельского хозяйства, как «дерганье» колхозников с хлебом. Мало радости, когда читаешь в газетах осенью рапорты областных организаций: «Сдача хлеба сверх плана продолжается». Значит, опять деревню лихорадит, опять у нас неустройство в самом главном деревенском вопросе — в вопросе о хлебе. Закупом можно все смазать, снивелировать, можно, как и раньше было, свести передовой колхоз до положения отстающего — по выдаче хлеба на трудодень. Подрываем материальную заинтересованность. У колхозников нет стимула для борьбы за высокий урожай. Хорошо ли, плохо ли будешь работать — все равно получишь на трудодень те же полтора-два килограмма, что и в отстающих колхозах стали уже получать люди. Конечно, но закупу колхозу платят больше денег, чем за зерно по госпоставкам, но все же не настолько, чтобы у колхозников сейчас совершенно уже отпал интерес к натуральной части стоимости трудодня».
«Понятно, что непредвиденные стихийные бедствия в каких-то районах страны заставляют нас брать дополнительно хлеб из других, более благополучных районов, отсюда и три-четыре плана. Но думается, что можно найти такую систему, при которой недосбор хлеба, против предполагаемого, в одном месте автоматически перекрывался бы большими поставками в другом месте, причем на законном основании, совершенно безболезненно для этих других районов».
«С натуроплатой МТС получается так. Ставки-то твердые, да не связаны с урожаем. Колхозы платят за гектар пахоты столько-то килограммов зерна. Но ведь можно и хорошо вспахать землю, а все последующие работы провести так скверно или несвоевременно, что урожай будет загублен. Не надо далеко ходить за примерами: одной лишь плохой уборкой можно загубить все. И получается: в одной МТС урожай 30 центнеров, в другой, рядом, только 10, колхозы же платят зерном за пахоту да и за все другие работы — одинаково. Одинаково, потому что все эти отдельные работы расцениваются в отрыве от конечных результатов сельскохозяйственного цикла — урожая».
«Возражение против такой системы госпоставок хлеба — в процентах от урожая — может быть лишь одно: это, мол, игра вслепую, государство не сможет заранее спланировать, сколько будет в этом году заготовлено хлеба: тут надо идти на риск — либо выиграешь, заготовишь хлеба больше, чем обычно, либо проиграешь. Думаю, что неверно назвать это «игрой вслепую». Если взять фактический урожай прошлого года и подсчитать известные проценты от него — пятьдесят процентов, что ли, или сорок, — вот это и будет ориентировочный план заготовок на текущий год. Меньше хлеба не получим. А больше — можем получить. «Риска» здесь нет никакого. Определенно будем в выигрыше. Главный выигрыш — твердая уверенность колхозников в завтрашнем дне. Люди будут точно знать, что такая-то доля урожая останется в их распоряжении для хозяйственных нужд и раздачи по трудодням. Эта гарантия поднимет дух колхозников, они будут гораздо лучше работать. Хорошая работа обеспечит высокий урожай. А из высокого урожая в свою очередь и государство получит больше хлеба — в процентных отчислениях».
«По пятьдесят процентов — это, конечно, грубо-примерный расчет. Может быть сорок и шестьдесят, может быть тридцать и семьдесят. Важен принцип — в процентах от урожая, причем амбарного, фактически собранного. Детали, разумеется, требуют тщательной разработки. Ищите, товарищи экономисты, ищите да обрящете!»
«Нужно же наконец нам осуществить по-настоящему ленинское указание о том, что коммунизм надо строить не на энтузиазме непосредственно, а при помощи революционного энтузиазма, сочетая его с личной материальной заинтересованностью каждого работника в росте продукции, в повышении производительности труда! Ленин смело и честно признал ошибочность продразверстки, когда увидел, какой вред она приносит. Надо и нам сейчас решительно и без промедления изгнать из наших заготовок все, что еще хоть в какой-то мере смахивает на продразверстку».
«Учитель Сорокин:
Мы пришли в нашей жизни к интересному конфликту — в вопросе о молодежи. И конфликт этот идет не от каких-то недостатков нашего строя, а, наоборот, от его положительных сторон. Некоторые из рабочих и крестьян, когда свершалась революция, мечтали: «Ну, мы отмучились в шахтах, котельных, на пашне за сохой, зато детям нашим теперь уже не достанется этого испытать. Из кожи вылезем, но добьемся детям высшего образования! Будут наши дети инженерами, профессорами, артистами, художниками, директорами, пойдут по чистой работе, им-то уж другая жизнь предстоит». Так оно отчасти и вышло. Вот мы иногда ругаемся: много развелось у нас чиновников, служащих в разных нужных и ненужных учреждениях. А кто они? Это же те дети рабочих и колхозников, что получили образование. Очень плохо, что у нас много лет прививался через семью, да и через некоторых горе-педагогов взгляд на образование как на средство получения чистой должности — и только. «Учись, Васька, негодяй! Ты же с такими плохими отметками ни в какой институт не поступишь! Колхозником хочешь остаться? Быкам хвосты крутить?» Жили мы как-то сегодняшним днем и не заглядывали в будущее. Считалось доблестью, если парень хорошо учился в десятилетке и успешно сдал экзамены в институт. И комсомол таких хвалил, ставил другим в пример. А на того парня, что после десятилетки дома остался, смотрели даже с презрением. «Дурак! Сколько лет учился, и без пользы! Прицепщик — со средним образованием!» Этакий старомужицкий взгляд на школу: ходить в школу, бить обувь, тратить деньги на учебники — надо же, чтоб потом это окупилось хорошей должностью. Учился парень — значит, должен стать писарем, не меньше. А что же здесь постыдного, если прицепщик со средним образованием? С каждым годом у нас все более сложные машины появляются. Посмотришь на свеклокомбайн, на кукурузный комбайн — да это же целый завод на колесах! Чтоб такой машиной управлять, нужен чуть ли не инженер! Очень хорошо, если бы все трактористы и комбайнеры были у нас со средним образованием! А дальше как будет? Мы же не ограничиваем для молодежи возможности получения образования. В институты труднее стало поступать не потому, что мало институтов, а потому, что слишком много желающих учиться. Больше, чем нам нужно инженеров, бухгалтеров, адвокатов, архитекторов. А как будет при коммунизме? Рядовые работы ведь останутся и при коммунизме. А пути к образованию будут еще шире. Но разве образование нужно человеку только для чистой должности? Да ведь образованному человеку интереснее жить на белом свете! Расширяется круг вещей, доступных его пониманию, его интересуют и литература, и искусство, и философия. Ему есть о чем поговорить с друзьями, с женой, которая, будучи девушкой, может быть, училась с ним в одной школе. Образование нужно просто для себя, для души, для полноты жизни! Для духовной жизни человека! Чтобы не кротом слепым существовать на земле!»
Приписано Мартыновым через несколько дней и подчеркнуто красным карандашом:
«Да, этот молодежный вопрос — очень большой вопрос! Это — будущее нашего государства. Только самый распоследний эгоист, такой, что «после меня хоть потоп», не задумывается о молодежи… А я комсомолом не занимался. Тоже «не дошли руки». Посмеивался только, что у наших комсомольцев бюрократизма развелось побольше, чем у их «старших братьев». Смешочками дела не поправишь. Надо как-то практически помогать им выбираться из нудной канцелярщины, из этого мертвящего все живое, как суховей, формализма!»
Но оказалось, что в таком колхозе, например, как «Власть Советов», где двенадцатый год председательствовал Демьян Васильевич Опёнкин, никакого, собственно, «молодежного вопроса» и не существовало.
Долгушин, когда начинал свое знакомство с колхозами Надеждинской МТС, интересовался всем: и сколько свадеб сыграли за год, и сколько детей в селе родилось, и возвращаются ли домой демобилизованные солдаты, и куда деваются выпускники десятилеток. Заходил к колхозникам домой — не по выбору, а просто так, на какие хаты глаз глянет, — любил обстоятельно побеседовать с хозяевами обо всем: и кто это у них на фото, и кто вот это, и как жили они до войны, и что было здесь при немцах, и о бюджете семьи, и о детях, присутствующих и отсутствующих. Заглядывал как бы невзначай — попить воды или расспросить дорогу к правлению колхоза, а уходил из этого дома уже своим человеком, хорошим знакомым, к которому при случае в Надеждинке можно было и в гости завернуть.
Когда он приехал первый раз во «Власть Советов», глубокой осенью, село ему не приглянулось. Старое русское село, обычное для средней полосы: избы густо прилепились одна к другой, улицы кривые, на холмах, посреди села глубокий яр, крыши все соломенные, мало деревьев. Но от избы к избе тянулись электрические провода, и приятно удивило его, что до глубокой ночи, часов до двенадцати, почти всюду светилось. Его, городского человека, больше всего удручал в деревенском пейзаже в иных местах мрак, в который погружалось село часов с семи вечера и до утра. Сразу видно, что главное удовольствие там у людей зимою — сон.
Целый день осматривал Долгушин хозяйство колхоза: скот на фермах, силосные сооружения, электростанцию, мельницу, теплицы. А на другой день сказал Опёнкину: «Все ясно, Демьян Васильевич. Хозяйство у вас прекрасное, колхоз богатый. Давайте теперь посмотрим: к чему это все. Как вы этим богатством пользуетесь, как люди живут». И они пошли по селу, к колхозникам.
Прочная привязанность людей к родному селу, к своему колхозу — вот что прежде всего бросалось в глаза. Не все мужчины, уходившие на фронт, остались в живых, но кто остался — все вернулись в колхоз. Среди полеводческих бригадиров было два старших лейтенанта; племенной конефермой заведовал майор в отставке; строительной бригадой руководил капитан, бывший командир саперной роты; на огородах закладывал парниковое хозяйство главный старшина Морфлота; колхозный автопарк был вручен командиру танка, лейтенанту; за бухгалтерским столом в конторе сидел майор интендантской службы, начфин дивизии, инвалид на протезе. Свои знаки различия и старые мундиры все берегли для парадного случая. В клубе Долгушин видел групповую фотографию, снятую в колхозе в День Победы, — Опёнкин с бригадирами, членами правления и завфермами. Группа смахивала скорее на командный состав полка, нежели на колхозный актив, от звездочек на погонах, орденов и медалей в глазах рябило. Один Опёнкин стоял в штатском пиджаке со своей скромной единственной партизанской медалью на груди. Сколько ни припоминали колхозники, перебирая подряд все дворы в селе, так и не назвали ни одного фронтовика, который бы застрял где-то на какой-то легкой работе, вроде заведующего буфетом, и не вернулся из армии в свой колхоз.
Была ли это просто крестьянская любовь солдат-колхозников к своей извечной земле, селу, где они родились и выросли, к земледельческому труду «на лоне природы» и нежелание менять приволье деревенской жизни на городскую тесноту и сутолоку? Вряд ли только это. Многие фронтовики еще в армии знали из писем от родных, что председателем в их колхозе работает честный, хозяйственный человек, что колхоз сразу же после освобождения от немцев пошел в гору и по трудодням люди получают столько, что ни в каком буфете не заработаешь. Образовался тоже «заколдованный круг», но совсем иного порядка, нежели в некоторых других колхозах: фронтовики возвращались из армии домой потому, что в колхозе было хорошо, а дела в колхозе еще больше улучшались оттого, что прибывало мужчин и сколачивался крепкий актив.
И в этом колхозе, как и в других, было много вдов, война и здесь оставила свои непоправимые последствия — осиротевшие семьи. Но время шло, дети, которым в начале войны было лет по шесть, семь, стали уже взрослыми людьми. Среди молодежи убыль мужчин не так была заметна. Количество свадеб в селе приближалось уже к «довоенному уровню». В подворных сельсоветских списках появилось много новых молодых семей и новых жителей, родившихся в последние годы. «Если поработать над этим вопросом, — серьезно заявил секретарь сельсовета, — то можем догнать по приросту населения, в процентном отношении, Китай».
Во «Власти Советов» Долгушин встретил немало молодежи, окончившей десять классов и оставшейся работать в колхозе. Были в колхозе и свои специалисты, окончившие техникумы: электрик, лесомелиоратор, ветфельдшер. На медпункте работала врачом местная жительница, молодая женщина, бывшая колхозница. Среди учителей средней школы были тоже «свои» колхозники. До этого Долгушин знал уже из рассказов людей и собственных наблюдений, что в некоторых случаях молодежь уходит даже из богатых колхозов. Что тому причиной? «Не единым хлебом жив человек»? Культуры мало еще в селе? Нет таких перспектив для личного роста, как в городе?
Колхоз «Власть Советов» тоже не блистал пока особенной культурой быта: не было еще в селе асфальтированных тротуаров и троллейбуса. Но то простое и небольшое, что надо было делать, чтобы молодежи, да и всем колхозникам жилось интереснее, правление колхоза делало: не жалело денег на колхозную библиотеку, на художественную самодеятельность, на клуб, на учебу колхозников. Два хороших человека, два энтузиаста — молодая девушка-библиотекарь и музыкант-любитель, заведующий сельским отделением связи, бывший полковой капельмейстер, сумели привить людям любовь к тому, чем сами увлекались. Не было в колхозе дома, где бы не читали книг, и очень много завелось среди колхозников музыкантов и певцов самого разного возраста, от школьников до дедов. В селе было два оркестра, духовой и струнный. Хор «Власти Советов» ездил на областной смотр. Был и драмкружок, участвовало в нем человек пятьдесят, ставили чуть ли не каждое воскресенье новые спектакли.
Опёнкин рассказывал Долгушину:
— Один представитель сделал нам замечание, что мы, дескать, разжигаем в колхозе собственнические тенденции — за то, что мы особое внимание обратили на помощь молодым семьям. Были у нас одинокие парни, из остатков тех семей, что разорила война, поженились, а жить в зятьях им не нравится. Все вроде как на квартире, у жинкиной родни из милости. Мы им помогли отделиться. Живите самостоятельно, собственным домом. Дали им хорошие усадьбы, выделили лесу для построек, провели несколько воскресников, гуртом поставили на ноги. Живите, укореняйтесь, будьте родоначальниками новых дворов в селе. Я этому представителю ответил, что такой вид собственности не страшен, когда колхозница свою хату белит, а муж ее по-хозяйски обносит плетнем усадьбу. То страшнее, когда все дворы разгорожены и у людей руки не поднимаются на своем же доме крышу починить.
Опёнкин был по-настоящему талантливым хозяйственником. И он не упускал возможности поторговать с выгодой на колхозном рынке, и он не прочь был использовать какую-то временную доходную «ситуацию», но никогда не строил он своих хозяйских расчетов только на этих случайных вещах.
— В первый год, как меня выбрали здесь председателем, — рассказывал он, — мы даже вениками торговали. Посеяли два гектара веничного проса, старики зимою навязали веников, а мы их продали облпотребсоюзу на пятнадцать тысяч рублей. Все годится в хозяйстве. Можно и на конопельке отхватить миллиончик, пока эта культура пользуется привилегией, можно и маком поторговать, и стригуновским луком, и махоркой. Все полезно, что в колхозную кассу полезло. Но увлекаться этим — боже упаси! А вдруг завтра по твоему примеру все колхозы нажмут на мак? И домохозяйки в городе не возрадуются, ежели на рынке, кроме мака, не будет ничего, и ты шиш получишь от своей коммерции. Нет, на это нельзя делать ставку. Если сумел сегодня взять на чем-то временном крупные деньги, надо опять же вкладывать их в развитие тех отраслей, на которых никогда не прогоришь. В животноводство надо вкладывать, в коров, в свиней! Хорошее животноводство — вот где самые верные деньги! Молоко, мясо, сало, бекон, масло — это дело вечное, всегда был спрос на эти продукты и будет.
Свои взгляды на капитальное строительство Опёнкин излагал так:
— Очень важно уловить момент, когда именно можно и нужно начинать большое строительство в колхозе. В ином колхозе не навели самого малого порядка на животноводстве, нет постоянных кадров, нет кормов, а затевают сразу строить кирпичные коровники под шифером. Ухлопают сотни тысяч, залезут по уши в долги — и никакой отдачи в хозяйстве от этого строительства. Скот стоит голодный, грязный, только и удовольствие коровам, что вода сама течет в поилки, а на асфальтированных дорожках навозу по колено, удои низкие. Как человек одевается, по порядку, — сначала наденет нижнее, потом брюки, сапоги, пиджак, так и хозяйство, по-моему, надо поднимать. Если сначала сапоги наденешь, как же потом в них штаны заправлять? Когда средств еще мало, тут-то и нужен точный расчет — куда их в первую очередь вложить, чтоб был от тех денег оборот в хозяйстве, а с того оборота уже дальше дела делать. Больно смотреть, как иной председатель, чуть войдет во власть, начинает швырять направо и налево сотнями тысяч. Без денег худо, никакой мудрец ничего не сделает без них, но и с деньгами можно по-разному обернуться. Одному председателю дай для начала двести тысяч, а другому дай миллион, и может так случиться, что первый председатель с тех двухсот тысяч через три года три миллиона наживет, а другой загонит сразу все средства в тупик, в строительство, откуда никакого оборота, так и останется при одних шиферных крышах и автопоилках. На брюхе шелк, а в брюхе щелк. Если животноводство слабое, не дает дохода, но все же какие-никакие постройки есть, скот не под открытым небом — надо о кормах позаботиться, людей хороших подобрать на фермы; те коровники, свинарники, что есть, подремонтировать, утеплить, пережить еще какое-то время под соломенными крышами, но обязательно добиться от ферм продуктивности, дохода. А с того дохода начинать уже и капитальное строительство. Но опять же, если построили образцовый коровник, надо, чтобы и удои молока поднялись, а иначе для чего же и строили его? Для красоты только? В хорошем помещении лучше условия для ухода за скотом, а от хорошего ухода должно больше продукции быть, ясное дело! Не только силос и концентраты — и шифер должен прибавку молока давать! Так надо поставить дело, чтоб и самое строительство в несколько лет окупилось повышенным доходом от животноводства. Золотое слово «оборот»! Уметь надо каждый рубль в хозяйстве истратить так, чтобы он через какое-то время колхозу трешницей, а то и пятью рублями обернулся!.. Вот и были у нас тут чудеса, когда все строительство в колхозах планировалось сверху. Дают району: построить в этом году столько-то новых коровников, свинарников, птичников, а район механически разверстывает по колхозам. Да откуда вам известно, что этим колхозам именно сейчас приспело время начинать капитальное строительство? И какое вы имеете право так грубо распоряжаться колхозными средствами? Деньги-то колхозные, правление и общее собрание колхозников — хозяин этим деньгам. Если у председателя есть голова на плечах, дайте ему самому думать этой головой! Ему на месте виднее, куда лучше вложить сейчас средства, чтобы в оборот их пустить, а не в тупик загнать, не заморозить их мертвым капиталом на много лет.
Опёнкин интересно воспитывал колхозный актив. Вот как во «Власти Советов» избирали правление — не первый год уже.
Обычно повсюду в колхозах в правление избирают всю начальствующую «головку»: бригадиров, заведующих фермами, председателя, завхоза. Получается не правление, а колхозный «генералитет». Бригадиры контролируют сами себя. Соберутся на заседание правления, и некому покритиковать их со стороны, все бригадиры связаны общей принадлежностью к «генералитету». Опёнкин предложил отступить от этих традиций. Совсем необязательно, чтобы все бригадиры были членами правления, и ни в каком уставе не записано, что правление колхоза должно состоять исключительно из руководящих лиц. Стали избирать правление из пятнадцати человек, три-четыре человека из руководства, остальные — рядовые колхозники из разных бригад и отраслей. Такой состав правления колхоза оказался более тесно связанным с массой колхозников, чем штатные «начальники», лучше знающим настроение и нужды рядовых колхозников. Член правления в бригаде не подменял бригадира, но мог, отведя в сторонку, чтоб не подрывать его авторитета, сделать ему какое-то замечание, дать совет. На заседания правления ворвалась жизнь, горячие споры, безбоязненная критика. Колхозники поправляли ошибки своих бригадиров, невзирая на их лейтенантские и майорские чины.
На очередном отчетно-выборном собрании обычно избирался новый состав правления — не потому, что старые члены правления плохо работали и потеряли доверие, а чтобы приучить и других людей к управлению хозяйством. Колхоз был большой, семь полеводческих бригад, две садово-огородные, две строительные, четыре фермы; одних демобилизованных офицеров не хватало на все руководящие должности, да и колхоз все же не стрелковый полк; иная женщина, не знакомая с тактикой ведения уличных боев, но надоившая от закрепленных за нею коров уже не одну сотню тысяч литров молока, может быть, справится с заведованием молочной фермой не хуже участника штурма рейхстага. И вот из этих рядовых колхозников, прошедших школу управления хозяйством, проверенных на деле, выдвигали потом и бригадиров, и завфермами, если где-то требовалось укрепить руководство. Управленческий актив колхоза подобрался, таким образом, из разных людей: и фронтовиков, и женщин, и стариков, и молодежи.
Сильно было влияние Опёнкина в колхозной партийной организации. Вступил он в партию в 1927 году, еще когда был трактористом первого в Троицком районе товарищества по совместной обработке земли, и с тех пор, третий десяток лет уже, ни на один день не отрывался (исключая время немецкой оккупации, партизанщину) от колхозного строительства. Работал он и бригадиром тракторного отряда, когда в Семидубовке организовалась МТС; был и полеводом в своем родном колхозе в Олешенке, и завхозом в другом колхозе, и секретарем парторганизации в третьем. Сколько повидал он по району разных председателей колхозов с разными «стилями» работы! Сколько колхозов на его глазах от этих разных «стилей» либо круто шли в гору, либо скатывались в число самых отстающих, бесхлебных и безденежных. Было на чем поучиться трудному искусству управления большим общественным хозяйством — и на чужих ошибках, и на собственных.
В 1943 году, сразу после освобождения, райком партии порекомендовал Опёнкина председателем в колхоз «Власть Советов». Первое время ему пришлось быть там и секретарем партийной организации. От некогда большой парторганизации осталось три коммуниста. Потом стали возвращаться фронтовики, старые коммунисты и вступившие в партию в армии. Секретарем парторганизации избрали главного старшину Морфлота Демченко, у которого после тяжелой операции желудок совершенно не принимал спиртного. Избрали его, конечно, не только за это достоинство, а за то, что он хорошо работал как бригадир огородной бригады и от других коммунистов требовал в первую очередь образцовой трудовой книжки. Верно взятая с самого начала линия в партийной работе оберегала парторганизацию от белоручек и болтунов, росла она за счет настоящих передовиков, которые, и вступив в партию, не стремились уйти с поля или фермы в какую-нибудь канцелярию, оставались на своих местах и старались, получив партбилет, работать еще лучше.
Опёнкину и Демченко нетрудно было воспитывать молодых коммунистов, для этого им не надо было придумывать какие-то особые формы воспитательной работы и произносить длинные речи-проповеди на собраниях. В их личной работе и жизни не было фальшивой поповской раздвоенности на слова и дела. Колхозники не помнили дня, ни зимою, ни летом, чтобы солнце застало председателя колхоза и секретаря парторганизации в постели. Первые два года Опёнкин жил в землянке, как и многие колхозники, у которых немцы при отступлении сожгли избы, и построил себе дом, когда уже почти все семьи были водворены в новое жилье. Ни килограмма меда, ни охапки сена не выписал он себе сверх того, что причиталось.
Партийная организация во «Власти Советов» выросла до двадцати восьми человек. В колхозной комсомольской организации было около ста парней и девушек. Комсомольцы брали во всем пример с коммунистов. И Долгушин убедился здесь, что в богатом и здоровом колхозе нет никакого особого «молодежного вопроса». Смена старикам растет хорошая, трудолюбивая. Отношение к «простым» работам в поле и на животноводстве уважительное, молодежь не бежит из сельского хозяйства, располагается жить в родной деревне прочно и надолго. Не часто можно услышать в других местах, а здесь он услышал, и даже не от одного парнишки школьного возраста: «Кем хочешь быть?» — «Колхозником».
И еще — очень продуманно, по-человечески правильно был решен во «Власти Советов» вопрос обеспечения потерявших трудоспособность стариков и инвалидов. Старость — по закону природы, к сожалению, завтрашний день каждого человека. Молодежи несвойственно преждевременно задумываться о старости, но человеку пожилому, особенно одинокому, нет-нет да и придет в голову: «Ну ладно, сейчас-то мне в колхозе живется неплохо, есть еще сила в руках, трудодней у меня много, и трудодень в колхозе не пустой, а что будет, когда уже не смогу по старости работать или заболею? У рабочих и служащих есть пенсии, а меня здесь кто докормит до смерти?» В иных колхозах старикам давали продукты из специального фонда, если после госпоставок и первоочередных отчислений оставалось из чего создать такой фонд. Бывало, это снабжение стариков и инвалидов носило характер подачек из милости. Выпросит какая-нибудь престарелая бабка у председателя пол-литра масла и десять килограммов муки — ее счастье, в добрую минуту, значит, подвернулась. Да еще скажет ей председатель, подписывая накладную: «Вечером придешь в кладовую получить, а то понесешь днем через село, все узнают, что выписал я тебе продукты, припрутся все просить. Как вы мне, черти старые, надоели!»
Опёнкин повернул дело по-иному. Назначенная правлением комиссия разработала нечто вроде колхозного положения о пенсиях: с какого возраста считать стариков и старух нетрудоспособными, сколько начислять им трудодней, в процентах, от средней выработки за те годы, когда они еще участвовали в колхозных работах, как брать в расчет состав семьи и т. п. Это дополнение к Уставу утвердили на общем собрании, и оно стало законом их жизни. Старикам и инвалидам трудодни записывали в книжку одновременно со всеми колхозниками, и получали они по трудодням продукты и деньги из общего фонда распределения. Жить в колхозе, при таком твердом порядке обеспечения нетрудоспособных, стало спокойнее и уютнее не только старикам — всем.
Была у Опёнкина особенность — не любил он газетчиков, на областных совещаниях убегал от них, неохотно «давал интервью» и в колхозе принимал корреспондентов не слишком хлебосольно — чтобы не зачастили к нему.
— А ну их, этих писателей! — отмахивался он. — Они меры не знают. Как насядут на один колхоз либо на какого-нибудь передовика, как начнут восхвалять да возносить — не отстанут, пока не испортят человека.
Может быть, вследствие прохладных отношений Опёнкина с областными и приезжавшими из Москвы журналистами, колхоз «Власть Советов» реже хвалили в печати, чем он того заслуживал, и его лучшие передовики были несколько обойдены славой по сравнению с передовиками других видных колхозов, но Опёнкина это не огорчало.
— Вот только и поработаем спокойно, пока еще не растрезвонили о нас на весь Советский Союз, — говорил он. — А как, не дай бог, прогремим, вроде Дубковецкого или Прозорова, как поедут к нам одна за другой делегации — американцы, индусы, французы, — то уже будет не работа, а сплошная сельскохозяйственная выставка, и я из председателя в экскурсовода превращусь, буду с киём ходить и диаграммы показывать, а на поле — хоть волк траву ешь!..
У Долгушина, после того как он обстоятельно познакомился с колхозом «Власть Советов», был большой разговор с Опёнкиным о будущем.
— Хоть вы, Демьян Васильевич, и боитесь чересчур громкой славы, но все же двигаться вперед надо и даже побыстрее, чем двигались вы до сих пор, — говорил Долгушин. — Денег у вас в колхозе и у колхозников достаточно, чтобы начать по-настоящему перестраивать деревенскую жизнь. Колхозные ребята у вас в обиде на телят и на поросят.
— Почему — в обиде? — не понял Опёнкин.
— А вот почему. В телятниках и свинарниках у вас площадь, кубатура, свет, вентиляция — все рассчитано по научным нормам. Строите прогулочные дворики, откормочные площадки, ванные — чтоб молодняк рос здоровым, упитанным. А в избах колхозников есть эти нормы света и воздуха? Это по-научному, когда семья в шесть, семь душ живет в одной комнате? Колхозные коровы у вас пьют воду из автопоилок. А колхозница, чтобы чаю согреть, идет по воду к колодцу, а колодцев с хорошей водой всего два на все село. Кому же лучше живется у вас — коровам или колхозницам? Телятам или ребятам?
— А телята — это наше колхозное добро, — возразил Опёнкин. — Нельзя бесхозяйственно к нему относиться. Доход от животноводства поступает нам, колхозникам. Нам же польза от того, что телята и коровы у нас в хороших условиях.
Конечно. Без хорошего помещения и ухода не получишь высокой продукции. Это понятно. Но все же как-то странно получается, что у животных их условия жизни — применительно, конечно, к их потребностям — обставлены куда культурнее, чем у хозяев этих животных — людей. Разве так и должно быть вечно? Ведь все же мы на лошадях ездим, а не лошади на нас! Коровы для нас, а не мы для коров! Я думаю, Демьян Васильевич, ваши животные в благодарность за человеческое к ним отношение накопили уже достаточно денег колхозу, чтобы у их хозяев дома были просторные, многокомнатные, с нужной кубатурой воздуха. Можно бы уже начинать вам строить новую деревню. Это не те, конечно, капиталовложения, что немедленно дадут оборот. «Трешницу за рубль» тут, может быть, не получите, но получите другое — хорошую жизнь людей. Разве четыре килограмма пшеницы и пятнадцать рублей на трудодень — предел всех потребностей колхозника? Засыпать хлебом чердаки, и пусть гнилые балки рушатся людям на головы?
Опёнкина не пришлось особенно уговаривать. Он был не из тех мужиков, что мечтали сало с салом есть. Он и сам уже давно подумывал о переустройстве села, да не знал, с какого края взяться за это огромное дело. Денег из колхозных средств для начала можно было выделить миллион, да в каждой колхозной семье был отложен на сберкнижке для строительства нового дома не один десяток тысяч — дай только материалы, транспорт, мастеров.
Зимою Опёнкин усилил заготовки леса из Кировской области, где отводили ему делянки для разработок. Обсудили вопрос о строительстве нового села на общем колхозном собрании. Все колхозники были согласны хоть сейчас приступить к делу. Для начала решили построить кирпичный и черепичный заводы. Облисполком пообещал помочь оборудованием. Начали проектирование жилых домов, нового большого клуба с залом на семьсот мест, парка культуры и отдыха со стадионом, детсада, круглосуточных и круглогодовых детских яслей, радиоузла, гаража на двадцать машин, водонапорной установки для села и новой бани. Сверх всего Опёнкин предложил не пожалеть еще сотню тысяч рублей и построить хорошую мастерскую с слесарным, токарным, столярным и кузнечным цехами, оборудовать ее станками и инструментом и передать сельской средней школе — пусть учат в этой мастерской школьников старших классов, попутно с общеобразовательной программой, разным техническим специальностям, которые в наше время механизации пригодятся парням, на какую бы отрасль сельского хозяйства их ни потянуло.
Предложение Опёнкина о строительстве мастерской навело Долгушина на мысль, что и МТС может помочь школам в политехническом обучении — со своими новейшими сельскохозяйственными машинами и кадрами опытных механизаторов. В зоне Надеждинской МТС было еще две средние школы. Долгушин договорился с директорами школ насчет летней практики учеников в МТС при тракторных бригадах. Председатели колхозов, на территории которых находились эти школы, Золотухин и Нечипуренко, узнав о затее Опёнкина, пообещали и у себя выяснить возможности строительства школьных мастерских.
Пока Мартынов размышлял, лежа в больнице, о «молодежном вопросе», в районе начали уже практически кое-что делать для правильного решения этого в общем-то не очень запутанного вопроса.
Почему случилось так, что Медведев, молодой и неопытный еще руководитель партийной организации, сразу перенял все самое плохое, что только можно было перенять от некоторых других, опытных, но отнюдь не заслуживающих подражания руководителей? Работать он еще не умел. Несколько упрощая вопрос, можно сказать, что он в равной мере не умел еще совершать ни хороших, ни дурных поступков, и тому и другому ему предстояло учиться. Почему же дурное он постиг скорее и успешнее, чем хорошее?
Когда человек покупает себе в магазине комиссионных вещей одежду, он выбирает из чужих костюмов тот, который ему по плечу. Несомненно, Медведев встречал в своей жизни разных руководителей. Видел он, вероятно, и таких, у которых достоинства и недостатки переплелись, как пшеница с травой-березкой на засоренном поле. Есть такие сложные натуры. Талантливый организатор, умеющий вдохновить и поднять на какое-то важное дело все живое и мертвое, и в то же время — самодур, грубиян, честолюбец. Лично смелый в решениях человек, но — совершенно не терпящий рядом с собою других смелых и самостоятельных. Массовик, блестящий оратор, рубаха-парень (пока разговаривает с народом на собраниях), а в стенах своей канцелярии — зажимщик критики и глушитель инициативы. Искренний враг и гонитель аракчеевщины, во всем! — кроме собственной сферы деятельности. Сам не лакей и не подхалим, но не противник угодничества и подхалимажа со стороны своих подначальных. Вот из этой «сложности» натуры некоторых знакомых ему руководителей Медведев и выбирал, вероятно, для подражания то, что было ему «по плечу», на что хватало его способностей, чему проще было подражать. Недостатки, таким образом, возводились в превосходную степень, а достоинства оригинала, с которого снималась копия, полностью выпадали. Выпадали потому, что тут уж, чтобы перенять их хоть частично, нужен все же какой ни есть талант.
Вот так и получилось, что Медведев, став во главе районной партийной организации, воспринял все распространенные пороки плохих секретарей райкомов, и среди них наиболее чреватый последствиями порок — равнодушие к людям. Председатели колхозов и директора МТС были для него не товарищами по работе, а лишь промежуточными рычагами для нажимания на них и выполнения на местах спущенных сверху директив. О рядовых колхозниках уж и говорить нечего — на них он смотрел только как на виновников «срыва» того-то или того-то.
За время весеннего сева Медведев успел так прославиться всюду своей грубостью, что им уже в колхозах матери стали пугать детишек:
— Вон погоди, приедет на зеленой «Победе» тот дядька в золотых очках, что на нас в поле кричал, я ему расскажу, как ты балуешься!..
Флегматичный Глотов показался вначале Медведеву человеком безответственным. После нескольких осечек с Долгушиным, который за словом в карман не лез и при нападках на него давал отпор, Медведев стал наседать больше на Глотова, ездил чаще всего в колхозы Семидубовской зоны. Старик принимал указания Медведева, в открытые споры не вступал, если Медведев приказывал пускать бороны по мокрой зяби, со своей стороны тоже давал распоряжение бригадиру налаживать и заводить машины, но лишь только райкомовская «Победа» скрывалась за бугром, останавливал тракторы и продолжал делать все по-своему. Трактористы, народ сообразительный, называли такие действия своего многоопытного, умудренного жизнью директора «тактикой мирного неповиновения». Бывало и хуже. Если Медведев очень уж нажимал, чтобы начинали сеять в холодную почву просо или кукурузу, грозя за промедление карами, Глотов давал указание бригадирам обойти загоны сеялками по разу и на этом пока прекратить, а сам сообщал в район, что посеяно тридцать — сорок гектаров (чтобы открыть сводку и этим успокоить Медведева), а после этого еще несколько дней не сеял, выжидал теплой погоды. Это уже было: борьба с преступлением методом преступления же, но не столь губительного своими последствиями для урожая, как посев поздних культур в непрогретую почву. Лавируя так и сяк, невозмутимый, спокойный на вид Глотов сумел все же выдержать хорошее качество обработки земли и наилучшие сроки сева всех культур.
На севе кукурузы Медведев приехал в колхоз «Родина», где председателем работал Дорохов, бывший лесник. У большой проезжей дороги на хорошо разработанном поле сеяли специальной сеялкой, с мерной проволокой, точно по квадратам. Присутствовал на севе и директор МТС. У Медведева за время его поездок по колхозам стал уже вырабатываться глазомер. Он окинул взглядом поле.
— Но это же не вся ваша кукуруза. Здесь будет всего гектаров пятьдесят. Где еще сеете?
Дорохов указал рукой.
— Вон там, за той лесополосой.
— Поедемте туда.
— Туда сейчас не проедем на машине, — замялся Глотов.
— Почему?
Там мостик через речку неисправный, провалимся. Надо ехать через село, назад, кругу давать километров пятнадцать.
— Да вот же накатанная дорога, прямо в ту сторону. Куда же ездят по ней? Свежий машинный след.
Дорохов переглянулся с Глотовым.
— А может, уже исправили. Я давеча говорил бригадиру…
Поехали на другое поле. Мост оказался починенным и, как видно, уже давно, свежая стружка на бревнах настила успела потемнеть. Кукурузу на этом поле, укрывшемся между оврагами и лесополосой, сеяли обыкновенными сеялками — междурядья положенной ширины, но рядок сплошной, не гнездами.
Медведев схватился за голову.
— Это что ж такое делается? Где же у вас тут квадраты?..
— Не беспокойтесь, Василий Михайлович, — ответил ему Глотов. — Квадраты здесь будут еще лучше, чем на том поле. Потерпите до первой культивации.
— Как — потерпеть?..
Дорохов стал объяснять:
— Когда появятся всходы, мы пустим тракторные культиваторы и вдоль и поперек рядков. Ножи сами прорежут поперечные междурядья на нужную ширину, а те растения, что останутся, будут как бы гнездом, получатся правильные квадраты.
Медведев уничтожающе мерил Дорохова взглядом.
— Ваша собственная выдумка?.. Что ж, придется судить за грубое нарушение агротехники на севе кукурузы. Самой ценной зерновой и фуражной культуры!..
— Погодите, Василий Михайлович, — вмешался Глотов. — Если его судить, то меня надо судить в первую очередь. Это не его выдумка. Это я ему посоветовал так посеять. Вся Кубань так сеяла до войны кукурузу, и получались прекрасные квадраты. Я же ее знаю очень хорошо, эту культуру, имел с нею дело, три года работал на Кубани управляющим отделения совхоза. Квадратно-гнездовых сеялок тогда еще не было, сеяли ее простыми зерновыми сеялками, сплошным рядком, а потом прорезали поперек культиваторами и так и обрабатывали вдоль и поперек. Те же квадраты. Только называли тогда букетировкой.
— Ни в каких агроправилах вы не найдете такого способа!
— Да, нету в агроправилах, не знаю почему, а способ хороший, при нехватке нужной техники, — продолжал настаивать Глотов. — Вот мы выждали наилучшее время для посева и за два дня все это поле засеем. Через неделю уже всходы будут. А руками сеять — на десять дней растянем, до суши. Здесь у них, правда, пойдет лишних семян килограммов по пять на гектар. Но семена у них есть. В «Родине» колхозники давно сеют кукурузу на усадьбах, в каждом дворе она есть, собрали семян даже с излишком. А вот с рабочей силой у них вопрос стоит остро. И специальных сеялок для квадратно-гнездового не хватает еще у нас. Им есть смысл потратить и десять килограммов лишних семян на гектар, лишь бы вовремя посеять и не снимать людей со всех работ сюда для ручной посадки.
— Значит, квадраты появятся только после первой культивации?
— Будут квадраты, — уверял Дорохов. — Как рассказал мне Иван Трофимыч, я подумал, подумал: конечно, получатся квадраты. Приезжайте, Василий Михайлович, недели через две, посмотрите, какие будут здесь квадраты.
— Через две недели? А сегодня как мне сообщить об этом посеве? Вы знаете решение обкома? Весь посев кукурузы должен быть произведен только квадратно-гнездовым способом! Сегодня же это еще не квадраты? Как мне в сводке писать?
— Напишите: посеяно столько-то гектаров будущими квадратами.
— Вы еще собираетесь, кажется, шутить, товарищ Дорохов? — грозно повысил голос Медведев.
— Какие уж тут шутки, — угрюмо ответил Дорохов, отворачиваясь, глядя себе под ноги, чтобы не встречаться глазами с Медведевым. — Кукурузы вы заставляете сеять много, трудности с нею без специальной техники будут большие, да если еще вы не даете нам соображать своей головой, как ее лучше посеять и обработать, — тут уж нам не до шуток!..
— Вот что у вас тут завелось! Оказывается, у вас тут свой Совет Министров? Сами себе издаете обязательные постановления! Ну, погодите, дорогие друзья! Созовем пленум райкома, там поговорим обо всем, подведем итоги сева! Извиняюсь, товарищ Дорохов, я все забываю, что вы беспартийный. Вас-то мы на пленум не пригласим. Но вот директор МТС старый коммунист! Учит беспартийных председателей заниматься очковтирательством! Обманывать райком партии! Мостик, видите ли, у них неисправный! У дороги сеют кукурузу квадратно-гнездовым, а там — как попало, туда, мол, секретарь райкома не заглянет! Но и на вас, товарищ Дорохов, мы найдём управу! Не позволим и вам безобразничать! Воздадим и вам по заслугам! И поставим на ваше место человека, который способен правильно понимать политику партии на данном этапе!..
Вот так приезжал Медведев в колхозы. Малейший проблеск самостоятельной мысли казался ему злостным нарушением дисциплины. Сам же он не осмеливался никогда ни на волос отступить от областных директив, не решался даже подумать, что есть, возможно, при сложившихся условиях, какое-то другое, лучшее решение вопроса.
Люди после его отъезда долго ошалело качали головами:
— Как же с таким секретарем жить?..
До пленума райкома Медведев успел ожесточить против себя всех председателей. Что-то должно было неминуемо произойти.
И когда наконец пленум собрался — в середине июня, в междупарье — поначалу это было нечто похожее на судилище над доброй половиной председателей колхозов и директорами МТС. Доклад Медведева состоял из протокольного перечисления всех ошибок и упущений, обнаруженных лично им и работниками райкома в колхозах за время весеннего сева и начала прополки. Соответственно тяжести совершенных ошибок виновные обзывались «саботажниками», «срывщиками планов», «дезорганизаторами» и даже «вредителями колхозного строя». Долгушин попал в разряд «государственных нахлебников».
С Надеждинской МТС Медведев начал свой доклад, ею и закончил. Нужды нет, что колхозы Надеждинской зоны выделились на весеннем севе организованностью работ и что и по животноводству, надоям молока, откорму свиней именно этим колхозам принадлежали лучшие показатели. Медведев припомнил Долгушину все его грехи, начиная с того дня, как тот впервые переступил порог директорского кабинета: и перерасход ремонтного фонда, и аварию с дизелем в мастерской, и зафиксированное актом пожарного инспектора нарушение правил складирования горючего, и незаконное израсходование денег МТС на покупку минеральных удобрений для колхозов, и выборы нового правления в «Рассвете». Особенно же навалился Медведев на Долгушина за то, что в зоне Надеждинской МТС было за время сева, как выявила специальная комиссия, больше всего случаев повторных перепашек.
— Дорого обойдется ваш хлеб государству, товарищ Долгушин, если будете дважды пахать каждый участок! — гремел Медведев с трибуны. — Вы там, в Надеждинке, к середине лета все годовые лимиты перерасходуете! В трубу вылетите!
По этому делу Долгушин давал объяснение Медведеву еще до пленума — почему в МТС так много случаев перепашек:
— Вы думаете, в прошлом году в Надеждинке меньше было брака на пахоте? В других МТС меньше брака, чем у нас? Не меньше. Но здесь сложились уже такие дурные традиции — не выносить сора из избы. Колхозный бригадир принимает плохую пахоту, не составляя актов на бракоделов, потому что, если он рассердит трактористов, те тоже предъявят ему счет: тогда-то простояли полдня без воды, тогда-то семян не подвез, тогда-то прицепщиков не дал. Круговая порука безответственности: ты меня не трожь, и я тебя не трону. Конфликты улаживались домашним путем: пол-литра с нарушителя агротехники, и все. Мы решили предать гласности такие факты. Колхозы не должны страдать от недобросовестности трактористов. Наша вина, нам и отвечать. Мы сами выводим на чистую воду бракоделов, и колхозы просим не жалеть их. Акты на перепашку подписывает наш главный агроном. Но нельзя же делать из этого вывод, что МТС стала хуже работать. Брака у нас сейчас не больше, чем было раньше, — меньше. Больше стало случаев выявления этого брака и наказания виновных. Но это же разные вещи!
Объяснение не удовлетворило Медведева, и на пленуме он целых двадцать минут говорил об этих перепашках.
— Так всякий сумеет получить высокую урожайность, если дважды пахать землю! Но сколько будет стоить нам этот урожай! Или вы привыкли, товарищ Долгушин, по своим московским масштабам, бросаться миллионами на ветер? Безобразие! Не работа, а сплошной брак! А на уборку будете просить добавочные лимиты горючего? Государство для вас — дойная корова?..
То, что долго нарывало, прорвало наконец на этом пленуме.
— Стриг черт свинью — визгу много, шерсти мало, — так начал свою речь в прениях рассвирепевший флегматик Глотов. — Как нам это надоело, товарищ Медведев! Крик, крик, крик: «Срывщики!», «Саботажники!» Получается, что вроде ты один в районе за Советскую власть, а мы все какие-то враги народа. Новый ты человек в районе, молодой секретарь, а за такую старину принимаешься, что нам, пожилым, она уже все печенки и селезенки проела! В тридцать седьмом году ты, видно, мальчишкой еще был, голубей гонял, но если б тогда уже был в силе, ого! — чего бы ты по тем временам натворил!.. Чего ты взъелся на товарища Долгушина? Человек работает во всю силу. Года еще нет, как он стал директором МТС, а уже мне, старому хлеборобу, есть чему у него поучиться! Цека отобрал таких людей нам в помощь. Рабочий класс шел навстречу деревне и в тридцатом году, и сейчас идет. Только тогда тот двадцатипятитысячник Давыдов простым слесарем был, а сейчас нам инженеров дают. Понять надо по-человечески: товарищу Долгушину нелегко было на шестом десятке ломать жизнь, привыкать к деревне после Москвы, переучиваться с металлурга на хлебороба. А как ты ему помогаешь, как поддерживаешь его настроение? Так поддерживаешь, что, был бы он послабее характером или из тех коммунистов, которым партбилет только для блага жизни нужен, давно бы уже под каким-нибудь предлогом удрал обратно в Москву! Вот он сейчас прослушал твой доклад, и вид у него такой, будто мыла наелся. И меня тоже что-то тошнит. Разве ж это руководство? Я просил тебя как-то: помоги нам перейти на круглогодовой ремонт тракторов, мы сами не можем решить этого дела, тут надо ломать порядок финансирования ремонта и снабжения нас запчастями. Что ты сделал? Поставил этот вопрос перед областью, министерством? Звонил куда, писал? Ничего не сделал! Ты даже боишься этот вопрос поднимать самостоятельно! А вдруг это какая-нибудь ересь — «круглогодовой ремонт»? Ты надсмотрщик и погоняло, вот кто ты есть, товарищ Медведев, а не руководитель, секретарь райкома!..
Руденко, тоже обозлившийся до предела, говорил:
— Брось эти методы, Василий Михайлович! До тебя тут уже кое-кто пытался такими методами районом управлять и доуправлялись до того, что вот пришлось нам, членам бюро райкома, идти председателями колхозов. Ты с Борзовым не знаком, с Виктором Семенычем, что был у нас тут четыре года секретарем райкома? Посмотреть на вас — вроде как ты его меньшой брат. Ежовые рукавицы и страх — это для нас не открытие, верно Глотов сказал. Другое требуется сейчас, товарищ Медведев: учить людей думать своей головой, воспитывать в них смелость, честность перед партией и своей совестью. А смелость не палкой воспитывается. Отстаешь ты от жизни! Как на охоте случается: по старому следу пошел. Не убьешь на этом следу зайца, след-то еще позавчерашний!..
Грибов говорил о работе на сводку, на рапорт:
— Вы назвали председателей колхозов вредителями, но больше всех вредите урожаю вы, товарищ Медведев! Дорого обходятся колхозам ваши фельдфебельские методы! Вот мы — я, Руденко, Плотников, Опёнкин — не испугались ваших угроз, сумели посеять все в свое время. А поезжайте теперь в те колхозы, где председатели не выдержали, посеяли кукурузу в холодную почву, — что там сейчас? Черное поле, стебелек от стебелька на десять метров, и всходов там уже не прибавится. И это все ради сводки, ради того, чтобы побыстрее отрапортовать об окончании сева, выслужиться. А теперь вы небось не показываете в отчетах эти погибшие посевы кукурузы? Площадь кукурузы, что вписана в сводку, ни в коем случае не должна сократиться! И не разрешаете колхозам пересевать погибшую кукурузу другими культурами. Заставляете эти лысины подсевать кукурузой же, вручную. Сколько это займет времени? Месяц будут еще колхозницы там ползать по рядкам! А когда эта кукуруза теперь взойдет? Что из нее получится? Вот где самое настоящее преступление! Вы своими «командами» погубили тысячи тонн урожая!..
— Один красивый рапорт о весеннем севе, — говорил Нечипуренко, — еще ничего не решает. Целое лето впереди! Да и рано посеять — это еще не значит хорошо посеять. Такие секретари райкомов, как ты, Василий Михайлович, заставляли председателей колхозов соревноваться — кто быстрее запряжет. Воспитывали лихачей, кучеров, а не хозяев! Кто наловчился быстро запрягать, с шиком подавать карету к крыльцу — тот и «передовик»! Но ведь гораздо важнее не то, кто как запрягает, а кто сколько потом грузу везет!..
Председатель райисполкома Митин сказал:
— Боюсь, Василий Михайлович, что мы останемся без помощников, если будем налегать исключительно на административные меры. Отступится народ от нас.
Борзова говорила:
— Вот вы, Василий Михайлович, делаете все то, что и товарищ Мартынов до вас делал: и совещание передовиков созывали, и собрание механизаторов, и партактив, а пользы от этих собраний — никакой! И доклад, и выступления — все как нужно, форма та же, а за душу никого не берет. Сидят люди и слушают: «вы должны», «вы обязаны», «надо мобилизоваться»… Лишь бы отчитаться перед обкомом, что провели такое-то количество совещаний. Если у вас нет вкуса к партийной работе, то лучше бы вам по-честному признаться, что вы это дело не любите. Может, вы больше пользы принесли бы на таком месте, где не с живыми людьми приходится иметь дело, а с какими-нибудь документами, архивами? А так же ведь нельзя: должность первого секретаря райкома партии любить, а партийную работу не любить.
Выступал и Опёнкин:
— Товарища Долгушина уважает народ. Он умеет работать с людьми, а у тебя, Василий Михайлович, такого уменья нет, в этом вся причина, потому ты и злобишься на него. Но нет! Такого директора мы тебе на расправу не дадим! Осень придет — урожай покажет его работу. Я многих директоров МТС перевидал на своем веку, это, может, первый настоящий директор, которого председатели колхозов и без приказа слушаются. Слушаются потому, что он, прежде чем нам чего-то предложить, и у нас совета спрашивает. Такие люди нам в районе нужны!..
До такой степени коммунистам было уже невмоготу — вспомнились и Борзов, и некоторые его предшественники, — так возмутил и разозлил всех «прокурорский», казенный (и угрозы даже читал по бумажке) доклад Медведева, что, когда заведующий отделом пропаганды райкома вышел с проектом решения, его сразу же остановили вопросами:
— Сколько страниц?
— То же самое, что и в докладе мы уже слышали?
— Нового ничего?
Поднялся Рыжков, секретарь партийной организации «Борьбы», бывший секретарь райкома комсомола, и предложил вместо этой заготовленной, видимо, Медведевым же резолюции принять другое, короткое решение: «Объявить секретарю Троицкого райкома партии товарищу Медведеву выговор за возрождение в районе борзовских методов руководства колхозами».
И за предложение Рыжкова проголосовали почти все члены райкома.
На третий день после пленума в райком приковылял на костыле выписавшийся из больницы Мартынов.
В жаркий полдень на улицах городка было пусто. У райкома Мартынов встретил Рыжкова с перевязанной щекой, приехавшего в Троицк рвать больной зуб.
— Что ж это вы, умники, натворили? — хмуро спросил его Мартынов. — Какой-то небывалый пленум. Таких решений по докладу секретаря о весеннем севе, вероятно, еще нигде не принимали.
— Да так как-то получилось, Петр Илларионыч, — смущенно оправдывался Рыжков. — Очень уж надоело нам все это!
— Решение, в общем-то, половинчатое, куцее решение, — пожал плечами Мартынов. — До конца всего не договорили… Вы подумали о том, что после такого случая ему невозможно здесь работать?
— Ничего мы не думали. Пусть теперь обком думает!.. А может, и думали, — хитровато подмигнул вдруг Мартынову Рыжков. — Вот это самое и думали: что теперь, после такого скандала, он у нас не останется!..
Медведева не было в райкоме — выехал куда-то. Не заходя в кабинет, Мартынов от Трубицына позвонил в обком. Там из секретарей он застал только Масленикова. Доложил, что выписался из больницы, что совсем уже здоров, немного только побаливает нога, но ходить на костыле и ездить в машине уже может, врачи разрешили. Спросил: приступать ли ему к работе в райкоме или, может быть, есть уже какое-то другое решение?
Маслеников ответил, что никакого другого решения пока нет, что, если здоровье ему позволяет, надо начинать работать, оформив свое возвращение на пост первого секретаря через бюро райкома.
— Давай, давай приступай! — повысил голос Маслеников, сразу беря деловой тон в разговоре уже не с больным человеком, а с возвращающимся к своим обязанностям секретарем райкома. — Нажми на молоко! С четвертого места на девятое съехал район за последние пятидневки. Лукашевцы вас обогнали. Позор! С ремонтом комбайнов у вас неважно. Там у вас Долгушин все мудрит, на качество ссылается, будто мы не требуем хорошего качества ремонта! Само собою разумеется, что надо ремонтировать и быстро и хорошо! Да разберись в ближайшие дни, товарищ Мартынов, кто там у вас партийную организацию баламутит? Что это за дикий случай на пленуме райкома? Как можно без согласования с обкомом допускать такие вещи? Кто выносил это предложение? Кто голосовал? Какой-то цирк устроили! Безобразие! Мальчишество! Мы думали, что у нас в Троицке зрелая партийная организация! Хоть это случилось и в твое отсутствие, но с тебя ответственность не снимается! Твое воспитание!..
— Разберемся, Дмитрий Николаевич, — ответил ему Мартынов. — Много тут, кажется, накопилось такого, что придется как следует разобраться. А насчет воспитания не торопитесь меня ругать. Надо еще посмотреть — за что же ругать? Когда коммунисты выступают так, как на этом пленуме выступали, критикуют секретаря, о котором в обкоме еще не предрешен вопрос, не боятся, что им худо будет, если он останется на месте, не дрожат, в общем, за свою шкуру, — я думаю, это неплохое воспитание. Во всяком случае, я доволен, если тут есть результат и моей работы.
Так соскучился Мартынов в больнице по степному приволью, солнцу, людям, что в первые дни, не засиживаясь в райкоме, почти не заглядывая в свой кабинет, все ездил в колхозы, на поля. А в полях было хорошо! В начале весны обстановка складывалась тяжело, большая часть озимых погибла от февральской гололедицы, но их пересеяли, быстро и хорошими культурами, яровой пшеницей, ячменем; шли дожди, дули влажные, мягкие западные ветры, и сейчас яровые почти догоняли в росте озимую пшеницу на уцелевших участках. Хороши были всходы сахарной свеклы. Заметно бросалась в глаза всюду лучшая обработка почвы против прошлых лет, особенно на массиве Надеждинской МТС. Можно было ожидать неплохого урожая.
Прихватив в новый вездеход Долгушина, который остался без колес, так как старый его «газик» окончательно рассыпался, а областное Управление сельского хозяйства, в наказание «за непочитание родителей», не торопилось дать ему новую машину, Мартынов ехал по полям колхоза «Вехи коммунизма».
— Завернем к нашему главному инженеру? — спросил Долгушин.
— Это куда же?
— В тракторную бригаду, к Андрею Ильичу Савченко. Помните такого человека?
— Бригадира? Как же, помню. Давайте завернем. А почему вы называете его главным инженером?
— Потом расскажу.
На бригадном стане было тихо и малолюдно. Один трактор стоял разобранный — какие-то части с него увезли в мастерскую для ремонта, — кухарка у костра чистила картошку, два тракториста окапывали землею бак для горючего, в вагончике сидели бригадир Савченко и председатель колхоза Руденко, и между ними шел спор не спор — крупный разговор.
Поздоровались. Савченко продолжал горячо доказывать председателю:
— Разве ж это работа? Два трактора пашут пар на Лужках, за три километра отсюда, один свеклу мотыжит в пятой бригаде, черт-те где, за пять километров, два кукурузу культивируют в разных местах, а лесом и вон там, возле Сейма, а к вечеру им придется переезжать на ту кукурузу, что на прифермском участке. И свекла у нас в пяти местах, и пар клочками по всем полям. Где бы я ни стал вагоном, все равно не соберешь машины в кучу. Кухарка понесет обед трактористам — пятнадцать километров избегает по полям со своими кастрюлями! Вот вам тут все — и экономия горючего, и техобслуживание!
— О чем разговор? — спросил Мартынов.
— Все о. том же, Петр Илларионыч, — ответил Руденко. — О севооборотах.
— Если мы не наведем порядка на полях, — сердито говорил Савченко, — тогда покупайте мне вертолет, чтоб я успел за сутки побывать возле всех машин!
— А почему же ты, Андрей Ильич, — заметил Долгушин, — ничего не говоришь о засоренности почвы, о разрушении структуры? Разве только в том беда, что тебе и кухарке далеко бегать от трактора к трактору? Учу и учить буду всех вас, работников МТС: не отрывайте наших механизаторских забот и печалей от урожая!
— Так это, я считаю, всем ясно, что без правильного севооборота мы и урожая хорошего не получим! — сказал Савченко. — Что говорить, вот на моих глазах, за то время, что работаю в Надеждинской МТС, земля стала хуже родить. Раньше тут у стариков была поговорка: «Два дождя в маю;´ — и на агротехнику наплюю!» А теперь, я замечаю, эта поговорка уже недействительная. Мало двух дождей в мае месяце. Пусть даже весь май льют дожди, а если в июне засуха, хлеба не будет. Озимые, может, выйдут, а яровые погорят. Земля стала неструктурной, комочков нет, распыленная, как зола, не держит влагу. На такую землю чуть не каждый день нужен дождь и в мае и в июне — тогда только будет хороший урожай.
— Прав Савченко, и вы правы, Христофор Данилыч, — соглашался Руденко. — Без севооборотов мы допашемся до ручки! Знаешь, Илларионыч, как тут пахали, сеяли? Уборка срывается, какие-то культуры еще не убраны, а надо уже озимую сеять. Выбирают свободные участки и сеют где попало. Так же и под зябь пахали. Где чистая стерня, свезли солому — там пашут, где не свезли — там бросают. А потом весною, которые культуры поценнее, те размещают по зяби, что второстепенное — по весновспашке. Я в ужас пришел, когда наша агрономша еще зимою составила карту полей. Восемьдесят семь участков! И квадратами, и клиньями, и кругами, и гитарами, и балалайками! Укрупняли колхозы, чтоб увеличить и земельные массивы, чтоб был простор машинам, а тут размельчили участки и совершенно уничтожили севообороты! Что же это получается?
— Что получается? — усмехнулся Мартынов. — Об этом ты, Фомич, спроси бывшего председателя Троицкого райисполкома товарища Руденко, у которого, кстати, был и районный отдел сельского хозяйства с огромным аппаратом специалистов.
— А этих специалистов, — взвился Руденко, — не спрашиваясь товарища Руденко, товарищ Борзов посылал уполномоченными в колхозы! Что мог сделать районный землеустроитель, если он все лето сидел уполномоченным в одном колхозе? Да и вообще тогда не очень-то считались с райисполкомом и с его специалистами, нет, давай уж о прошлом не вспоминать, а то много насчитаем виноватых!..
Мартынов увидел в вагончике на полке книги, поднялся, поглядел на корешки. Среди брошюр по сельскому хозяйству и художественной литературы отдельной стопкой были сложены учебники для старших классов средней школы.
— Кто это у вас в школу ходит? — спросил он у Савченко. — У вас же в Надеждинке нет вечерней средней школы. Да и занятия уже всюду закончились.
Савченко замялся.
— Да это так… Для повторения. Когда свободное время есть…
Руденко стал рассказывать Мартынову о делах в колхозе:
— Все оказалось гораздо труднее, чем представлялось мне, когда я шел в колхоз. Помнишь наши речи на том партактиве? «Сделаем своими руками!» Одних благих намерений мало, чтобы поднять хозяйство, когда приходишь на пустые амбары и пустую кассу. Ведь я же, кроме долгов, ничего не принял от Гусельникова. Колхозники-то мне верили, что я пришел сюда работать, не мух ловить, но все же присматривались: а как он сумеет в таком положении обернуться?.. Обернулся. Теперь уже легче. Скоро урожай начнем убирать, уже видим его. Свинины продали на восемьдесят тысяч и еще пятьдесят голов на откорме. За свеклу получаем уже по контрактации. Начиная с марта авансы даем по два рубля. Но чего мне это стоило! — Руденко снял кепку, потеребил свои рыжие волосы, покрывшиеся каким-то странным пепельным налетом, будто ему припудрили голову — потускнело золото. — Видишь? Седеть начал. Это все за прошлую зиму…
Страшно было, Илларионыч, — говорил Руденко. — Боялся позора. Вдруг сорвусь? Здоровый мужик, сорока пяти лет, с большим опытом руководящей работы — и не справлюсь с колхозом?.. А пуще всего жены боялся, Варвары Федоровны. От колхозников, в случае чего, можно удрать, скрыться с глаз, и из района можно, на худой конец, уехать. На Камчатку можно завербоваться, где тебя еще не знают. Но от жены-то никуда не скроешься! А она у меня такая — уважает меня, пока есть за что. А случись, выгонят из колхоза, она же меня и за мужа не признает! Скажет: «Никчемный ты человек! Речи только произносил, других учил, а сам работать не умеешь. Болтун! Коробкин ты!»… Стал я осматривать хозяйство после того, как выбрали меня председателем. Пошел на птичник. Штук пятьсот кур было там. Прихожу, смотрю: стоит возле птичника что-то похожее на лошадь, скелет в коже. Стоит, расставив ноги, от ветру качается, но не падает. Должно быть, ноги закостенели на морозе так, что и упасть уже не может. Спрашиваю девчат-птичниц: «Что это у вас такое?» Они замялись. «Да вот дали нам еще при старом председателе на птичню лошадь». — «Для чего дали?» — «Воду возить, корма». Обошел я этот экспонат со всех сторон, посмотрел — почти уже и не дышит, по глазам только можно заметить, что живая лошадь, чуть мигает веками. «Ой, врете, говорю, девчата! Что на ней можно возить? А где же ваша сбруя, повозка?» Признались они. Дали им эту выбракованную лошадь, чтоб они ее убили — у них и ружье было на птичнике — и сварили мясо для кур, а им страшно ее убивать, ждут, пока сама издохнет. Две недели уже не кормят и не поят ее, а она все стоит. Пристрелил я ее. Спрашиваю: «А еще какие корма есть?» — «Да вот там привезли с мельницы два мешка отходов — одна пыль». Вот, думаю, так мы, районные организации, и планировали развитие подсобных отраслей в колхозах! Обязательно имей птицеферму на столько-то кур! А чем кормить? Потом посмотрел поголовье свиней. Страшные были свиньи! Зайдешь в свинарник — мечутся, голодные, как тигры в клетках. Станут на задние ноги, положат рыла на дверцы и орут. Того и гляди какая-нибудь за ухо тебя хватит! Сделали мы расчет, каких маток оставить на племя, сколько молодняка сберечь для роста поголовья, а сколько можно сейчас откормить и продать, чтоб и госпоставки покрыть, и на базаре, может, поторговать. Отобрали группу. А кормов у нас уже немножко завелось. Вот Христофор Данилыч помог, навозил нам эмтээсовскими машинами жома с сахзавода, выпросили у Опёнкина заимообразно сто центнеров ячменя. Золотухин пообещал нам картошки до нового урожая. Стали кормить свиней. И тут вдруг среди зимы ураганом сорвало крышу с свинарника. Там и крыша была вся в дырьях, гнилые стропила того и гляди рухнут, а тут совсем снесло, начисто. Вот в ту ночь-то мне и посыпало голову пеплом. Снег валит, морозы тридцать градусов, а свиньи под открытым небом. Законно ли, незаконно сделали мы, не знаю, но другого выхода не было: роздали свиней для откорма колхозникам по дворам. Вот тебе три головы, вот корма по нашей норме, чего не хватает — добавь, откормишь до такого-то веса — получай себе одну свинью, а две в колхоз. Больше, конечно, мы так делать не будем, но что можно было другого придумать? За трудодни никто не соглашался кормить, потеряли люди веру в трудодень. Пришлось заплатить свининой. Все же сорок голов откормили до хорошей кондиции, отвезли на поставки и на рынок. Потом продали «Победу» — те деньги пошли на детясли. На молочной ферме стали наводить порядок, послали туда заведующим хорошего парня, комсомольца. От молока появились деньжата. Прошлогоднюю коноплю довели до ума, продали хоть не первым сортом, но все же — деньги. Покопался в бухгалтерии — обнаружил дебиторов; тот должен колхозу за работу наших людей на элеваторе, тот сено для своей организации косил на наших лугах. Ну-ка, друзья, платите, не доводите дело до суда. Так и пошло и пошло. И крупные суммы, и по мелочам. Теперь уж редкий день обходится, чтоб не было поступлений в кассу. Можно уже как-то дышать. Иной раз даже и не поймешь, откуда берутся деньги. Капают и капают!..
Руденко в этом месте своего рассказа помог словам выразительным жестом.
— Раньше было здесь в хозяйстве вот так, — он развел руками в стороны, — а сейчас у нас пошло вот так, — сделал руками широкое обратное собирательное движение.
— Ясно, — кивнул головой Мартынов. — Бухгалтерия простая и понятная.
— Но знаешь, Илларионыч, — продолжал Руденко, — вот только теперь, когда сам снизу все просмотрел, вижу я, как много трудностей у председателя колхоза! И не только в безденежном колхозе. Мы же никогда не спрашивали у председателя, как он сумеет построить или приобрести что-либо. Сделай, и все! Ну, теперь я узнал, как это — «сделай»!.. Мы совсем забыли простое, благородное слово: «купил». Только и слышно «достал», «добыл», «вырвал», «отхватил». Такой-то колхоз достал, говорят, запчасти для жнеек. Что это значит — «достал»? Неужели мы в нашей богатой стране не можем как следует организовать торговлю хозяйственными товарами для колхозов? За каждой чепухой гони машину в облсельхозснаб! Да и там никогда ничего не захватишь. Надо, чтобы в каждом районном центре был хороший магазин, где бы продавали колхозам всё — от конных жнеек, сепараторов, телег, хомутов до камер и покрышек на машины и кровельных гвоздей. Свободная торговля, без разнарядок и без блата! Никак не могу я согласиться с тем, что у нас нельзя организовать широкую продажу колхозам хозяйственных товаров! Привыкли валить все на «нехватку» и валим вот уже сколько лет! Взять хотя бы автотранспорт. Ведь как-никак все же не стоят в колхозах машины без колес, ездят. Но в «снабах» наших никогда не купишь по-честному резины. Откуда же она «добывается»? Есть, стало быть, в натуре эта резина? Есть. И подшипники есть, и горючее, и мешковина, и кабель для электропроводки. И все это в конце концов доходит до потребителя. Но только по каким каналам!..
— Ты знаешь, Иван Фомич, я уже устал писать письма по таким вопросам, — сказал Мартынов. — Ты сам человек грамотный. Пиши, брат! Пиши в «Сельское хозяйство», в «Правду». Не носи эти мысли за пазухой.
Когда собрались уже ехать дальше и вышли из вагончика, Мартынов взял Руденко под руку и отвел его немного в сторону.
— Ну, а все же, как настроение, Фомич?..
— Настроение?.. — Руденко посмотрел по сторонам на поля, на село за Сеймом, на тракторный вагон, поскреб небритый подбородок. — Да вот уж я теперь убедился, что за год можно только фундамент заложить. Если получим нынче хороший урожай и выдадим прилично на трудодни, это не все. Все самые знаменитые колхозы, что гремят по Советскому Союзу, это те, где председатели по пятнадцать — двадцать лет работают. И Демьян во «Власти Советов» двенадцатый год уже трудится… Строиться буду, Илларионыч! — решительно сказал Руденко. — Беру кредит и этим летом начну строить себе дом в колхозе. Вот мое настроение и мои планы. Брехуном перед партией никогда не был. Не для того я шел в колхоз, чтоб только сдвигов добиться. Неужели моя голова не сработает за другие председательские головы? И у меня она ведь не соломой набита… Сейчас вызывать «Власть Советов» еще рановато, это было бы нахальством с нашей стороны, посмеются только люди. Но с будущего года начну соревноваться с Опёнкиным.
Беседуя с Руденко, Мартынов краем уха слышал обрывки разговора Долгушина с бригадиром Савченко:
— …Заело на прогрессиях, Христофор Данилыч! Решаю задачки — не выходят.
— Я и сам-то их уже нетвердо помню, эти прогрессии. Прочитай еще раз учебник.
— … Трудно, Христофор Данилыч! Редкий день выберется час-два свободного времени.
— Отпуск дадим, я уже тебе говорил!..
По пути в следующий колхоз Мартынов спросил Долгушина:
— О каких это прогрессиях вы толковали с Савченко?
— А вот это и есть, Петр Илларионыч, наш будущий главный инженер! — сказал Долгушин. — Никому пока не говорю и ему не говорю ничего, но готовлю его на эту должность. Вы хорошо знаете Савченко?
— Знаю, как одного из бригадиров. В прошлые годы он ничем особенным в Надеждинке не выделялся.
— Да, человек он незаметный, в глаза не бросается… Знаете, чем он меня заинтересовал еще зимою, на ремонте? Сумел так наладить уход за машинами и профилактику в своей бригаде, что когда пригнали в мастерскую его тракторы и осмотрели, оказалось — ни одна машина не нуждается в капитальном ремонте. Рекордами он не гремел, да и в колхозе было такое положение, что трактористы сами и свеклу убирали, и семена чистили. Но по экономии запасных частей, по расходу горючего, по сменной выработке — это лучшая бригада в МТС. У Савченко себестоимость гектара пахоты в два раза ниже нашей средней себестоимости. Вот вам и незаметный! Прекрасно знает машины всех марок, любит технику. Капитан запаса. В последние месяцы войны командовал батальоном. И образование у него, если посчитать все: и семилетку, и школу лейтенантов, и военно-технические курсы, — почти среднее. Вот я насел на него, чтобы он сдал экстерном за десятилетку. Изыщу возможности предоставить ему для подготовки отпуск месяца на два. И потом определим его на заочное отделение института механизации сельского хозяйства. Время сейчас такое, что без диплома его не утвердят в должности главного инженера. Но если он будет студентом-заочником, то уже есть шансы. Да если еще вы поддержите нас перед областью…
— Я пока еще не знаю, за что нужно снимать вашего нынешнего главного инженера, — сухо заметил Мартынов. — Со мною никто об этом не советовался.
— Зачем снимать? Он ведь временно исполняет обязанности главного инженера. Заведовал ремонтной мастерской, туда и вернется. Уверяю вас, Петр Илларионыч, с Савченко мы не ошибемся. У него необычайные способности в механике. Послушает пять минут чужую, незнакомую ему машину — и можете смело по его заключению составлять дефектную ведомость. Кроме всего, он просто хороший человек. А мы на эту сторону дела как-то мало обращаем внимания, когда выдвигаем кого-либо на руководящую работу. Я знаю его семью, жену, детей, старика отца, которого мы помогли ему перевезти из Челябинска. Хороший, добрый сын и любящий, строгий отец. Главный инженер в МТС — большая фигура. Не только с моторами имеет он дело — с людьми. Если он сам порядочный человек — и на производстве, и в домашней жизни, — ему и других легче воспитывать… Может быть, это старое мое заблуждение, но я никак не могу согласиться, что мы, хозяйственники, должны заниматься только центнерами, кубометрами, запчастями, неодушевленными, в общем, предметами, а в воспитании наших подчиненных можем целиком положиться на партийные органы: это, мол, за нас сделают другие товарищи. А если в этом партийном органе люди занимаются тоже только центнерами и кубометрами?..
В «Борьбе» секретарь парторганизации Рыжков, после разговора о хозяйственных делах, шутливо приложил руку к козырьку кепки: «Товарищ секретарь райкома, разрешите обратиться к директору МТС?» — и начал спрашивать у Долгушина совета, как лучше им организовать в колхозе работу учеников старших классов в летнее время — создать особые бригады школьников или влить их в колхозные производственные бригады? И как быть, если некоторые ученики, с расчетом выбора будущей профессии, захотят работать не в полеводческих бригадах, а на фермах? Ведь там штаты постоянные и лишних работ нет. Нельзя ли учеников брать на фермы подсменными? В полеводческих бригадах как дождь, так люди отдыхают, общий выходной, и зимою у всех достаточно свободного времени, а на животноводстве работа круглогодовая, ни в дождь, ни в снег перебоя нет, пора подумать о регулярных выходных для всех работников животноводства. Вот в летнее время можно подменять школьниками то ту, то другую доярку или свинарку. И для штатных животноводов облегчение, и для молодежи это будет как бы стажировка.
Председателю колхоза Нечипуренко, присутствовавшему при этом разговоре, стало неловко за Мартынова, и он сделал замечание Рыжкову:
— Что ж ты, Василий, при живом секретаре райкома обращаешься с таким делом к товарищу Долгушину?
Но Мартынов сделал вид, что бестактность Рыжкова его нисколько не обидела.
— Вот еще, субординацию какую-то выдумали. Мы не в армии.
А в «Рассвете» сам Мартынов с большим интересом слушал, как Долгушин рассказывал председателю колхоза Филиппу Касьянычу Артюхину о постановке экономического учета в промышленности, подводя речь к тому, что и в колхозах невредно было бы заняться наконец подсчетом прибылей и убытков и себестоимости продукции.
— Вот Золотухин в «Спартаке», — говорил Долгушин, — как будто способный хозяйственник. Даже слишком способный — до сих пор не может согласиться, что ему правильно объявили на партийном собрании строгий выговор за барышничество. Но вот и он, при всей его изворотливости, ведет хозяйство вслепую, а в цифры вникать не любит. Наш инструктор-бухгалтер поработал у них в колхозе две недели, и там выяснилось много интереснейших вещей. Племенная конеферма, например, которой так гордился Золотухин, в течение ряда лет, кроме похвальных грамот с выставок да убытков, ничего им не дает. Видимо, коневодство выгодно лишь в больших размерах, а держать маленькую ферму, вроде любительской, нет никакого смысла. Овцы тоже не дают им дохода. Кончать надо с этой старой крестьянской привычкой — не считать, во что обходится вырастить овцу или получить ведро молока! Что, мол, считать эту солому, сено — не купленное, свое! Да, свое, и труд колхозников свой, но это же «свое», если его повернуть на другое дело, может быть, даст колхозу куда больше дохода?.. Вы, Филипп Касьяныч, всего лишь два месяца как выбраны председателем, только начинаете хозяйствовать. Так давайте сразу отказываться от кустарщины и ставить дело на научную ногу. Я пришлю и к вам нашего бухгалтера. Пусть вместе с вашими счетоводами выявит себестоимость каждого вида колхозной продукции. Это для начала, чтоб у вас была полная картина состояния хозяйства. А потом вместе подумаем, на что приналечь, какие стороны хозяйства двинуть вперед. И как те отрасли, которые нужно сохранить, из убыточных сделать доходными. Я, занимаясь колхозными балансами, выяснил для себя еще одну примечательную вещь. Чем крупнее животноводство в колхозе, тем дешевле себестоимость продукции. Это лишний раз доказывает, что нам нужны в колхозах большие фермы. Совсем необязательно иметь в каждом колхозе фермы всех видов животных, от кроликов до орловских рысаков. Не надо распылять силы. Если разводить в колхозе птицу, то это должна быть действительно птицефабрика, а не каких-то жалких три сотни кур — только для отчета, что есть птицеферма. Пятьдесят коров в крупном колхозе — это декоративное стадо, а не промышленное. Очень дорого обойдется колхозу молоко, пусть даже по три тысячи литров даст каждая корова. А пятьсот коров — это деньги!
— Ну конечно, — согласился Артюхин, — пятьсот коров дадут больше дохода, чем пятьдесят.
— Нет, Филипп Касьяныч, вы поймите меня правильно, — доказывал Долгушин. — Здесь доход возрастает не в простой пропорции. Пятьсот коров дадут дохода больше, чем пятьдесят, не в десять раз, а раз в двадцать! В крупном животноводстве больше условий для механизации — значит, меньше людей будет занято на уходе за скотом. Гораздо дешевле обойдется строительство водокачек, силосных траншей да и самих коровников — в расчете на одну голову. Если бы речь шла только о том, что две коровы дадут молока больше, чем одна, то нечего и доказывать, это всем ясно. Две коровы дадут больше молока, чем одна — и себестоимость молока будет ниже! Вот в чем дело! Тут-то и начинается прибыльное ведение хозяйства!
— Дошло, Христофор Данилыч, — кивнул головой Артюхин. — Я читал в книжке, что в Америке если уж мясное животноводство — так мясное, если молочное — так молочное. Имеет фермер, скажем, триста голов мясного скота — и ни одной молочной коровы. Ему выгоднее для своего питания купить пять литров молока в магазине, чем тратить время на дойку коровы.
— Да. И учтите, что это молоко привезено в магазин не его соседями. Все фермеры в округе ведут так хозяйство. Ни у кого не найдешь ни стакана собственного молока. Оно попало в магазин откуда-то издалека. Вот это и называется специализацией сельского хозяйства. Мы не можем в такой степени специализировать свое хозяйство, нам не так легко перебрасывать скоропортящиеся продукты из одного конца страны в другой, как это делают американцы при их дорогах и транспорте. Но все же надо бы и нам придерживаться правила: лучше меньше всяких ферм в колхозе, да покрупнее. Это как поточное производство в промышленности. Только поток дает самую низкую себестоимость!
Старик Артюхин и Мартынов были еще мало знакомы. А у Долгушина с Артюхиным, как заметил Мартынов, установились уже близкие отношения. Рассказывая о своих хозяйственных начинаниях, о трудностях, с которыми он встретился, о людях колхоза, Артюхин обращался больше к Долгушину, как к человеку, который хорошо знал, что было здесь в колхозе раньше, и сам, собственно, был виновником происшедших перемен. Минутами, увлекшись разговором, оба забывали о третьем собеседнике.
Подошел Зеленский, новый секретарь колхозной парторганизации, стал рассказывать о последнем партийном собрании, на котором приняли в партию еще двух рядовых колхозников, и тоже больше рассказывал Долгушину, главному как бы для него авторитету в решении вопросов колхозной жизни, работы с людьми.
Мартынову вдруг стало не по себе. Под предлогом, что у него сильно разболелась голова и ему надо минут десять подремать в тишине, он пошел, ковыляя костылем, к машине, сел на заднее сиденье в угол, привалившись плечом к борту, и так и сидел целый час, молча, закрыв глаза, не перекинувшись ни словом с шофером, пока Долгушин вышел из конторы.
Поехали на поле к свекловичницам. И там Долгушина встречали в каждом звене как старого знакомого. К нему обращались и за советами по агротехнике — правильно ли агроном предложил им такую-то смесь удобрений вместо такой-то для подкормки, — и за разъяснениями по поводу нового закона о поставках, и со всякими бытовыми нуждами. Одна колхозница, отведя его в сторону, долго рассказывала о своих домашних неурядицах и просила его, чтобы он как-нибудь заехал к ним, поговорил с дочкой, образумил ее: влюбилась в пьяницу и развратника, который на пятнадцать лет старше ее, двух жен уже бросил, за трех детей алименты платит! Хочет выходить за него замуж. Что это за жизнь будет у нее? Сама, дура девка, лезет в петлю.
Долгушин по крайней мере половину встречавшихся в поле женщин называл без особого напряжения памяти по имени, а то и по имени-отчеству.
— Завидую вам, Христофор Данилыч! — сказал Мартынов, когда они поехали дальше, уже к повороту на надеждинский грейдер. — Как вы натренировали память! Вероятно, знакомы с какой-то особой системой мнемоники?
— Нет, никаких систем мнемоники я не знаю, — ответил Долгушин. — Просто записывал в тетрадку, кого как зовут, наших трактористов, звеньевых, доярок. Я и сейчас ее с собой вожу, — Долгушин похлопал по внутреннему карману пиджака, — но уже не так часто в нее заглядываю. Припомнишь, при каких обстоятельствах встречался с человеком, в каком колхозе, его наружность, как он работает, какое-то словечко, что он сказал тебе, — и тут само встает в памяти и его имя. Это, знаете, очень хорошо действует на колхозников, когда называешь их по имени-отчеству. К ним — уважительно, и они к тебе так же.
— А почему вы, Христофор Данилыч, не перевозите семью из Москвы? — спросил вдруг Мартынов. — Вот это-то нехорошо действует на людей! Плотников и Сазонов, оказывается, тоже до сих пор не перевезли свои семьи из Троицка — по вашему примеру. На первом же бюро поставим вопрос о них! Но надо полагать, что разговор зайдет и о вас.
— Почему не перевожу семью из Москвы? — удивился Долгушин. — Видите ли, мне очень трудно собрать свою семью даже в Москву, не говоря уже о переселении всех в Надеждинку… Один сын у меня майор, служит на иранской границе, другой — дипломат, в Индии. Дочь на Дальнем Востоке, замужем за судовым механиком. Осталась только жена. Вчера получил от нее письмо — грузит вещи малой скоростью и на днях выезжает ко мне.
— Простите, я не знал, какая у вас семья, — пробормотал Мартынов. — Если дети живут самостоятельно, то конечно…
И еще, после долгой паузы, Мартынов спросил Долгушина:
— Все-таки хотите строиться в Надеждинке?
— Не только хочу, а уже сельсовет дал усадьбу, и мне туда привезли лес и кирпич. На днях начнут класть фундамент. Думаю к зиме справить новоселье, — ответил Долгушин.
— Не советую, — сказал Мартынов.
— Почему? — возразил Долгушин. — Мне ведь тоже хочется как-то уютнее обосноваться. Не жить же все время на квартире. Жена моя очень любит возиться с цветами, с огородом… Думаете, будут разговоры? Я уже это предвидел и во избежание всяких кляуз даже машины для перевозки стройматериалов брал не в МТС, а в автоколонне. И рабочих беру на стороне.
— Дело не в кляузах…
— А в чем же?
Мартынов так долго молчал после каждой фразы, как будто ему очень трудно было продолжать начатый разговор.
— Руденко я посоветовал строить себе дом в «Вехах коммунизма». Это его место. Ему, может быть, действительно придется там поработать лет десять… А вам не рекомендую затевать стройку в Надеждинке. Ваше положение там не прочно.
— Выгонят-таки?..
— Не выгонят, а выдвинут. Наши коммунисты выдвинут… Вот будет у нас через месяц районная партийная конференция, меня, как слабого работника, освободят, а вас изберут секретарем райкома.
— Шутите, Петр Илларионыч? — Долгушин с любопытством поглядел на Мартынова.
— Какие шутки!..
Долгушин спокойным, ровным голосом стал говорить, положив руку на спинку переднего сиденья и загибая пальцы:
— Во-первых, это чепуха. Какой вы — слабый работник? Дай бог, чтобы все секретари райкомов у нас были такими слабыми! Кого прокатят на конференции на вороных, так это, возможно, Медведева. Во-вторых, я достаточно знаю порядок выборов наших партийных органов, чтобы не бояться никаких случайностей по отношению к своей персоне. Прокатить кого-либо «случайно» на конференции еще могут, но выбрать секретаря без рекомендации, сверху — вряд ли. А мнение обо мне сложилось в области такое, что можно не ждать подобных рекомендаций. В-третьих, я приехал сюда не для того, чтобы меня перебрасывали, как мячик, с места на место. Я и года еще не поработал в МТС. В-четвертых, я хозяйственник и никогда не был…
— А в-пятых, поживем — увидим! — оборвал его почти грубо Мартынов.
Долгушин, поняв, что Мартынов чего-то нервничает, пожал плечами и замолчал.
Совместная поездка в колхозы и этот разговор не сблизили Мартынова с Долгушиным. Встречаясь, они всякий раз чувствовали какую-то неловкость, будто были в чем-то виноваты друг перед другом. Долгушину казалось, что Мартынов действительно боится критики на предстоящей партийной конференции и какой-либо неожиданности при выборах. А Мартынов очень жалел, что дал повод Долгушину для таких подозрений. Чтобы поправить дело, он сказал однажды Долгушину:
— Сам буду агитировать, Христофор Данилыч, за вашу кандидатуру.
— Ей-богу, не пойму вас, Петр Илларионыч, шутите вы или всерьез говорите? — Долгушин в недоумении развел руками. — Если не шутите, то еще хуже! Тогда это просто никчемный и пустой разговор. Взбрело ему в голову, что он плохой секретарь райкома! Ребячество какое-то!
— Отнюдь — плод размышлений зрелого мужа, не ребенка. — Мартынов выжал на своем похудевшем лице улыбку. — Весьма долгих размышлений.
— Вы плохо выглядите, Петр Илларионыч, у вас нездоровый вид. Вам надо было после больницы поехать на курорт, еще подлечиться, а не приступать сразу к работе.
— Наоборот, я чувствую себя сейчас, как никогда, способным горы свернуть!
— Так в чем же дело?..
— Вы знаете, что такое гамбургский счет?
— Что-то смутно помню. Где-то читал.
— В старое время у борцов был обычай — раз в несколько лет съезжаться в Гамбург и бороться без публики, при закрытых дверях, просто так, для себя, для души, чтобы узнать, кто же из них действительно сильнее.
— Еще что скажете?.. Ну, я старше вас по партийному стажу, по житейскому опыту, но что из этого? Какой я секретарь райкома? Загляните в мою анкету. Я нигде никогда не был на партийной работе. Даже секретарем первичной парторганизации не был.
— А разве нам в наших выборных партийных органах нужны какие-то особые запатентованные специалисты по партийной работе? И должна ли быть вообще такая специализация? Ведь сами коммунисты выбирают свое партийное руководство. А вдруг на сей раз не выберут этакого «специалиста»? А он ничего больше другого делать не умеет? Вы думали когда-нибудь об этом, Христофор Данилыч? Или вы не имели за последнее время свободных дней и ночей для раздумья, как я в больнице?..
Мартынов послал в обком первому секретарю письмо с просьбой назначить ему день для приезда и разговора по неотложным делам. Через несколько дней Крылов вызвал его телеграммой.
В этот приезд секретарь обкома Алексей Петрович Крылов показался Мартынову не то несколько отяжелевшим, не то каким-то более суровым и официальным, чем был он раньше. И вообще за те месяцев пять, что Мартынов не видел его, Крылов заметно постарел, как-то поблек, обрюзг. Он болел зимою, плохо было с сердцем, и врачи запретили ему временно любимый его вид отдыха — охоту и рыбную ловлю. В каком-то месте разговора Крылов поднялся из-за стола, прошел по кабинету, остановился возле календаря, посмотрел на него, пробормотал: «Суббота сегодня», — и тяжело вздохнул. В глазах его на минуту появилось выражение скуки и усталости. «Тоскует по своим озерам и лесным трущобам», — подумал Мартынов.
Но, кроме всего, Мартынов заметил, что Крылов стал каким-то успокоившимся или ищущим спокойствия.
— Мы дождались прекрасных решений по сельскому хозяйству — того, о чем мы с тобой, товарищ Мартынов, могли лишь мечтать несколько лет назад, — говорил Крылов. — Одно снижение налогов и поставок с колхозников чего стоит! Мы боялись об этом и заикнуться, а правительство и без наших ходатайств пошло на этот шаг. А какие решения о кадрах, о материальном и техническом снабжении! Ты можешь думать обо мне, что я заболел казенным оптимизмом, но, право же, у нас сейчас есть все основания смотреть на жизнь куда веселее!
— А я никогда не смотрел на жизнь мрачно, — вставил Мартынов.
— Я недоволен нашей печатью, — продолжал Крылов. — Разворачиваешь номер областной газеты — материал на три четверти критический. Там недостатки, там непорядки, там преступления. Нельзя же так односторонне освещать жизнь. Да, скажем прямо, до сентябрьского Пленума трудно было найти в деревне хорошие образцы и партийной работы, и хозяйственного руководства. Но с тех пор прошло уже немало времени. Уже есть большие сдвиги. Сейчас нам надо уже не столько бичевать недостатки, сколько утверждать то новое, хорошее, что появилось у нас!
— Я знаю по своей газетной практике, Алексей Петрович, — сказал Мартынов, — что очень трудно отделить одно от другого — бичевание недостатков от утверждения хорошего. Это взаимосвязано. Мне, например, никогда не удавалось написать статью о чем-нибудь хорошем, чтобы тут же не разозлиться на плохое.
Мартынов повел глазами по сторонам, осматривая кабинет первого секретаря обкома, в котором ему не так уж часто приходилось бывать — за время работы в Троицке всего лишь третий раз сидел он здесь. Полуспущенные голубые шелковые шторы задерживали бьющие прямо в окна солнечные лучи, мягко рассеивали свет. Огромный, чуть не на весь кабинет, толстый ковер приятно пружинил под ногами — будто почва на старом высохшем торфянике. В углу медленно, с чуть слышным тиканьем ворочался под стеклом футляра-шкафа бронзовый маятник больших часов. Тихо журчали два вентилятора: один на сейфе, другой на столе. Но кроме них, видимо, еще какие-то электрические приборы охлаждали воздух — в кабинете было прохладно, как в мраморных подземных залах московского метро… И Мартынову вдруг вспомнилось, как однажды на фронте его, командира стрелковой роты, вызвали с передовой, чуть ли не прямо из боя, в штаб дивизии для нового назначения. Он побрился, почистил сапоги, подшил свежий подворотничок, но стираной гимнастерки в запасе не оказалось, и он пришел в штаб с белой от соленого пота спиной, с бурыми пятнами на рукавах от крови похороненного вчера, скончавшегося на его руках замполита. Штаб дивизии расположился в поросшей молодым дубняком балке в блиндажах, вырытых на косогоре. И тут была война, жужжали зуммеры телефонных аппаратов, офицеры с озабоченными лицами перебегали из блиндажа в блиндаж с какими-то пакетами и картами, и сюда изредка долетали снаряды тяжелой немецкой артиллерии, и несколько раз за день слышалась предупреждающая команда наблюдателей: «Во-озду-ух!» — но все же здесь было куда тише и не пахло так солдатским потом, гарью стреляных гильз, испражнениями и еще чем-то гниющим там впереди, за проволочными заграждениями, откуда подувал ветер, как пахло всем этим в окопах передовой стрелковой линии. Начальник штаба пил чай не из алюминиевой кружки или консервной банки, а из настоящего стакана с серебряным подстаканником. В блиндаже начальника связи Мартынов даже заметил под койкой прикрытую газетой эмалированную посудину специального назначения. И из наивных расспросов некоторых молодых офицеров, о том, что делается там, понял он, что кое-кто из этих щеголеватых, с безукоризненной выправкой военных имеет смутное представление о настоящем бое, настоящей войне… Этого нельзя было сказать о командире дивизии. Когда Мартынов предстал перед генералом, с первых же его слов он почувствовал, что разговаривает с человеком, который съел с солдатами не один пуд соли и видел смерть в глаза, вероятно, тысячу раз. И не мудрено. Этот генерал начинал свою армейскую службу с должности рядового стрелка на турецком фронте в первую мировую войну, был ефрейтором, унтер-офицером, командиром эскадрона в гражданскую войну, командиром полка в финскую и, наконец, на тридцатом году службы дотянул до генерала. Но и в этом чине он ежедневно не меньше трехчетырех часов проводил в частях, в окопах на передовой, чтобы не забывать солдатскую жизнь и не отрываться от нее; слышал перед собою близкие пулеметные очереди и обонял весь букет запахов обжитого в долговременной обороне бойцами переднего края — все то же, что слышал и обонял он, будучи еще ефрейтором. Видимо, генерал был не только храбрым солдатом, но и мудрым человеком и знал, что отрыв на длительное время от трудностей, которые несет на переднем крае народ, иной раз притупляет у начальника способности чутко улавливать настроение людей, обрывает те душевные нити, что незримо связывают его волю, чувства, устремления с чувствами и волей подчиненных ему рядовых бойцов.
Крылов говорил:
— Все дано нам, что мы просили и чего не просили. Теперь надо работать! Меньше разговоров, больше дела! Ваш район как-то странно лихорадит. То вы в первой пятерке по полевым работам и молоку, то вдруг окажетесь где-то на десятом или двенадцатом месте. А у вас есть все данные к тому, чтобы прочно занять первое или одно из первых мест в области. Секретарь райкома молодой, энергичный, хорошие кадры председателей колхозов — что вам, не под силу такая задача? Прости, я забываю, что ты последние месяцы не работал… Ну, как сейчас твое здоровье? С костылем все же не расстаешься?
— Здоровье ничего. Скоро и костыль брошу… А не кажется вам, Алексей Петрович, что у нас осталось еще много нерешенных вопросов по сельскому хозяйству? Я написал вот что-то вроде «Писем из деревни». Начал писать еще в больнице, а кончил вчера дома. Посмотрите. — Мартынов положил на стол перед Крыловым довольно толстую папку.
— Хорошо, почитаю на свободе. — Крылов открыл панку, полистал странички. — Много стали нам писать в последнее время. Пишут и доярки, и свинарки, и учителя, и железнодорожники, и водопроводчики. У каждого какие-то государственные предложения, советы.
— Я думаю, это хорошо, что много пишут. Одна дельная мысль в письме — и то уже ценность.
— Конечно, неплохо, что пишут. Но надо же и практическим делом заниматься… Вот у тебя — сколько это отняло рабочего времени?
— Я в больнице лежал… — напомнил Мартынов.
— Прости, забываю… Сорок восемь страниц. Это все, по-твоему, нерешенные вопросы?
Крылов захлопнул папку, отложил ее на край стола.
— Егозишь ты что-то, товарищ Мартынов. Ну чем ты недоволен? Чего тебе еще надо?.. Меньше уже надо заниматься всякими прожектами, а на той реальной основе, что создалась у нас, бороться за крутой подъем сельского хозяйства. Тот будет из нас лучшим мыслителем-философом и радетелем государства, кто сумеет получить больше молока, больше мяса, больше зерна! Вот что нам нужно сейчас для благосостояния народа! Конкретное практическое дело, а не маниловские мечты вслух о красивой жизни!
Мартынов слушал Крылова, угрюмо нагнув голову, и чувствовал, как кровь приливает к его щекам и он краснеет, но не от стыда.
— Я не отрываю человеческие вопросы от производства зерна и молока. Это все для подъема колхозов! Не сам райком ведь пашет землю и доит коров…
— С чем приехал, кроме этой папки? — резко спросил Крылов, так что Мартынов невольно вздернул голову. — Ты писал, что хочешь поговорить о положении в районе. Что за положение там у вас?
«И вот с этим самым Алексеем Петровичем, в этом же кабинете у нас однажды был совсем другой разговор! — подумалось Мартынову. — Как он меня тогда поддержал, когда Голубков донес на меня, будто я сорвал собрание партактива! Как он меня понял с полуслова, с каким гневом говорил о своих областных «гроссмейстерах» пустозвонства! Помог мне додумать до конца то, о чем я лишь догадывался… Что сделалось с ним? Хотя его, конечно, можно по-человечески понять. Больше десятка лет работает уже секретарем обкома, в других областях и у нас, и все в трудных условиях. Ему уже хочется поскорее бы увидеть полный порядок всюду и сплошное довольство. Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного и уже про наши дни. А тут опять о недоработках, неполадках, неурядицах. Надоело ему уже это все хуже горькой редьки!.. Устал? Укатали сивку крутые горки?..»
— Я приехал, Алексей Петрович, — начал Мартынов, — во-первых, просить вас поскорее решить вопрос о нашем втором секретаре. Вы слышали, какой у нас был пленум райкома?
— Слышал. Докладывали мне. Странный пленум.
— Да. То же самое и я сказал, когда узнал о решении пленума. У членов райкома не хватило духу освободить товарища Медведева от обязанностей секретаря.
— А твое мнение — надо освободить?
— Конечно. Вообще не надо было и выдвигать его на партийную работу.
— Еще один, не угодивший тебе?..
— Ну нет! — тряхнул головой Мартынов. — Теперь я этого не буду бояться. Думайте что хотите о моем характере, а мне положено все-таки заботиться о районе, поскольку я там секретарь райкома. Перетерплю личные неприятности ради интересов дела. Был раньше кисейной барышней, стеснялся говорить о Медведеве, чтоб не подумали нелестно обо мне, но больше ею не буду!
Крылов пересел из-за стола на широкий кожаный диван и Мартынова пригласил сесть рядом.
— Иди сюда, садись. Неудобно разговаривать через стол. Ты тихо говоришь, я плохо тебя слышу. Я, брат, тоже тут болел. Пичкали меня врачи всякой дрянью. А сейчас постоянно шум в ушах, будто только что из самолета вышел… Так в чем же дело? Чем, собственно, Медведев там провинился? За что на него обрушился пленум? Что за человек? Как работает?
Мартынов рассказал, как работал Медведев при нем, еще в роли второго секретаря, и как работал после — по рассказам коммунистов, — какой сделал доклад на пленуме и какую дали ему отповедь председатели колхозов.
— У этого образованного учителя и лектора с того дня, как он стал секретарем райкома, вдруг все слова вылетели из памяти, кроме: «Не допущу!», «Не потерплю!», «Разгоню!» Согласитесь сами, что такого лексикона маловато для руководства районом.
— Так… Ты все же немало времени поработал с ним вместе. Почему не воспитал из него хорошего второго хотя бы секретаря?
— Вот этого я не понимаю! — возразил Мартынов. — Зачем вам нужно обязательно трудиться над воспитанием секретаря райкома из человека, у которого для этого нет, может быть, никаких данных? Мы совершаем ошибку, человек случайно попадает в номенклатуру руководящих партийных кадров, и мы же сами потом должны ломать голову над тем, как сделать из этого предмета нашей ошибки хоть более или менее приличного секретаря? Зачем? Свет на нем клином сошелся? Людей у нас нет?.. Я не предлагаю, Алексей Петрович, каких-то жестоких мер. Я предлагаю только освободить его от руководящей партийной работы, вернее, этот пост освободить от него. И пусть он работает там, где принесет, может, какую-то пользу обществу. Да, кстати, и он сам после пленума в райкоме уже не появлялся. Заболел, сидит дома в ожидании ваших решений. И на его месте ничего лучшего и нельзя придумать.
— Значит, во-первых, освободить Медведева от обязанностей второго секретаря? Хорошо. Пятнадцатого у нас будет бюро. Приедете вдвоем с Медведевым, доложите об этом самом вашем пленуме. Обсудим. Черт возьми! У вас что ни пленум, ни партактив, то обязательно какое-нибудь чепе!.. А во-вторых!
— Во-вторых, прошу и меня освободить. От обязанностей первого секретаря.
— Что?..
— В интересах района, Алексей Петрович. Там есть сейчас человек, который лучше меня сможет руководить партийной организацией. А значит — и быстрее добьется подъема хозяйства… У нас скоро будет партийная конференция. Если бы делегатам дано было право избирать секретаря райкома прямо на конференции и никого не рекомендовать сверху — выбирайте, мол, сами, кого вы считаете достойным стоять во главе организации, — его кандидатуру сразу бы назвали. Уверен. Его очень уважают коммунисты. Возможно, и меня бы назвали, но я сам сниму свою кандидатуру. С ним я тягаться не стану. Да, ему по праву надо быть у нас первым секретарем.
— О ком ты говоришь?
— О директоре Надеждинской МТС Долгушине.
Крылов внимательно и подозрительно посмотрел на Мартынова.
— Ты что, нашел себе другое местечко, получше? Не к журналистике ли хочешь вернуться? В Москву, в газету? Писал в Цека, что ли? И получил положительный ответ?
— Никакого другого места не искал и не ищу. Буду работать там, куда пошлете. Посылайте хоть в Грязновский район, на любую работу. Или останусь в Троицке. Пусть Долгушин будет первым секретарем, а я вторым… Хотя, честно говоря, последнее было бы для меня наименее приятным.
— Тогда я не пойму, что за всем этим кроется…
— А ничего не кроется, Алексей Петрович.
— Но почему тебе желательно уступить свое место Долгушину?
Мартынов пожал плечами.
— Это место не мое, не откупленное мною навеки. Оно переходящее — кого выберут коммунисты. И вот я вижу сейчас, что в районе есть более подходящий человек на это место.
— Что за романтика в партийной работе? Рыцарство какое-то! — Крылов нагнулся к Мартынову, заглянул ему в глаза. — Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?..
Открылась дверь, на пороге показалась тучная фигура Масленикова.
— Заходи, заходи, Дмитрий Николаевич! — позвал его Крылов. — Тут у нас интересный разговор. Садись. Мартынов просит перевести его в другой район.
— Да? — Маслеников взял стул от стены, поставил его против дивана, присел. — Какая же причина? Требуется переменить обстановку? Набедокурил чего-то? По женской части? Там у тебя, Петр Илларионыч, кажется, с Борзовой что-то закрутилось?..
Мартынов вспыхнул:
— Сводки и сплетни ездите собирать по районам, Дмитрий Николаевич? Славное занятие!
Крылов предостерегающе поднял руку.
— Ну-у! Зачем же так резко? Маслеников пошутил.
— Неумная шутка!
Маслеников с кислой улыбкой приложил ладонь к груди.
— Прошу извинения, товарищ Мартынов, если оскорбил! Дело естественное. Только что, на вчерашнем бюро, по аналогичной причине перевели одного работника из Малеевки в другой район.
Крылов недовольно поморщился.
— Не торопись со своими предложениями. Слушай дальше. Мартынов считает, что в районе есть человек, который лучше его может справиться с обязанностями первого секретаря райкома. У них будет скоро партийная конференция. Он заранее ставит перед нами этот вопрос. И знаешь, кого он рекомендует там в секретари? Долгушина, директора Надеждинской МТС, твоего приятеля.
— Что? Долгушина? Секретарем?.. — Маслеников тупо поморгал глазами. — А он сам что? Просится на учебу?
— Никуда не просится. Согласен работать где угодно, куда пошлем. В самом отстающем районе.
— Не понимаю… Сам на свое место рекомендует другого человека?
— Да. Именно Долгушина.
— Так Долгушин работает директором МТС. Как же его — в райком?..
— Очень просто. Изберут коммунисты — станет секретарем райкома, — сказал Мартынов.
Маслеников подумал и махнул рукой.
— Несерьезный разговор! Такого не бывает, чтобы человек сам просился из хорошего района в плохой. В моей практике таких случаев не было. Мудрят они там что-то, Алексей Петрович! Долгушин их там всех опутал!.. Интересный тип! Давно надо бы его проучить! Нахал, грубиян, не признает совершенно никакой власти над собой! В частных разговорах с сотрудниками МТС критикует работу обкома. Да, да! У меня есть целая папка докладных записок зонального секретаря. Я готовил материал, хотел предложить тебе, Алексей Петрович, поставить отчет Долгушина на бюро, но, понимаешь, не к чему придраться! Отличные показатели. Лучшая зона в районе. Хитро работает москвич!..
Маслеников рассмеялся, покачиваясь на стуле.
— Ха-ха-ха! Долгушина — секретарем райкома партии! Нет, это ты что-то для смеху придумал, товарищ Мартынов! Да ведь он чертом смотрит на всех партийных работников! Он вообще против партийных органов!
— Он против пустозвонов и пришибеевых, затесавшихся в партийные органы, а не против самих партийных органов! — отрезал Мартынов.
И у него с Маслениковым начался такой разговор, какого, вероятно, еще никогда не слыхали стены кабинета первого секретаря обкома.
— Рыбак рыбака видит издалека! — говорил Мартынов. — Вы ненавидите Долгушина, но зато поддерживаете Медведева, потому что вы сами — Медведев! Вы тоже такой же толкач и погоняло, а не секретарь, как Медведев! Вас вполне устраивают мыслительные способности медведевых. Умеют орать на людей — и ладно. А больше вы и не знаете, чего требовать от секретаря райкома, потому что это предел и ваших организаторских дарований. Холодов ведь прошел здесь тоже через вашу комиссию? Кадрами зональных секретарей вы занимались? Вы отобрали на партийную работу этого следователя по особо важным делам? Вам нужны в районах манекены, а не живые люди с умом и сердцем! Перевалочные пункты для директив, и только — вот как вы, товарищ Маслеников, смотрите на райкомы. Вы любите в районах таких людей, которые ели бы вас глазами и, как попугаи, не рассуждая, повторяли за вами слово в слово все, что вы скажете. И Долгушина вы ненавидите именно за то, что он не манекен, а живой человек. Он талантливый руководитель, нам надо такие таланты искать всюду, радоваться, когда находим их, как радовался талантам Ленин, давать им простор! Но не вам, конечно, ценить чужие таланты, потому что вы сами бездарны!.. Вы злобствуете сейчас оттого, что чувствуете: время наступило для вас тяжелое! Перед руководителями стоят сложные задачи. На одних общих командах и крике далеко не уедешь. А вы не можете руководить иначе. Ничего из вас больше не выжмешь! Это и есть все, на что вы способны! Как вы сейчас будете перестраиваться на другие методы, не знаю. И вы не знаете. И не сумеете вы перестроиться — не в ваших это возможностях! Дело ваше, Дмитрий Николаевич, швах!..
Маслеников, вначале совершенно обалдевший, растерянно поглядывал на Крылова в ожидании, что тот призовет Мартынова к порядку и, может быть, даже предложит ему покинуть кабинет. Но Крылов молчал.
— Что это за разговоры? — вскочил наконец Маслеников. — От кого я это слышу? Я не верю своим ушам!..
— А вы верьте. Уши вас не обманывают. Могу повторить все с самого начала.
— «Манекены»! «Райкомы — перевалочные пункты для директив»! Это злостная клевета на нашу здоровую и боеспособную областную партийную организацию!
— Я говорю: это вы так смотрите на райкомы, как на перевалочные пункты.
— «Пришибеевы»! «Ненавидите талантливых людей»! Это мы все запишем, товарищ Мартынов! Да кто вам дал право разговаривать в таком тоне с секретарями обкома партии?
— С секретарем. Это все адресовалось лично вам. Не передергивайте, товарищ Маслеников!
Крылов пересел с дивана за стол в кресло и, не вмешиваясь в перепалку, слушал спокойно, положив руки на подлокотники и глядя в сторону, за окно, с выражением усталой задумчивости на лице.
Зазвонил телефон. Крылов снял трубку.
— Да раньше за такие разговоры, знаешь, что с тобой сделали бы?..
— Знаю.
— Тише! — крикнул Крылов. — Вы мне мешаете, ничего не слышу. Из Рубцева звонят. Что у них там за телефон? Пищит что-то, как цыплята в инкубаторе!..
И, пока он разговаривал по телефону, Мартынов и Маслеников сидели молча, тяжело дыша, как боксеры в перерыве между раундами, исподлобья бросая друг на друга горящие взгляды, с трудом удерживаясь, чтобы не схватиться опять. Крылов, одной рукой держа трубку, другой потянулся через стол и налил им по стакану боржома.
— Вот что, Дмитрий Николаевич, — сказал Крылов, закончив разговор с Рубцевским райкомом и взглянув на часы. — Мне через три минуты дадут министра здравоохранения. Я хотел говорить с ним о мединституте. Ты был вчера на бюро, знаешь, в чем дело. Пойди переключи на себя и поговори с ним сам из своего кабинета. А этот ваш, — он покрутил пальцем, подыскивая выражение, — обмен любезностями с Мартыновым вы продолжите и закончите после.
— Хорошо, — Маслеников встал. — Но этого дела я так не оставлю! Ты слышал все, Алексей Петрович, и я прошу тебя сделать выводы! Он должен ответить за эти оскорбления! Я напишу записку на бюро!
И, уходя, он так резко, рывком распахнул дверь, словно собирался хлопнуть ею, но — вовремя сдержался, вспомнив, в чьем он кабинете. Оглянувшись виновато на Крылова, прикрыл дверь за собою, как всегда, осторожно, бесшумно.
— Горячка ты, Петр Илларионыч, — сказал Крылов после ухода Масленикова. — Жалко мне все же будет тебя, если ты где-то на чем-то свернешь себе шею.
— Алексей Петрович! Партийные органы — это самое главное у нас! Отсюда идет все руководство, все направление нашей жизни. Как же можно терпеть в них таких людей? Пошляк и дубина в партийном органе вдесятеро страшнее, чем в каком-либо другом учреждении! Ему же даны большие права!
— Ну, ты, знаешь, все-таки осмотрительнее выбирай выражения! О Масленикове говоришь? Он еще как-никак секретарь обкома, его еще не прокатили. И один твой голос на конференции не решит его судьбы!..
Он готов был, видимо, рассердиться не на шутку, но у Мартынова хватило выдержки немного помолчать, и Крылов, тоже помолчав и побарабанив пальцами по столу, отошел, стал говорить с ним мягче.
— Вот ты назвал Масленикова толкачом и погонялой. Я сам знаю ему цену, не преувеличиваю его талантов. Но представь себе, что такие люди все же нужны в обкоме. Ты области не знаешь и думаешь, может быть, что всюду так, как у вас в районе. На свой аршин меряешь. По себе судишь о других местных работниках. Но видишь ли, дорогой товарищ Мартынов, к сожалению, у нас в области есть еще немало таких секретарей райкомов, которые действительно нуждаются в толкачах. Ты думаешь, можно уже не напоминать вашему брату о таких истинах, что свеклу нужно вовремя прорвать, иначе потеряем половину урожая, что упущенный день на уборке стоит нам многих тысяч тонн зерна, что пары надо поднимать в мае, а не в июле? Ошибаешься! Приходится напоминать и напоминать! Вот сейчас нам нужно за лето нарыть много траншей на то количество силосной массы, что мы получим. Всюду секретарями райкомов сидят люди взрослые, не новички в сельском хозяйстве, знающие, что силос квасят не в бочках, как капусту, и что если мы не заготовим к началу уборки силосной массы траншеи, то вся наша борьба за кормовую базу для животноводства пойдет насмарку. И что же ты думаешь, если пустить это дело на самотек, не нажимать, не приказывать, не угрожать наказаниями — будем мы иметь траншеи? Заверения и обещания — вот что будем иметь, а не траншеи!.. Плохо ты знаешь наши кадры! Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получат предупреждение или выговор. А какие у нас есть еще директора МТС! Позавчера я был в Зайцевской МТС, полюбовался, как ведется там хозяйство, и при всем своем неуважении к ругательствам назвал директора этой МТС Сучкова мерзавцем и вредителем. Ходит по двору, руки в карманы, бездельник, с утра пьяный, красная, запухшая рожа, и ничего не знает, что у него делается: почему в «Заре» тракторная бригада четвертый день не работает, сколько комбайнов вышло из ремонта, выдана ли рабочим зарплата за прошлый месяц. Меня там чуть инфаркт не хватил, когда я посмотрел инвентарь. На усадьбе все свалено в кучу: и сеялки, и картофелесажалки, и плуги — все в грязи, не очищено, не смазано. В свеклокомбайнах сгнившая прошлогодняя свекла. И никакой охраны, ребятишки откручивают с машин гайки на грузила, делают себе самокаты из каких-то колес. Где еще есть инвентарь, кроме центральной усадьбы, какой, сколько, в каком состоянии, кто отвечает за его сохранность — никто не знает: ни директор, ни главный инженер, ни главный бухгалтер. В пятнадцать миллионов по балансовой стоимости оценивается имущество МТС! И эти государственные миллионы доверены вот такому обалдую! Судить будем его показательным процессом. Прокурор выслал уже туда следователя. Подсчитаем все до копейки, на сколько миллионов загубил он машин. Но ведь этот Сучков работал там директором пять лет. И если МТС все же пахала, сеяла, убирала хлеб, выполняла хлебопоставки, то это только благодаря тому, что кто-то ходил за Сучковым по пятам с дубиной и разъяснял ему, что тракторы надо ремонтировать, что пахать нужно на такую-то глубину, что заросшие пары надо культивировать. Нет, брат, нужны нам еще и толкачи и погонялы! Не будь идеалистом!.. И вот тут-то и необходимы нам такие люди, как Маслеников. Тоже своего рода талант, если уж на то пошло! Если его послать в район с каким-то конкретным заданием, он в лепешку расшибется, поднимет там все живое и мертвое, но задание выполнит! Он способен трое суток не спать, пока не проверит лично сам в каждом колхозе все сеялки или комбайны. Маслеников у нас из шести рабочих дней в неделю, может быть, только два дня сидит здесь, в своем кабинете, а то все в разъездах. Мы уж подшучиваем над ним, что у него машина, как старая ученая лошадь, сама в селах заворачивает к правлению колхоза. Никто не может так, как он, расшевелить бездельников, создать в районе напряженную обстановку вокруг какой-то кампании. Это тоже надо оценить!..
Мартынов давно уже порывался возразить Крылову, но тот всякий раз, как Мартынов раскрывал было рот, останавливал его жестом.
— Я же тебе предлагал работу в обкоме. Не пошел. Так нечего теперь и упрекать меня за Масленикова. Его к нам прислали из Н-ска. Я знал, кого мы берем, разговаривал с н-ским секретарем, он мне точно охарактеризовал Масленикова: исполнитель, больше ни на что не способен, пороху не выдумает. Если бы ты дал тогда согласие, можно было бы от него отказаться. Что ж, не пошел — мне тоже надо здесь с кем-то работать. Область большая.
— Не пошел, Алексей Петрович, откровенно говоря, потому, что именно этого и боялся — что я буду нужен вам только как чиновник для особых поручений, — ответил Мартынов.
— Глупости говоришь! Я знаю, от кого что можно потребовать. Ты бы мог здесь заниматься делами и поважнее.
Помолчали. У Мартынова не сходило с лица выражение упрямого несогласия с тем, что секретарь обкома довольно терпеливо доказывал ему целых полчаса.
— Нет, — покачал головой Мартынов, — вы меня, Алексей Петрович, не убедили. Если есть у нас еще такие секретари райкомов, на которых нельзя положиться, что они сами, без понуканий, не упустят часа на уборке и не способны собственной головой догадаться, что для силоса нужны траншеи, то надо просто освобождать таких секретарей от занимаемых постов! Странная у вас какая-то логика. Выходит, что Маслеников нужен в обкоме потому, что есть и в районах такие маслениковы — разучившиеся или никогда и не умевшие работать своими мозгами исполнители, которых нужно всякую минуту накачивать и подталкивать в спину!.. Мне кажется, простите за откровенность, что вы немного устали. Вам надоела возня с кадрами, вам хочется уже какой-то стабильности. Что? Опять пересматривать состав секретарей райкома? Еще брать кого-то из областных аппаратов? Опять — уговоры, споры, семейные трагедии, справки о болезнях? Да, ничего не поделаешь, это самое трудное — укрепить кадрами низы, но отбой давать еще рано, надо продолжать это дело. И стабильности здесь, вероятно, никогда не будет, коррективы всегда придется вносить то там, то там… Между прочим, я думаю, Алексей Петрович, что не только в областных аппаратах надо искать хороших секретарей райкомов. В каком-то районе, может быть, следует избрать секретарем райкома местного товарища — лучшего председателя колхоза или агронома МТС.
— Встречные перевозки? — усмехнулся Крылов. — Районный актив посылали в колхозы председателями, а из председателей теперь брать кого-то на работу в район?..
— И ничего здесь противоречивого нет! Одно с другим прекрасно увязывается! — горячо доказывал Мартынов. — Председателями мы посылали из районного актива десять — пятнадцать человек, а здесь идет речь об одном лишь человеке, об одной крупной фигуре. Совсем не похоже на встречные перевозки!
— Я вам должен, Алексей Петрович, — продолжал Мартынов, — объяснить все до конца. Вот я поднял вопрос о Долгушине. Это не из личных симпатий. Мне, прямо скажу, не очень приятно было, когда я убедился, что Долгушин в своей зоне гораздо лучше руководит колхозами, чем получалось это у меня. И я не из какого-то особого душевного расположения к Долгушину говорю сейчас, что ему надо быть секретарем райкома в Троицке. Я не за него стою, а за принцип! Партийные органы — выборные органы. И профессионализация здесь, пожалуй, менее всего нужна. Да, вчера я был секретарем райкома в Троицке. А сегодня коммунисты, решив, что в парторганизации есть более подходящая кандидатура, избирают секретарем райкома Долгушина. Что же из того, что он не был никогда на партийной работе? Это, может быть, даже к лучшему… Представьте себе, Алексей Петрович: в районе избирают секретарем райкома лучшего директора МТС или председателя колхоза. Конечно, не такого председателя, что с трудом выводит свою фамилию на банковском чеке. Есть такие стихийно талантливые хозяйственники, но совершенно малограмотные, не читающие даже газет. Я не о таком председателе говорю, а о человеке образованном, политически грамотном, культурном. Вот он становится секретарем райкома — опытный, авторитетный практик колхозного строительства, который много лет удивлял всех прекрасными урожаями и богатым трудоднем. Ведь ему есть что посоветовать председателю, когда он приедет в колхоз! Он сам был в его шкуре, сам когда-то начинал наживать хозяйство на голом месте, сам знает, что невозможно, а что возможно сделать в таких-то условиях. Этот новый на партийной работе человек, несомненно, внесет и что-то новое в жизнь партийного органа. Он уже не потерпит болтовни, пустозвонства, канцелярщины. Это человек дела. Он сам иной раз изнывал от тоски на наших заседаниях, сам возмущался, сколько рабочего времени отнимают у него эти вызовы в район? Он, будучи председателем, снизу просмотрел всю работу райкома и отделов его и инструкторов, он знает, что и как нужно поправить, чтобы все эти колеса не вертелись вхолостую… Нет, Алексей Петрович, если мы хотим по-настоящему поднять работу райкома партии, нужны такие люди в райкомах! И надо все же как-то свободнее выбирать верхушку наших партийных органов, секретарей. Конечно, и сейчас у нас есть все — и тайное голосование и право отвода. Если кого-то забаллотируют при выборах в члены райкома, то он уже и дальше не продвинется. Но разговор на первом после конференции пленуме ведется обычно только о предложенных обкомом кандидатурах. Свобода выборов, но — из определенного узкого круга уже так или иначе заноменклатуренных «специалистов» по партийной работе. А может быть, неспециалист окажется лучшим секретарем? Расширить надо этот круг! Надо больше доверять местным коммунистам. Они же сами не меньше обкома заинтересованы в том, чтобы во главе их парторганизаций стояли достойные люди. Когда хорошо с партийным руководством, тогда все в жизни налаживается правильно. И с директорами предприятий будет благополучно, и в школах будет хорошо, и в магазине не предложат покупателю хлеб с водичкой. Всюду на хозяйственной работе у нас назначение, но здесь должна быть настоящая выборность. Вот тех-то, кто ведает всякими назначениями, тех надо выбирать! И без помощи партийных масс сами вы, Алексей Петрович, никогда не найдете для всех районов хороших секретарей!..
Мартынов, выложив все, умолк, вытер простецким жестом, по-рабочему, рукавом пиджака вспотевший лоб, достал из кармана папиросы, хотел закурить, но, глянув на пластмассовую дощечку на стене с надписью: «Здесь не курят», положил папиросу обратно в коробку.
— Кури, — кивнул ему Крылов. — Ты сколько времени еще здесь пробудешь?
— Да больше у меня тут нет никаких дел.
— Не уезжай сегодня. Заночуй в гостинице. Я тебе позвоню туда. А сейчас иди. — Крылов поднялся и протянул ему через стол руку. — Ты у меня занял два часа, разговор, правда, интересный, но надо же и другие дела делать. Сейчас ко мне придут строители нашей ТЭЦ, которые обещали рапортовать об окончании строительства к Первому мая, а сейчас просят отсрочки к Октябрьской годовщине. Как прикажешь мне с ними разговаривать? Нажимать или не нажимать? Подгонять их или не подгонять? Может быть, не надо подгонять? Угостить их чаем с бутербродами, расспросить о здоровье, о детишках и отпустить с миром? Ведь они люди взрослые, не мальчики, и совесть у них есть — сами понимают, что чем скорее они дадут электроэнергию нашей промышленности, тем лучше… Ладно, иди отдыхай, после поговорим.
Выйдя из обкома, уже на улице, у подъезда, Мартынов столкнулся лицом к лицу с Борзовым, заметно постаревшим, загорелым, в запыленных сапогах, с головой не бритой наголо, как раньше, а коротко остриженной под машинку. Поздоровались.
— Ну, брат, у тебя вид — как из бани выскочил! — заметил Борзов. — Там был? — Он указал глазами на окна третьего этажа над подъездом — кабинета первого секретаря.
— Там.
— Давали духу?.. Сколько раз и мне там, — он опять повел глазами кверху, — всыпали! За что тебе? За ремонт комбайнов?
— Не, я не с бюро. Так приезжал. По кадрам.
Отошли немного в сторону от двери, чтобы не мешать входящим и выходящим из обкома.
— Ну, слышал про меня, — усмехаясь, спросил Борзов, — какой мне дали ответственный пост? Председатель самого крупного в Борисовском районе колхоза «Страна Советов». Во! Не хвост собачий! Это тебя надо поблагодарить. Спасибо за твое начинание!
— На здоровье! — ответил Мартынов. — Неужели ты, Виктор Семеныч, думаешь, что без моего начинания дело не дошло бы до этого?
— Да нет, я шучу. Конечно, дошло бы. Надо же кому-то вытягивать колхозы из прорыва. Да, вот уже четвертый месяц в колхозе. «Страна Советов» называется. Почти как у Опёнкина — «Власть Советов». Но по хозяйству — ничего похожего! Когда посылали меня, то уговаривали: «Учти, товарищ Борзов, очень перспективный колхоз! Сколько земли, какие угодья!» Что ж, перспективы-то есть, а больше пока ничего. Одни перспективы только и принял от старого председателя. С чего начинать, за что ухватиться — не придумаю. Нету зацепки, ни одна отрасль не дает такого дохода, чтоб вот сегодня уже можно было за ее счет делать оборот в хозяйстве. Ты не рыбак? Не приходилось тебе руками в речке налимов ловить? Нащупаешь его, он голый, без чешуи, слизь на нем, схватишь рукой — выскальзывает. За что его тащить?
— За жабры, я думаю, — сказал Мартынов.
— Да, за жабры! А голова под корягой! Нет, и ты не сможешь мне ничего дельного посоветовать. Я хочу к Демьяну Богатому съездить, вот тот чему-нибудь научит… Я думал, Петр Илларионыч, как принял колхоз, сразу сделать целый переворот в хозяйстве. Колхоз наш под самой Борисовкой, в двух километрах железная дорога, большой узел. И автотрасса через Борисовку проходит. Богатейшие условия для сбыта продукции, надо, стало быть, и хозяйство перестраивать под эти условия. Я говорил у нас в райкоме и сюда приезжал, в сельхозотдел, еще в феврале: «Помогите нам оборудовать теплицы, дайте кредита и материалов, подкиньте нам две автомашины и снимите часть зерновых и технических культур — и я за год сделаю колхоз трижды миллионером! Вот вы рассовали по всему району огородные культуры, в дальних колхозах люди от них отказываются, — дайте нам эту площадь. Наш колхоз нужно сделать именно огородным. Овощи, ягоды, сад молодой насадить. А первые годы в саду по междурядьям можно разводить клубнику, картошку сажать. Огород, сад и животноводство — вот на что нам нужно напирать в наших условиях. Но животноводство сразу не поднимешь, туда надо еще вложить много средств, пока дождешься хорошей продукции. Огород скорее даст нам доход. В этом году я нажму всеми силами на огород, а с будущего года начнем поднимать и животноводство». Вот такой у меня план. Так разве же с нашим секретарем райкома можно сделать дело? Ох, и секретарь у нас, товарищ Гусев, — дуб дубом! «А куда мы денем ту пшеницу и сахсвеклу, если вам урезать план?» — «Да вот и добавьте в те колхозы, где невыгодно заниматься овощами. Или поставьте вопрос перед областью, что в таких-то пригородных колхозах действительно нужно сократить площадь зерновых, и доказывайте, что это будет только на пользу делу!» — «Нет, я такую миссию на себя не возьму». Вот тебе и свободное планирование!..
Борзов достал пачку «Казбека». Закурили.
— Чего посмотрел так на мои папиросы? Человек я одинокий, зарплаты председательской хватает, какие, бывало, в райкоме курил, такие курю и в колхозе. В моем положении самое главное — не опускаться!..
— Да, планирование! — продолжал Борзов. — Дали нам крылья, машем, машем мы ими, а взлететь не можем. Сколько грузу еще на ногах, этого бюрократизма проклятого!.. Ты меня, Петр Илларионыч, знаешь, энергии у меня хватает, без дела сидеть не люблю. Послали меня в колхоз — так дайте же мне возможность развернуться там по-настоящему! Если и мне, как моему предшественнику, считать там эти несчастные копейки и граммы, по пятнадцать яиц от курицы-несушки в год собирать, я же от скуки подохну! Нет, куда ни кинешься, того нельзя, то не разрешается, то надо еще согласовать. Вот третий раз приезжаю сюда насчет локомобиля. Стоит у нас в колхозе государственный локомобиль с той самой оросительной сети, что не достроили. Кой-какие части уже сняты, ржавчина его ест, но еще можно наладить его и пустить в ход. Прошу: дайте нам этот локомобиль, торфу у нас неисчерпаемые запасы, есть жерновой постав — оборудуем мельницу, и своим колхозникам нужно зерно молоть, и со стороны, может, какую тысячу рублей подзаработаем. Нет, никто не решается сказать мне одно-единственное слово: «Бери». Пусть лучше совсем погибнет машина, чем использовать ее не по назначению. А со снабжением что у нас делается? В колхозе совершенно нет транспорта, кроме конных телег. Как жить в наше время без автотранспорта? Возим с сахзавода жом для скота, сам жом стоит копейки, а за доставку платим автоколонне тысячи рублей. И ведь нам причитается машина! Еще с прошлого года потребкооперация должна колхозу за молокозакуп автомашину — до сих пор не можем получить!.. Я считаю, Петр Илларионыч, вот это у нас еще неправильно делается — подачки какие-то, а не снабжение! Приезжает товарищ Крылов в колхоз и, если его там настойчиво попросят, то даст, как бы из милости, столько-то сотен листов шифера или автомашину. Значит, выезжает он в колхозы и везет с собою в портфеле какие-то резервы для раздачи нуждающимся — память о посещении колхоза первым секретарем обкома партии. Нехорошо это, некрасиво! Это же не система. А как быть тем колхозам, которых он не посетил? Вот у нас он не был ни разу и еще, может, пять лет не приедет. Как же нам жить? Чем нам крыть коровники? На чем хлеб возить в поставку?..
Разговор перекинулся на воспоминания.
— Ну, что там сейчас, в Троицке? Как Руденко в колхозе работает? Как Глотов, Грибов, Нечипуренко?
Мартынов рассказал.
— Эх, Петр Илларионыч, — махнул рукой Борзов, — как повидал я других секретарей райкомов, да сам под их начальством походил, да вот теперь в колхозе поработал, — ей-богу, я не самым плохим был секретарем! На меня стучали кулаками, и я стучал; на меня давили, и я давил. А насчет планов мы все тогда были так воспитаны: выполняй любой ценой и не рассуждай, что из этого получится! Помню, еще в Лужниковском районе, составил я хлебофуражный баланс и налетел на меня один бо-ольшой представитель! «Что-о? Балансами занимаетесь? Кто вам разрешил это делать? Для свиней зерно оставляете? Собираетесь свиней хлебом кормить? Ячмень — это тот же хлеб! Вы кто — дурак или вредитель?» Конечно, когда перед тобою так ставится вопрос, то скорее согласишься признать себя дураком. А как без зерна сало получить? Чем же кормить свиней, если всерьез заниматься животноводством? Соломой? Вот как оно было. Думаешь, у меня не болело сердце, когда иной раз заставлял колхоз сортовые семена вывозить в хлебопоставку?.. Я вот читаю сейчас в журналах: в некоторых морях у нас повыловили рыбу до мальков. Это еще похуже, чем колхоз оставить без хлеба на трудодни. Тут все же с урожаем дело связано, со стихиями, а там ни град, ни засуха не мешают рыбе плодиться. Не надо ни пахать, ни сеять, сумей только сберечь то, что сама природа тебе дает. И то вот к чему привело это «давай, давай!»…
Все же со мною как-то нелепо получилось, — продолжал Борзов. — Вроде как бы в бою, при атаке поскользнулся и сломал ногу. Не от пули, не от осколка получил ранение, а от собственной неосторожности. Если бы не этот дурацкий случай с Мухиным — что бы, я не работал сейчас секретарем райкома? Хуже Гусева бы работал? Не смог бы перестроиться?..
Но это Мартынову было уже неинтересно слушать, и он стал прощаться.
— Вижу по костылю, — задержав его руку в своей, сказал Борзов, — что ты недавно из больницы выписался. Слышал, слышал, какой с тобой был случай, как ты чуть не угробился. Ну и как теперь? Куда после больницы? На старое место?
— Вероятно, пошлют в другой район, — ответил, помолчав, Мартынов.
— Да? В другой район? Есть такая наметка?.. А Марья Сергеевна как? — совсем некстати спросил Борзов.
— Ее, пожалуй, назначат директором Надеждинской МТС.
— Ну-у?.. Вот не ожидал от своей бывшей супруги таких талантов! А справится?
— Ей за это время там было у кого поучиться работать. Ты не знаешь его, Долгушина. Без тебя уже прислали его к нам директором МТС.
— А его что же — переводят куда?
— Да так, в общем, кое-что намечается, — неопределенно ответил Мартынов.
— Слушай, Петр Илларионыч, дело прошлое, — сказал Борзов, — я тебе должен по-честному признаться: плохое думал про тебя и про Марью Сергеевну. Собственно, насчет того, что она к тебе неравнодушна, я не ошибался. Но я думал, что и ты имеешь на нее виды… Теперь я вижу, что зря тебя подозревал. Рассказывали мне троицкие товарищи, с которыми приходилось встречаться, что ничего такого между вами нет… Я тебя прошу: скажи ей, пожалуйста, что я приеду к ней на той неделе. Возьму отпуск дня на два. Если не захочет, чтоб у нее жил, я в Надеждинке где-нибудь на квартире перебуду, у меня там есть знакомые. Очень соскучился по ребятам, хочется их повидать!.. Если б ты уговорил ее, чтоб она отдала мне Мишутку!
— Передам ей все, что ты мне рассказал, Виктор Семенович, но не ручаюсь, что уговорю ее. Дело такое, сам понимаешь, тут не предложишь и не обяжешь.
— Хотя бы мне договориться с нею так, чтоб какое-то время ребята у нее жили, а потом я бы забирал их к себе пожить… Тоже не выход из положения. Два дома будет у них. Да и некому у меня за ними присматривать. Я же сейчас один как перст. Нина с прошлого года в институте в Ленинграде… К пятидесяти годам дело подошло, а жизнь расклеилась. По-дурацки как-то вышло. Страшно подумать, что же будет, когда вырастут дети? Неужели станем чужими друг другу?.. А эта Тамара, борисовская моя, большой дрянью оказалась. Вдруг завелись в доме такие разговоры, каких от Маши я никогда не слыхал: «Ты же председатель райисполкома! Какой же ты хозяин района, если не можешь жену за счет собеса на курорт послать?» Или: «Бывшему председателю Рындину всегда под Первое мая и под Октябрьскую годовщину по две корзины продуктов приносили из «Гастронома» на дом, и бесплатно. А ты за все деньги платишь!» — «Нет, говорю, голубушка! Борзов во многом, может, виноват перед партией, но в одном не виноват: никогда не залезал в государственный карман!» Прогнал я ее.
…В одиннадцатом часу вечера Крылов позвонил Мартынову в гостиницу и позвал его в обком.
— Вот ты, товарищ Мартынов, кажется, невысокого мнения об умственных способностях Масленикова, а он сегодня неплохую штуку придумал, — начал Крылов. — Когда я ему рассказал о твоей уверенности, что если поставить на выборах секретаря две кандидатуры, то коммунисты изберут Долгушина, он предложил так и сделать. «Что ж, говорит, можно в порядке пробы порекомендовать пленуму райкома две кандидатуры. Пусть сами выбирают — кто им больше нравится». Как? По-моему, умен. — Крылов бросил на Мартынова быстрый испытующий взгляд. — Это — чтобы ты уехал из района с аттестацией забаллотированного секретаря.
Мартынов хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, чтобы скрыть смущение, низко нагнулся над столом. Крылов расхохотался.
— Это он тебе в отместку за сегодняшний разговор! Видимо, все же тебя он не любит еще больше, чем Долгушина. Ладно, не волнуйся, мы, конечно, на это дело не пойдем. Но видишь, как оно получается, дорогой Петр Илларионыч! — с ехидцей в голосе сказал Крылов. — Значит, обком должен все-таки руководить выборами секретаря райкома? Не пускать их на самотек? Должен как-то направить выборы, чтобы не получилось такого нежелательного ни для тебя, ни для нас казуса? А? А то ведь кто поймет впоследствии твои честнейшие побуждения? Всю эту романтику в учетную карточку не занесешь, там будет лишь два слова: «Не избран», и все!
Дальше разговор продолжался на ходу. Крылову надоело за целый день сидеть, он, отодвинув кресло, вышел из-за стола. Встал и Мартынов.
— Хорошо. Предположим, Долгушин действительно обладает всеми качествами для того, чтобы его избрать секретарем райкома в Троицке…
— Вы, Алексей Петрович, познакомьтесь с ним лично. Не верьте рассказам Масленикова. Поговорите сами с ним. Вначале он вам, возможно, не понравится. Он резок, не старается угодить начальству, может отпустить вам даже какую-то колкость, но вы не поддавайтесь первому впечатлению, переступите через это неприятное и доберитесь до его человеческой сути.
— Да этому я уже научился в разговорах с тобою… Так вот, если Долгушин — секретарь райкома, то как другие кадры расставим? Продумал?.. Ты куда?
— Продумал. Могу пойти директором МТС, на его место. Хозяйственная работа мне знакома, я же был и председателем колхоза. Да и работая в райкоме, от хозяйства не отрывался.
— А если не тебя директором? Тогда кого?
— Тогда есть там хорошая коммунистка, Борзова Марья Сергеевна. Работает сейчас в Надеждинской МТС секретарем парторганизации.
— Слышал о ней.
— Справится, Алексей Петрович! Не знаю только, как у нее с дипломом. Она закончила вечернюю среднюю школу и больше не училась, технического образования не имеет. Но у нее большая практика. Она из трактористок. И Долгушин останется ведь в районе, он будет ей помогать. Справится — это я даже не то слово сказал. Я предлагаю ее кандидатуру не потому, что больше некого. Уверен, что из Борзовой выйдет хороший директор.
— Так… Ну, а тебя куда? Ты вообще сам-то как — считаешь себя «специалистом» по партийной работе?
— Нет. В анкетах пишу: «Журналист…» Но партийную работу я полюбил.
— Ты не шутил насчет Грязновки? У нас ведь там с секретарем худо.
— Не шутил.
— Район запущенный, но, должен тебе сказать, очень перспективный.
Мартынов вспомнил, как Борзов принимал в колхозе от самого председателя «одни перспективы», и улыбнулся.
— Чего смеешься? Район этот может стать самым богатым в области! Нигде ведь нет столько земли, как в грязновских колхозах. Ни деревца, правда, ни кустика, голая степь, но зато — какие посевные площади! Тебе же не пейзажи нужны, а хлеб! Сейчас там эти излишки земли даже угнетают колхозы, нет сил у них хорошо обрабатывать поля. Но если по-настоящему механизировать полеводство! Подкинем техники, да разумно ее использовать — этот район станет житницей нашей области! А сколько там можно выкармливать свиней, какие условия для молочного животноводства!..
— Если я попаду в Грязновку, — сказал Мартынов, — знаете, Алексей Петрович, с чего я там начну?
— С чего?
— Пошлю в Верховный Совет ходатайство о переименовании районного центра и района. Невозможно работать хорошо, когда у района такое название. Грязновка, Шелапутино, Облупихино — в таких селах одно название уже принижает как-то людей!
— Да, район надо бы переименовать… Но не будет ли это, Петр Илларионыч, противно твоим же принципам, — в глазах Крылова появились опять лукавые блестки, — что тебя, как «специалиста по партийной работе», представитель обкома повезет в Грязновку рекомендовать в секретари? А? Что же, у них там нет своих людей? Где же тут «свободные выборы»? Ага! Молчишь! Сам запутался в своих принципах?.. Ну, я помогу тебе выпутаться. Видишь ли, товарищ Мартынов, не то плохо, что обком рекомендует партийной организации в секретари такого-то человека. Рекомендовать надо, на то мы и руководящий партийный орган. Все дело в том, как рекомендовать! Надо именно рекомендовать, а не навязывать. Вот обком предлагает вашему вниманию такую-то кандидатуру, а вы — обсуждайте, решайте, может быть, у вас есть на примете и более достойный человек. Давайте ваши соображения, поговорим, взвесим все обстоятельства. Так надо, а не нажимать, как нажимали иной раз районные уполномоченные на собрания колхозников, когда привозили им из района нового председателя: на измор брали, по десять раз заставляли переголосовывать, пока из пятисот человек на собрании оставалось пятьдесят. Поднимут руки эти пятьдесят: «Единогласно!..» В Грязновку я сам тебя повезу. Не кота в мешке привезу, а расскажу коммунистам о тебе все, что знаю. Что ты за человек, как работал в Троицке, почему меняешь место работы, какие у тебя положительные качества, какие недостатки. Нажимать не буду. Понравишься — выберут. Не понравишься — повезу назад. Так, что ли?
Мартынов молча кивнул головой.
— Ну, а еще с чего бы ты начал, кроме переименования района?
— Я не знаю еще района, Алексей Петрович, его особенностей… С людей начну. С колхозных партийных организаций. С актива. Буду искать актив настоящий, не бумажный, которому колхозное дело дорого, как своя собственная жизнь. Будем принимать таких людей в партию — по мозолям на руках, а не на языке. Без рядовых коммунистов колхозные массы мы не поднимем, значит, надо начинать с коммунистов… Думаю, что на новом месте буду работать лучше. Меня жизнь многому научила в Троицке. Об одну и ту же кочку дважды не споткнусь.
— Не считай, что все уже решено, — предупредил Мартынова, прощаясь, Крылов. — Я как бы примериваю, что и как может получиться из твоих предложений, но еще не отрезал. Этот разговор пока что между нами. Никому ничего не рассказывай. Посоветуемся еще здесь на бюро. Поезжай домой и работай так, как будто никаких и намеков на твое перемещение не было и тебе предстоит трудиться в Троицке до скончания века… Медведев, если болен и отлеживается дома после выговора, пусть отлеживается. Не тревожь его до самой конференции. Времени немного уже осталось. Ты ведь не очень скучаешь без него в райкоме?
— Не очень… А вы, Алексей Петрович, все же прочитайте мои маниловские мечты о красивой жизни.
— Обиделся? Ладно, прочитаю.
— Секретарь райкома не чудотворец, и того, что сверх его сил или на что не хватает его прав, он сделать не может. Требуйте с нас, но и помогайте нам. Перед нами еще целая гора вопросов, которых мы сами не можем решить. — Мартынов вспомнил афоризм Борзова насчет крыльев и груза. — Один председатель колхоза очень верно сказал мне сегодня: крылья нам дали, а на ногах еще столько бюрократического груза, что машем, машем ими, а взлететь не можем!..
В летнюю пору Мартынов редко когда оставался дома в воскресенье. В этот день не было никаких заседаний, в райкоме его не ждали посетители, и он обычно с утра уезжал в колхозы. Но в первое после возвращения из обкома воскресенье он никуда не поехал и предложил Надежде Кирилловне погулять по окрестностям Троицка. Костыль он уже заменил палкой и ходил, лишь слегка опираясь на нее. Врачи разрешали прогулки — с отдыхом, не переутомляясь.
Взяв бутербродов на дорогу, пошли за город в поле, к верховьям Бутова лога. По рассказам Димки, уехавшего на все лето в пионерский лагерь, Мартынов знал, что это очень красивое место, но сам еще не был там ни разу.
Пыльный грейдер, изогнувшись буквой «с», поднимался на бугор. По обеим сторонам дороги расстилались неровные холмистые поля пшеницы, которая уже колосилась, гречихи, низкорослого, но густого, как щетка, проса. Туман, застилавший небо после вчерашнего дождя, разошелся, солнце припекало. В просе выстукивали свое «подь полоть» перепелки. В голубом небе парил, чуть пошевеливая крыльями, неизбежный в степном пейзаже ястреб.
— Ничего хорошего здесь не вижу, — сказала Надежда Кирилловна, вытряхивая из босоножки щебень. — Голая степь. Не туда мы пошли. Надо было идти на луг, к речке или в рощу.
— Погоди, дойдем до хорошего. Димка говорил: тут такие каньоны, как на реке Колорадо в Америке. Будто он там был!
Мартынов остановился у километрового столба с цифрой «2».
— Ну вот, он говорил: от этого столба смотрите вправо. Посмотрим, что же там вправо? Вон на гречихе какие-то кустики. Нет, то не кустики, то верхушки деревьев. Смотри, Надя! Будто из земли торчат. Вот там, вероятно, и начинается лог.
Пошли напрямик через гречиху. И вдруг, когда уже кончилось обработанное поле и они прошли еще метров тридцать по траве, перед ними у самых ног неожиданно открылась пропасть. Надежда Кирилловна даже попятилась.
— Вот это да-а! — отводя руку в сторону, удерживая Надежду Кирилловну, чтобы она не подходила к краю обрыва, сказал Мартынов. — Действительно Колорадо! Кто бы мог подумать, что, идя по степи, можно здесь наткнуться на такую штуку!
Надежда Кирилловна уже не скучала от унылого однообразия степного пейзажа, а во все глаза любовалась открывшейся перед ними картиной. В земле зияло прорытое за много лет снеговыми и дождевыми водами глубокое ущелье, которое, если смотреть снизу, со дна, показалось бы не менее мрачным, чем Дарьяльское. Не хватало только Терека. Дно ущелья было сухое, и на склонах его росли кустарники, изредка березы, дубки. От главного русла расходились в стороны извилинами отроги. Это было начало, верховье каньона. Дальше, вниз к реке, ущелье раздвигалось, переходило в широкий лог.
— Красиво, но страшно, — сказала Надежда Кирилловна. — Зимою, в метель, если собьешься с дороги, можно прямо в эту пропасть угодить!
Прошли дальше краем обрыва, ища спуска вниз. Грейдер, от которого они удалились недалеко, здесь достигал перевала. С бугра открывался вид километров на двадцать в окружности — холмистые поля, деревни, перелески.
— Между прочим, Петя, мы находимся сейчас на самой высокой точке Средне-Русской возвышенности. — Надежда Кирилловна повернула Мартынова лицом к вышке на перевале. — Вон знак. Чтоб было тебе известно. Это мне топограф один сказал.
— Замечательное место! — согласился Мартынов. — Название-то какое: «Средне-Русская возвышенность!»
В той стороне, откуда они пришли, на берегу Сейма, в редкой зелени садов, поблескивая на солнце золочеными крестами колоколен, лежал небольшой русский городок Троицк. С разными чувствами смотрели они на него. Надежда Кирилловна еще ничего не знала и просто любовалась красивым видом. А Мартынов прощался с этим земным уголком, ставшим ему за четыре года родным.
— Не так сам город наш хорош, как его окрестности, — сказала Надежда Кирилловна. — Правда, чудные окрестности? На любой вкус! Кто хочет в поле перепелок послушать, — иди вот так, как мы вышли. А на запад пойдешь — вон луг зеленый. А по ту сторону Сейма — роща, дубы столетние. Весною грачи там кричат с утра до ночи. Некоторым не нравится, как грачи кричат, даже разоряют гнезда возле дома на деревьях, а я так люблю их слушать!.. До чего же хороша наша русская природа! Скромная такая, не навязчивая. Хочешь — любуйся, если понимаешь настоящую красоту, не понимаешь — ступай мимо. Помню, девочкой еще, первый раз уехала я далеко из дому с отцом на Черное море. Два месяца мы там жили. Сначала очень нравилось и море, и цветы, и лес тамошний, пальмы, магнолии, тисы. А потом так надоело! Увидела однажды, как в Адлере возле рынка корова чесалась об пальму, — все противно стало, не могу на эти пальмы смотреть. И в тот же день, как вернулись мы домой, побежала я в наш лес. Хотя у нас уже и осень была, похолодало, с березок уже листья опадали, и дождь шел в тот день, а я все же в лес убежала и долго там сидела под дубом, слушала, как дождь шумит в листьях…
Прошли еще немного вверх, нашли пологий спуск на дно оврага. Там было прохладно и сыро. В некоторые глубокие узкие отроги ущелья никогда не заглядывало солнце, и сейчас, в начале июля, когда наверху все давно уже покрылось зеленью, дубки и березы убрались в полную листву и земля поросла травой, здесь все еще пахло ледяной сыростью. Мартынов нашел в одном таком темном ущелье лисью нору. Попробовали выкурить зверей дымом — ничего не вышло, дым не тянуло в нору. Пошли дном оврага вниз, к реке. Лог становился все шире, склоны его раздвигались, посветлело вокруг, повеяло опять полевым простором. Из высокого бурьяна, невдалеке от тропинки, взлетела со страшным шумом стая куропаток, сильно напугавших Надежду Кирилловну.
— А чтоб вас лисица съела! — закричала она, швырнув камнем вслед им.
У Сейма, в Стрелецкой слободке, попросили у одного рыбака лодку. Поплавали по реке, переправились на другой берег, в дубовую рощу. Там Мартынов развел на полянке костер. Поджарили хлеб с колбасой. Надежда Кирилловна пошла по лесу собирать землянику и грибы, а Мартынов натаскал веток, устроил себе ложе под деревом в тени.
— Да, хорошо здесь, слов нет! — сказал он, вздохнув, когда Надежда Кирилловна, вернувшись, села возле него и протянула на ладони несколько ягод земляники. — Значит, ты, Надя, степь не любишь?
— А что хорошего в степи? Пустота — и все. Нет, такая природа, как здесь, куда лучше! И леса есть, и озера, и степь, и всего в меру, ничто не надоест. Отдыхать ты только не умеешь. За сколько времени выбрались с тобою погулять! Все в колхозы и колхозы ездишь. Завел бы себе лодку, ружье, удочки. В субботу вечером кабинет на замок — и на охоту, на рыбалку, до понедельника. И нас бы с Димкой брал с собою. Кто бы тебя поругал за то, что в воскресенье отдыхаешь? Можно даже моторчик приспособить к лодке. У нас в «Динамо» сейчас продается такой подвесной моторчик.
— Теперь уж не к чему заводить лодку, — вырвалось у Мартынова.
— Почему?..
— Поедем, кажется, Надя, с тобою в такой район, где ни леса, ни речки хорошей нет. Одни голые степи.
— Опять поедем?.. — горестно воскликнула Надежда Кирилловна.
— Опять. Собирай свои коврики, картинки, укладывай вещички в чемоданы…
И Мартынов рассказал ей все. Долго рассказывал. И как он присматривался к Долгушину еще до больницы, и что узнавал о нем от людей, лежа там, и как он ездил вот недавно с ним по колхозам, и какое он вдруг принял решение.
— В зоне МТС двенадцать колхозов, а в районе — тридцать. Как я могу оставаться здесь секретарем райкома, когда вижу, что, если уж на то пошло, мне надо быть в МТС, а Долгушину — в райкоме! Пойми, Надя, что это очень важно в нашей жизни — чтобы человек занимал место по своим способностям. Пожалуй, самое важное!..
Рассказал подробно о поездке в обком, о разговоре с Маслениковым и Крыловым, о встрече с Борзовым. Надежда Кирилловна слушала его, понурив голову, перебирая в подоле платья цветы: то отбирала ромашки от васильков и колокольчиков, то смешивала их опять, то откладывала в сторону одни колокольчики.
— Что же ты молчишь, Надя? — спросил Мартынов.
— Я думаю, что не многие на твоем месте поступили бы так…
— Но надо же кому-то поступать и так!.. Ну, скажи, правильно я сделал? — Он приподнялся, сел, согнув ноги в коленках.
Надежда Кирилловна вздохнула.
— Хотя бы уж куда-нибудь в другое место, не в эту Грязновку!..
— Да, тяжелый район. И районный центр похуже Троицка, не город — село. Но это же в наших руках сделать район хорошим. А?
Надежда Кирилловна, взяв за плечо Мартынова, повернула его лицом к себе, долго, пристально смотрела ему в глаза.
— Ты, вероятно, никогда не устанешь. Ты совсем не меняешься. Такой же, как и был, когда я впервые тебя узнала… Но почему ты не сказал мне этого, когда ехал в обком? Зачем скрывал?
Солнце перевалило уже далеко за полдень. На западе поднялись тучи. Надежда Кирилловна отогнала лодку к Стрелецкой слободе, причалила ее на место, отнесла весло хозяину и вернулась обратно вплавь, держа в одной руке над головой свернутое платье. Мартынов совсем не умел плавать. Решили идти домой другой дорогой — этой стороной Сейма, через луг и через понтонный мост.
На лугу было тоже хорошо. Траву уже скосили и просохшее сено сложили в копны. По густоте копен видно было, что трава здесь стояла по пояс. Но Надежда Кирилловна уже не обращала внимания на запахи свежескошенного сена и не нагибалась к земле, чтобы рассмотреть поближе какое-то прошелестевшее под ногами живое существо. Шли молча, погруженные каждый в свои мысли.
Когда подошли к понтонному мосту, уже завечерело. Солнце давно скрылось за тучи. Темнело, как будто оно уже совсем зашло. Но на реке было еще много воскресных гуляющих. Рыбаки ловили с моста рыбу, свесив ноги над водой. Ребята еще купались на пляже. На лодочной станции дежурный сзывал в рупор заплывшие за излучину реки шлюпки.
Мартынов и Надежда Кирилловна присели на перевернутую рыбачью лодку-плоскодонку у самой воды.
Быстро темнело. Набежал тучевой ветер, старая дубовая роща за их спиною угрюмо зашумела. Тяжелая черная туча, надвинувшись с запада, закрыла полнеба. Вода в реке в той стороне, под тучей, была как деготь.
Послышались мерные, тяжкие вздохи дизеля на электростанции. В городе за рекой загорались огоньки.
И когда стало уже темно, почти как ночью, в тучах на западе, над самым горизонтом, вдруг прорезалось окно, и солнце, которое, оказалось, еще не зашло, огромное красное солнце ударило в эту прорезь кинжальными лучами, низко, над самой землей. На минуту все вспыхнуло вокруг. Ночь отступила. На воде, на верхушках деревьев, на крышах домов в городе заиграли огненные блики. Тень от причального столба у лодочной станции протянулась до полреки. Птицы в роще откликнулись на появление солнца громким щебетом. В противоположной, чистой стороне неба одинокое белое облачко зарозовело, как на утренней заре.
— Солнце! Ой, как красиво! — воскликнула Надежда Кирилловна. И заплакала…
Мартынов молчал, не зная, чем утешить жену.
— Но ведь еще нет решения, Надя. Или, может, не выберут меня там, в Грязновке. Еще ничего не известно, как оно будет, — сказал он.
— Неизвестно? — Надежда Кирилловна повернулась к нему. — А хочешь знать, как будет? Давай погадаю! — Она уже шутила сквозь слезы. Солнце зашло, на этот раз окончательно, опять потемнело, на руке Мартынова ничего не было видно, да она и не смотрела на руку, смотрела ему в лицо, качая головой, улыбаясь. — Хороший, красивый, счастливый, давай погадаю! Позолоти, дорогой, позолоти! Цыганка всю правду скажет. Хожу я по залесью утренней росой, собираю травы зельные, варю травы зельные во медяном котле, — заговорила она нараспев. — Выйду во чисто поле, стану на восток лицом, на запад спиною. Давай, золотой, бриллиантовый, погадаю! Для дома, для дела, для сердца — всю правду скажу. Счастливый ты, в рубашке родился, а помрешь без штанов. Жить будешь долго, до самой смерти. Жена тебя любит, дети, внуки любить будут. А на врагов твоих болячка нападет. А будет у тебя еще разговор в казенном доме, а после того казенного дома будет тебе дальняя дорога!
— Не миновать, значит? — засмеялся Мартынов.
— Не миновать, золотой! Дал бог тебе ума, не дал разума. Богатым не будешь, профессором не будешь, академиком не будешь, всю жизнь будет тебе дальняя дорога!..
Зыбь на реке развело в небольшую волну, вода плескалась о берег. Ниже по Сейму по железнодорожному мосту прогромыхал с протяжным гудком скорый поезд. В пригородной слободке девчата пели частушки, пиликала гармошка. Прошел, сверкая освещенными окнами, автобус со станции, везя в Троицк приехавших домой на каникулы студентов и командированных. На понтоне сидел, не боясь надвигавшегося дождя, накрывшись плащом, рыбак-ночник и время от времени посвечивал карманным фонариком, обводил лучом прыгавшие на неспокойной воде поплавки.
1956
Пьесы
Бабье лето
Пьеса в 3-х действиях,
8-ми картинах
Катерина Дорошенко — лет тридцати шести. До войны была рядовой колхозницей, в пьесе — бригадир.
Павел Чумаков — демобилизованный гвардии старший лейтенант, в пьесе — старший механик МТС. Лет около сорока. Правая рука по локоть — протез в перчатке. Носит военную форму, в первом действии еще с погонами. На гимнастерке ордена Красного Знамени и Красной Звезды.
Андрий Кравченко — председатель колхоза, демобилизованный гвардии капитан, лет сорока. Награжден орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Сталинграда». В первом действии — в военной форме с погонами.
Кость Романович — секретарь райкома партии, лет сорока пяти. Был в партизанах, награжден орденом Красного Знамени и партизанской медалью.
Вера Шульга — пышущая здоровьем молодица лет тридцати двух. Хорошо поет.
Марфа Стеблицкая — тихая, болезненного вида, лет сорока пяти.
Баба Галька — лет шестидесяти пяти, маленькая, сгорбленная. Посмотреть на нее — в чем душа держится, но эта старуха из тех, что живут до ста лет. Ходит быстро, разговаривает громко.
Нюрка Вакуленко — бригадир, лет двадцати трех. Хорошо поет.
Ариша — жена Андрия, лет тридцати восьми.
Гаша — трактористка, лет двадцати восьми.
Мусий Петрович — бригадир, лет шестидесяти пяти. Туговат на ухо.
Иван Назарович Стешенко — колхозный агротехник из опытников-самоучек, лет пятидесяти. Был в партизанах, носит красную ленточку на шапке.
Максим Трохимец — рослый мужик, лет сорока семи, хромой.
Явдоха — лет сорока.
Мирон — муж Веры, лет тридцати пяти, в военной одежде без погон.
Подростки:
Вася — сын Марфы Стеблицкой
Грицько — сын Веры
Женщины, старики, девчата, подростки.
Время и место действия: Украина, зима, весна и лето 1943–1944 гг.
Действие первое
Хата Марфы Стеблицкой, разделенная на две комнаты печью и стеной. В прихожей живут хозяйка с сыном, там кровать, стол, кухонная утварь. В передней, отведенной под правление колхоза, — стол, лавки, шкафчик для бумаг, плакаты и армейские листовки на стенах. На столе лампа из снарядной гильзы крупного калибра. На подоконнике ведро и кружка. В углу стоит свернутое знамя. Заседание правления колхоза. У стола на лавках сидят: Андрий, Мусий Петрович, Павел, Максим Трохимец, Катерина, Вера, Нюрка Вакуленко, Марфа Стеблицкая с сыном Васей. Тихая минута. Заседание окончилось, час поздний, но люди не расходятся, хотят еще поговорить с вернувшимся в колхоз старым председателем.
Мусий Петрович (Андрию). Вопросы все порешали, а делá я тебе еще не передал… А что тебе и передавать, Андрий Степанович? Земля — там, за селом, лежит под снегом, на старом месте. Сколько было при тебе, столько и осталось, ни на гектар не поменьшало. Кони в конюшне стоят…
Нюрка Вакуленко. Фрицы…
Мусий Петрович. Как? Фрицы, да. Трофейные. Партизаны отбили у немцев пять штук. Не знаем, как и поделить на три бригады: по две головы — много, по полторы — мало.
Андрий. По полторы — мало…
Мусий Петрович. А бумажки из района тут сохраняются. (Открывает ящик стола, ищет.) Одна входяща, другая исходяща. Нет, не тут. (Идет к шкафчику.) Нету, покурили, сукины дети (Васе Стеблицкому). Васька, лазил в мою канцелярию?
Вася. Я не брал, дедушка.
Мусий Петрович. Ты мне смотри!
Вася. Да не брал, говорю!
Андрий. Имущество передаешь, диду, а где люди?
Мусий Петрович. Люди?.. Девчат двадцать две души в Германии.
Нюрка. Двадцать одна осталась. Со мной было двадцать две.
Андрий. Кадры мои куда девали? Где наши старые бригадиры? (Громче). Бригадиры где?
Мусий Петрович. Микола Сергеевич погиб под Золотоношей, извещение получили. (Глянув на Марфу, тише). Михайло Стеблицкий в партизанах был, тут погиб. Артем Иванович воюет, живой, письма шлет. Вот Нюрка на его месте бригадиром, отца заменила.
Андрий. А Ольга Хромченко, знатная стахановка наша? (Спрашивает как бы про себя, судьбы людей, о которых он спрашивает, уже известны ему.) Ольга?..
Мусий Петрович. Ольгу фашисты расстреляли, со всем ее звеном. На Горюновой балке памятник мы им поставили…
Пауза.
Катерина (Павлу). В ее звене и племянница моя была, Дуня. Сирота, у меня жила. Этот свой платок прислала мне оттуда. Увидала, что отводят в сторону, по одной, и стреляют в голову из автоматов, а платок белый, пуховый, кровью зальет, — сняла, отдала соседской девочке: «На, говорит, отнеси тете Кате»… Я не была там, больная лежала.
Марфа. Пережили мы тут…
Кто-то тянется кружкой к ведру, стоящему на подоконнике. Кружка стучит о пустое дно. Стеблицкая берет ведро и, накинув шаль, выходит из хаты.
Нюрка. А сколько войска прошло! Каких только наций не повидали!
Вера. И итальянцы были у нас. Петухи. Перья на шляпах. Вояки! Сами продавали нам оружие.
Катерина. На продукты меняли. «Дай, матка, сала, бери граната, носи партизан».
Вера. Мы с Катериной выменяли у одного за два куска сала пистолет и патронов пригоршню. А гранатам цена была известная — десяток яиц за штуку. У нас тогда еще куры оставались, так мы наменяли их штук двадцать. А баба Галька доставила куда надо.
Входит Марфа с ведром и баба Галька.
Вот она, наша связная. Положила гранаты в кошелку, сверху яблоками замаскировала — на Спаса было дело, — пошла в Марьевку до церкви, посвятила всё, и яблоки, и гранаты, и передала там партизанам.
Катерина. А командовал партизанами Кость Романович, наш секретарь райкома.
Андрий. Кость Романович? Оставался здесь?
Катерина. Да, был здесь, с нами.
Баба Галька. Здравствуйте, кого не видела сегодня. Можно до вашей хаты?
Андрий. Можно, можно. Здравствуй, Архиповна. Легкая на помине. Проходи.
Марфа. Ох и мороз! Да темно стало. Месяц зашел, ничего не видно. Как вы, Архиповна, нашли дорогу?
Баба Галька (стряхивая снег с шали). На огонек правилась. Смотрю — у Марфы светится. Не спят люди, чего-то об нашей жизни думают. Андрий Степанович приехал, старый председатель, должно быть, колхоз принимает. Чего ж не позвали бабу?
Андрий. Садись, Архиповна. О подготовке к весенней посевной думали. Может, дашь нам совет, как пятью лошадьми пятьсот двадцать гектаров посеять?
Баба Галька. Эге! Баба даст вам совет, баба научит! Бабе на ее веку приходилось и одним волом пахать, и коровой, и сама с дедом борону тягала. Козу да петуха только не пробовала запрягать.
Андрий. А сколько коров осталось у колхозников?
Мусий Петрович. Коров?.. Коровы есть, да с бабами не сговоришься. Хочется ей и лишнюю литру молока на базар понести, и от того не прочь, что сеять надо. «Сеять, говорит, надо, не отказываюсь, а корову не дам». Так кого ж запрягать — меня, председателя, что ли?
На улице раздается злобный лай собаки.
Катерина. Еще кто-то идет.
Андрий (прислушивается). Чей это такой злой? Я что-то у вас в селе и собак не видел.
Нюрка. Это Корниенковых, Колчак. Помните, был у них кобель рябой, с одним ухом? Без хозяев остался, бездомно живет, под скирдами ночует. Пробовали приманывать — не идет ни к кому, одичал.
Лай слышен во дворе, под окнами. Марфа вздрагивает, оборачивается к темному окну, вскрикивает и порывается встать. Но к ней уже подошла Нюрка, мягко берет ее за плечи, уводит в другую комнату. За ними выходит и Вася.
Вера (Андрию). Как услышит, будто рвут кого-то собаки, так и вспоминает Михайла. Его немцы поймали, когда он в село приходил. Дома убили, на ее глазах. Ох, господи!.. А потом мертвого повесили во дворе на груше и овчарок на него натравливали…
Нюрка, усадив Марфу на кровать, успокаивает ее.
Входит Стешенко.
Стешенко. Чтоб ты издох, проклятый! Лежал бы в теплом кубле, а он бегает по улицам, на людей бросается. Здравствуйте! Можно до вас в компанию?
Андрий. Здравствуй, Иван Назарович! Поздно пришел. Пора уже расходиться. Хозяйке надо покой дать… (Павлу.) Похоже, старший лейтенант, попали мы с тобой из огня да в полымя… Я, сказать по совести, когда посылал тебя вперед, думал, что тебя выберут тут председателем.
Павел. Я же здесь чужой человек.
Андрий. Не чужой — за весь Советский Союз воевал. Теперь ты даже родня нашему колхозу, зять наш… А ты, Катерина Григорьевна, девка не промах. Какого гвардейца себе отхватила! Слыхал, слыхал, Ариша мне уже рассказала. Ну, чего застеснялась? Дело житейское. Счастливо жить вам в паре! Желаю тебе, Катя, счастья!
Катерина. Спасибо, Андрий Степанович.
Андрий. Мы с ним три месяца в одной палате лежали, койки рядом. Лежим, обсуждаем — куда ехать? У меня — дом, семья, а у него хуже дело. «Мне, говорит, теперь все равно, куда глаза глянут». — «Ну, говорю, поезжай к нам».
Вера. А в палате вас, раненых, много было?
Андрий. Двенадцать человек.
Вера. Вот бы всех и направили в наш колхоз.
Андрий. Не всех демобилизовали. Троих только.
Вера. Хоть бы этого, третьего, привезли…
Андрий. Тебе? А Мирон вернется?
Вера. Эх, кабы вернулся!.. А вы, Павло Тимофеевич, не встречали часом на фронте Шульгу Мирона Федотовича? Танкиста?
Павел. Нет, не встречал.
Вера. Всех спрашиваю — никто не встречал. Как ушел — ни одного письма не получила… А вы сами не танкистом были?
Павел. Сапером.
Андрий. А до войны он работал бригадиром тракторной бригады. Изобретатель. Может, кто помнит — делали мы сцепки для комбайнов системы Чумакова? Это тот самый Чумаков. Вот какой человек… Послал я его вперед. «Скажи, говорю, что мой товарищ, и живи, ожидай меня. Если не дорежут меня врачи, и я приеду». А сам думаю: выберут его сразу председателем, я вернусь — мое место занято. Отдохну немножко, а потом попрошу себе какую-нибудь другую должность, полегче. Пойду в сельпо, ситчик мерить. Не вышло!
Нюрка с Васей возвращаются в переднюю комнату. Марфа сидит на кровати. Павел встает, проходит в угол, где стоит знамя, разворачивает его до половины. Видна вышивка «Колгосп «Ленiнский шлях».
(Встает.) Смотри-ка, вижу его тут, и не толкнуло в голову спросить, как же оно сохранилось! Старое знамя. В тридцать первом году шефы подарили его нам. Кто его сберег? Мусий Петрович! У кого знамя было?
Мусий Петрович. Про знамя спрашиваете? Не знаем, кто его схоронил. Было зашито в клеенку и закопано в землю на огородах за старой мельницей. Убирали картошку — выкопали плугом.
Андрий. Кто ж его там закопал?.. Да, в земле лежало. Вот тут шелк почернел от сырости и дырочки.
Стешенко. Из живых никто не похваляется, что он схоронил…
Андрий. Ольга?..
Вера. Могло быть. Туда, к старой мельнице, Ольгина усадьба выходит.
Павел. За такие дела в армии орденами награждают…
Андрий (сворачивая знамя, задумчиво). Старое знамя…
Баба Галька. От погибших нам, живым… Тебе, председателю. Покинуть нас хочешь? Пришел герой (указывает на ордена) и загордился! Чего решили тут насчет посевной?
Андрий. Да ничего толком не решили. Будем еще не раз собираться и думать гуртом… Не загордился я, Архиповна, а просто думаю, что если б свежий человек, которому это по новости, так, может, лучше повел бы дело.
Баба Галька. По новости, по новости… Нам это всем по новости. Были войны, были враги у нас, но таких врагов еще не видали… Так что решили? Мало тягла? Должно быть, не дадите мне плуга на огород? Придется нам лопатами землю копать?
Нюрка. Почему вам копать? Вас же на амбары назначили.
Баба Галька. Не пойду я на амбары. Не хочу. Не по моим силам работа.
Вера. Пусть пленные фрицы лопатами копают. Где они, те, которых Красная Армия в плен берет? Вот их сюда, к нам. Ограбили нас, обездолили — пускай теперь копают. А я не буду.
Катерина. Будешь, если на то пойдет.
Вера. Не буду! Для кого мне жилы рвать?
Катерина. У тебя сын есть.
Вера. Сын!.. Вот затянется война, и сын пойдет туда, где батько. А не будет войны, все равно — вырастет, уйдет, и останусь одна.
Максим. Строили, строили, затратили миллиёны на эти мэтэсэ, мэтэхвэ, и опять нам же строить…
Андрий. А как иначе?
Максим. Иначе?.. И в хатах можно выкормить тех телят и поросят. Хозяин бы выкормил…
Вера. Как подумаешь, как нам трудно будет — и руки не поднимаются, и жить не хочется. Зачем жить?
Катерина. Затем и жить, чтоб легче стало.
Вера. Хорошо тебе говорить, Катька. Вот вы, двое, сошлись, вас уже парочка… Да если б было мне для кого, я бы пальцами рыла землю, по зернышку руками бы сажала! Чтоб прийти домой, да не в пустые стены. Чтоб пожалел он тебя, пригрел, слово ласковое сказал… Эх, доля наша бабья, богом проклятая!..
Баба Галька. Э, Верка, Верка! Я больше твоего на свете прожила. Сколько я видала, и хорошего, и плохого, сколько я людей похоронила! А хочется посмотреть своими глазами — что оно будет еще лет через двадцать.
Максим. Чертов батька знает, что оно будет… Может, союзники потребуют от нас за свою подмогу, чтоб мы и колхозы распустили.
Андрий. Что ты мелешь? (Долго смотрит на Максима). Некому было тебе, вижу, без нас мозги прочесывать. Два года фашистскую брехню тут слушал.
Максим. Никого я не слухал, я сам по себе жил. Они на мой край до лесу и ходить боялись.
Андрий (Павлу). Видал такого? Последним единоличником был у нас.
Максим. Вот, опять вспоминаете! Последним вступил, да. Один оставался. Куда деваться? А если скажут (встает): «Разойдись!» — опять же выполню команду.
Катерина (Мусию Петровичу). А вы говорите, диду Мусию, с бабами не сговоришься.
Нюрка. Эге! Забирайте его в свою бригаду. Я его такого (она выглядит девчонкой рядом со вставшим во весь рост Максимом) не перевоспитаю.
Андрий. Этого не предвидится — «разойдись». Чего тебе в голову взбрело?
Баба Галька. Видит, что все спалено, машин нету, ничего нету, думает — и колхоза нету.
Андрий. Колхоз — вот мы, люди… (Встает.) Ну, давайте кончать. Утро вечера мудренее. Завтра пойду опять в район, буду выяснять, что и как… (Укладывает бумажки в стол.)
Колхозники одеваются. Марфа входит в переднюю комнату.
Баба Галька (подходит к Андрию). Так я, товарищ сержант, хотела…
Нюрка. Не сержант, Архиповна. Видите — четыре звездочки. Капитан.
Баба Галька. Я, товарищ капитан, хотела…
Стешенко. Гвардии капитан.
Баба Галька. А чтоб вам!.. Понадевали погоны, ордена, не знаешь, как до вас и подступить.
Андрий. Подступай по-старому.
Баба Галька. То и лучше. Я хотела, Андрий, спросить, какую работу ты мне дашь на весну. Опять на огород?
Андрий. Хочешь — иди на огород.
Баба Галька. Ну и добре! А то Мусий хотел меня своей властью амбарщицей назначить. А что там делать на амбарах? Раздать семена по бригадам, а потом до самых жнив мышей ловить в пустых закромах? Так с этой работой и кот справится, зачем туда бабу посылать?
Андрий. Пойдешь на огород, не возражаю.
Колхозники расходятся. У стола остаются Андрий и Павел. Катерина, Вера и Нюрка задерживаются у двери. Марфа подметает пол в передней. Вася стелет постель.
Марфа. Кто ж мне будет трудодни писать за то, что убираю тут всякий раз после гостей? Заняли хату под правление… (Метет.) Нет, не надо, я шучу. Нам веселее, когда у нас люди собираются… Как засвечу лампу, так и идут на огонек, идут…
Стешенко возвращается в хату.
Стешенко. У тебя там, Марфуша, в сенях снегу полно намело. Дверь не прикрывается плотно. Есть топор? Найди-ка, я поправлю.
Марфа достает из-под лавки топор. Стешенко дает ей зажигалку.
Идем, посветишь мне. (Уходит с Марфой в сени.)
Вера (Катерине). Своего ждешь?
Катерина (тихо). Не знаю, как его звать при людях. По отчеству?
Вера. А дома как зовешь?
Катерина. Пашей зову…
Вера. Тихий он у тебя. Молчит все. Не скучно тебе с ним?
Катерина. Лишь бы ему не скучно было…
Вера. Вы идете, товарищ старший лейтенант?
Андрий. Он сейчас, мы тут еще немножко поговорим. А ты, Катерина, ступай, ужин ему пока подогрей. Сто грамм приготовь.
Вера. Приготовить недолго. Ей страшно идти одной, волки съедят.
Андрий. Ну вот, давно ли нажила себе провожатого?
Вера. Пойдем, мы проводим.
Павел. Через яр не идите. Там снегу намело с головой.
Андрий. Яром без сапера не пройдете. Надо в обход, по выгону.
Вера. Пошли!.. Ничего, мы себе тоже найдем саперов, если наши не повертаются до дому. Закончится война — все эшелоны пойдут назад через Украину. Будем выходить, солдатки, на станцию и перенимать: свой, не свой, — иди к нам, оставайся, живи, приголубим, не хуже родной жинки. И саперов наберем, и танкистов, и сержантов, и лейтенантов. Аж когда полностью укомплектуемся мужиками, тогда будем и дальше поезда пропускать.
Уходят. Марфа возвращается в хату, садится на кровать, ожидает, пока все уйдут. Вася укладывается спать. Андрий и Павел, надев шинели, стоят у стола.
Андрий. Хорошо, что так вышло у вас с Катериной. Хорошая женщина.
Павел. На квартиру меня к ней поставили… Я и не знал, что она одинокая.
Андрий. Полюбил ее?
Павел (помолчав). Полюбил. Обое жалеем, что не встретились раньше, молодыми еще. Может, иначе жизнь повернулась бы… А как мы могли встретиться? Я же сюда не приезжал. О том жалеем, чего не могло случиться…
Андрий. Да, брат, из огня да в полымя… Видал кадры? Деды, старухи. С кем работать? А колхоз какой был! Сколько построек, скота! Ты не знаешь, тебе оно не так болит.
Павел. У меня тоже свой колхоз был, там… И вырос в нем. Старый колхоз. Из первых краснопартизанских коммун…
Андрий. Да, дела… А ведь я, Павло Тимофеевич, и в армии не отдохнул от хозяйства. Я же был помощником командира полка по хозяйственной части. Ну, там проще — приказ. Народ тертый. Подойдет, отойдет, как положено, повторит приказание, откозыряет… Как меня баба Галька понизила в звании: «Товарищ сержант», говорит… Чины свои нам тут придется забывать.
Павел. Соберем трактора. Снег сойдет, объезжу район, подберу где что валяется… Плохо только с одной рукой. Я двумя привык работать…
Андрий. Не получал больше писем из дому?
Павел. Получил одно. Из госпиталя переслали. От председателя райисполкома. И я написал туда, адрес свой сообщил. Может быть, узнают хоть, где похоронены… Как я этого боялся!
Андрий. Чего?
Павел. Что из строя выйду раньше времени… Будто оборвалось что-то в душе. Мне тоже там легче было. Там враг перед глазами!..
Андрий. Работать надо, Павло Тимофеевич. Все равно наших рук это не минет… Не горюй! Если Катерина лучше прежней — чего ж горевать!
Павел. Не шути этим, Андрий… Я с женой двенадцать лет прожил. Дети у нас были…
Андрий (смотрит на часы). Второй час. Пойдем, отдыхай… А я спать не буду. Жинка сердится: «Чадишь всю ночь своей махоркой! Я, говорит, думала, он соскучился по мне, только и дела — целоваться будет, а он коптит меня табачищем!..» Домой вернулся, а — непривычно. Тихо тут. Самолеты не пикируют, снаряды не рвутся… (Стеблицкой.) А ты чего сидишь, Марфа Ивановна? Это мы тебе спать не даем? Уходим уже, закрывай… (На пороге, обернувшись к Павлу.) А может быть, живы, Павло Тимофеевич? Ты же говорил, в Сибири где-то родня у жинки? Может, бежала она из лагеря?
Павел. Нет. Я и туда писал…
Андрий. До свидания, Марфуша, спокойной ночи.
Павел. До свидания, хозяйка.
Марфа. До свидания. Не откроете? Там палкой подперто. (Выходит за Андрием и Павлом в сени, провожает их, возвращается, ставит на место в передней комнате скамьи, гасит лампу.) Тихо… А когда немца гнали — сколько войска прошло! Как набьются в хату — рогачом возле печки не повернешь. Говорят: «Не серчай, тетка, что много нас. Много — значит, есть кому Гитлера бить. Еще пожалеешь о нас. Пройдет фронт — у вас тут скучно будет». (Долго смотрит в окно.) Нигде уже огня в хатах нет. У одной Катерины только светится. (Садится на кровать.)
Слышен далекий глухой взрыв. Стеблицкая настораживается.
Вася поднимается, тревожно смотрит на нее.
Вася. Мамо, то на станции, то саперы мост разбирают, они и ночью работают.
Ружейный выстрел на улице. Стеблицкая встает.
Мамо, это наши, кто-то волков пугает.
Еще выстрел. Лай собаки громкий, злобный. Стеблицкая подходит к окну, вскрикивает: «Ой, боже мой!» Вася вскакивает с кровати, подбегает к ней, обнимает, отводит ее от окна, усаживает на кровать.
Мамо, не надо! Мамо, это Колчак, не надо! Мамо! Мамо!..
Занавес.
Вечер Восьмого марта. Хата Катерины. Обстановка: стол, выдвинутый на середину, застланная плащ-палаткой кровать, вокруг стола скамейки и просто доски, положенные на кирпичи. Светит лампа, такая же как и в правлении, из снарядной гильзы, только поменьше калибром. На стенах оборванная местами электропроводка. С потолка свисает пустой патрон для лампочки. За столом сидят Катерина, Ариша, Вера, Марфа Стеблицкая, баба Галька, еще несколько женщин. Из мужчин — Павел, Андрий, Мусий Петрович, Стешенко и Кость Романович.
Кость Романович. Что ж не поете, девчата? Украина без песен — не Украина.
Мусий Петрович. Стесняются вас. Мало выпили.
Вера. Запоем еще, Кость Романович… И запоем, и заплачем. Наш праздник.
Кость Романович. В трех колхозах сегодня побывал. Иду селом, солнце светит, ручейки играют, весной пахнет, а песен не слышно. Тут только понял я, как нам трудно будет… «Песенники, вперед!» — с этого, что ли, начинать?..
Андрий. Песенники помогают. В походе особенно…
Баба Галька. Андрий Степанович! За вами чарка. Людям выпить хочется.
Вера. Да, да, не задерживайте. А то одни навеселе будут, а другие еще трезвые.
Стешенко. В агротехнике это называется — неравномерное созревание.
Андрий. А этот меня все агротехникой донимает… Я же вам сказал, товарищи, что мне теперь нельзя водку пить. Половина желудка осталась. Ни соленого нельзя, ни кислого, ни спиртного — одними глазами. Категорически запретил врач употреблять. Разве, говорит, только по большим праздникам, на Первое мая или на Октябрьскую годовщину, и то понемножку. А насчет Восьмого марта речи не было.
Марфа. Не обижайте нас. Чем же наш праздник хуже?
Ариша. Смотри, Андрий! Не буду тебе живот парить.
Андрий. Ишь ты! И сама пьет. Сама пьет, а мне нельзя.
Вера. Ничего, мы придем, попарим. Пей, Андрий Степанович!
Андрий. Что мне с вами делать?.. Ну, ради женщин выпью немножко. Будем здоровы!
Катерина. Закусывайте, Кость Романович!
Стешенко. Пешком ходите? А где ж та машина трофейная, что у фрицев мы отбили?
Кость Романович. У нас, в райкоме. Стоит, выехать нельзя.
Ариша. Грязно в поле?
Кость Романович. Развезло. А на северных склонах еще снег лежит. Если не будет морозов, недели через полторы начнем сеять.
Андрий. Начать — начнем…
Кость Романович. Да кончим когда, хочешь сказать?
Баба Галька. Вот грибы, Кость Романович, соленые. А может, картошки хотите с маслом? Небогатый наш стол, извиняйте. Это если б как раньше мы жили, так было б в этот день и жареное, и пареное, и гусятина, и курятина…
Марфа. Жили, так жили… Помнишь, Андрий Степанович, как вы с Мишей привезли к нам во двор наш заработок — четыре воза пшеницы и воз ячменя? А я все не верила? Ты тогда еще бригадиром был. «Смеетесь вы, говорю, надо мной. Это вы хотите бригадный хлеб на сохранение к нам ссыпать». А потом, как поняла, что наш хлеб, то начала плакать. «Что ж вы, говорю, раньше не сказали? У меня и на горище не подмазано, и в каморе всякого хлама навалено под потолок. Куда его девать, зерно? Посреди двора высыпать?» Дура-баба была, о чем горевала — что некуда хлеб девать…
Стешенко (поднимает чарку). Ну, за все, что было, и за все, что будет! За умерших и за живых! За наших бойцов, которые врага добивают.
Андрий. Добивают… А мы сидим тут, в теплой хате, горилку пьем. Где они сейчас, товарищи наши, идут этой темной ночью? Скоро уже к старой границе подойдут… И ты, Павло, не снял свой гвардейский знак? (Кость Романовичу.) Мне так удачно пришлось — в одной дивизии все время провоевал. Два раза был ранен и опять в свой полк возвращался.
Ариша. Как сойдутся, так и фронт вспоминают. Все про войну, про бои.
Андрий. А ты думаешь, Ариша, это забудется?..
Вера запевает: «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять…»
Стешенко (Кость Романовичу). Вот и запели… И песни у них — солдатские…
Кость Романович (Павлу). Чего зажурился, Чумаков? Не довоевал? (Стешенко.) И нам в партизанские воспоминания удариться, Иван Назарович? Рассказать им про Черный Яр?.. Нет, не надо. Отставить воспоминания!
Мусий Петрович (выпивает). Эх, хорошо пошла! Другой раз бывает как-то боком, а на женский день — пошла. (Подкручивает усы, заигрывает с сидящими возле него женщинами, запевает громко и фальшиво: «Ревэ тай стогнэ Днипр широкий». Ему никто не подтягивает.)
Баба Галька. Не трогай его, Верка, это мой кавалер.
Вера. А нехай он вам, с капустой в придачу. Навешал на бороду капусты и лезет целоваться.
Кость Романович (ко всем). Вы думаете, потому они часто фронт вспоминают, что такие уж заядлые вояки? Просто — сдрейфили перед нашими трудностями. (На Андрия.) Полковым завхозом был. Вояка! Небось ни разу и из автомата не выстрелил.
Андрий. Такое мое счастье. На самую проклятую должность угодил. А что вы думаете, покормить вовремя солдат — половина победы.
Павел. Хоть меня не позорьте, товарищ секретарь. Боевую характеристику показать?
Кость Романович. Не надо… Старые характеристики спрячьте на память. Новые будем здесь писать.
Входят Гаша и Нюрка, одетые по-дорожному: Гаша в солдатской шинели, подпоясана ремнем, с кнутом. Нюрка в стеганке и плащ-палатке.
Гаша. Добрый вечер! Приятного аппетита! Нюрка. Здравствуйте! Андрий Степанович тут? Вот вам бумажка от ихнего председателя. Еще сорок центнеров есть у них.
Кость Романович. Чего — сорок центнеров? Где вы были?
Гаша. Да ездили вот с бригадиршей в Глафировку за семенами.
Андрий (Кость Романовичу). Мы им даем ячмень на фураж, тот пригорелый, что спасли тут на пожаре, а у них овес есть лишний. (Гаше и Нюрке). А чего вы так припозднились?
Гаша. Припозднились! Что ж мы — трактором, на третьей скорости ехали, что ли? Коровы молодые, необученные. На них кричишь: «Цоб!» — а они в кручу тянут. Ни руля, ни вожжей в руках. За хвосты тянуть их, подлюк, чи за рога?
Катерина. Раздевайтесь, девчата. Садитесь к столу.
Гаша. А стали подъезжать к мосту, заяц как выскочит из бурьяна, они как хватят в сторону — и дышло поломали, и ярмо, и повозку перевернули до горы колесами. А зерно нáсыпом в коробе, без мешков. Пригоршнями собирали. Эх, работенка!.. Сказала б, да мужчины мешают.
Вера. Работенка веселая… То и нам предстоит, как выедем пахать на коровах.
Нюрка и Гаша садятся за стол.
Гаша (наливает стопку водки, выпивает). И чего правительство не выпустит такого закона, чтоб баб всех — на фронт, а мужиков — сюда?
Вера. Правильно! Хватит им уже, навоевались. Не мы с тобой, Гаша, в Верховном Совете заседаем, так бы и сделали.
Павел (Андрию, на Гашу). Трактористка?
Андрий. Была трактористкой до войны… Морская пехота. Моряк без корабля.
Вера. Что ж мы так неровно сели? Тут густо, а возле Кость Романовича пусто. Я от этих дедов к вам пересяду. Можно?
Андрий (Нюрке и Гаше). Плохая дорога?
Нюрка. Гроб! Ни саньми, ни колесами.
Гаша. Выпила молча и присказки никакой не сказала. Это коровы мне отшибли память… За что вы тут пили?
Вера. За все. За весенний сев.
Мусий Петрович. Не за то пьет казак, что есть, а за то, что будет!
Нюрка. Нельзя по такой дороге на коровах возить, тяжело, порежем их, нечем будет потом пахать. Мы уж так думали с Гашей, Андрий Степанович. Сорок центнеров, двести сорок пудов, дело небольшое — перенесем на плечах. Пятнадцать километров, туда-сюда за день можно обернуться. По пуду возьмем — и то груз. Всей бригадой выйти — за два дня семена дома будут.
Одна из женщин (Мусию Петровичу, громко). Первая бригада на себе хочет семена носить из Глафировки.
Мусий Петрович. А-а! А на ком же? Раз коровы не везут, значит, на себе.
Андрий. Завтра поговорим в бригадах. Я не возражаю.
Кость Романович. Еще бы! Сто лет будешь, Андрий Степанович, ломать голову над графиками и не придумаешь того, что люди тебе подскажут… (Всем.) Вчера он два часа просидел у меня в райкоме со своими расчетами: столько-то плугов, такие-то нормы выработки, — сколько же месяцев будем сеять? Не знаю… По расчетам выходит — три месяца, до июля. Так нельзя же до июля! Не фрицам будем сеять — себе. То при немцах мы вам давали установку из нашего подпольного штаба: купите в каждую бригаду по две колоды карт и соревнуйтесь, кто меньше выработает.
Баба Галька. До июля сеять — до зимы только хлеба кушать.
Гаша. А вы, должно быть, Андрий Степанович, по вашим графикам и на подвозку семян от амбаров тягло планировали?
Андрий. Планировал, восемь коров.
Гаша. Ну, вот, на целых два плуга! А тут дело домашнее, и подавно можно без транспорта обойтись.
Кость Романович. Самое позднее, к середине мая надо нам закончить сев.
Павел (Андрию). Сколько ты тракторов учитывал?
Андрий. Два, сколько же. Больше не дадите?
Павел. Дадим. Еще соберем. Тебе, Гаша, будет машина.
Стешенко. Вот бы еще дерноснимы к плугам приделать. Когда мы уже начнем пахать по всем правилам? Меньше посева осилим, так хоть бы лучше землю обработать.
Андрий. А этот со своими агроправилами! Где я тебе возьму кузнеца, чтоб поделал те дерноснимы? Сами бабы сеялки ремонтируют… Поп со своим, а черт со своим!
Кость Романович. Как, как? (На Стешенко.) Вы что тут — не ладите? Притесняет он науку? Это у него старая болезнь!..
Андрий. Он меня притесняет, а не я его. Хочет такие агроправила навязать бригадирам, что меня же первого придется судить за нарушения. А условий не учитывает. Перекрестный сев? Не могу. Два раза сеялку туда-сюда гонять — не могу. Яровизация? Делай, пожалуйста. Опыты? Бери, кого хочешь. Вот Катерина будет опытами заниматься. Удобрения нужны? Дадим, если колхозу дадут. Пусть собирают пока золу, куриный помет. Только кур у нас не осталось… Верите, Кость Романович, — лежу ночью, рассвет уже близко, а петухи в селе не поют.
Кость Романович. Насчет петухов есть пословица: «Хочь спивают пивни, хочь не спивают, а день будэ!»
Мусий Петрович опять затягивает: «Ще третьи пивни не спивалы».
Вера. Да бросьте вы! Вот дал бог голосу — скрипит, как немазаный журавель на колодце. Давайте мы, бабы, споем. Что они все про посевную? Собрание у нас продолжается или праздник? Какую споем? «На захид солнце»? Можно, Кость Романович?
Кость Романович. Давно хочу послушать.
Вера запевает: «На захид солнце похылылось…»
(Андрию.) В это нам не мешает поверить, что с меньшей площади посева, при хорошей агротехнике, можно больше урожая взять, чем раньше брали со всей площади… Вот товарищ Чумаков на фронте жил ненавистью. Ну что ж, война скоро кончится. А враги у нас есть. Надо быстрее богатеть, быстрее силы набираться!
Андрий (тихо). Я понимаю, Кость Романович, вам тут иначе и нельзя говорить. Начинать год — надо верить, что сделаем что-то. Такая ваша обязанность — подбадривать нас. А небось ночью, дома, и вам страшно становится?
Кость Романович. Что?.. Что ты мне шепчешь на ухо? На этот вопрос я и громко отвечу. Страшно бывает, да. И сегодня страшно стало, когда в трех колхозах в праздничный день песен не услышал… Пять сел спалили немцы дотла. Там еще хуже, чем у вас. И коровы ни одной не осталось. Чем пахать? А посеять надо. Что же делать? Вот к вам пришел за советом… Так бывает мне тяжело, будто первый год работаю секретарем райкома. Но я, когда мне тяжело, не прячусь от людей (на Павла), как вот Чумаков. Я в лесу привык все время проводить с бойцами.
Павел. Откуда вы это взяли, Кость Романович, что я от людей прячусь?
Кость Романович. Ну сторонишься как-то, мало с ними разговариваешь, весь ушел в свои переживания. Я был сегодня у вас в эмтээс. Ваши трактористки не знают даже, где сейчас фронт проходит, какие города вчера освободила Красная Армия. Никто сводку им не сообщил. Не нравится мне такая работа. Вас там с директором двое коммунистов.
Катерина (придвигает к Кость Романовичу тарелку с едой). Кушайте, Кость Романович!..
Кость Романович. Что ты там, товарищ Чумаков, затеял с теми тракторами, что во дворе у вас стоят?
Павел. Ничего такого… Хочу отремонтировать их.
Кость Романович. Но у них же задние мосты не годятся?
Павел. Не годятся… Мы их в сводке вам не показывали. Двадцать машин, которые комиссия приняла, — те на ходу, будут работать, не беспокойтесь. А эти пять я собрал из выбракованных деталей.
Кость Романович. Что же ты хочешь с ними сделать?
Павел. Хочу испробовать одну штуку… Вот шестеренки. (Вытаскивает из кармана шестеренку, показывает.) Это из коробки скоростей. Стерлись зубья с рабочей стороны, не берут, оскальзываются. И заменить их нечем. Самые дефицитные детали.
Кость Романович. Где же ты достанешь их?
Павел. Достать негде… Хочу повернуть их другой стороной. Чтоб это ребро было рабочим. Так они походят еще сезон. А повернуть можно. Всю коробку скоростей.
Кость Романович. Только всего? Просто.
Павел. Не так-то просто. Чтоб скорости не пошли назад, надо и мотору дать обороты в другую сторону. Не задом же наперед ездить?
Андрий. А ты сообрази чего-нибудь, Павло Тимофеевич.
Павел. Вот соображаю. Перестраиваю моторы под левые обороты.
Кость Романович. А нельзя там еще штук пять таких машин собрать?
Павел. Посмотрю… Но уж кто после меня будет работать в нашей эмтээс, тот из этого утиля больше ничего не выжмет. После меня — только на переплавку.
Андрий. После тебя? А ты что, уезжать собираешься?
Павел (ловит на себе взгляд Катерины). Нет, никуда не собираюсь уезжать. К слову пришлось…
Вера (Катерине, тихо). Береги свое счастье, Катерина!
Катерина. Как его убережешь…
Кость Романович. Так чего же ты молчал? Придумал такую штуку — и молчит!
Павел. Не кончил еще.
Кость Романович. Время идет! У нас же и другая эмтээс есть. Я сегодня ночью вызову оттуда директора, расскажу ему. У него восемь машин не собрано из-за коробок скоростей. На старые трактора ведь вся надежда. С заводов новые не скоро получим, танки нужны еще фронту. Эх ты, изобретатель!
Катерина. Запевай еще, Вера!
Мусий Петрович. Что ж никто не пьет, не подносит? Ну и компания собралась! У того живота нету, тот (на Павла) чего-то задумался, у того должность партейная. Наливай, Нюрка! Выпьем за наше соревнование.
Нюрка. Чтоб знамя за весенний сев первой бригаде досталось. Эге? (Выпивает.)
Ариша. Я тебе говорю, Андрий, — больше доверяй нам, бабам. Мы все вытянем, мы жилистые. Прямо тоску наводит он на меня своими думками. Ночью курит и курит и ворочается с боку на бок. Да что ты, говорю, так задумываешься. Посеем! Что мы вытерпели здесь без вас — одним нам только известно. Хуже было — пережили.
Андрий. Ну, за доверие бабам! (Выпивает.) Да оно уже немножко вроде проясняется. Если вот Павло Тимофеич еще тракторами поможет… Мне твоего сада жалко, Иван Назарович. Шел сегодня мимо двора — одни пеньки торчат.
Стешенко. Своими руками порубал… Откуда ни заедут немцы — все ко мне. Обозы, кухня — вода у меня лучшая на все село. И сад. Машины под деревья маскируют от наших самолетов. Да будь вы, думаю, прокляты! Для вас защиту делал? Наточил топор, вышел ночью, порубал все под корень. И подался в лес, к партизанам… А питомника не тронул. Я же мечтал всем колхозникам такие сады насадить.
Павел. У каждого своя мечта была в жизни…
Кость Романович. Была и есть. Ты, Андрий, пеньки видел, а я уже и ямки видел у него, между пеньками. Весной опять посадишь молодняк, Иван Назарович?
Стешенко. Обязательно… Хотя ямок-то я еще не копал… Понимаю, товарищ командир!..
Женщины поют.
Вера (после песни). Забудешься на час, а как вспомнишь, что в пустую хату идти… Я своего Мирона уже раз было похоронила. Он с финской два месяца не писал. Товарищи его, с которыми пошел, пишут, а от Мирона нет писем. Нет и нет. Потом приходит сам. В шинели, в шапке со звездочкой, черный, как цыган, не узнать. От морозов почернел, прямо опалило его всего. Живой. Только вот тут, на щеке, царапинка от пули… А теперь, должно быть, не дождусь ни беленького, ни черненького. (Плачет.)
Катерина (встает). Я, бабы, хочу выпить… Сегодня наш день. И праздник наш, и слезы наши, все — нам. И посевная будет наша, бабья, и лето будет наше. Нам, бабам, досталось в этой войне больше всех. Кто дальше живет, до тех хоть фронт не доходил. А мы фашистов повидали… Давно они тут жили? Вот за этим столом пили пиво, пели свои песни.
Нюрка. Ну и песни у них: «Ай, цвай, гав, гав!..»
Катерина. Сколько наших людей погубили проклятые! Разорили нас. Пришли вы ко мне в гости — посадить не на что. Пустая хата. Ну, это наживем опять. А вот молодость свою не вернем. Наша молодость короткая. Сорок лет — бабий век. Прошла она в труде, в войне. Строили, строили и опять строим… Ну что ж, на нас враги и так, и этак, пусть они что хотят, а мы — свое!.. Построим, бабы, снова все, как и было! Нерушимо, навеки! Нам — на здоровье, тем, кто зла нам желает, — на погибель. За детей ваших! За хорошую жизнь! (Выпивает, садится.)
Мусий Петрович. За хорошую жизнь!.. По всему свету!.. (Выпивает.)
Все немного захмелели, беседа становится беспорядочной.
Стешенко (Павлу). Четыре года пожил я всего с женой, Павло Тимофеевич. Двое ребят остались. И не женился. Вот ее сватал (на Марфу), она тогда еще девушкой была. Не пошла за вдовца… А сейчас сыны на фронте, сестра померла. Один душою живу… Посватать разве опять Марфушу?
Марфа, нагнув голову, теребит концы платка.
Катерина. Возьмите меня в свахи. Я ее уговорю.
Кость Романович. Андрий Степанович! Скоро подадут лошадей?
Андрий (смотрит на часы). Через двадцать минут. Вы же заказали к десяти. Подседлают, верхом поедете.
Марфа (Стешенко, который что-то говорил ей тихо). Не надо сейчас об этом, Иван Назарович… Вон Павлуша закурить у вас просит, сверните ему.
Кость Романович (задумчиво). А мы — свое… Хорошо сказала ты, Катерина!..
Вера (подходит к Кость Романовичу, обнимает его за плечи). Эх, товарищ секретарь, Кость Романович. Посеем! Все выполним!.. Нам бы еще гектара два мужиков таких, как вы, посеять!
Женщины поют.
Андрий (Мусию Петровичу). За все наступление от Сталинграда до Днепра ни одного дня не был полк без хлеба. Каждую неделю весь личный состав через походные бани пропускал. Так у меня ж там, дед, и народ был! И повара были — гвардейцы, и сапожники — гвардейцы. А что я тут с тобой, старым хреном, буду делать?
Мусий Петрович (не расслышав). Эге, правильно говоришь! Старый конь борозды не испортит.
Кость Романович встает, одевается.
Павел. Уезжаете? За что вы меня, Кость Романович, постыдили? Я тоже немало потрудился для народа. Не сторонился я людей. Пять премий получил от Наркомзема. Не за плохую работу я их получил…
Кость Романович. И еще придется нам потрудиться, Павел!.. В нашей жизни есть место большим чувствам. Врагам отплатим. Кто-то за нас дойдет до Берлина. Но одной ненавистью нельзя жить. И любить у нас есть кого… А горе — у всех… (Отходит к окну и до конца сцены стоит там, одетый в полушубок, смотрит в темное окно.)
Катерина (Павлу). Его сын был вместе с ним в партизанском отряде. Лет шестнадцати парень. Такой красивый, весь в отца, и ростом ровный с ним. Идут, бывало, рядом — не различишь издали, который отец, который сын.
Павел. Погиб?
Катерина. Ранило его тяжело. До сих пор в госпитале лежит. Врачи говорят — слепым останется.
Баба Галька. Катерина! Закуски не хватает. Вареники там остались?
Катерина идет к печке с чашкой.
Андрий (Арише). Хороший тост подсказала ты, Ариша. С таким тостом можно еще выпить… За доверие бабам! (Выпивает.)
Мусий Петрович. По всему свету!..
Вера запевает: «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять, тает снег в Ростове, тает в Таганроге, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…» Павел сидит, опустив голову.
Затемнение.
Когда сцена освещается вновь, гостей уже нет. Стол отодвинут в сторону. Павел с Катериной сидят на лавке.
Павел. Знаешь, Катя, что такое сальские степи?
Катерина. Я там не бывала, не знаю…
Павел. Море. Будто море замерзло — такая равнина. С кургана глянешь — на пятьдесят километров видны впереди села. Лесов у нас нет. Ковыль да камыш на Манычах. И ветер. Круглый год ветер. Ветру там простор. Летом песок несет из пустынь, мгла стоит над землей, солнце, как в дыму, всходит и заходит, а зимою снег метет.
Катерина. Что ж у вас там хорошего?
Павел. Что хорошего? Не знаю, Катя… А вот один боец из моей роты, тоже сальский, пока жив был, носил под гимнастеркой в ладанке щепотку нашей земли… Наш край — родина колхозов. Оттуда началось. У нас еще до сплошной коллективизации коммуны были. Мой колхоз с двадцать четвертого года существует, двадцать лет. Приходили отцы наши с гражданской войны и начинали социализм строить. Командира полка выбирали председателем коммуны, а сами за плуг становились… Наши места, Катя, знаменитые. О совхозе «Гигант» слыхала? Фабрика зерна. Это — у нас. Сколько мы хлеба давали! Идешь, идешь степью, пшеница шумит по обе стороны дороги, километров на двадцать.
Катерина. А послушать тебя — вроде пустыня там, сушь.
Павел. Сушь, да. А земли у нас очень плодородные. Там и была пустыня, до советской власти. Дикая степь, табуны ходили. Потому и дорого оно, Катя, что все нами построено. На глазах выросло. Я как стал трактористом, восемь лет в одном колхозе землю пахал. А зимою по хозяйству работал. Я много сделал для своего колхоза. Три водокачки-ветрянки сделал и движок для электростанции. Легкие были на ходу, от самого маленького ветерка крутились. Жил я как раз возле мэтэфэ, так, бывало, и засыпаешь под музыку — крутятся лопасти, как веретено жужжит, и просыпаешься рано утром, скотину уже поят, слышишь — работают мои движки… Механики называют ветер — голубой уголь.
Катерина. Почему — голубой уголь?
Павел. Ну, уголь, потому что заменяет горючее для машин, а голубой — с воздуха, с неба… Я учиться хотел, собирался, парнем еще, в город ехать, да так как-то жизнь сложилась, не пришлось. (Достает из кармана гимнастерки фотокарточки, показывает Катерине). Наш колхоз… Это наши фермы. Это клуб, правление… Сад. Видишь, какой сад был? А раньше считалось, что в нашей местности сады не могут расти… У нас был и виноградник. И в степи сажали лесополосы у дорог, чтобы защитить посевы от суховея… Это — эмтээс. Моя бригада в полном составе. Хорошие ребята! Этот, писали мне, — командир танковой роты. Этот Героя получил за Днепр. Этот погиб… А это мое семейство… В последний день снялись. Меня двадцать третьего июня взяли в армию…
Катерина (долго рассматривает карточку). Маленький — сын?
Павел. Сын. Сына мало помню, не успел к нему привыкнуть, а дочка все стоит перед глазами — как она в Сальске на вокзале прощалась со мной. Дочке двенадцать лет было.
Катерина. На тебя похожа. Плакала, слезинки на глазах… А у жены лицо суровое. Красивая… Брови нахмурила… А может, чуяло сердце муки впереди… Как ее было звать?
Павел. Наташа.
Катерина. Ты ее очень любил?
Павел. Любил… Первое время мы хорошо с нею жили. А потом профессия моя не понравилась ей. Не нравилось, что все лето в степи живу, домой грязным прихожу. Она, когда я еще комсомольцем был, хотела, чтобы я в сельсовет поступил или в кооперацию, на должность, чтоб и ей в колхозе не работать… Ну и трактористы разно жили. Иной парень прославится выработкой, глядишь — дом ему сельсовет строит новый, усадьбу большую отводит. Я ни у кого ничего не просил. Плохим был хозяином. А ей хотелось хорошую обстановку купить, цветы любила. Цветов у нас в хате полно было, на всех столах, подоконниках, мне со своими чертежами и примоститься было негде. Случалось даже — скандалили с ней из-за этого. Я ее цветы — за окно, а она мои чертежи — в печку. Ну да что теперь вспоминать это… (Прячет карточки в карман, свертывает одной рукой папиросу, достает из кармана зажигалку — зажигалка не горит.)
Катерина. Постой, у меня где-то кресало было. (Находит на припечке кресало.) Только я кресалить не умею. Это бойцы у меня забыли.
Павел. Вместе выкрешем. (Дает ей трут и кремень.) Держи так, а я буду кресать. (Крешет, трут долго не загорается.) Тоже — техника…
Катерина. Ой! (Подносит палец к губам.)
Павел. По пальцу? Больно? Вот беда тебе со мной! Прости, Катя, это я с левши, еще не научился. (Обнимает ее).
Катерина. Ничего. Прикуривай, загорелось. (Машет трутом, раздувая искру.)
Павел прикуривает.
Павел. Нелегко, Катя, забыть родные места. Сколько мы вложили труда в свою землю! У нас природа немилостивая. У нас там дуром ничто не вырастет. Посадил деревцо — поливай все лето, только тогда примется. Я на сорок первый год намечал и в степи построить водокачки. Хотел ветром поднять воду, насосами. Пустить ее на поля, в сады…
Катерина. Ты хочешь уехать, Паша? (Обнимает Павла). Чтоб опять я осталась тут одна?.. Не рви ты мне сердце. Я твою боль, как свою, чувствую.
Павел. Нет, я тебя не покину… Если уедем, Катя, так вместе. А?
Катерина (долго молчит). А я Украину не видела в крови, в пожарищах? Не хочется разве мне увидеть ее опять счастливой?.. Вот так вы, мужчины, всегда. Свое… вам — дороже…
Павел. Сердишься, Катя?
Катерина. Нет…
Павел. Не уеду я…
Катерина. Да?.. Паша, я всю жизнь одна. Я еще и жить не начинала. Дура-баба, два раза замужем была, а говорит — жить не начинала. Нет, Паша, правда.
Павел. Верю…
Катерина. Знаешь, как я выходила за Матвея? За первого, которого бросила? Тебе, может, говорили уже: «Муж у нее кулак был…» Когда наш отец умер, мать осталась одна, братишка, сестренки маленькие, хозяйства нет, нечем нам жить, и тут посватал он меня. Он вдовец был, ему хозяйка была нужна. Крепко жил, скотом торговал, сеял много, и жена его как раз в жнива померла от заражения крови, косой порезалась. А мы голодали… Мать говорит: «Иди, хоть сама не будешь голодать, а может, и нам пособишь». Подумала, подумала, деваться некуда — пошла. Как чужие жили мы с ним. Он свое, я свое. Первый год при колхозе он кладовщиком был. Каждую ночь у него банда собирается, водку пьют, власть ругают. Я от него еще до высылки ушла. Все люди скажут. Первой бабой была я на селе такой, что мужа бросила нелюбимого… Загубила только молодость свою.
Павел. Долго прожила с ним?
Катерина. Три года. Как сон страшный вспоминается то время… А второй, Василь, тот хороший был человек. Работал в колхозе неплохо, не совестно было за него перед людьми. Только тихий, робкий. На людях чтоб ему выступить, слово сказать — ни за что! Спору, крику, как огня, боялся. Пасечником он работал. А в армию его взяли, как оно называется, в пэвэо, что ли, вот те лебедки крутить, что воздушный шар поднимают… Когда передали мне люди, что он в лагере под Черкассами, в плен попал, я все продала, что было, тряпки, какие оставались, продала, телку продала — заплатить начальнику лагеря, чтоб выпустил. Пришла туда, смотрю: ходят за проволокой не люди — тени. Вызывают Василя Дорошенко. Вышел он за ворота — если б встретила на улице, не узнала бы. Потому и выпустили, что уже помирал. Черный, худой, волосы клочьями, штаны, оборванные до колен, а рубахи совсем нет, дерюжка на плечах. А был мужчина полный, видный такой. И не улыбнулся мне. Довела я его до речки, обмыла, надела чистую рубаху, стала его кормить — не ест. «Не могу, говорит, глотать, в середке все побито». Пятнадцать километров прошли до хутора, тут нас одна старуха пустила переночевать, он как лег, два дня пролежал и скончался там…
Павел. Сын от первого мужа был?
Катерина. От первого был сынок, Ваня, семи лет утонул в озере. И больше не было детей… Видишь, Паша, какая у меня жизнь!
Павел свертывает папиросу.
Опять кресать будем? Нет, уж теперь ты держи, а я буду кресать. (Выкрешивает огонь, Павел прикуривает.)
Павел. Не пара я тебе, Катя. Тебе муж нужен, хозяин в доме нужен. А какой я хозяин без руки? В эмтээс я работаю — трактористы мне помогают. А тут я что ж, по теории буду тебе рассказывать, как плетень починить или крышу перекрыть? Колодезь вон завалился, к соседям по воду ходишь. Телка растет, сарай надо строить. А я и папиросу прикурить сам не могу.
Катерина. Паша, глупый ты! Мне не хозяин нужен — человек, ласка твоя. У меня руки здоровые, я сама все сделаю. Мы за войну все научились сами делать. Полюбила я тебя, привыкла к тебе, будто мы с тобой век живем. Не уходи от меня. Я вижу — томишься ты. Не бросай меня одну. Я такого, как ты, всю жизнь ждала. Не уходи, Паша!..
Павел. Ждала?.. (Долго, чуть отстранив ее от себя, смотрит в лицо Катерине, осторожно приглаживает ее волосы.) Нет, не уйду…
Занавес.
Действие второе
Тихий вечер в поле. Солнце на закате. Степь местами черная, недавно вспаханная, местами покрытая зелеными всходами. На заднем плане — Горюнова балка, место расстрела звена Ольги Хромченко. У братской могилы памятник — кирпичный, побеленный известью, украшенный свежей зеленью обелиск. Где-то вдали гудит трактор. Слышна песня — идут с поля женщины. Время — канун Первого мая. Дорогою проходят Андрий и Мусий Петрович, поднимаются на курганчик у дороги — старый дзот.
Андрий. Первые всходы хороши. Уже ворона спрячется. Пошло все в рост… А жито какое на той высотке! А мы ж там и не пахали.
Мусий Петрович. Жито? Доброе жито будет.
Сзади к Мусию Петровичу и Андрию подходит Максим Трохимец с топором и пилой.
Максим. Пáдалица. То мы при немцах там сеяли жито и не убрали его. Осыпалось и выросло опять само.
Андрий. Сколько его там?
Мусий Петрович. Сколько? Да гектара два будет. Пудов сто возьмем… Только кого туда пошлешь косить, когда поспеет? Тот бугор раз десять из рук в руки переходил, по нем и наши лупили и немцы. Там неразорвавшихся мин — как на бахче кавунов в урожайный год.
Андрий. Саперов бы туда сначала…
Максим. Однолично убрал бы хозяин. По колоску бы повыдергал осторожненько.
Андрий. Одна у тебя песня, Максим… Где был?
Максим. У бабы Гальки на огороде.
Андрий. Что там?
Максим. Рассаду поливают. Чигирь наладил им. Крутится…
Андрий. А тут видал, как крутится? Колосовые кончаем. А ты что говорил?
Максим. Что я говорил? Ничего не говорил… Посеем, конечно. Для того и земля, чтоб пахать ее и сеять… Только если б единолично работали, я бы вон там огреха не бросил. (Показывает рукой.) Ишь, какой просев! От края до края порожней сеялкой проехали… Хлеборобы!..
Мусий Петрович. Какой просев! Присмотрись лучше. То там окоп, траншея. Объехали ее. Ты мою бригаду не позорь.
Идут Нюрка с девчатами. Тарахтят повозки, слышно: «Гей, гей! Цоб, цоб, лыса! Цобе!»
Нюрка. Дальше объезжайте, девчата! Туда, аж за курган.
Андрий. Куда направляешься, Нюра?
Нюрка. Идем вторую бригаду на буксир брать.
Андрий (Мусию Петровичу). Слышишь, Мусий Петрович? Тебя — на буксир.
Мусий Петрович. Меня? Дида своего лысого пусть возьмут на буксир! Я еще вчера кончил.
Андрий. Как — вчера?
Мусий Петрович. Вчера. А то что ж, прохлаждался бы тут с вами? Бригада там, а я тут.
Нюрка. Кончили? А то чьи люди работают? (Показывает вдаль.)
Мусий Петрович. Люди? Мои люди. То они сверх плана сеют.
Первая девушка. Ой, пойдем, диду, перемеряем!
Вторая девушка. Плохо наше дело, Нюрка! Пропало знамя…
Андрий. А говорил вчера — восемь гектаров осталось?
Мусий Петрович. Сбрехал, Андрий Степанович. Согрешил на старости лет.
Андрий. Усыплял бдительность противника?
Мусий Петрович. Эге, напускал туману, чтоб эти сороки не пронюхали, что кончаем.
Первая девушка. Нечестно, диду!
Мусий Петрович. Эх вы, первая бригада! Названием только первая!
Нюрка. Ничего, диду Мусий. Еще посмотрим. Еще пропашные впереди.
Мусий Петрович. Чтоб я им поддался — да никогда! Я ж тебе говорил, Андрий Степанович: старый конь борозды не испортит.
Нюрка. Ну, довольно, расхвастались… Так что будем делать, девчата? Назад ехать? (Одной из девушек.) Санька! Сколько у нас ячменя осталось? До вечера высеем? Андрий Степанович! Можно тут загон отмерить?.. (Кричит поехавшим на коровах.) Эй, девчата! (Свистит.) Стой! Заворачивайте сюда! (Девчатам.) Посеем и мы сверх плана, в фонд Красной Армии. А?
Первая девушка. Да уж от них не отстанем.
Нюрка (за сцену). Загоняйте отсюда все плуги в одну борозду, вон на тот кустик. А ты, Санька, налаживай сеялку.
Мусий Петрович. Не так, не так, Нюрка! Нельзя пахать на гору. Пойдет дождь, и вся вода стечет по бороздам. Надо так, поперек косогора. Эх вы, пахари!
Нюрка. Ну, хватит вам, диду Мусий, не дразните, а то заплачу. Тут так хотелось на первой посевной прославиться!..
Первая девушка. Мы и чехол сшили для того знамени от дождя, чтоб брать его с собой в поле…
Андрий. Дид Мусий поставит его у себя на высоком кургане, и вам будет видно.
Вторая девушка. Говорили тебе, Нюрка: пошли кого-нибудь к ним в разведку, чтоб в точности узнать, когда они кончать собираются. Мы бы и домой не пошли, ночью бы досеяли. Ночь была такая месячная.
Нюрка. Говорили, говорили!.. У тебя мать во второй бригаде работает, не могла у матери выпытать. (Плачет.)
Мусий Петрович. Верно — плачет! Перегнули немножко, Андрий Степанович!.. Вот так всегда: пошумят, покричат — и в слезы. Морока с ними!.. Ну, пойдемте, девчата! Не падай духом, Нюрка! Сама же говоришь — еще пропашные впереди. Пошли! Помогу вам обойти загон. Как шнуром отобьем! Пойдем, Максим, с нами. Станешь за маяка посреди загона, на тебя будем держать направление. Здоровый маяк, далеко видно! (Уходит с девчатами и Максимом.)
Андрий (уходящим). Работать до темноты, а потом сюда все собирайтесь. Проведем митинг, и будете заступать по очереди в почетный караул.
Подходят Катерина, Вера, Марфа с сыном, Павел.
Кончили ранние колосовые, Павло Тимофеевич.
Павел. А нам подарок к Первому мая — четыре новых трактора получили. С Алтайского завода. Вон откуда идут машины к вам на Украину!
Андрий. И трактора гудят, и коровы мычат, и лопатами землю копаем — такой посевной на моей памяти еще не было.
Марфа. Не было, не было такого… Ой, болят рученьки-ноженьки! (Садится на землю.)
Павел. Здесь будет митинг?
Андрий. Здесь. Кость Романович обещал приехать.
Катерина (Павлу). Вот в этой балке расстреляли девчат… И пятеро бойцов тут лежат. Освободители наши… И Михайло Стеблицкий.
Павел (отводит Андрия в сторону, приглашает взглядом и Катерину подойти к ним). Андрий Степанович! Почему ты в тракторной бригаде одной только Бабичевой сказал, чтоб пришла сюда в почетный караул? Там еще есть достойные.
Андрий. Кто?
Павел. Первая ударница — Гаша Пономаренко. Незнакомую машину освоила, трофейную. Одна, без напарника, вспахала за посевную больше всех.
Андрий. Она и до войны была хорошая трактористка. Я помню.
Павел. Обиделась она на тебя. У нее сестра здесь лежит…
Андрий. Знаю. А что делать? Вот давай посоветуемся… Если по работе ее ценить, то, конечно, заслуживает…
Павел. А в чем же дело?
Андрий. Муж ее — дезертир. Замаранная семья.
Катерина. Кто вам говорил?
Андрий. Да рассказывали люди…
Катерина. Не тех людей вы спрашивали, Андрий Степанович. Видно, тех спросили, которые, может, даже радуются, когда заметят на человеке пятнышко.
Андрий. Не знаю, я здесь не был тогда. Но это же правда, Катерина, что Митька от своей части отстал, когда мы отступали, и тут при немцах занимался хозяйством, крупорушку завел? Люди головы лишались, а он богатеть собирался. Так?
Катерина. Так… Когда Красная Армия вернулась, его расстрелять хотели, а потом взяли опять в солдаты.
Павел. Это она мне рассказывала.
Катерина. По мужу ее не суди, Андрий Степанович. Я знаю, как они жили. Она была стахановкой, а он ее премии пропивал да ревновал к трактористам. Все ходил вокруг вагончика, подслушивал, с кем она разговаривает… Она, может, и сама не рада была ему, когда он вернулся. Но все-таки муж, дети от него, жалко.
Павел. А как она раненых спасла?
Катерина. Двух раненых красноармейцев выходила. В клуне прятала под соломой, кормила, перевязывала. И Митька не знал. Потом баба Галька вывела их к партизанам…
Андрий. О раненых я не слыхал…
Катерина. Я же и говорю — не тех людей спрашивали… Опорочить ее не трудно, да трудно будет потом ей жить.
Павел. Если к ней тут такое отношение, я ее пошлю в другой колхоз.
Андрий (долго молчит). Прибавили проклятые фрицы работенки председателям колхозов. Кто как прожил без нас это время — и это все надо теперь разобрать… Где она? В бригаде?
Павел. Там.
Андрий. Ну иди за нею, зови ее. Вон уже знамя несут.
Павел уходит. К Андрию подходят Нюрка и девушка из ее бригады.
Ну что? Обошли загон?
Нюрка. Пашут. Кончат к вечеру…
Девушка (смотрит на дорогу). Знамя несут.
Нюрка (оборачивается). Уже?.. Здесь будете вручать?.. А знамя какое дорогое! Старое знамя… (Умоляюще). Дядя Андрий! Вы бы качество посмотрели. Ни одного огреха. Углы все распахали. По-над дорогами прошли сеялкой поперек. И на сколько мы там отстали от дида Мусия — на один день!
Андрий. Сегодня, Нюра, не будем вручать знамя никому. Подождем до полного окончания посевной. Управитесь со всеми культурами, тогда уж подведем итоги.
Нюрка. Да? Ну тогда мы нагоним свое! Санька, слышишь? Еще потягаемся со второй бригадой. Беги, скажи девчатам. А то расхлюпались все. Одной рукой коров погоняют, другой слезы утирают.
Андрий. С бригадира пример взяли.
Нюрка. Это я дома такая слабая на сердце стала. Свои люди — и поймут, и пожалеют. А в Неметчине, верите, дядя Андрий, как было тяжело, а не плакала. Там над моими слезами только посмеялись бы.
Андрий. Не вспоминай ту Неметчину сегодня, будь она проклята. Смотри вон — поля зеленеют. Наши поля. А солнце какое красное… Как там на фронте бойцы наши встретят Первое мая? Какие города еще возьмут?..
Нюрка. И рада бы не вспоминать, да подружки мои там остались… На ветер заря горит… А может, к дождю.
Андрий. К дождю, к дождю. К урожаю!..
Затемнение.
Через минуту, когда загорается опять свет, на сцене те же декорации. Вокруг памятника и на переднем плане много колхозников. Луна и фонарь освещают развернутое под обелиском красное знамя.
Андрий (стоит на возвышенности у памятника, заканчивает речь). Мы честно потрудились, чтоб приблизить победу над врагом. Ко дню Первого мая закончили сев колосовых. И мы пришли встретить этот светлый праздник к нашим братьям и сестрам, которые лежат здесь… У этого старого знамени будут стоять в почетном карауле те, кто крепко держит его сегодня и несет вперед. (Сходит вниз, делает знак Мусию Петровичу и одной женщине, чтоб подошли.) Становись, Мусий Петрович. А ты, Трофимовна, сюда. (Подает им винтовки, взятые у кого-то из толпы.) Возьмите оружие.
Мусий Петрович (тихо). Сказать надо что-то?.. (Взяв винтовку, громко.) Служу Советскому Союзу! (Становится у памятника с винтовкой к ноге).
Колхозники стоят вокруг в молчании. На переднем плане — баба Галька с женщинами.
Баба Галька (тихо). На веку — как на долгой ниве. Я, бабы, и девятьсот пятый год помню… Вот тут собирал мой Иван Маркович мужиков на Первое мая, в этой самой балке. Еще только начиналось. Листовки читали. Бой был с полицией. Семь человек наших засудили на каторгу в Сибирь. Один говорил на суде: «Все ж таки одолеет трудящий народ ворогов. Может, не скоро, еще не все к полному сознанию пришли, но одолеет». А оно вон как обернулось — через малое время опять революция. И я дожила…
Андрий делает знак Мусию Петровичу и женщине, они отходят от памятника.
Андрий (передает винтовку другой женщине). Становись, мать. (Вторую винтовку передает Вере).
Женщина (тихо). О чем они думали, когда вели их сюда? Уже пушки гремели за бугром… Оля, детка, не дождалась ты светлого дня… (Берет задрожавшей рукой винтовку, становится на место Мусия Петровича. У другого угла памятника становится Вера).
Слышен шум подъехавшей автомашины. К толпе подходят Гаша, Павел и Кость Романович. Андрий и Катерина выходят на передний план.
Кость Романович (Андрию). Провели уже митинг? Опоздал я.
Андрий. В тракторной бригаде были?
Кость Романович. Где я только не был сегодня! Вот их (на Гашу и Павла) подвез… Она мне по дороге рассказывала о себе.
Гаша (Андрию). Здравствуйте.
Андрий. Здравствуй, Гаша… Тебе заступать в почетный караул.
Гаша. Так, может, домой сбегать, переодеться?
Андрий. Не надо, не успеешь.
Гаша. Я, Андрий Степанович, хотела вам сказать… И вам, Кость Романович…
Андрий. Скажи.
Гаша. Дети у меня, двое… Что я им про отца буду говорить, когда вырастут?
Кость Романович. У них и мать есть.
Гаша. Вот. Я за все должна ответить. Но за детей больше — моя кровь. Вырастут, вот тогда спросите меня: «Каких защитников родины ты воспитала?»
Кость Романович. Спросим.
Гаша. Как сама люблю эту нашу землю, так и их научу любить!.. (Отходит к памятнику в толпу.)
Павел (смотрит ей вслед). Этим словам верь, Андрий. (Отходит.)
Андрий (Кость Романовичу и Катерине). Забывает свое, стал о людях думать… Это ты ему душу отогрела.
Катерина. Не знаю… Все вспоминает свои сальские степи…
Андрий уходит к памятнику, ставит в почетный караул Гашу.
Гаша (принимая винтовку). Поклон тебе, сестричка, первомайский… И вам, девчата… И вам, товарищи дорогие, незнакомые…
Кость Романович. Незнакомые… Написали родственникам этих бойцов, что похоронены здесь?
Катерина. О четырех известили. Один родом из Канева, зимою мать приходила сюда. А у одного так залило кровью документы, что не узнали, как и зовут.
Андрий возвращается к Кость Романовичу. Павел и Катерина отходят в сторону. В степи, за людьми, собравшимися у памятника, — тихая лунная ночь. Изредка налетает ветер, качает высокую траву у дороги.
Кость Романович. В зареченских колхозах плохо дело. Придется тебе, Андрий, послать в Сосновку одну бригаду с плугами на помощь. Сам знаешь, какое там положение. Тут трудно, а там — вдесятеро.
Андрий. Ну, что ж, пошлем человек двадцать из разных бригад. И Катерину пошлем туда.
Кость Романович. Да, да. Туда таких запевал, как она, нужно!..
Отходят, разговаривая.
Катерина. Хорошо здесь ночью. Дышится вольно…
Павел. Я люблю степь. По лесу идешь, идешь, и все стена перед тобою, не видно, что впереди. А тут — простор…
Катерина. Жить будем, Паша. Погибшим — вечная память, а живым — жить… Ты и для нашего колхоза много сделаешь. Построим все, как и до войны было, зацветет колхоз — хорошо будет у нас…
К Павлу и Катерине подходят Марфа Стеблицкая и Стешенко.
Стешенко. Марфа Ивановна сказать тебе что-то хочет.
Марфа. Я плохо работала на посевной или хорошо?
Катерина. Хорошо, Марфуша.
Марфа. Так чего ж Андрий меня не выкликает? Почему я не могу возле памятника постоять?
Катерина. Мы думали, тебе тяжело будет.
Андрий (подходит к Марфе). Разволнуешь ты людей. Тут матери, сестры…
Марфа. Я не буду кричать, Андрий Степанович. Я уже столько выплакала!.. Не встанет он на мой голос…
Андрий. С Ганной Архиповной тебя поставлю.
Марфа отходит.
(Стешенко.) Заступай, Иван Назарович.
Стешенко подходит к памятнику, берет у Гаши винтовку и становится на пост по всем правилам — подтянувшись, одернув рубаху, с солдатским поворотом через левое плечо. На место женщины становится Вася Стеблицкий. Кость Романович стоит возле Павла и Катерины. В группе женщин, в стороне, слышен разговор.
Женщина. Осенью, как покончаем работы в поле, разобьем тут сад. Цветов насажаем вокруг памятника. А памятник сделаем другой, высокий, чтоб далеко было видно. Их могилы здесь, а наши, может, где-то под Курском или в Белоруссии лежат. Там тоже люди память о них берегут…
Кость Романович. Во всех колхозах митинги проводят в поле. В селах нет, все вышли на сев, старый и малый. Как работают люди!.. Ведь посеем! Теперь уж видно, что посеем (Павлу). Сколько тракторов освобождается здесь?
Павел. Две машины можно уже снять.
Кость Романович. Посылай их сегодня же ночью в зареченские колхозы. Чтоб с утра начали там пахать.
Марфа (подходит). Вам из райкома, Павло Тимофеевич, звонили сегодня утром в правление.
Павел. Кто звонил?
Марфа. Не знаю, машинистка, что ли. Письма там какие-то вам.
Кость Романович. Да, я и забыл! Я их захватил. (Ищет в карманах пиджака). Письма тебе пришли на райком. Два письма.
Павел. Откуда?
Кость Романович. Одно — с московским штампом… Вероятно, писал в бюро, что дает справки насчет эвакуированных?
Павел. Я оттуда получил ответ. (Берет письма).
Марфа (Катерине, тихо). Зачем я сказала? Может, там что плохое для тебя?
Павел (разорвал конверт, читает. Андрий присвечивает ему карманным фонариком). Из Наркомзема…
Андрий. Из Наркомзема?..
Павел (читает про себя. Катерина, придвинувшись к нему, заглядывает через плечо). Из отдела кадров… Предлагают ехать в Ростовскую область, в нашу эмтээс…
Марфа отходит.
А, это наш председатель райисполкома постарался. Побывал в Москве. Вот и от него записка. (Читает про себя.) Да… О районе пишет. Один он остался там из старого руководства…
Кость Романович. Предписание Наркомзема — это еще не все. Ты член партии, на учете у нас состоишь. Другая республика. Без решения ЦК не отпустим.
Павел (перечитывает письмо). Никифор Степанович… Хороший мужик. Давно он там… Они могут и через ЦК подтвердить, Кость Романович, если я дам согласие… А может, поедем, Катя? А?
Катерина. Не знаю, Паша. Дай подумать… И нашли же они тебя!..
У памятника, по знаку Андрия, Стешенко и Васю Стеблицкого сменяют Нюрка с одной девушкой. Они успели сплести большой венок из полевых цветов. Поклонившись могиле, Нюрка кладет венок на памятник, хочет что-то сказать, но волнуется, не находит слов, молча берет винтовку у Стешенко и становится на его место.
Павел. А второе, должно быть, с фронта. (Разворачивает второе письмо-треуголку.) От дочки!
Катерина вздрагивает.
(Жадно читает). Живы дочка и жена!..
Катерина отстраняется от Павла, будто ее толкнули в грудь. Павел быстро пробегает глазами строчки, взглядывает на Катерину, опять опускает голову, читает.
Коля умер в лагере. Маленький… А они спаслись. (Читает.) «Из лагеря нас повезли эшелоном на Кавказ строить укрепления, а мы не захотели помогать немцам против Красной Армии и убежали от них, ходили по лесам и встретили партизан, и они взяли нас в свой отряд». В партизанах были… «Папа, если ты живой, приезжай к нам, я очень скучаю по тебе, и мама плачет… Мы приехали домой, а дома нашего нет, мы живем в землянке, нашу хату спалили фашисты… А Колю, когда он умер в лагере, они у нас взяли, и мы не знаем, где его похоронили… А мама тебе не пишет, потому что ты там женился… Мама лежала в госпитале раненая, ее ранило в ногу, а сейчас ходит на костылях, но резать ногу ей не будут, доктор говорит, заживет… Маму медалью наградили…» (Перечитывает про себя письмо.) Живы, дома!..
Катерина встает. Павел смотрит на нее. Она идет по дороге в поле.
Катя!..
Кость Романович. Погоди. Тебе сейчас ей нечего сказать… Э-эх!.. Катерина! (Андрию.) Она еще не стояла в карауле? Иди сюда!
Катерина медленно подходит.
Куда же ты уходишь? Тебе заступать в почетный караул.
Катерина умоляюще взглядывает на Кость Романовича. Она бы сейчас ушла в поле, выплакалась бы где-нибудь в одиночестве. Кость Романович, не замечая ее немой мольбы, крепко берет ее за руку.
Кто с нею станет? (Андрию.) Идите вдвоем. Тебе надо было первому стать. Председатель! Службы не знаешь.
Андрий и Катерина идут к памятнику. Она приостанавливается на минуту, оглядывает женщин, будто ищет на их лицах сочувствие или хочет сказать что-то. Но у каждой свое горе, каждая думает о своем, и никто еще не знает, что случилось с нею. Кость Романович возвращается к Павлу, отошедшему в сторону.
Что решаешь, Павло Тимофеевич?
Павел молчит.
Занавес.
Поле у лесной опушки. Видны ровные ряды невысоких подсолнухов. Вера, Марфа Стеблицкая и другие женщины из бригады Катерины рыхлят тяпками междурядья. Через межу — поле первой бригады, рядки сахарной свеклы. Там работают, тоже с тяпками, Нюрка со своими девчатами. Женщины сходятся на меже, отдыхают.
Нюрка. А еще такую песню сложили мы с Маринкой. Вот послушайте. Будто пишем мы оттуда письмо домой. (Поет.)
Вера, уловив мотив, без слов вторит Нюрке.
Марфа. Такая коротенькая?
Нюрка. Я с середины начала. Она длинная. Там вначале и про то, как нас в эшелоне везли… И еще одну песню мы сложили. Это уже будто нам прислали письмо с Украины, от наших родных, и мы с Маринкой читаем его. (Поет.)
Сами себя утешали. Как выйдем в поле, так и запоем. Послушаешь: там поют девчата, наши русские голоса, там ноют, как в колхозе на Украине. А оглянешься кругом — нет, чужая земля…
Вера. Вы у хозяина работали?
Нюрка. У хозяина. Восемь коров доили с Маринкой, десять свиней было на наших руках, и еще в поле гоняли нас каждый день. Три часа в сутки спали.
Девушка. А жених твой не бросит тебя, Нюрка, за то, что в Германии побывала? Скажет — гуляла там с фрицами.
Нюрка. Если б хотела с ними гулять, так не сбежала бы… Идут поезда, а на вагонах надпись: «Нах Сталинград» — в нашу сторону. И на платформах ехала под брезентом, с какими-то ящиками, что под Сталинград они отправляли, и в вагоны забиралась. Зима, морозы, а я в одной стеганке, той, что из дому взяла, и в шлерах немецких на босу ногу.
Вера. Если умный, то не бросит.
Нюрка. Вроде умный был…
Девушка. Пишет тебе Петро?
Нюрка. Пишет. В последнем письме писал, что до каких-то больших гор дошли они, город там один взяли, а какой — не назвал.
Девушка. Это им не разрешается — место называть.
Марфа (смотрит на дорогу). Чей это солдат идет к нам? К нам или в Степановку?
Вера. А вот дойдет до поворота — узнаем.
Женщина. Такое время настало — как увидишь военного, так и сердце замрет: может, наш?..
Некоторое время все смотрят на дорогу, затем опять принимаются полоть.
А ты, Нюрка, невеста справная будешь. Трудодней, небось, много заработала.
Марфа. Ну, пошло — о невестах, о женихах!..
К полольщицам подходит баба Галька.
Баба Галька. Здравствуйте, девчата. Какие у вас тут подсолнушки? Хвалитесь.
Вера. Хорошие, Архиповна! Только вот чего-то листочки стали желтеть. Не червяк ли какой подъедает? Посмотрите.
Баба Галька (нагибается над кустом, разворачивает листья, подкапывает пальцем корни). Никакого червяка нет. Сушь немножко прихватила их.
Марфа (смотрит на дорогу). Вроде к нам повернул… Раненый, хромает. С палочкой. Всё калеки и калеки идут. Вчера в Глафировку прошли трое.
Женщина. Война ж еще не кончилась. Одних раненых только и отпускают. А кончится — пойдут и здоровые.
Нюрка. К нам идет!
Девушка. К нам, да. Чей же это? А ну, кто скорее угадает?
Марфа. К нам!
Вера (смотрит, хватается за сердце). Ох!..
Идет солдат, пожилой, без погон, с орденом Красной Звезды и партизанской медалью.
Марфа. Узнаешь, Верка?
Вера (идет навстречу). Мирон!..
Нюрка. Дядька Мирон!.. А Грицько до речки по воду пошел. Надо завернуть его. (Свистит.) Грицько! А ну, сюда беги, скорей! Да брось цыбарку, беги так!
Мирон (бросает вещевой мешок на землю). Дома, пришел! (Обнимает Веру.) Вижу — люди наши. Может, и она, думаю, здесь…
Вера. Да откуда ты взялся, Мирон? Ни одного письма не написал.
Вбегает Грицько, бросается к Мирону.
Грицько. Батя! Батя!
Мирон. Сынок!.. (Обнимает Грицько.)
Вера. Я ж тебя уже не чаяла дождаться… Сынок! Да ты смотри, это ж батько! Батько твой пришел. (Плачет.)
Мирон (ласкает жену и Грицько). В таком месте был, Вера, откуда не мог и написать. В брянских лесах партизанил.
Грицько. А я тебе что, мамо, говорил? Я говорил: если он в плен попал, все равно уйдет к партизанам.
Мирон. Я одно письмо из госпиталя написал, когда нас вывезли, раненых, самолетами.
Грицько. Мамо, у него орден. И медаль.
Мирон. Писал из госпиталя. Значит, еще не дошло, получите.
Вера. Да на что оно мне теперь, письмо, когда ты сам пришел?
Женщина. Совсем домой, Мирон Федотович, или в отпуск?
Мирон. В отпуск, на три месяца.
Нюрка. Ранение?
Мирон. Ходовая часть немножко подбита.
Женщина. А моего Дениса не встречали там?
Мирон. Дениса? Нет, не встречал. Мы только до военкомата с ним тогда доехали, а потом ему дали направление в другую часть. Я ж танкистом был, а он в пехоту попал.
Женщина. Ну где там, фронт большой! Разве всех встретишь…
Мирон (оглядывает Грицько, берет его за руку). Здоровый хлопец вырос! А что ж это у тебя, сынок, пальцы засмоленные? Табачок уже куришь? Рано научился.
Вера. Скажи ему еще ты. Я его уже ругала, а он мне отвечает: «А гектар с четвертью пахать — не рано?» Он у нас стахановец, Мирон. И пахал, и сеял, а теперь полоть нам помогает. Девяносто трудодней за посевную заработал.
Мирон. Это хорошо, но курить не надо.
Грицько. Я, батя, только ночью курю, когда коров пасу, чтоб спать не хотелось.
Мирон. Нельзя.
Грицько. Ну, я мундштук сделаю, чтоб пальцы не засмаливались.
Мирон. Какой языкатый стал, безбатченко! Отставить! Рано еще, говорю, малόй.
Грицько. А сам сказал — здоровый вырос.
Вера. Вот и поговори с таким! Цыть, Грицько, бессовестный! Батько пришел, радость какая, а он с ним спорит!
Мирон (оглядывает женщин, степь). Посеяли?.. Кто у вас бригадиром?
Вера. У нас Катерина Григорьевна, а в ихней бригаде — Нюрка.
Мирон. А председателем кто сейчас?
Марфа. Председатель старый, Андрий Степанович.
Мирон. Вернулся?
Вера. Пойдем в село, увидишь его. Он в правлении сейчас. Только посидим немножко (садится на камень у дороги), отдохну. Я как узнала тебя, сомлела вся.
Баба Галька. Да чего сидеть тут? Иди домой, корми его, за водкой посылай. И нас зови в гости.
Вера. Ну, пойдем. Так вы, девчата, скажите Катерине, когда придет, что я домой ушла. Сегодня уж не выйду… Такой день… Ох, Мирон, Мирон, да неужели это ты? Дай я тебя еще поцелую. (Обнимает его.) Разве ж можно так? Ни письма не написал, ни телеграмму не отбил. Идет — прямо как из мертвых воскрес. У меня сердце заколотилось, и крикнуть не могу. Ну, что если б померла от радости?..
Мирон и Вера идут по дороге к селу. Грицько бежит вперед. Женщины смотрят вслед уходящим, затем принимаются полоть.
Нюрка. Хромает. А танцор был какой, Мирон Федотович…
Марфа. Постарел, худой стал.
Женщина. Вот уже одна и дождалась…
Нюрка. А то кто сюда идет?
Смотрят на дорогу.
Баба Галька. Катерина идет с Павлом. Провожает…
Нюрка. Идут другой дорогой и не видят тех, за курганом. Окликнуть их?
Баба Галька. Не надо. Им сейчас — каждой до себя. Вы идите, бабы, туда дальше…
Продолжая полоть, женщины удаляются за сцену. За ними уходит и баба Галька. От села другой дорогой идут Павел и Катерина.
Павел (бросает на землю шинель и вещевой мешок). Здесь подождем. (Смотрит на часы.) Директор в три часа будет ехать из Степановки на станцию. (Садится на камень, усаживает рядом с собой Катерину.) Не надолго мы встретились с тобой, Катя…
Катерина. А все-таки встретились… И жил ты далеко от нас, не знала я тебя, что есть такой на свете, и воевал где-то под Польшей, а пришел ко мне… О чем ты думаешь?
Павел (смотрит на Катерину). Думаю — увидимся ли еще когда-нибудь?
Катерина. Вряд ли. Далеко ваш край. Тебе к нам не будет случая приехать, да и мне туда дела нет. Ты сейчас станешь на место, столько хлопот на тебя свалится, забудешь меня?
Павел. Не забуду, Катя…
Катерина. Не пожалеешь, что уехал от меня?
Павел. Не знаю…
Катерина. А радовался, когда получил письмо.
Павел. Что ты говоришь, Катя! Ведь родные же. Дочка…
Катерина. И зачем ты приехал? Разбудил мое сердце. Не знала любви-печали, так бы и жить. (Обнимает Павла).
Павел. Прости.
Катерина. За что? За что?.. (Долго молчит, прижавшись к Павлу.) Когда стала я собирать тебя в дорогу, все вспоминалось мне мое девичество. Знаешь, бывает так: останется в памяти один день на всю жизнь… Лет семнадцать мне было. Пошли мы с девчатами в лес по грибы осенью. Осенью у нас в лесу хорошо, солнце греет не жарко, трава на полянах пробивается после дождей молодая, как весною. Ягод много поздних, ежевики. Крупные такие ягоды, как малина, только черные. В сосновом лесу совсем незаметно, что осень наступила, а в лиственный зайдешь — там видно, на дубах лист краснеет. Теплый был день, бабье лето. Мы даже в озере выкупались, в Бирючьем яру… И там я отбилась от девчат. Они пошли дальше в лес, а я села на полянке, стала волосы сушить. У меня коса была длинная. Села спиной к солнцу, распустила косу, стала грибы перебирать. И сморил меня сон, заснула я на зеленой траве. Долго я там спала, чего-чего только не наснилось, вот ведь сколько времени прошло, а до сих пор помню. И маленькой девчонкой видела себя во сне. Пасу гусят с подружками на выгоне, а коршун украл одного гусенка, я гонюсь за ним и кричу: «Отдай, отдай, это мой!» Потом приснилось, будто у нас во дворе возле хаты яблоня выросла, и на ней маленькие яблочки. Я вышла из хаты, стала те яблочки рвать и есть. А они кислые — аж дух захватывает. Бабья примета, знаешь: если перед замужеством кислицы приснятся — не будет счастья… Ну, не то важно, что снилось, а как я проснулась. Солнце заходит за соснами, а мне показалось — еще только утро. Забыла даже, как в лес попала — так мне сон заморочил голову. Потом пришла к памяти. Но не совсем. Выбралась на дорожку, иду домой, а сама все-таки думаю, что утро. Пришла, говорю матери: «Мамо! Почему коров гонят обратно в село? Мамо! Почему солнце сегодня не там всходит?» Мать смотрит на меня: «Ты что, дочка, очумела? Оно не всходит, оно уже заходит…» Вот и сейчас со мною, Паша, как тогда в лесу. Проснулась — и солнце увидела, думала — утро. А оно — заходит…
Большая пауза.
Что жена тебе писала? Ты еще письмо получил?
Павел. Получил, когда послал ей телеграмму. Гордая. Не хотела первой писать мне. Что пишет? О колхозе пишет. О себе, как жила… Их гестапо забрало в первые же дни, как пришли немцы… Мне было радостно не только потому, что жива она и дочку спасла, а что хорошо прожила это время… Много я передумал о ней на фронте. Я самого худшего боялся. Думал, не дорого ценила все наше, легко с ним и расстанется. А она в партизанах была, воевала.
Катерина. Значит, и ее коснулось… Не надо, не рассказывай. Не думай о ней сейчас, Паша! Смотри на меня… Душу она из меня вынула!.. Вот говорю так, а если бы остался ты, не знаю, как бы мы жили. Все стояла бы перед глазами та, которую ты бросил, раненую… Вон машина уже едет…
Павел (смотрит на дорогу). Наша машина… Остановилась. Зовут. (Встает.)
Катерина (встает). Обними последний раз.
Долгая пауза.
Павел. Мне нелегко без тебя будет…
Катерина. Знаю… (Словами песни.) «Полетила б за тобою, та крылэць нэ маю…»
Павел. Чего тебе пожелать, Катя, на прощанье?
Катерина. Ничего не желай. Что было, то прошло, что будет — увидим. Прощай, иди… Прощай, Паша, сердце мое! (Плачет, еще раз обнимает и отталкивает его от себя.)
Павел уходит, оглядываясь. Катерина смотрит туда, куда удалился Павел, на машину, увозящую его, на степную дорогу — смотрит, застыв неподвижно на месте.
Занавес.
Действие третье
Двор Марфы Стеблицкой. Слева крыльцо хаты с вывеской: «Правлiния колгоспу «Ленiнский шлях». На середине двора большая яблоня, под ней летняя печка с высокой железной трубой, стол, скамейки. Справа плетень, отгораживающий усадьбу Стеблицкой от хозяйственного двора. На земле, под плетнем, валяется немецкая каска — можно догадаться, что Марфа приспособила ее под какие-то домашние нужды, наливает в нее воду курам или кормит поросенка. На хозяйственном дворе, под навесом, виден разный уборочный инвентарь. В глубине сцены — панорама села. Кое-где на обгорелых стенах хат уже новые стропила. Под яблоней собрались: Марфа Стеблицкая, Вера, Катерина, женщины из других бригад, Явдоха и Мирон. За плетнем, облокотившись на него, стоит Максим. Он, видимо, починял инвентарь на хозяйственном дворе — в руках у него молоток и большой гаечный ключ. Женщин интересуют ящики, сваленные под яблоней. В них — товары, привезенные из района.
Вера. Ну, покажи, Мирон, что там за товары привезли нам?
Мирон. Нельзя. Это вот все у Марфы Ивановны под отчетом будет. Пусть в хату снесет и под замок. А в воскресенье откроем распродажу — под трудодни. Я уже вам говорил: это район выделил нам, как передовому колхозу.
Вера. Хоть один ящик открой!
Мирон. Вот пристали! (Открывает крышку одного ящика). Смотрите.
Женщины заглядывают в ящик. Вера достает оттуда сапоги огромных размеров.
Вера. Или они думают, что мы тут рыболовством занимаемся? (Роется в ящике). Нет, только одна пара на верблюда, а то все на людей. И калоши есть.
Мирон. Посмотрели? (Заколачивает ящик.)
Женщина. А там что?
Мирон открывает крышку другого ящика, там мануфактура.
Вот этого возьму себе на костюм! Давно хотела пошить костюм.
Марфа (достает кусок материи). А мне этого рябенького на блузку.
Мирон. Вам тут товаров отвалили — вагон!
Вера. О, девки, заживем! Будет из чего пошить и летное, и зимнее, и кровати будет чем застлать.
Явдоха. Одним дуже жирно, а другим — ничего.
Вторая женщина. Ничего, как трудодней в табеле ничего. А трудодни есть — получишь.
Явдоха. Что получу?
Первая женщина. На собрании скажут.
Мирон. А, Явдоха заговорила!.. У тебя-то с получкой, пожалуй, плохо будет. Сколько у тебя трудодней?
Явдоха Тринадцать, чи шо, подсчитывал бригадир.
Мирон. Несчастливое число. За месяц?
Вторая женщина. Какое за месяц! С самой зимы, как и восстановили колхоз.
Мирон (заколотил ящик, сел за стол). Ну, давай тогда, Явдоха Семеновна, поговорим официально. Мне Андрий Степанович поручил, как временному завхозу, выяснить, что ты дальше думаешь делать. Тринадцать трудодней за полгода! За такие достижения и до войны из колхозов выгоняли.
Явдоха. А я, Мирон Федотыч, справку имею от фершала.
Мирон. Покажи. (Берет у Явдохи бумажку, читает.) «Выдана гражданке Явдохе Семеновне Марченко…» Так… «растяжение жил на правой задней ноге и воспаление ратиц…» Ничего не понимаю. Это у тебя растяжение жил на правой задней?..
Явдоха. Ох, не ту дала! То на корову! У меня еще есть. (Ищет за пазухой.)
Марфа. Ты брось свои справки, а скажи человеку прямо: огороды мешают тебе о колхозе подумать.
Женщина (загибает пальцы). На своем плану — один огород. Корниенковых план захватила — два. В лесу три поляны распахала…
Явдоха. Две.
Женщина. Брешешь, три, и за лесниковой хатой есть, сама видела, как ты картошку там полола. Сколько? Пять? Да у Савченковых сирот пополам взяла. Шесть огородов!
Марфа. Гектара три нахватала.
Катерина. Есть от чего жилам растянуться.
Мирон. Кто ж ей разрешил?
Вера. Староста разрешил, так и пользуется с тех пор.
Мирон. За какие заслуги?
Явдоха. Староста, да. По тому времени он начальником был. Я не самоправно. Мне власть дала. Хочь поганая, да власть. А вот ваши бригадиры самоправно колхозное жито косят.
Катерина. Кого властью называешь? Что плетешь?
Марфа. Палач он был, а не власть.
Мирон. Погоди. Кто косит жито? Где?
Явдоха. Дид Мусий косит.
Вера. Какое жито? То, что постановили бросить горобцам на пропитание.
Явдоха. Я себе хотела нажать там снопов двадцать, так дид Мусий прогнал меня оттуда. А сам косит, ему можно — бригадир!
Марфа. Да брешешь ты!
Явдоха. Чтоб мне провалиться! И Иван Назарович с ним. Поделили пополам. Должно быть, уже кончают, если не разбомбило их там. Сама видела.
Марфа. Иван Назарович? На минах?..
Мирон. Неужели соблазнились?..
Максим. А чего ж? Жито хорошее, колхоз отказывается — чего ему пропадать! У хозяина бы не пропало.
Явдоха. Огороды мои глаза им колют! Корову им отдай, сама на работу иди, а получать что? Им и калоши, и ситчики, а мне — ничего.
Максим. Значит, жито косят? Та-ак!.. Первые активисты пример показывают. На словах только за колхоз, а у каждого думка — волчья.
Мирон. Чего, чего ты, Максим? Куда ты гнешь?
Первая женщина. Гнет не паримши. Все ходит, зудит: «Если б однолично, если б однолично!..» Натаскал добра полные каморы, вот оно и не дает ему покоя. Думает: «Эх, кабы все это в хозяйство пустить, помещиком бы стал!» Кому — война, кому — растащиловка.
Максим. Что я тащил? Ты видела?
Марфа. Как первый раз фронт проходил, тут страсть такая — пули свистят, бомбы рвутся, а он, смотрим, катит бочонок масла с фермы прямо по улице.
Вера. А когда мы с дидом Мусием на пожаре семенное зерно спасали, всё возле обозов крутился, тех, что на летняку застряли. Трофеи какие-то носил оттуда. Там и сахар был, и одёжа, и чемоданы офицерские.
Максим. Ничего я оттуда не носил. Чтоб я там взял, когда по летняку «катюши» раз за разом били?
Первая женщина. Да тебя и «катюшей» от трофеев не отгонишь, такого долгорукого.
Катерина. Максим Гнатович! Слышишь! А у тебя дома не ладно.
Максим. Что там?
Катерина. Да видела, когда шла сюда: хлопцы там что-то безобразничают, солому раскидывают, ящики какие-то вытащили из-под скирды.
Максим (как ужаленный). Что ж ты мне раньше не сказала? Чего их ко мне черти принесли? Там той соломы — жменя, берег для коровы в зиму, и ту перепакостят. (Поспешно уходит.)
Все поражены действием слов Катерины.
Мирон. Верно?
Катерина. Да я так сказала, наобум, чтоб прогнать его отсюда.
Первая женщина. Побежал, как на пожар.
Вера. Надо заявить в сельсовет. Что там у него за трофеи?
Мирон. А ты куда, Явдоха? Подожди, с тобой еще не кончили. Иди сюда… Так что ты нам ответишь? Уборочная настает, самое трудное время. Урожай — уже вот он, в руках. Женщины наши вырастили хлеб, пока мы воевали. А кто ж убирать его будет?
Явдоха. Кому получать его, тому и убирать.
Марфа. У нее своя уборка.
Явдоха. Где ж она, ваша правда? Земля — народу!
Катерина. Земля — народу. А народ — в колхозе. Тут, Мирон Федотович, и говорить много нечего. Огороды у нее надо отрезать. Сколько положено — оставить, а лишнее — в колхоз.
Явдоха. Отрезать? Мой труд, мои семена? (Кричит.) Да я вам тут (замахивается на Катерину палкой, выдернутой из плетня) головы всем поразбиваю!
Мирон (перехватывает палку). Тише, тише!
Явдоха. Кто отрежет? Ты? Я тебя и слухать не желаю!
Катерина. Нет, послушаешь. Я слушала, когда ты говорила: «Ты же, Катька, стахановкой раньше была, горело все у тебя в руках, премии получала за свою работу, чего ж ты теперь ходишь, как мертвая?» Как мертвая ходила, да. Не я одна. А ты радовалась, хвостом перед старостой вертела.
Явдоха. Каждый свою выгоду ищет. А ты сейчас перед правлением выслуживаешься. То звеньевой была, теперь бригадиршей заделалась. Поменьше работать — побольше получать.
Катерина. Только для того и стараюсь?..
Мирон. Тише!.. Дело ясное… Слушай сюда, Явдоха! Мы, фронтовики, народ сердитый. Мы под пулями, под снарядами были, а товарищи наши и сейчас еще кровь проливают. Не за то они ее проливают, чтоб терпеть нам здесь опять таких паразитов. Я тебя и до войны помню. Показали свое нутро, хватит! (Кричит.) И не смей ты, стерва, замахиваться на наших людей! Не дадим мы таких, как она (на Катерину), в обиду. На них все держится. Мы за них воевали. Придут фронтовики — земно поклонятся им за их работу. Верно говорю. А ты загудишь из колхоза на первом же собрании. Выгоним в три шеи, чтоб и духом твоим здесь не воняло!
Катерина. Не волнуйся, Мирон Федотович, не кричи, успокойся. (Берет у него палку, отнятую у Явдохи, переламывает ее о колено, отбрасывает куски в сторону.) Э, какие у вас, у фронтовиков, нервы слабые!
Мирон. Я ж контуженый, Катерина. Справки мне показывает!.. Пойдем-ка, Явдоха, в сельсовет, чего тут время терять! Посмотрим там, сколько у тебя огородов числится. Кто знает, где ее огороды?
Первая женщина. Да я знаю.
Мирон. Ну, пойдем с нами. Не боишься, что тяпкой зарубает?
Первая женщина. Не такое лихо видали.
Присмиревшая Явдоха, бормоча что-то про себя, идет со двора, за нею Мирон с женщиной.
Марфа. На кого руку подняла? На колхоз замахивается. Не подумает, безмозглая голова: что б мы делали сейчас, бабы, после такой войны, если б не колхоз? Сидела бы каждая в пустой хате, хоть кричи, хоть головой об стену бейся — кому ты нужна со своими злыднями?..
Третья женщина. Ох, бабы, не одна Явдоха дело нам поганит! У моей соседки тоже справка от фершала, а на базар такие оклунки носит на себе — с земли не поднимешь.
Вторая женщина. Ну, покажи, Марфуша, что там еще есть.
Марфа открывает крышку ящика.
Вера (вынимает из мешка мануфактуру). Вот сатинчик хороший! Такого бы Мирону на рубаху.
Третья женщина. Зачем ему такая рубаха? И в казенной походит. Он же не насовсем пришел.
Марфа (поглядывает тревожно за село, Катерине, тихо). То жито — во второй бригаде. Что ж их не видно? Уже вечер… Вон машина чья-то едет.
Вера. А ну, Марфуша, примеряй. Мужское или бабское? (Надевает на нее дамский жакет.) Нет, бабское, тут и юбка к нему есть. А ваты намостили! Для чего столько?
Вторая женщина. Это нам, в первую бригаду. Может, еще придется носить семена из Глафировки, так чтоб плечи не давило.
Марфа. А это нашей бригадирше. (Накидывает Катерине на плечи красивую материю.) Сошьем ей платье по моде. Вот тут так, тут подобрать, тут припустить. Ну, Катя, ты в этом платье прямо на артистку будешь похожа.
Катерина прихорашивается, мельком взглядывает, как в зеркало, в кадушку с водой, вздохнув, снимает и сворачивает отрез. Через хозяйственный двор к правлению идет Андрий. Женщины поспешно заколачивают ящик. В другой стороне, за хатой, слышен шум подъехавшей машины. Одновременно к женщинам подходят: с одной стороны — Андрий, с другой — Мусий Петрович и Стешенко с косами, за ними — Кость Романович. Мусий Петрович в чистой белой рубахе.
Кость Романович. Здравствуйте! А, и председатель тут! У него контрабандой жито косят, а он и не знает.
Мусий Петрович идет с косой, задевает ею ветки яблони, сваливает железную трубу летней печки.
Мусий Петрович (возбужденно). Есть почин! Андрий Степанович, ставь магарыч. Два гектара скосили.
Стешенко. Куда ж ты, Мусий Петрович, с косой на людей лезешь! Поставь ее.
Мусий Петрович ставит косу у плетня.
Это он от страху ошалел. До него только сейчас страх дошел. Нестроевик!
Кость Романович. Нарушителей обязательного постановления привел. Захватил на месте преступления.
Андрий. Где вы были?
Стешенко. На передовой были, товарищ председатель.
Андрий. Жито косили?
Мусий Петрович. Эге!
Андрий. На минах? Кто вас туда послал?
Мусий Петрович. Что спрашивает?
Стешенко. Спрашивает, кто нас послал.
Мусий Петрович. А! Я послал. Я же все-таки бригадир, имею власть над людьми. Ты не шуми, Андрий. Нам уже и от Кость Романовича влетело. Это же не по-хозяйски — такое жито бросать. Подумал я, подумал — жито второй бригаде принадлежит, Нюрка косить его не обязана. А кто в нашей бригаде больше всех на свете пожил? Дид Мусий. Ну и пошел, богу помолясь. Встретил его (на Стешенко), и он за мной увязался.
Марфа. Значит, вы не себе?
Стешенко. Как — не себе? А кому ж? Гитлеру, что ли?
Андрий. Ну, понятно… Если б имел я права, как в армии, я бы вам сейчас по трое суток гауптвахты пленил.
Мусий Петрович. На губвахту? Нет, я домой пойду, старухе надо показаться.
Андрий. Да будь оно неладно, и жито это самое, как нам из-за него людей терять!
Стешенко. А мы, Андрий Степанович, оберегались. Мы не в куче были. Мы, как это говорится, рассредоточились. Он с одного края косил, а я с другого, на случай, если рванет, так чтоб не обоих сразу побило.
Катерина. Вот Явдохе и показалось, что они поделили жито.
Марфа (ставит на стол кувшин с молоком, режет хлеб). Выпейте молока, Кость Романович! Вы, должно быть, целый день ездите? А Андрий Степанович, я знаю, — как уйдут из дому на зорьке, так аж вечером обедают. Иван Назарович! Вам далеко до дому идти. Диду Мусий!
Кость Романович. Молока выпить? Можно. (Садится к столу.)
Мусий Петрович. Спасибо, Марфуша, я пойду. Моя соседка видела, где мы косили, — должно быть, рассказала старухе. Мне и дома попадет. Она еще утром посмотрела на меня с подозрением: «Чего это ты, говорит, чистую рубаху надел?» Пойду я. До свидания! (Берет косу, уходит.)
Андрий и Стешенко садятся за стол.
Кость Романович. Счастье твое, Андрий, что так обошлось. А то бы угодил под суд.
Андрий. Да, председателю за все отвечать, это известно…
Кость Романович. Было же приказано строго-настрого: пока саперы не прошли по таким участкам, и близко никого туда не допускать. И этот хорош! (На Стешенко.) Три агротехника в колхозах осталось на весь район, а он на мины прется. Герой какой!
Стешенко. Пейте молоко, Кость Романович. Холодное!..
Андрий. Если меня судить, Кость Романович, так и вас надо судить. В моем колхозе, а в вашем районе случилось… А и так подумать: за что же нам в тюрьму садиться? За то, что люди у нас такие?..
Пауза. Мужчины пьют молоко.
Кость Романович. Люди… Теперь ты понял, Андрий, что не чудом мы землю подняли? Никакого чуда нет. Это чудо люди сделали. (Катерине). Тебя, Катерина Григорьевна, в Сосновке до сих пор вспоминают за твою помощь на весеннем севе.
Катерина. Председатель там слабый человек. Совсем упал духом.
Кость Романович. Да, председателя туда надо искать другого.
Во двор правления входит баба Галька.
Баба Галька. Здравствуйте, приятного аппетиту! Не помешаю вашей беседе? Здравствуйте, Кость Романович! (Присела к столу.) Андрий Степанович! Должно быть, я картошке уже не буду ничего делать. И пололи ее, и подкармливали — пусть теперь растет, до самой уборки. А куда пошлете мое звено?
Андрий. Пойдете снопы вязать. Все — на вязку снопов.
Кость Романович (смотрит на бабу Гальку). Ну, как у тебя, Ганна Архиповна, с картошкой?
Баба Галька. Да ничего. Боюсь, Андрий Степанович заругает, как начнем копать: транспорту не хватит возить.
Кость Романович. Значит, опять пятисотницей будешь?.. Люди, люди… Знаешь, Ганна Архиповна, что я подумывал о тебе при немцах?
Баба Галька. Ну, ну, скажите… А чего — при немцах? Я для них не дуже старалась.
Кость Романович. Когда пришлось в лесу пожить и перебрать мысленно каждого человека в нашем районе, я и о тебе вспоминал. Что, думаю, заставляло ее, эту нашу знатную звеньевую Архиповну, так трудиться на старости лет? Может, просто жадность одолела бабку? Получала дополнительной оплаты вагон картошки, продавала ее и деньги в чулок прятала.
Баба Галька. Да, не без того. И в сберкассу клала, и в чулок ховала на мелкие расходы.
Кость Романович. Хвалили старую на районных слетах передовиков, ей это, конечно, лестно было, а что она понимает в нашем строительстве? Ей если бы вернулось то время, когда аршин ситца двадцать копеек стоил…
Баба Галька. И дешевле было, Кость Романович. По восемнадцать продавали у Мишки Шпака в лавке, если берешь, бывало, аршин тридцать.
Кость Романович. А что, думаю, наша баба Галька не переквалифицируется ли теперь на святую?
Баба Галька. На кого?
Кость Романович. На святую.
Баба Галька. Да с чего ж это вам такое подумалось про меня? Я и водку пью, и черным словом, бывает, ругаюсь.
Кость Романович. А у тебя все данные для святой пророчицы. Грамотная, Священное писание можешь прочитать людям, сама на живые мощи похожа. Травы всякие знаешь. Если бы ты начала ворожить солдаткам на мужей да предсказывать будущее, нашлись бы такие, что за сорок километров ходили бы к тебе.
Баба Галька. Что ж вы мне раньше не подсоветовали, товарищ секретарь? Может, хоть кувшин молока заработала бы. Я при немцах без коровы страдала.
Кость Романович. Вот так я на тебя грешил. Но потом слышу — нет. Слышу, вы тут с Катериной Григорьевной оружие начали нам заготавливать. Потом ты в лес приходила, гранаты нам приносила. Мы подумали, подумали — лучшей связной нам не найти: ходит по дорогам нищенка оборванная, кто там ее будет обыскивать? — и стали передавать с тобой сводки, которые по радио принимали.
Баба Галька. Так, так… (Помолчала). Ты, Кость Романович, сынок, с какого года партейный?
Кость Романович. С тридцатого года.
Баба Галька. Значит, уже когда колхозы были, вступил в партию. Молодой ты, молодой… Ну, а я сынок, хоть и беспартейная, а про революцию и про Ленина слыхала, когда тебя еще и на свете не было. Моего первого мужа жандармы убили. Кто начинал тут панскую землю делить? Мой Иван Маркович… Давно мы ждали ее, советскую власть, только не было еще тогда этого названия, не знали мы, как она будет называться, наша власть. Еще в пятом году носила я в церковь листовки под яблоками. Вон с каких пор я этот опыт взяла. А ты мне тут какую-то юренду про святую городишь!
Женщины смеются.
Кость Романович. Вот этого всего я о тебе и не знал раньше!
Баба Галька. Многого вы еще не знаете о наших людях!.. Чего ж вы тут одно молоко пьете? Может, сходить домой, принести борща с грибами?
Кость Романович. Не надо. Червячка заморил, а поужинаю где-нибудь у трактористов на поле.
Катерина. Кость Романович! Понимаем мы всё. Знаем, что на нас свет держится. Такое уж выпало на нашу долю. И для тех работаем, которые еще не научились сами за свое счастье бороться… А вот когда всем-всем людям хорошо будет жить — вспомнят ли они, кто это все начинал? Не забудут нас?..
Кость Романович. Не забудут!.. (Встает.) Спасибо за угощение… (Андрию.) Так что ж, выходит — начали уборку?
Андрий. Это падалицу скосили, самое раннее, не в счет. Озимые еще зеленые, Кость Романович. Объехал сегодня все поля. С воскресенья начнем.
Кость Романович. Ну, в добрый час. Начать — да не зимою кончить. Комбайн уже в поле?
Андрий. Там, в тракторной бригаде.
Катерина (Стешенко). А мы успеем сегодня вам виноградники прополоть. Девчата, пойдемте? Сейчас луна, немножко, может, вечера прихватим. А это (на ящики) берите, занесем в хату.
Женщины и Стешенко прощаются с Кость Романовичем, идут со двора.
Стешенко (Катерине, тихо). Почти договорились мы с Марфушей жить вместе, да никак не решим — кому до кого переселяться. У нее хата — жалко бросать, и у меня хата, сад посадил молодой. Рассуди нас, Катерина Григорьевна.
Катерина. Если полюбит, переедет с улицы на улицу…
Уходят. Кость Романович и Андрий остаются вдвоем.
Кость Романович. Знаешь, чему меня больше всего научила война?
Андрий. Чему?
Кость Романович. Искать героев среди таких незаметных людей, которые, может, даже никогда в жизни и на собрании не выступали.
Андрий. Наука правильная.
Кость Романович (долго молчит). Мы у вас Катерину заберем.
Андрий. Куда? Зачем?
Кость Романович. Будем рекомендовать ее в Сосновку председателем колхоза.
Андрий. Ну вот! Лучшего бригадира отдай вам!
Кость Романович. Больше всех пострадал у нас этот колхоз. Очень тяжелое там положение. Знаешь, что там было? Три раза расстреливали немцы каждого десятого. Туда нужен именно такой человек, как Катерина. Сумела свое горе перебороть и людям поможет… Только ей сейчас не говори. Пусть еще поработает, закончит уборку.
Андрий. Нет, это мне никак не нравится, что вы хотите Катерину забрать.
Кость Романович. Я к ней давно присматриваюсь. Пора ее выдвигать. Если может она для советской власти делать больше, чем сейчас делает, — почему не так? Пусть растет.
Андрий. А я, Кость Романович, когда вырасту? Седьмой год работаю председателем колхоза. И капитана заслужил, а все председатель.
Кость Романович. А я, Андрий Степанович, когда вырасту? Восьмой год работаю секретарем райкома… О нас другая речь. Мы с тобой, может быть, на своем месте, а она еще не взяла в руки такого дела, чтоб было ей как раз по плечу… Расти можно по-всякому, Андрий. Разве рост только в том, чтобы по служебной лестнице вверх подниматься? Каждый год надо работать лучше, чем работал в прошлом году, — вот тебе и рост. Чтобы сам себе удивлялся: откуда сила набирается?.. А сила — вот она. Народ нам силы придаст. Если не отрываться от него.
Занавес.
Хата Андрия. Стол, кровать, несколько стульев, топчан в углу. Ночь. Ариша лежит на неразобранной кровати, одетая, на топчане снят дети. Андрий сидит возле открытого окна, курит. Днем прошел дождь, гроза еще не утихла, изредка поблескивают далекие молнии.
Ариша. Да ложись, пожалуйста, и закрывай окно. Сколько можно курить?
Андрий. Воздух хороший, Ариша, после дождика.
Ариша. А ты его и чуешь, тот воздух, за своим табачищем!
Андрий. Славный дождик прошел, на огороды, на бахчи. А теперь, если бы недельки две и не было его совсем, чтоб косовицу нам не испортил… (Курит.) Ох, и времечко настает! И косить, и молотить, и скирдовать. Если выдержу я, Ариша, эту уборочную, значит, еще поживу на свете.
Ариша. Не выдержишь, помрешь. От бессонницы помрешь.
Андрий. Ничего, я на свежем воздухе буду спать, в поле. Не увидишь меня дома, пока не закончим молотьбу.
Ариша. Так на что ты тогда и вернулся домой, если мне тебя не видеть?
Андрий. А что, может, уехать обратно на фронт?
Ариша. Поезжай. Не заплачу.
Андрий. Адреса не знаю. Далеко мой полк ушел. За Карпаты, должно быть, уже перевалили.
Ариша. А сегодня тебе от кого письмо принесли?
Андрий. От Чумакова, от Павла.
Ариша. От того, что у Катерины жил? Что он пишет?
Андрий. Вот память у вас, баб, кособокая! Только тем и вспоминаете его: «Что у Катерины жил?» А что человек для нас машины делал, колхоз выручил, то уже забыли.
Ариша. Не забыли и то, почему так думаешь! Ну, ну, что пишет?
Андрий. Работает. Только не на свою должность попал. В райком взяли… Жена, пишет, поправляется… Спрашивает, как Катерина Григорьевна живет.
С улицы слышно — где-то поют девчата.
(Курит.) Я вот все думаю, Ариша, о завтрашнем собрании.
Ариша. Завтра собрание, а он мне сегодня спать не дает…
Андрий. Нет, верно. Ты же знаешь, какой это щекотливый вопрос — премирование. Хочется и не пропустить никого, кто достоин, и средств у нас еще мало. Завтра будем премировать всех отличившихся на прополке. Я специально приурочил это дело к началу уборочной, для зарядки. Но чем премировать? То, что промтовары дадим, то не в счет, то люди за свой заработок получат. Еще бы надо чего-то. Семь штук поросят отчислили, три телочки есть. Мало. А деньги у нас пока только те, что за клубнику выручили. Жиденькие премии получаются. Пятьдесят, сто рублей — что на них купишь?
Ариша. Чем давать человеку пятьдесят рублей, так лучше просто сказать: «Спасибо тебе за честную работу».
Андрий. А работают люди как! Видела у Нюрки в бригаде подсолнухи? Три раза пропололи, чистота, как у хорошей хозяйки в хате… Ты не возражаешь, Ариша, если я добавлю Нюре к колхозной премии флакон духов трофейных от себя? Из тех, что привез тебе с фронта.
Ариша. Добавляй. Для кого мне душиться, если ты обещаешь всю уборочную дома не жить?
Андрий. Того, что делают сейчас эти люди, Ариша, ни в какие суммы не оценишь…
Ариша. Разве у нас только три телочки?
Андрий. Три, а то — бычки, рабочий скот… Я, Ариша, может, и через десять лет буду председателем, если не прогоните меня. Переживем все трудности, подрастет молодежь, будут у нас новые передовики, будем мы их в торжественные дни премировать хорошими подарками, на Доску почета выставлять. Но тех, с которыми я начинал этот тяжелый год, я бы над всем возвеличил…
Большая пауза.
Я вот думаю: есть у нас гвардии полковники, гвардии сержанты. За боевые подвиги награждают этим званием. А наших людей нельзя разве поставить в ряд с фронтовиками?.. Если бы я мог складно описать наши дела, знаешь, Ариша, что бы я сделал?
Ариша. Что?
Слышна песня девчат.
Андрий. Написал бы в Верховный Совет о наших людях. И попросил бы правительство добавить к нашим бедным премиям свое слово. Дать гвардейское звание нашим стахановцам, как бойцам на фронте дают. И диду Мусию, и бабе Гальке, и Катерине, и Нюрке, и Гаше. И чтоб так они и звались: гвардии бригадир, гвардии трактористка. Они этого заслужили… А там как посмотрят: если весь колхоз достоин, то чтоб весь колхоз наименовали гвардейским. И чтоб из Москвы привезли нам знамя. Мы бы на коленях целовали его, свое колхозное гвардейское знамя…
Ариша. Рано еще, Андрий. Урожай надо убрать, хлеб надо дать Красной Армии.
Андрий. Сумели вырастить урожай, сумеем и убрать. Сама же говорила — доверяй нам, бабам.
Стук в окно со двора.
(К окну.) Кто стучит?
Голос за окном: «Это мы, Андрий Степанович!»
Андрий. Катерина и еще кто-то с нею.
Ариша. Про письмо, должно быть, узнала.
Андрий зажигает лампу, открывает дверь. Входят Катерина, Вера и Марфа Стеблицкая.
Катерина. Здравствуйте, извиняйте, что побеспокоили. От меня вышли — светился еще у вас огонек, а стали подходить ближе — погасло. И назад не хотелось возвращаться.
Ариша. Ничего, он еще не ложился.
Андрий и женщины садятся у стола. Ариша присела на кровати.
Катерина. Завтра у нас будет общее собрание, Андрий Степанович?
Андрий. Да, надо собрание провести перед уборкой.
Пауза.
Катерина. Мы вот о чем говорили… Надо бы нам как-то, Андрий Степанович, подумать уже и о строительстве. Поставить, может, завтра этот вопрос на собрании? У нас еще двадцать семей без крыши. Живут в обгорелых стенах, набросали бурьяну на потолок. А пойдут дожди, снег?
Андрий. Думай не думай — до зимы всех в новые дома не вселим. Ни лесу нет, ни кирпича, ни свободных рабочих рук.
Ариша. Мы на зиму впустим к себе семьи две, как и в прошлом году пускали.
Катерина. Да и я набрала жильцов. Но это все же не выход… Вы как сказали мне днем про письмо, сразу с поля домой пошли или куда? Дождь вас не захватил?
Андрий. У трактористов в блиндаже пересидел.
Катерина. А нас сполоснул. Пока добежали до лесника в сарай, сухой нитки не осталось. И наша бригада там вся собралась, и Нюркина, и огородная. Ну, и всё больше о строительстве говорили… А письмо тут Андрий Степанович, или в правлении?
Андрий. Тут, домой принес.
Катерина. Мне можно прочитать?
Андрий. Можно. (Находит письмо на подоконнике). На, читай.
Катерина (долго держит письмо-треуголку, не разворачивая). Почерк лучше стал, ровнее. Научился уже писать левой. (Разворачивает письмо, читает про себя.)
Вера. Что пишет?..
Марфа. Не приедет обратно к нам?
Катерина качает головой.
Андрий. О своей работе пишет.
Катерина. Жив, здоров… Всем поклоны. И тебе, Ариша, и вам (Марфе и Вере). Нет, не приедет, Марфуша, я об этом и не думала… (Кладет письмо на стол, минуту молчит.) Нет, неправда, думала. (Берет опять письмо.) Думала, дура-баба. Чего-чего только не передумала за день!.. (Перечитывает письмо про себя.)
Андрий. На районную работу выдвинули его. В райком партии, вторым секретарем.
Вера. Да?.. А не хуже будет ему там? Он же к машинам привычен.
Андрий. Ничего, сможет и людьми руководить. Справится.
Катерина. Как с женой живет — не пишет. Пишет только, что поправляется она. Дочка болела у них… Обо мне спрашивает. А мне не написал… (Читает.) «Жалею, что не поехал из госпиталя сразу домой…» Жалеет… «Очень разорен район, нужны люди, работы много…»
Марфа. Может, у него душа болит по тебе, Катя? Жалеет, что жизнь у него раскололась? Тоскует?
Катерина (помолчав). А я, бабы, не жалею. Что было — то мое. И забывать его не хочу. (Еще раз перечитывает про себя письмо.) Может, написать ему?.. Ростовская область… (Сворачивает письмо, кладет на стол.)
Большая пауза.
Так вот, Андрий Степанович… Расскажи, Вера, что там предлагали женщины насчет строительства.
Вера. Да что предлагали… Вот, говорят, посмотришь по селу — та баба что-то лепит сама, какие-то дрючки соломой укрывает, та что-то городит, последние доски портит. Ну что из этого получится? Что мы понимаем по строительной части? Налепим таких курятников, что через год опять их сносить придется. Надо создать колхозную строительную бригаду, и пусть она строит подряд новые хаты всем, у кого сгорели, и такие уж, чтоб потом их не ломать.
Андрий. Из кого — бригаду? Мужики где?
Вера. Да из нас же бригаду. Из баб.
Андрий. Чего-чего, но плотников баб еще не видал!..
Марфа. А! Научимся и топором тюкать! Двадцать баб да одного мужика плотника, чтоб руководил — вот и бригада. Сами и лесу нарубим, и распилим его на доски, и обтешем — было бы кому учить да показывать. Пусть сначала, может, день провозимся над тем, что мастер за час сделал бы, — ничего, наловчимся со временем.
Андрий. Максима Трохимца — вам? Больше некого.
Вера. Да хоть и Максима! Наплевать на то, что он такой вредный! Лишь бы учил! Нам его специальность нужна, а не он сам.
Марфа. Злой ходит Максим, как черт! Не может забыть того мотоцикла, что нашли у него под соломой. Вот баламут! Как стали у нас трактора появляться, все против техники агитировал. «Деды наши на волах аж в Крым ездили, цоб-цобе, двадцать верст за день, да зато жили по сто лет. А теперь всё спешим куда-то, спешим! Оттого и жизнь человеческая сократилась». А сам мотоцикл военный заховал в солому. Зачем он ему понадобился? Молоко на базар думал возить?
Ариша. Конечно. Чтоб побыстрее. Деды из Крыма на волах соль возили, ту вези хоть целый год — не испортится. А молоко — прокиснет.
Катерина. Вот за этим мы к тебе и пришли, Андрий Степанович.
Андрий. Ладно. Если народ вносит такое предложение… Поговорим завтра на собрании.
Катерина (встает). Пойдемте, девчата. (Смотрит в темное окно.) Уже ночь. Темно. Нигде и огня не видно… В одной хате засветилось. То у вас, Марфуша. Иван Назарович с поля пришел… (Берет письмо, присаживается к Арише на кровать, читает.) «Езжу по колхозам, провожу собрания насчет строительства межколхозной электростанции на Маныче. Рассчитываем построить ее года за три…» И мы тут о строительстве толкуем, и он там — о строительстве. Вот жизнь какая. И погоревать некогда… Не надо ему писать? А?
Ариша. Не надо. Дело семейное, зачем тревожить.
Катерина. Не надо… Что было, то прошло… Ну, пойдемте. (Андрию — на письмо.) Можно взять?
Андрий. Возьми. Только дай адрес спишу. (Списывает адрес в блокнот.)
Вера. До свиданья, Ариша.
Марфа. До свиданья, отдыхайте.
Ариша. До свиданья.
Катерина (на пороге, поглядев еще на письмо). Об одном думаю — чтоб ему там было хорошо. А я… Чего мы не пережили!..
Вера. Эх, Катя! Людям счастья желай и от своего не отказывайся.
Катерина. Ну что ж, не уберегла свое. На ваше порадуюсь. До свиданья.
Уходят. Андрий закрывает за ними дверь.
Андрий. Что было, то прошло… Может, на выставке когда-нибудь увидимся с Павлом? Я думаю, лет через несколько выставку опять откроют. Спишемся, чтоб разом приехать в Москву, и встретимся там.
Ариша. Надо еще заслужить, чтоб на выставку вас послали.
Андрий. Заслужим… (Раскрывает окно.) Что ж, покурить еще да ложиться? (Закуривает, садится у окна). Ариша!
Ариша. Что?
Слышна песня девчат на улице. Выделяется Нюркин голос.
Андрий. Я тебе не говорил еще, Ариша, это пока под секретом…
Ариша. Ну-ну!
Андрий. Кость Романович хочет забрать у нас Катерину.
Ариша. Куда?
Андрий. В Сосновку, председателем колхоза.
Ариша. В Сосновку? А что там своих баб мало?
Андрий. Мало…
Ариша. Ох, тяжело ей там будет! Что ж она, согласна?
Андрий. Она еще не знает, не говорили ей.
Ариша. Жалко отдавать ее в другой колхоз. Тебе здесь тоже помощники нужны.
Андрий. Меня не спрашивают… Да я, Ариша, и не очень возражал. Конечно, жалко ее отпускать, это так, но и о ней подумаешь: может, на новой работе просторнее будет ей? Ведь она иной раз такое подметит насчет людей или хозяйства, что мне оно и в голову не приходило… Она, может, и сама еще своих сил не знает, на какое дело способна. Пусть себя испытает.
Улицей, близко, проходят девчата, громко поют.
(Высовывается из окна). Эй, девчата! Пора по домам, спать людям не даете!
Ариша. Чего кричишь? Детей перепугаешь.
Андрий. Девчата поют, Ариша!
Ариша. А что им делать, как не петь. На то они и девчата.
Нюркин голос за сценой: «Не гоните домой, Андрий Степанович, завтра воскресенье, выспимся». Девчата: «Спать да спать, а когда же погулять?», «Идите к нам, подтяните, басов не хватает».
(Вздохнув.) Басов не хватает… Приятный у Нюрки голос… Что они поют? Какую-то новую песню, я еще этой песни не слыхала.
Андрий. Дело молодое. Поют… Жить будем, Ариша!.. А вот и знакомую запели.
Девушки поют.
Занавес.
1947
Настя Колосова
Пьеса в 3-х действиях,
4-х картинах
Настя Колосова — знатная колхозница, мастер высоких урожаев, 35 лет.
Прокоп Прокопыч Шавров — председатель колхоза, 50 лет.
Василий Павлович Черных — директор МТС, 40 лет.
Федосья Андреевна Голубова — бригадир, 45 лет.
Денис Григорьевич Тимошин — секретарь райкома партии, 45 лет.
Лука Демьянович Силкин — председатель райисполкома, 50 лет.
Андрей Ефимович Голышев — композитор, 50 лет.
Игнат Седов — демобилизованный лейтенант, 25 лет.
Иван Гаврилович Лыков — колхозник, 60 лет.
Савелий Маркович — колхозник, садовод, 70 лет.
Фрося Любченко — девушка
Колхозницы из звена Насти Колосовой:
Дуня Батракова — девушка
Марфа Семеновна — старуха
Дарья
Алена
Колхозницы из бригады Федосьи:
Наталья — подруга Насти
Ксюша
Мария
Луша
Люба — девушка, секретарь Насти.
Степан Агеев — 30 лет.
Жуков — приезжий колхозник, 40 лет.
Действие происходит в одной из центральных областей, года через три после Отечественной войны.
Действие первое
Поле. Светлая ночь. Небо затянуто тучами, но за ними — луна. Между посевами пролегла дорога, спускающаяся к речке, что течет где-то в глубине, под крутым обрывом, — там видны верхушки камышей. У берега — ракиты. На земле у дороги лежат Фрося Любченко, Дуня, Дарья, Алена. Вокруг разбросаны ведра, коромысла. На пригорке сидят Иван Гаврилович Лыков и Марфа Семеновна. Женщины носили воду из речки к водовозке, уехавшей на участок полива. Начало лета, но полям уже угрожает засуха. Много недель не было дождя, очень жарко, вянут, желтеют молодые хлеба, трескается земля от зноя. Колхозниц собрали ночью на поле поливать вручную посевы на рекордном участке Насти Колосовой.
Иван Гаврилович (прислушивается). Что это прогремело? Не гром ли?.. Нет, самолет пролетел. (Смотрит в небо.) Наш или чужой?
Марфа Семеновна. О, вспомнил! Три года уже чужие не летают.
Иван Гаврилович. Самолет. А мне послышалось — будто гром, далеко… Неужто не будет дождя? Очень уж с вечера запохаживалось на дождь.
Марфа Семеновна. Надо, надо дождя!
Иван Гаврилович громко зевнул.
Ты-то чего, Иван Гаврилыч, страдаешь здесь, не спишь? Шел бы домой. Тебе небось завтра с утра опять ехать на станцию за лесом?
Иван Гаврилович. Либо за лесом, либо торф на мельницу возить. Куда-нибудь поеду. Должность такая — старший, куда пошлют… Все одно, что здесь не спать, что придешь домой, ляжешь — не спится. С людьми веселее.
Марфа Семеновна (помолчав). Что ж ты так живешь, бобылем? Женился бы на вдове, не дюже молодой. Невесты у нас есть подходящие.
Иван Гаврилович. Какой я жених!..
Марфа Семеновна. Помогли бы тебе хату построить.
Иван Гаврилович. На что она мне, одинокому… Вот дождусь сына из армии. Ежели останется у вас в колхозе, тогда уж с ним построим хату. Женится, может…
Марфа Семеновна. Пишет сын?
Иван Гаврилович. Пишет, не забывает. В немецком городе Ней-бран-ден-бурге службу несет.
Марфа Семеновна. Принеси бельишко, какое есть, постираю.
Иван Гаврилович. Не нужно, спасибо. Мне Марья стирает, хозяйка. Не обижает… Ничего, проживу. Много ли мне надо? Приютили люди — живу… Колхоза жалко! Все село сничтожили, изверги! А колхоз какой был у нас в Ракитном!
Марфа Семеновна. Хозяйственно жили, да. И наши ездили к вам ума-разума подзанять.
Иван Гаврилович. Мало заняли, не помогло вам… Э, наш председатель, Василий Павлович Черных — орел был! Майором, слышь, войну закончил… А не едет в родные края.
Марфа Семеновна. До кого ему ехать сюда?..
Алена (подняла голову). Не вернулась водовозка?
Марфа Семеновна. Нет еще.
Алена. Задремала… А что тут делать без бочек?
Дарья (повернулась на другой бок). Нечего делать, так спи и другим не мешай.
Иван Гаврилович. Что хозяйственно жили, то не диво. И про ваш колхоз, кто в дело не вникнет, скажет — неплохо вроде живут. Опять же, Настя у вас славится своими рекордами. А работаете недружно, неровно, с хитростью.
Дуня (пошевелилась). Не все — с хитростью.
Дарья. Дед, как приезжий прокурор, все наш колхоз критикует.
Алена. Опять свое Ракитное вспомнил.
Иван Гаврилович. Как его забудешь… Вот я, бабы, когда-то думал: сошлись люди в колхоз, прогнали кулаков, сообща пашут, сеют — ну чего еще надо? И жить должны согласно, как одна семья. Нет, то не все, что сошлись в кучу. Ведь и семьи разные бывают. В иной семье такое творится! Отец за сынами — с дубиной, сыны друг дружку — по зубам!.. Ваш Прокопыч хитер, да не шибко грамотен. Неуверенный человек. А Черных свою линию вел твердо. Культурно, спокойно расскажет, докажет, уговорит человека, а все же настоит на своем. Вот ть — руководитель! (Помолчав.) А про богатство что говорить! Жили-поживали. Мотоциклов было у колхозников десять штук. Велосипедов — не счесть. Идешь, бывало, смотришь — лежат в пшенице штуки три дамских. Чьи? Да из первой бригады, говорят, пололи тут утром девчата, они, должно быть, бросили. Стали уже терять их в степи, как бороны.
Марфа Семеновна. Ну такого не было, прибавил?
Иван Гаврилович. Может, и не было еще, но — подходило к этому.
Дуня. Ой, душно! И ночью нет прохлады.
Фрося (приподнялась). Жарко, как в молотьбу. А лето только начинается. Июнь месяц. Что ж оно будет? Печет и печет.
Дарья. Что будет? Опять засуха будет, погорит хлеб.
Алена. Пошли, девки, купаться?
Фрося. Там гадюки в камышах.
Дуня. Вроде молния блеснула. Может, дождик таки соберется?
Дарья. И вчера гремело там. (Бьет комара на шее). У людей дожди идут, а у нас только комары кусаются!
Фрося. Сейчас тетка Настя с председателем пригонят бочки. С пожарки снимут… Прилетит, разругает нас, что не работаем.
Алена. За что? Сама видит — бочек не хватает.
Дарья. Что ж нам, на коромысле носить воду аж туда? Расшаби их!..
Алена. А будет ли, бабы, толк из нашей работы, что поливаем тут?
Марфа Семеновна. А чего ж. Ночью полить не вредно. В такую сушь только ночью и можно поливать.
Дарья. Толк будет. Настя урожай соберет, Героя получит. Ее девчатам ордена дадут.
Иван Гаврилович. Наплевать, бабы, на вашу работу, тьфу! Пять гектаров спасете, а еще тыща гектаров! Вон степь-матушка!..
Фрося. Так это же гектары какие!
Иван Гаврилович. А какие?
Дарья (с усмешкой). Показательные!..
Иван Гаврилович (помолчав). У моего дядьки Романа, гончара, что горшки лепил на Куликовском, штаны были показательные. Одни на будень и на праздник. Спереди посмотреть, вроде одетый человек, а повернется…
Алена. Сейчас дед отмочит!
Иван Гаврилович. Сидячая работа, протер. А новые купить — капиталу не хватало. Однако же и в церковь ходил, дюже был религиозный. Станет к стенке спиной — оно и незаметно… Ваш Прокопыч тоже знает, каким боком начальству показаться.
Алена. Едут!..
За сценой слышно — разворачиваются повозки, ездовые покрикивают на лошадей. К женщинам подходят председатель колхоза Прокоп Прокопыч Шавров и Настя Колосова.
Настя. Водовозки пришли. Поднимайтесь! Выспались? Живее! Ну-ну!
Дарья (приподнимаясь). Чего нукаешь? Не запрягла…
Шавров. Еще ночку, девки! Завтра отдохнете.
Дарья. Ох, сколько уж мы ночей здесь околачиваемся! А наше полоть кто за нас будет?
Шавров. Чего?
Фрося. Ночь — поливать, днем — отдыхать, а на своих участках когда работать?
Шавров. Потерпят.
Алена. Наше все терпит.
Шавров. Наше, ваше — что за разговоры? Поделили колхоз, что ли?
Дуня. Да ведь государство со всех нас урожай спрашивает!
Настя. Какой с вас спрос! Вы таких обязательств не брали, как я. Вставайте, вставайте! Рады языки почесать. Пока и ночь за разговорами пройдет.
Алена (потягивается). Ох, спать хочется!..
Марфа Семеновна. Да хоть бы уж по-хорошему, без крику…
Дарья. А верно — чего ты, Настя, нами командуешь? Иди в свое звено и командуй там.
Настя. Мои работают.
Дарья. Где?
Настя. Там, поливают.
Дарья. А на горку ведра таскать им нежелательно?
Настя. Вам ту работу нельзя доверить. Там у меня новые сорта, те, что академик Лысенко прислал нам. Мои девчата приучены. Они каждый кустик как маленького ребенка выходили. А вы впотьмах всё затопчете. Носите ведра, это дело проще.
Дуня. Только на это и способны?.. Нам доверить нельзя?..
Полем идет к берегу речки Федосья Голубова.
Федосья. Опять моих людей забрали без спросу!.. Да когда ж это кончится? Прокопыч!
Шавров. А? Что?
Федосья. Я бригадир своим людям или нет?
Шавров. На то и колхоз, Федосья, чтобы помогать друг дружке.
Федосья. Э-э, не то говоришь, председатель! Мы тоже понимаем, что такое колхоз. А наша бригада — не колхоз? Там на полях чье — не наше? Кто будет полоть? Я им завтра наряд дам на работу, а они скажут: мы уж ночь работали, отдохнем.
Алена. Конечно, отдохнем. Не железные!
Фрося. Да еще, слышите, что говорят про нас: нам и поливку нельзя доверить, только ведра способны таскать.
Федосья. Ах, так!.. Идите, девки, домой спать! Довольно!
Дарья. Расшаби их! Пошли!..
Дуня. Своей работы по горло.
Шавров. Куда вы? Федосья Андреевна! Бабы, нельзя! За что вы обиделись? Ну, может, Никитишна не так слово сказала, а вы уж и хвосты распушили.
Настя. Какие горячие!
Шавров. Чего вы такие злые стали?
Алена. Того злые, что засуха!
Дарья. Хлеб погибает!
Шавров. А зачем кулаки мне под нос суешь? Я, что ли, погодой заведую? Нету дождика — значит, полить надо.
Дуня. Сколько мы тут ведрами польем!
Марфа Семеновна. Этим мир не накормишь.
Фрося. Мы за колхоз болеем, дядя Прокоп. Там больше потеряем, чем здесь спасем.
Шавров. Товарищи женщины! Много не прошу. По силе возможности. Еще ночку-две!
Настя. Чего ты их просишь?..
Федосья. Хоть просите, хоть приказывайте — не будем! Это уж ты хочешь, Настя, чужими руками жар загребать.
Настя. Глупые слова говоришь. Сама рассуди: всё не польем? Нет, не успеем. Что же спасать в первую очередь? Где лучше посев. Был бы у вас лучше — к вам пошли бы… Да вы и не додумались первыми начать поливать! (С силой.) А я ночей не посплю, а спасу свой участок!
Шавров. Бестолковые вы, бабы! Разве можно допустить, чтоб такие посевы стихия погубила? Не берете во внимание, что у нее тут на делянках. Можно сказать, целая научно-опытная академия. Так и в газетах писали.
Федосья. Знаем, хорошие посевы. (К Насте). Так ты и удобрения все себе забрала. Сколько дали но наряду на колхоз — все забрала!
Дарья. На твои рекорды — всё, а нам — ничего!
Фрося. У вас лучше посевы, а у нас их больше!
Дуня. И мы бы сделали лучше — дайте нам возможности!
Настя (приложив руку ко лбу). Вот они — возможности.
Дарья (возмущенно). Умом хвалится, милыи-и!.. (Насте). А не советская ли власть тебя образовала?..
Алена. В нашей бригаде в прошлом году на двух участках урожай уже был не хуже твоего, Настя!
Федосья. Слышишь, Прокопыч? Не можешь ты этим людям препятствовать!
Шавров. Все в рекорды удариться хотите? Болячка на мою голову! Да знаете ли вы, что Настасья Никитишна тут делала? И… стра-ти-фи-кацию, и гра-ну-ляцию, и опыляцию.
Дуня (презрительно). Опыляция!..
Фрося. Зачем такими словами пугаете? Просто — опыление дополнительное. Читали в газетах, знаем, как оно делается.
Федосья. И читали, и лекции слушали, и сами уже разные опыты делаем не один год. Мы весь колхоз хотим поднять, а не одно звено!
Шавров. Да я не возражаю…
Крики: «Весь колхоз!», «Нам урожай нужен, а не рекорды!», «Не имеете права заставлять на нее работать!».
(Хватил кепкой оземь.) А ну вас! Голова от вашего крику пухнет! Отойдите!.. Вас много, я — один!..
Настя. Договорились!.. Что мне с вами тут время терять? Говорите прямо: будете носить воду?
Дарья. Чтой-то не охота, милая-я… (К Федосье). Как, бригадир?
Федосья. Для колхоза работали и будем работать, а для твоей выгоды — нет!
Настя. Для моей выгоды? Эх, ты!.. Опять народ против меня настраиваешь?
Федосья. Не мы против тебя — ты против нас пошла!
Дарья. Пойдемте, бабы!
Дуня (тормошит девушку, заснувшую в кустах). Нюрка, проснись! Вот спать здорова! Хоть стреляй — не услышит. А Верка где?
Фрося. Собирай всех, а то еще кого-нибудь потеряем здесь.
Марфа Семеновна. Вроде бы и нехорошо самовольно работу бросать, и работа такая дурная… Порядку нет!
Фрося берет коромысло на плечо, с вызовом оглянувшись на Настю, запевает: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед…» Женщины уходят. Остаются Шавров, Иван Гаврилович и Настя.
Настя. Вот тебе — «по силе возможности»! Эх ты, председатель! Церковным старостой тебе служить, на храм божий копейки собирать!.. Водовозки не отпускай. Своих девчат приведу! (Уходит.)
Шавров (садится на пригорке, тихо напевает). «Развевалися знамена-а…» Ну, дела, дед! Одна такая, да сколько крику из-за нее. А кабы десять, двадцать?..
Иван Гаврилович. Да, незавидное твое положение…
Шавров. И ей надобно угодить, — человек знаменитый, ее в Москве знают, — и других не обидеть…
Иван Гаврилович. Комары заели. Костер развести, что ли? (Разводит костер.)
Шавров. Болячка на мою голову! Спать хочется. Вчера в райкоме на бюро до утра продержали… Ждать ее здесь или домой ехать?..
Иван Гаврилович. Обожди, от греха… А все же, Прокопыч, неправильно ты рассудил.
Шавров. Чего?
Иван Гаврилович. «А кабы десять таких, кабы двадцать?» Да хоть бы и сто! Лишь бы не врозь тянули. Колхозу — прибыль, больше урожая, да и тебе — почет. Будет весь колхоз на виду — гляди, может, и тебе какую награду дадут.
Шавров. За этот год награды не жди.
Иван Гаврилович. А чего? Еще не все пропало. Вон тучки собираются. Ежели дожди пройдут — поправятся хлеба.
Шавров. Да, тучки… Звезды затянуло. И росы нет на траве. Вроде — к дождю… Эх, жизнь наша деревенская! Всё на тучки поглядываем. Крестьянское хозяйство, дед, — картежная игра… А все ж — нынче мордой в грязь, а завтра — князь! И такого урожая дождемся, что закромов не хватит!
Иван Гаврилович. Бывает, бывает… Выдастся год: нужно растению тепло — тепло, ветерок мягкий; нужен сегодня дождь — идет дождь, как по заказу. Все растет, как из воды, дуром растет. (Поднимает чье-то брошенное в траве коромысло.) Коромысло вот это воткни в землю — ветки пустит! От бога урожай, как говорится.
Шавров. От бога ли, от черта — дождемся. Мне не к спеху. Да вот как раз в последний год перед войной и случился у нас такой урожай. Почти по тридцать центнеров на круг собрали. Кабы по теперешнему времени — вот и звездочка мне!.. Я, дед, слышь, восемь лет тут председательствую. Во Франции за это время сорок премьер-министров сменилось, а я — недвижим…
Иван Гаврилович. Укоренился?
Шавров. Выдержал! Почему? Нервы берегу. И голову не перегружаю. А кабы в думки ударился — пропал бы! Мне ко всем болячкам только опыляции не хватает. Да что я, агроном, что ли? Я — по административной части. По научной я — не мастак.
Иван Гаврилович. Не мастак, верно…
Шавров (серьезно). Для дела берегу себя, не для пустяков. Для них же, для таких крикух. Насте — что? Только о том забота, чтоб свои рекорды показать. А у меня — хозяйство, махина!.. Меня, дед, колхозники любят не за опыляцию.
Иван Гаврилович. А любят-таки?..
Шавров. В прошлом году засуха маленько помешала. А в позапрошлом — война только кончилась — полмиллиона нажил!
Иван Гаврилович. Не нажил — наторговал. Потому и наторговал, что война только кончилась, цены на рынках были высокие… Давеча Силкин тут проезжал, председатель райисполкома.
Шавров. Ну?..
Иван Гаврилович. Вечером, часов в восемь. Тебя спрашивал.
Шавров. На чем ехал?
Иван Гаврилович. На тачанке. «Газик», говорит, на ремонт поставил. На вороных ехал, на этих самых припадочных, что ты ему всучил. Клял тебя — на чем свет стоит!
Шавров. Ну вот! А где ж его глаза были, когда покупал? Я и не хотел ему продавать их, от скандалу. Пристал, как репей — понравились мастью.
Полевой дорогой идет к костру Василий Черных, с вещевым мешком за плечами.
Черных. Что за люди? Пастухи? Здравствуйте.
Шавров. Здорόво. Не пастухи… А ты кто таков? Куда путь держишь?
Черных. Со станции иду, в район. (Осматривается.) Колхоз «Труд»; Его земля, да. Речка… Здесь был поворот на «Парижскую коммуну»… Где же дорога на Ракитное?..
Шавров. На Ракитное? Запахали ее, никто туда не ездит нынче… Здешний?
Черных. Здешний… Давно не был здесь. С двадцать второго июня сорок первого года… Огонька можно? (Сбрасывает с плеч вещевой мешок, присаживается к костру, прикуривает.)
Иван Гаврилович (обходит костер, всматривается). Василий Павлович!.. Товарищ Черных!.. Ты ли это?
Черных (встает). Кто?.. Дед Лыков!
Иван Гаврилович. Пришел… Эх! (Припал к плечу Черных.)
Шавров. Вон кто! (Подходит, подает руку.) Черных! Какими судьбами?
Черных. Шавров? Жив? На старом месте?
Шавров. Как дуб!
Иван Гаврилович. Василий Павлович, голубчик! Вася! Тебя ли вижу?..
Черных. А писали мне — никого нет…
Иван Гаврилович. Один остался… Пришел… Эх! Только что говорили тут с бабами о тебе. Марфа говорит: к кому он придет сюда?.. Решил навестить родные края? А может, на работу к нам, Василий Павлович? Насовсем?.. Далече жил?
Черных. На Кубани.
Иван Гаврилович. Что ж, не понравилось?
Черных. Сторона богаче нашей…
Иван Гаврилович. А потянуло на родину?
Черных. Как узнал, что у вас тут уже второй год засуха… (Указывает на вещевой мешок.) Весь — с движимым и недвижимым.
Иван Гаврилович. Совсем?.. Верно, верно, Василий Павлович! Это же твой дом. Здесь ты родился и вырос. Не только в «Парижской коммуне» люди тебя знали.
Черных (садится у костра, долго молчит). Что там сейчас?..
Иван Гаврилович. Нету нашего села… В логу, где расстреливали, — братская могила… Тебе-то, скажи, что писали? Все знаешь?
Черных. Всё…
Шавров. Где спалили села да люди остались, там уже все заново отстроили. А у вас же — строить некому. Землю вашу бывшую совхозу прирезали… В район тебе уж сегодня поздно. У нас в колхозе заночуй… Мне вот надо еще тут баб дождаться.
Иван Гаврилович. Ко мне пойдем, хозяйка пустит… Я теперь здесь живу, Василий Павлович.
Черных. У них?
Иван Гаврилович. Да, куда денешься… Хоть оно, может, и не учтиво, приютили они меня, но прямо скажу тебе, вот (на Шаврова) при нем: не то, не то! Не наш ракитинский колхоз!
Черных. О чем спорите?
Иван Гаврилович. Обо всем… О направлении жизни!
Шавров. Язва старик! Хлебом не корми, дай только кого-нибудь облаять. Ты его больше знаешь, товарищ Черных, скажи: чего он такой прилипчивый?
Черных. Председателем ревизионной комиссии был у нас, три года.
Иван Гаврилович. По должности своей ни разу не мог сказать ему (на Черных) в глаза: «Хороший ты, Вася, председатель!» — обязан был критиковать. Но теперь, как повидал другие порядки, э-эх!..
Черных. А что вы тут делаете, ночью?
Шавров. Да вот же — с засухой боремся.
Черных. Как боретесь? (Встает, осматривается, задевает ногой брошенное коромысло.) Ведрами?..
Шавров. Это Насти Колосовой участок.
Иван Гаврилович. Понятно тебе? Показательный!
Черных. Колосовой?.. Жива она? Дома?
Шавров. Жива. В сорок втором была со мною в эвакуации. Если б осталась дома — гестаповцы ее не пощадили бы.
Черных. Как она сейчас?
Шавров. Воюет!
За сценой песня — издали, приближается.
В прошлом году еще орден заработала. А в этом году на Героя метит. Киносъемщики приезжали к нам. Скоро картину будем смотреть про себя. И меня (показывает, будто крутит ручку киноаппарата) засняли.
Иван Гаврилович. Вон — идет!..
Песня — ближе, голоса, звон ведер. Идут Настя, Наталья, Ксюша, Мария, Луша. Настя оборачивается, кричит за сцену возчикам: «Подъезжайте ближе!» Не замечая Черных, сидящего в тени, женщины проходят мимо костра к берегу речки.
Мария. Вот дед нам поможет.
Наталья. Давайте запишем его в свое звено.
Ксюша. Не согласна. Мой Петрович приревнует. Каждый день допрос мне делает: «А мужиков у вас в звене нету?»
Наталья. Так он не мужик.
Иван Гаврилович. А что ж я такое, по вашему мнению?
Луша. От мужика остатки.
Иван Гаврилович. Ой, бабы, бабы! Создал вас бог, посмотрел, да и нос высморкал!..
Женщины уходят к речке.
Настя. Не плескайте на тропинку, скользко, на гору не вылезешь! Прокопыч! Во второй бригаде народ в поле ночует. Ну-ка, пойди, уговори их, пусть придут, поработают. И бочки у них там есть.
Шавров. Сейчас, сейчас. (Встает.) Болячка на мою голову!..
Иван Гаврилович (с восхищением). Двужильная! И сама которую ночь уж на ногах!..
Черных (встает). Зря трудодни разбазариваешь, товарищ Шавров.
Настя (приостановилась). Что-то больно много у меня сегодня супротивников. Кто это тут еще объявился?
Черных. Не узнаёшь, Настасья Никитишна?
Настя. Вроде знакомый человек… Кто это?
Иван Гаврилович. Ракитинский председатель.
Настя. О!.. Черных? Василий…
Черных. Павлович. Забыла соседа? А приезжала к нам в гости, соревнование проверять. И не раз приезжала.
Настя. Не узнала. Простите, что накричала на вас.
Черных. Ничего. Вижу — под горячую руку попал.
Иван Гаврилович. Тут нынче все — горячие да нервенные.
Настя. Откуда вы?
Черных. Со станции иду.
Настя. Приехали к нам жить?.. Как это вы сказали: зря трудодни разбазариваем?
Черных. Обиделась?.. Ну, конечно, зря. Что вы здесь успеете полить вручную! Если уж бороться с засухой, то — по-настоящему.
Настя. А как — по-настоящему?
Черных. Прошел я, Настасья Никитишна, за войну много разных стран. И на Кубани вот жил, побывал там в хороших колхозах… Надо всю землю обрабатывать так, чтобы даже засуха не могла сильно повредить!
Настя. Всю? Ого! Кто ж ее у нас так обработает?
Черных. Люди.
Настя. Люди!..
Черных. А если уж поливать какие-то участки, то надо канал рыть. Помнишь, Иван Гаврилович, какое строительство мы планировали на сорок второй год?
Иван Гаврилович. Помню. В аккурат на последнем собрании перед войной обсуждали мы вопрос о Сухиновском водохранилище.
Черных. А в этой речке, я знаю, воробью по колено. Тут и ведрами не надолго хватит черпать. Дело пустое.
Настя. Нет, не пустое! И вы не хотите понять, чего нам стоит все, что здесь выросло! Здесь и слезы наши, и радости!.. Сколько трудов вложено!..
Черных. Так это же не выход из положения — десяток гектаров.
Настя. Конечно, лучше б на всей земле взять такой урожай, как мы берем. А с кем это сделать? Кабы вы да я, да все в одно думали. Не пришли вы часом раньше, послушали бы, какой тут крик был.
Иван Гаврилович. Из-за чего крик? Не греши, Настя, не наговаривай лишнего на людей! Они ж тебе сказали: от колхозной работы не отказываются.
Настя (не слушая). Эх, надоело мне здесь! Если б из возраста не вышла, поехала бы учиться в Тимирязевку. Что меня тут держит? Ни мужа, ни детей.
Черных. Надоело? Тебе? Странно слышать… Прости, что по старой памяти на «ты» зову.
Настя. Ничего. А потом куда-нибудь на опытную станцию поступила бы. Там дело государственное: приказ. А у нас в колхозе всё: «по силе возможности»!
За сценой голоса: «Готово, можно ехать!»
Сейчас иду!.. А поливать мы все же будем! (Оглянулась.) Прокопыч! Да чего ж ты стоишь? Ступай во вторую бригаду, давай еще бочек и людей. Да скорее, ночь проходит!
Шавров. Иду, иду!.. Прощай покуда, Черных. Увидимся еще?
Черных. Увидимся.
Шавров уходит.
Изменилась ты.
Настя. Постарела?
Черных. Нет…
Настя. Что ж вы так долго домой не ехали? Где скитались? Сказала — домой… Куда же вы пойдете?
Черных (на Ивана Гавриловича). Пока к нему.
Настя. А дед сам у чужих людей живет… Да, большое несчастье вас постигло, Василий Павлович. Приходили после войны фронтовики из вашего Ракитного — все разбрелись по другим колхозам. А кого нынче минуло горе?.. До свиданья. Устраивайтесь работать в нашем районе да приезжайте к нам в гости.
Черных. Приеду. До свиданья.
Настя уходит. Остаются Черных и Иван Гаврилович. Небо на востоке заметно посветлело.
Иван Гаврилович. Высказала! В колхозе неладно — на опытную станцию надо уходить!..
Черных. Что-то с нею случилось… Не такой я помню Настю Колосову.
Иван Гаврилович. Своя цель — Героя добивается. Для ее рекордов-то в этой речке воды хватит.
Черных (присаживается к костру). А кто у вас сейчас секретарем райкома?
Иван Гаврилович. Секретарь у нас новый, Тимошин Денис Григорьевич. Мужик вроде с понятием.
Черных. Работать приехал, дед, не в гости. Как думаешь, дадут мне другой колхоз?
Иван Гаврилович. Дадут! Тебе какую хошь должность дадут! Может, и в район возьмут.
Черных (смотрит на старика). Один остался… Ну, расскажи — как было.
Иван Гаврилович. Как было?.. Как сон было, Вася, — фашисты ходят по нашей земле!.. Три раза казнили они людей у нас, за помощь партизанам. А последний раз — Степанида Горева, ты ее помнишь, в сельпо работала, — отравила немецкого офицера. За сына. Сын ее в плену был, в Астаховских лагерях, замучили его. Вот тогда вышел приказ от ихнего командующего: уничтожить всех и село спалить. Приехали каратели на машинах… Что было, как было — никто тебе не расскажет. Нету тех, что видели, как было…
Черных. Ты как спасся?
Иван Гаврилович. Ходил с донесением в лес к партизанам. Дома меня не было, Вася!.. А твоих — не тогда, раньше…
Черных. Знаю.
Иван Гаврилович. Сынишка твой малой был. Чуть бы постарше — может, вместе бы воевали…
Черных. Как сон, говоришь, было? Нет, не сон… Надо большое что-то сделать всем нам на нашей земле, чтобы не повторилось такое никогда!..
Молния, удар грома. На степь налетает дождевой порывистый ветер.
Иван Гаврилович. А дождик таки собрался! Зря бабы в панику ударились.
(Пошел дождь.)
Так, так! Давай пуще, давай! Домой нам далеко, здесь переждем.
Уходят под ракиты. Черных достает из вещевого мешка плащ, укрывает им себя и Ивана Гавриловича.
А, ладно, укрывайся сам, ради такого дождя и промокнуть не беда!
К ракитам бегут Настя, Наталья, Ксюша, Мария, Луша.
Наталья. Пустите и нас под крышу. Боюсь грозы! (Тянет на себя плащ.) Ой, кто это? Незнакомый человек. Я думала — Прокопыч.
Иван Гаврилович. Ракитинский председатель.
Наталья. Товарищ Черных?.. Вот кто! Здравствуйте, Василий Павлович!
Черных здоровается с женщинами, отдает им плащ.
Настя (к Черных). Пришли и дождика нам принесли! Теперь каждая былинка в поле возрадуется!
Луша. Конец — ведрами поливать! Приду домой, как завалюсь спать! Отосплюсь за все дни-ночи!
Иван Гаврилович. Давай, давай пуще! Заждались! Всех теперь дождик ублажит, все добрыми станут! Давай пуще!
Мария. Наташка, отпусти плащ! Весь плащ на себя перетянула! А, ладно, не раскиснем, не сахарные! (Выбегает на открытое место.)
Луша (выбегает из-под ракит). Дождь, дождь, на дедову пшеницу, на бабкин лен, лей ведром!..
Иван Гаврилович. Благодать! Вот они, миллионы, с неба падают! Сто сот стоит в эту пору дождь!
Дождь — тише.
Ксюша. Что, уже и кончился?
Иван Гаврилович. Маленький кончился, большой начнется. Вон какая туча еще заходит!
Ксюша. А ветер какой холодный! Озябла! Мари я. Давно ли от жары страдали.
Наталья (запевает).
Опять — ливень. Сильные удары грома.
Занавес.
Действие второе
Дом Насти Колосовой. Декорации повернуты так, что видны и часть крыльца, и палисадник, кусты сирени под окнами. Намечена стена, перегораживающая внутренность дома как бы на две комнаты, горницу и прихожую. Две двери: из прихожей — в сени и из горницы — на кухню. В горнице: письменный стол, книжный шкаф, полки с принадлежностями агролаборатории — колбами, воронками и т. п. На стенах в прихожей и горнице снопы (образцы урожая), фотографии, диаграммы, монтажи, побывавшие в свое время на выставках в области и Москве. Крупные, бросающиеся в глаза надписи: «Мастер высоких урожаев Анастасия Колосова», «Наука и стахановский труд», «Достижения Анастасии Колосовой — всем колхозам!». Есть и плакат с большим портретом самой Колосовой. На диаграммах разные даты: 1939 год, 1940, 1945, 1946. У стены, разделяющей прихожую с горницей, — диван, тумбочка с графином и столик секретаря Любы. На столике Любы — телефон. Между первым и вторым действиями прошло три месяца. Колосова собрала высокий урожай, позволяющий ей надеяться на получение звания Героя Социалистического Труда. Воскресенье. Утро. Люба разбирает за своим столиком почту. В окно заглядывают Дуня и Фрося. Дуня — с баяном.
Фрося. Трудится. И в воскресенье — работа… Люба! Идем гулять с нами.
Люба. Да, гулять… Видите, сколько писем. Сейчас будем с Настасьей Никитишной ответы писать.
Дуня. Ну, трудись, трудись… А нам сегодня — отдыхать! Уборку кончили!..
Девушки отходят от окна. С минуту слышен удаляющийся баян… Люба, вздохнув, принимается за письма. Со двора входит Настя с ворохом чистого белья на плече, уносит белье на кухню, возвращается в горницу.
Настя. Опять — гора писем. (Садится за стол.) Нехорошо так долго не отвечать, люди ждут… А что делать? С поля придешь — и постирать надо, и чего-нибудь горяченького сготовить, устанешь, спать хочется… Ну, ничего, скоро осень придет, будем с тобой вечерами сидеть, отвечать… Пишут, пишут… Из Белоруссии… Из Саратовской области. (Разбирает письма). Это что? Не по-русски написано. На!
Люба (подходит). Это из Болгарии, тетя Настя, я уже разобрала. Одна вдова пишет. «Драги другари…» У них в деревне поделили помещичью землю и тридцать хозяев организовали кооператив, колхоз по-нашему. Читала о ваших урожаях в журнале и слушала но радио. Спрашивает… Ну, тут она много вопросов задает вам… У них буквы, как русские, и слов много схожих…
Настя. Надо помочь болгарке… Кем она там? Председателем?
Люба. Бригадиром. У них две женщины работают бригадирами.
Настя. То — дело! Напишем ей, что у нас так говорят: где баба бригадир, там мужикам и покурить некогда… Ох, молоко ушло! (Уходит на кухню.)
Люба. Вот еще вашу статью просят.
Настя (из кухни). Еще статью? (Входит.) Да когда же мне их писать?..
Люба. Как станете Героем — еще больше будут вас тревожить.
Настя (со смехом). Сама того боюсь!
Люба. А все же от заслуженного не откажетесь?.. Все документы по вашему награждению счетовод отвез позавчера в район. В двух экземплярах, как положено. Один в Москву пошлют… А Федосья Голубова опять спорила в правлении с Шавровым из-за вас. Недостойна, она, говорит, награды. Отвернулась от нас, о колхозе не болеет. Страшно даже в хату к ней зайти, секретаршу завела — это про меня.
Настя. Завела, да. Не из ее кармана плачу тебе, от своих трудодней отрываю. А кто же мне будет помогать? (Указывает на кучу писем.) Хотела бы я посмотреть, какой она была бы на моем месте!.. Ну давай, что еще у тебя?
Люба. Вот пригласительные билеты вам. (Читает.) «Анастасии Никитичне Колосовой, члену комитета по проведению юбилея сельскохозяйственного института имени Костычева…» На расширенное заседание комитета, на шестнадцатое. «Члену жюри областного смотра художественной самодеятельности…» В помещении драмтеатра. Тоже шестнадцатого. Смотр самодеятельности. Эх, я бы поехала за вас!.. «Знатному мастеру урожая А. Н. Колосовой…» Гостевой билет на открытие выставки местпрома. Ну, это такое, можно и не ехать… Из облисполкома, на сессию, семнадцатого, к десяти утра. Явка обязательна… Еще вот: «Члену шефского совета…» — не пойму, под копирку напечатано, неразборчиво. На семнадцатое, в район.
Настя. Сразу — в десять мест? Да что же мне — разорваться? Или они хотят, чтоб я больше не пахала и не сеяла?..
Входит Степан Агеев, при всех медалях, под хмельком. Люба, забрав письма, садится за свой столик.
Степан. Привет героиням колхозных полей!
Настя. Здравствуй.
Степан (садится). С чего начинать?
Настя. А не знаю, по каким делам пришел. Начинай с главного, только покороче.
Степан. Куда спешить? Может, мне желательно все двадцать четыре часа просидеть вот так с тобою?.. Эх, Настя! Когда тебя можно застать одну? И в поле ты с людьми, и тут (оглядывается на Любу) — дела.
Люба, продолжая разбирать письма, вопросительно взглядывает на Настю: не мешает ли она, может быть, ей уйти? Настя делает ей знак: «Сиди!»
Настя. Ты, кажется, выпил? Может, в другой раз зайдешь?
Степан. И в другой раз выпью!.. Настя! Ты говорила: остепенись, подыщи себе работу. Знаешь, какую работенку отхватил?
Настя. Слыхала. Что-то вроде утильсырья?
Степан. Какое утильсырье! Посмотри документы. Уполномоченный областной конторы «Автодизельремснабсбыт». На пять районов. По заготовке пищепродуктов.
Настя. О-о!.. Автодизель… А почему же — по заготовке пищепродуктов?
Степан. Для них. Поняла? Снабсбыт!.. У них на складах только птичьего молока нет. Легковую машину по частям можно собрать. Себе бы взял — автоинспекция прав не даст. А тебе дадут. Ты Героем будешь, тебе по районам надо ездить, выступать… Эх, Настя! Счастья своего не понимаешь! Да я бы для тебя — всё! Из-под земли бы достал!..
Настя (отдавая документы). Ты знал моего мужа?
Степан. Дмитрия Романыча? Как же!
Настя. Дмитрия Романыча…
Степан. Беспокойный был мужчина. (Жест — щелчок по галстуку.) Вроде меня.
Настя. А, помолчи!.. Может, ему хотелось Дворцы Советов в городах строить! Рубаху, бывало, рвет на себе: «Почему меня, Настёнка, не учили?..» Лучший мастер был на весь район. Какие мельницы строил! А как пять дворов подряд сгорело у нас — кто за месяц людям новые дома поставил? Ненасытные руки. Все мало работы было ему. Тебе этого не понять… И зачем я это тебе рассказываю?
Степан. Верно. Неприлично рассказывать о первом муже человеку, который в тебя влюбленный.
Настя. Что? Влюбленный?.. Счастья, говоришь, своего не понимаю? Было такое счастье у Кати Федоровой, трактористки. До войны еще, помнишь? Подписывал записки: «Муж знатной стахановки-орденоноски Ефим Федоров». А записки — в сельпо. То отрез ему на костюм оставьте, то выдайте пол-литра в кредит.
Степан. Ошибешься, Настя! Такими женихами нынче не пренебрегают. За меня любая девушка пойдет.
Настя. Вот и ищи себе девушку. Я на пять лет старше тебя… Слава моя нужна тебе, а не я.
Степан (искренне возмутившись). Слава? Своей хватает. Это что? (Указывает на свои медали.) Всю Европу прошел! Берлин брал! (Мечтательно.) Будет что детишкам рассказывать…
Настя. Берлин взял, а меня не возьмешь.
Входит Савелий Маркович.
Савелий Маркович. Здравствуйте! (Подходит к Любе, неодобрительно оглядывает ее столик.)
Люба. Вам что, Савелий Маркович?
Савелий Маркович. Чего уселась поперек дороги? Можно к ней?
Люба. Проходите.
Савелий Маркович (войдя в горницу). Здравствуй, Никитишна. (Садится у стола, Степан отходит к окну.)
Настя. Здравствуйте, Савелий Маркович.
Савелий Маркович. Настасья Никитишна! С жалобой к тебе пришел. Как к нашему депутату, и вообще…
Настя (просматривая бумаги). Да, да…
Савелий Маркович. Ты большой человек, тебя Шавров боится, должна нагреметь на него. Ни копейки не дает на обработку сада! Культиваторов нету, химикаты не закупили, опрыскивателей нету. Как можно доход от сада требовать, а расходу не делать? Ведь это только дикарь думает, что дерево само растет. Не овес, не пшеница, не надо, мол, пахать-сеять.
Настя. Люба! Статью в «Соцземледелие» послала?
Люба. Послала.
Савелий Маркович. Вот я сам составил смету, чего нужно в обязательном порядке купить для нашего сада. Посмотри. Надо заставить его, толстосума, раскошелиться! (Подает бумагу, Настя читает.) Пшеничка, урожай. Конечно, хлеб — всему голова. Но все же и до хлеба много кой-чего нужно человеку. Небось сам Шавров с похмелья как-то жинку ко мне за мочеными яблоками присылал…
Настя. Хорошо, Савелий Маркович. (Отдает ему смету.) Я тоже — за культурный сад. Приходите вечером на заседание правления, разберем этот вопрос. Люба! С опытной станции — напоминание. Просят не задерживать отчет.
Люба. Сегодня пошлем.
Савелий Маркович. Он меня на смех поднимает. «Тебе, говорит, нельзя садоводство доверить, ты ненормальный человек, посадил персики во дворе, а они померзли».
Люба (подходит). Я вот тут сама написала. Посмотрите, так ли? Большой вопросник прислали. Обо всех сортах, какие вы у них брали, запрашивают: какой дали урожай, по сравнению с местными, сколько раз пололи, подкармливали, когда, чем. Я из ваших рабочих дневников выбрала.
Настя. Хорошо, проверю.
Савелий Маркович. Что же, говорю, каждый по своей линии с ума сходит. Где я посадил персики? У себя во дворе. Мой опыт — мой убыток… (Видит, что Настя слушает его невнимательно.) Ну, ладно, приду на правление. До свиданья. Извиняй, что побеспокоил.
Настя. До свиданья, Савелий Маркович.
Савелий Маркович, махнув рукой, сердито крякнув на пороге, уходит.
Степан. Окончательно, Настя?
Настя. Окончательно.
Степан. Кого же ты ждешь? Года уходят. Настя. Никого… А может, и жду. Не такого, как ты, Степа, не прими в обиду. Прощай.
Уходит на кухню. Степан выходит в прихожую, постояв немного в раздумье, садится на диван. Люба, сложив письма стопкой, достает из ящика стола сильно потрепанную книгу, погружается в чтение.
Входит Алена, одетая по-домашнему, в калошах на босу ногу, с большим глиняным кувшином.
Алена (Любе). Никитишна дома? (Степану.) И чего ты к ней ходишь, время отнимаешь? Не раз уж было тебе сказано: понапрасну ножки бьешь.
Степан. Не твое дело. Ты-то чего шныряешь тут? Алена. Соли хотела маленько занять у соседки. Огурцы солю, а лавка закрылась на переучет.
В сенях — стук.
Еще кого-то черт несет. (В сени.) Женщина всю неделю в поле работала, отдохнуть бы надо в воскресенье, а вас тут нелегкая…
Входят приезжий колхозник и Савелий Маркович.
Ох, это не наши!..
Приезжий колхозник. Приезжий я. Из Куйбышевской области.
Алена. Здравствуйте! Извиняюсь! Вы к Настасье Никитишне?
Приезжий колхозник. К ней, да. Привет вам от колхозников Куйбышевской области! Я — Сергей Петрович Жуков, из колхоза «Верный путь», животновод. (Здоровается за руку с Аленой и Степаном.)
Степан. Здравствуйте. Агеев.
Алена. Сорокина. Елена.
Люба (сухо). А по какому делу, товарищ Жуков?
Приезжий колхозник. Был в соседнем районе у вашего Героя, животновода Кравченко, — мы с ним соревнуемся, — да решил по пути и к Анастасии Колосовой заглянуть, чтоб уж рассказать дома колхозникам и про нее, какие она тут рекордные урожаи выращивает. Вот папаша (к Савелию Марковичу) мне дорогу показал.
Люба. Садитесь, товарищ Жуков, подождите немножко. Настасья Никитишна сейчас выйдет.
Жуков и Савелий Маркович садятся на диван.
Алена. И я посижу, отдохну. Дома все работа да работа. Вот почитаю журналы, газетки. Может, и я стану такая грамотная да разумная, что делегации ко мне будут приезжать. (Садится, улыбнувшись Жукову, дает ему журнал, сама берет другой, перелистывает.)
Пауза… Где-то далеко по улице прошли с баяном девушки. Песня. Алена негромко подтягивает, Люба строго взглянула на нее. Тишина… Люба опять зачиталась книжкой.
Входят Тимошин, Черных и композитор Голышев.
Тимошин. Здравствуйте! О, да тут народу, как у министра в приемной!
Приезжий колхозник (встает). Приезжий я, из Куйбышевской области.
Тимошин. Познакомимся. (Подает руку.) Тимошин.
Приезжий колхозник. Жуков, животновод.
Люба (вскакивает). Здравствуйте! Вы — к Настасье Никитишне? Сейчас позову!
Тимошин. Сиди, сиди, не волнуйся. А где она? (Заглядывает в горницу.) На кухне, должно быть? Пирожками пахнет. Подождем. Вот знакомьтесь (к Жукову). Товарищ Черных, наш директор МТС, а это (ко всем) наш гость, композитор Андрей Ефимович Голышев.
Голышев (раскланивается и жмет всем по очереди руку). Будем, будем знакомы! Приехал пожить у вас в колхозе. Очень рад!..
Алена (Жукову, тихо). Композитор приехал. Таких еще не было у Насти. Писатели были, художники были, киносъемщики были…
Степан (подходит). Денис Григорьевич!..
Тимошин. Опять навеселе?
Степан. Извиняюсь, товарищ секретарь. Ради праздника воскресенья… Я уже при новой должности.
Тимошин. Что за должность?
Степан. А вот — посмотрите документы.
Тимошин (посмотрел). Так, так… Пищепродукты? Для автоснаба? (Возвратил документы Степану.) Важная должность. Это значит — мы колхозам запасные части без нарядов, а они нам — баранчиков, гусей?.. Какой же это жулик выдумал там такую должность? Не к лицу тебе этими вещами заниматься. Завтра наш уполномоченный министерства заготовок отберет у тебя твои мандаты.
Степан. Денис Григорьевич!..
Тимошин. Посиди, отдохни.
Степан отходит к дивану, садится.
Голышев. Итак, я в доме знаменитой Анастасии Колосовой. (Осматривается, обращает внимание на диаграммы и снопы на стенах.) О-о! Это что же — всё ее урожаи?
Черных. Да, ее урожаи.
Голышев. Помнится, Анастасия Никитишна впервые прославилась своими урожаями в те же годы, как и Мария Демченко?
Черных. Немного позже. Но писали о ней во всех газетах не меньше, как о Демченко.
Голышев. Интересно, интересно! (Рассматривает диаграммы.) Иному человеку эти цифры, может быть, ничего не скажут, а мне скажут много. Я ведь сам из крестьян, помню еще соху и трехполку.
Тимошин. Тут у нее целый музей.
Черных (разглядывает с Голышевым диаграммы, плакат с портретом Насти). Да, музей… Вечным передовиком стала.
Тимошин. Как ты сказал?.. Вечным передовиком?..
Черных. Да вот — все так же у нее, как и до войны было…
Тимошин. Одна — впереди, и никого с нею рядом?..
Черных. И как она это сберегла? Увозила на Урал, что ли?.. Плакаты пожелтели от давности.
Входит Настя.
Настя. Ох!.. И Денис Григорьич здесь! И Василий Павлович! Здравствуйте! (Вопросительно взглядывает на Голышева и Жукова).
Приезжий колхозник. Сергей Петрович Жуков, животновод из Куйбышевской области.
Настя. Давно ждете? Что ж ты не сказала, Люба?
Тимошин. Подкачала твоя секретарша. Нет, мы сами не пустили ее с докладом. Ничего, ничего. Познакомьтесь: композитор Андрей Ефимович Голышев.
Голышев. Очень рад приветствовать вас в вашем доме, Анастасия Никитишна! Между прочим, мы знакомы. Помните, нас познакомили в Москве на сессии, когда вы рассказывали там о ваших рекордных урожаях? Я тогда же решил обязательно приехать когда-нибудь к вам.
Настя. Помню, помню!
Фрося и Дуня с баяном подошли к открытому окну.
Садитесь. (Подает всем стулья.) Не я одна знакома с вами, Андрей Ефимыч. У нас колхозницы ваши песни поют. Алена! Как это: «Где ты, лето знойное?..» Люба! Дуня!
Люба. Ой, что вы!..
Алена. Что ты, Настя!.. Да я сегодня маленько и не в голосе. Вчера у сестры на именинах гуляла.
Тимошин. Спойте, спойте, не церемоньтесь.
Дуня заиграла, Алена и Люба поют:
Оборвали песню, засмеялись.
Настя. Ну-ну? Что же вы?..
Люба и Алена переглянулись, запевают другую:
Смех, аплодисменты. Фрося и Дуня отошли от окна. Все сели по местам.
Голышев (вздохнув). Настасья Никитишна! Я уж два года не пишу песен.
Настя. Почему?
Голышев. Заседания, комитеты, доклады… Вот — вырвался. И то — как вырвался! Сердце. Пять врачей в один голос сказали: немедленно отдыхать. Путевка в Мацесту в кармане, на два месяца. А я по дороге передумал. Отошлю путевку назад. Дачи, санатории — все не то. Лучше проживу эти два месяца в деревне, вот с вами, вашими колхозниками. Оперу, может быть, о вас напишу.
Приезжий колхозник (Савелию Марковичу). Папаша! Пойдем, проводишь меня по колхозу. Фермы посмотрим. А сюда позже зайдем. Хозяйка занята.
Савелий Маркович. Занята! Она всегда занята!..
Тимошин. Ты чего такой сердитый, Савелий Маркович?
Савелий Маркович. Да я уж, Денис Григорьич, рассказывал. Опыты делаю, как в нашей местности побольше разных деревьев развести. А на мою работу — никакого внимания!
Неловкая пауза.
Алена. Папаша у нас — любитель! Все чего-нибудь доискивается. И на детях опыты делал. Детей у него было восемь душ. Семерых крестил, а восьмого оставил так, некрещеным, для опыта — что получится, горбатое или кривое?
Тимошин. И что ж получилось?
Савелий Маркович. Полковник получился!.. Вот так всегда меня на смех поднимают! Пойдем, гражданин!
Тимошин. Я заеду к тебе домой, Савелий Маркович, там поговорим.
Савелий Маркович. Заезжайте, милости просим!
Приезжий колхозник и Савелий Маркович уходят.
Настя. Чудак! Таким способом хочет акклиматизировать южные деревья, от которого Мичурин еще в молодости отказался.
Тимошин. А чего ж не поможешь ему другой способ найти? Ты, вероятно, больше читала и Мичурина и о Мичурине.
Черных. У старика возраст уже не тот, чтоб бесплодно терять годы.
Тимошин. Да. Как же это у вас так — врозь? В одном колхозе живете.
Настя. Люба! Собирай на стол.
Тимошин. Нет, нет, не хлопочите! Мы не надолго, сейчас поедем. Андрей Ефимович хочет остаться у вас, а мы поедем дальше. К нему (на Черных) в МТС. И на водохранилище. (Голышеву.) А может быть, и вы с нами? Покажем вам нашу стройку.
Настя. На водохранилище?
Черных. Под Сухиновку. Там уже работают. Начали.
Тимошин. А ему (на Черных) поручили шефствовать над стройкой. Как инициатору. Да и техника — у него.
Настя. В добрый час.
Тимошин. Пяти колхозам дадим воду на огороды. Поливные помидоры, стригуновский лук, баклажаны, капуста. Завалим город овощами! (К Насте). А ваш колхоз, говорят, плохо там работает.
Черных. Там надо сейчас и живой силой помочь, Настасья Никитишна. Упустим сухую погоду — осенью в дожди придется копать.
Настя. Я за колхоз не отвечаю. Шаврова спрашивайте.
Тимошин. И Шаврова спросим. Ты сама-то выходила со своими девчатами?
Настя. Нет еще, не управилась.
Тимошин. Ясно. Пример подаешь?
Настя. Все я да я. Пусть еще кто-нибудь подаст пример… Я думала, вы с чем хорошим приехали, а вы шумите на меня… Да, может, закусите с дороги? Я живо соберу. Пирожков напекла!
Тимошин. Нет, не надо, мы уже завтракали.
Голышев. Машинно-тракторные станции, колхозы, безмежные поля… Я сам из деревни Голыши Смоленской области. Название-то какое — Голыши! Отсюда и фамилия моя — Голышев. В избах топили по-черному. Хлеб пополам с лебедой… Нет, вы не представляете, как это замечательно все, что вы делаете здесь!
Тимошин (с теплой усмешкой). Немножко представляем, Андрей Ефимыч.
Голышев. Вы не смейтесь. У вас это все на глазах, каждый день, примелькалось… То, что творит народ, словами не опишешь. Тут нужна именно музыка! О таких (на Настю) героях нашего времени… Вы меня растрогали. Вы поете мои песни и помните, кто их сочинил. А я — то, в каком я долгу перед народом!.. Если так будет продолжаться… Слушайте. Я — член четырех юбилейных комитетов, я редактор радиоальманаха, член художественного совета двух театров, я принимаю все музыкальные спектакли, чествую, заседаю, выступаю…
Люба. Ох, товарищ Голышев! Здесь, кажется, есть ваши друзья по несчастью.
Голышев. Кто? Вы?
Люба. Нет, пока…
Настя показывает Голышеву свои пригласительные билеты.
Голышев. Что это?.. (Читает.) «Члену юбилейного комитета Анастасии Никитичне Колосовой…» Так… «Члену жюри областного смотра…», «Члену областной…» Гм… Но вы же в поле работаете, как же вам успеть всюду?
Настя (усмехается). Вот так и успеваю, Андрей Ефимыч. Трудно!.. Как написали обо мне во всех газетах, — давно, еще до войны, — так и началось. Сколько меня по банкетам повозили! И чем больше хорошего наговорят обо мне на банкете, тем страшнее ночью сны снятся: а вдруг в будущем году провалюсь с урожаем!.. Куда только не выбирали меня! Даже почетным пожарником в районе выбрали. В военное время не так допекали, не до того было. А теперь — опять… У Марины Дорониной, кубанской доярки знаменитой, у той и муж — дояр. Уедет на сессию или с делегацией куда-нибудь — муж за нее коров доит. А у меня дело такое, некому поручить.
Голышев (задумался). А скажите, наш брат, писатели, художники — тоже докучают вам?
Настя. Честно сказать, Андрей Ефимыч? Не обидитесь? Докучают. Всё к нам да к нам едут. Один за другим.
Тимошин. По проторенной дорожке. Это же легче, чем искать новых интересных людей.
Настя. В прошлом году все лето кинооператоры у нас жили. Тут работы по горло, сорняк лезет, полоть надо, а они — и так повернись, и этак. По десять раз на дню переодевалась в разные платья. Прямо в актрису превратилась. Так завертели меня, что из-за моего недогляда полгектара свеклы лучшего сорта, который мы сами вывели, долгоносик чуть не съел.
Тимошин. Это тебе, Настя, всё за то, что ты, как вот Василий Павлович говорит, стала вечным передовиком.
Настя. Не понимаю… Плохо это? Осадить надо назад?
Тимошин. Нет, не осадить. Подумай — поймешь… О многом тебе надо подумать крепко. (Оглядывает комнату.) Давно я был у тебя последний раз?
Настя. Когда вы заезжали?.. Погодите, припомню… Да весною. Вы-то не часто нас посещаете.
Тимошин. У меня в районе не один колхоз… Этого (указывает на столик Любы, графин с водой) у тебя тогда еще не было. (Любе). А звоночка у вас нет такого? (Показывает, нажимает пальцем в стол, делает страшное лицо.) «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»
Люба. Нету… Нужно провести?
Тимошин. Не нужно… Чем зачиталась? (Перелистывает книгу.) «Спартак». Хорошая книга.
С улицы — шум подъехавшей автомашины.
(Выглянув в окно, шоферу.) Заправился, Вася? Полный бак? Сейчас поедем.
Настя. Уезжаете? Не хотите погостить у меня?.. Да хоть бы сказали что-нибудь. Как же так: здравствуй-прощай? Мои девчата спросят: чего секретарь райкома приезжал? — а я и не знаю… Мы свое обязательство выполнили, Денис Григорьич, дали урожай. Теперь за вами слово.
Степан (подходит). Эх! Золотую звездочку ей — вот сюда! (Показывает.)
Тимошин (отстраняет Степана, в тон ему). Эх, кабы вас, таких, меньше возле нее вертелось!.. За урожай — спасибо, Настасья Никитишна. Поработали крепко, молодцы!.. Но эту героиню нашего времени, Андрей Ефимыч, надо кой за что и поругать.
Голышев. Не знаю, не знаю… Вижу — какие-то семейные споры застал у вас.
Тимошин. Да, да, вот именно — семейные.
Голышев. Мне лучше уехать?
Тимошин. Нет, мы вас из нашего района не выпустим! У нас много колхозов, и люди всюду замечательные. Вот поедете с нами, посмотрите. Понравится так, что еще на два месяца возьмете путевку в Мацесту. Напишете здесь чудесную оперу о наших людях. А ее (на Настю) я бы вам посоветовал оставить в покое. Хватит ей пока славы. Мы-то ее в покое не оставим, но это уж — по другой линии. Из другой оперы, как говорится.
Голышев (прощаясь с Настей). Простите, Настасья Никитишна. Очень вы мне понравились, там еще, в Москве, но…
Настя. Да что ж вы так уезжаете? Люба! Скажи шоферу, пусть загонит машину во двор.
Люба бросилась к двери, наткнулась на свой столик, чуть не опрокинула его.
Тимошин. Не надо… Прямо как у нас в райкоме. (Берет столик Любы, отодвигает его в сторону, освобождая проход в горницу во всю ширину двери.) Вот так лучше. (Насте). Приезжай завтра в райком, ко мне. И Федосье Андреевне Голубовой передай, чтоб приехала. Да! Девчата у вас есть, Фрося Любченко и Дуня Батракова, комсомолки, кажется? Пусть тоже приедут. (Щелкает пальцем по графину, смеется.) Ну, точно, как у нас в приемных! Пейте кипяченую водичку в ожидании очереди и не скучайте.
Настя смущена. Она не понимает причины смеха и почему Тимошин уезжает, не поговорив ни о чем с нею, зачем вызывает ее и других колхозниц в райком.
(Ко всем.) До свидания! (Увидел у двери Степана). Агеев! А ты не хочешь проехаться с нами по полям? Эх, плечи богатырские, зря пропадают! На водохранилище бы тебе поработать, а? Там свежим ветерком живо хмель продует. Да, ведь ты сапер! Нам нужны будут подрывники. Как, Василий Павлович? Считай, Агеев, что должности у тебя уже нет. Другая будет. Поехали! (Подталкивает его к двери, Насте). До завтра!
Настя, Люба и Алена провожают уезжающих. Минуту сцена пуста. Прошумела на улице отъехавшая машина… Настя возвращается.
Настя. Уехали… Смеются надо мною… Вечный передовик…
Занавес.
Кабинет Тимошина в райкоме. В кабинете: Тимошин, председатель райисполкома Силкин и Черных. Солнечное утро. Сильный ветер хлопает раскрытыми створками окон. Районный центр — небольшое село при железной дороге. За окнами и широкой застекленной дверью — открытая летняя веранда. Видны степь, дорога, ветряная водокачка с вертящимися лопастями. А в степи уже голо, хлеба убраны. Поля побуревшего жнивья перерезаны черными полосами зяби.
Тимошин. Бить нас нужно, Лука Демьяныч! Бить и плакать не давать! (Прикрывает распахнувшееся окно.) Разбушевался с утра. Опять буря поднимется.
Силкин. Насчет осенних ветров у стариков такая примета: если на третий день не утихнет — девять дней будет дуть, на девятый не утихнет — восемнадцать.
Тимошин. В восемнадцать не уложится — тридцать шесть? Ну тебя с твоими приметами! (Прошел к столу, продолжает прерванный ветром разговор.) Бить и плакать не давать! Потерять такого человека!
Черных. Я ведь ее давно знаю, лет двенадцать. И товарищ Силкин знает. Хорошая женщина была. Простая, умная.
Силкин (крутит, задумавшись, шнур телефона). Ум-то от нее и сейчас не ушел…
Тимошин (Силкину). Десять лет здесь сидишь!
Силкин. Вот, вот! Я всегда за все в ответе!.. Ты, Денис Григорьич, тоже не вчера приехал, не оправдывайся. Мы все в армии служили, знаем военные порядки. Принял командир часть ночью на походе, а утром — в бой. И никаких нет ему оправданий, что, мол, я новый человек, личный состав еще не изучил.
Тимошин. Да, да… Не крути шнур. (Берет со стола письмо.) Прислали мне колхозницы письмо из колхоза «Труд». Протестуют против представления Колосовой к званию Героя Социалистического Труда. Вот слушайте. (Читает, пропустив начало.) «Было время, когда мы согласны были все ей уступить. Дают колхозу удобрения, разные химикаты, а что с ними делать, по скольку чего в землю сыпать, как тот анализ сделать, чтобы определить, — не знаем. Даже рады были, что нашлась такая охотница, добровольно соглашается возиться с ними. А нынче и нас советская власть образовала… Мы Колосову не хулим, она нам дорогу пробивала. Большой труд приняла она на себя. Но зачем же она заняла эту дорогу во всю ширину, а других не допускает? Всем колхозом стала командовать. Кто у нас председатель — Шавров или она? Подсчитали бы вы трудодни, во что нам ее рекорды обходятся!.. Если получит она такую большую награду — от этого пользы делу не будет, это уже не показательно, а другим людям даже обидно. Это не хитро — на маленьком участке урожай собрать. Стоять над каждым стебельком с зонтиком, чтоб ему не пекло, не дуло. Если она мастер урожая — пусть покажет, как на всех полях его добиться…»
Силкин (перелистывает письмо). Толковое письмо… (Читает подписи.) «Федосья Голубова, Батракова Евдокия, Фрося Любченко…»
Тимошин. Толковое, да.
Черных (взял письмо, перечитывает). «А нынче и нас советская власть образовала… Но зачем же она заняла дорогу во всю ширину, а других не допускает?.. Мы обязательство давали за весь колхоз…»
Тимошин. Видимо, Голубова — организатор. Она — бригадир, кандидат партии. Вон в конце ее приписка. Читай.
Черных (читает). «Товарищ Тимошин, когда вы будете меня в члены партии принимать, вы же меня спросите не только по теории, как ты готовилась коммунисткой быть, какие книги прочитала, но и за Настю спросите, и за колхоз, чем ты колхозу помогала, и что я вам отвечу, если наш колхоз не в гору, а вниз пойдет?..»
Тимошин. Как мы не заметили, что с Настей происходит!.. Тут и я проглядел, маху дал. Принимаю твою критику, товарищ Силкин.
Силкин. А Шавров? Денис Григорьевич! Присмотритесь к нему. Вот еще штучка!
Тимошин. Шавров по легкому пути пошел. Как поторговать прибыльно на базаре, этому крестьянина учить не нужно. Это занятие ему привычное, милое. И при Иване Грозном торговал, и при царе Горохе торговал. А давно ли узнала деревня о бактериальных удобрениях, перекрестном севе?..
Черных. Что же решаете о Насте?
Тимошин. Вот колхозный отчет об урожайности. Сам знаешь, что у них делается, твои комбайнеры там хлеб убирали. Колхоз деньгами богат от всяких побочных доходов, а плана урожайности не выполнил. Мы, правда, установили им повышенный план. Учли, что колхоз крепкий, председатель старый, опытный. И Настя Колосова у них — мастер урожая. Есть с кого спросить.
Силкин. Я расскажу тебе, Денис Григорьич, как это с нею получилось. Мы сами к зазнайству ее толкали! Это еще до войны началось… Твой предшественник был другой породы человек, не такой, как ты. Вот Василий Павлович его помнит.
Тимошин. К чему завели речь о нем?
Силкин. Да не для того, чтоб тебе польстить — старого секретаря поругать, тебя похвалить… Говорун был, краснобай. И умел пустить пыль в глаза начальству. Ох, как умел!
Тимошин. Ну и довольно о нем! Ты-то что тут делал, советская власть?
Силкин (озлившись). Я, Денис Григорьевич, в вэпэша не учился, не посылали меня. Я, можно сказать, самородок.
Тимошин. Ишь ты!.. Самородок!
Силкин. Ну, не так выразился — самоучка. От пастуха до председателя райисполкома дошел своим умом. Стану проситься на учебу, не пускают. «Подожди, поработай еще, ты тут старожил, все знаешь, на тебя опора». А случись что в районе, опять же: «Силкин тут старожил, больше всех сидит, недоглядел, проглядел!..» На меня каждый день телеграммы, как на Макара шишки, сыпятся: то выполнить в срок, другое выполнить. А что главное? Насчет политики и мне надо помогать. Кто должен помогать? Секретарь райкома, первая голова в районе.
Тимошин. Да, да, бывает, и на первую голову затмение находит…
Силкин (спокойнее). Так вот, говорю, у нас в районе тогда так поняли стахановское движение: нужно, дескать, и нам заводить своих рекордсменов, чтоб было чем похвалиться — есть, мол, в районе футбольная команда, есть самодеятельный театр, все, как у порядочных людей, и знатных стахановцев имеем полдюжины, или сколько их там положено иметь. Оно-то никем ничего не положено, нормы тут нам не устанавливали, но знаешь же как…
Тимошин. Для витрины нужна была Настя?
Силкин. Вот именно! Как прославилась Колосова — все внимание стали ей уделять. Ведь детишки в школах по хрестоматиям учили, кто такая Колосова и что она сделала. А откуда она родом? Где живет, работает? В нашем районе. Вот уж нам и отдушина! Район-то вообще не важнецкий, а попробуй, возьми нас голыми руками, когда у нас вот такая звезда сияет! Мы за Настиными рекордами, как у бога за пазухой жили. И, конечно, она о себе только и слышала: наша гордость, наша слава, вечная намять, прямо святые мощи из нее сделали. А если только хвалить да хвалить за старое — живой человек испортиться может.
Входит Настя.
Настя. Можно?
Тимошин. Можно.
Силкин. Легка на помине.
Тимошин. Здравствуй, Настасья Никитишна.
Настя здоровается со всеми за руку, садится у стола.
(Долго смотрит на нее, улыбаясь.) Эх, Настя, Настя!..
Настя. Чего, Денис Григорьич? Тридцать пять лет — Настя.
Тимошин. Только? Еще молодая! Найдешь себе хорошего мужа.
Настя. О чем это вы речь завели?
Тимошин. Да нет, не сватать тебя будем, что ты!.. (Серьезно.) Плохи дела, Настасья Никитишна.
Настя. У кого?
Тимошин. У тебя.
Настя. У меня? По-моему — хороши… Да о чем говорите-то?
Тимошин. Об урожае… Прислали нам акты по твоему звену. И по колхозу. Смотрели мы их, подсчитывали…
Настя. Ну?..
Тимошин. Не будем представлять тебя к званию Героя Социалистического Труда.
Настя. Дело ваше. Вам виднее… А почему?
Тимошин. Потому, что передовиков надо бы награждать, когда и колхоз в целом не хромает.
Настя. Наш колхоз план урожайности выполнил.
Тимошин. Среднерайонный.
Настя. А это и требуется.
Тимошин. Не мало ли для вас? Забыла, что мы вам повысили план?
Силкин. С теми колхозами равняетесь, где земли — пески да солончаки?
Настя. Не я равняюсь. Кто равняется, с того и спрашивайте.
Тимошин. Это уж я слышал от тебя: «Я за колхоз не отвечаю…» Все приехали?
Настя. Все, кого звали.
Силкин (смотрит в окно). Вон они, в саду.
Тимошин. Зови их, Лука Демьяныч.
Силкин (раскрывает дверь на веранду — сильный порыв ветра, сквозняк, хлопают двери и окна где-то в других комнатах в райкоме). Товарищ Голубова! Федосья Андреевна! Девушки! Идите сюда!
Входят Федосья Голубова, Фрося Любченко, Дуня, здороваются со всеми за руку.
Тимошин. Здравствуйте, здравствуйте! Садитесь. Ближе, вот сюда. Закрой дверь, Василий Павлович. Дует… Расскажите нам, товарищ Голубова, и вы, девушки: почему ваш колхоз не выполнил плана урожайности?
Пауза. Девушки переглядываются.
Дуня (Фросе, тихо). Как бы не попало нам за наше письмо…
Фрося (тихо). Не о письме спрашивают…
Тимошин. Ну-ну?
Фрося. Не выполнили…
Тимошин. А почему? Стихия? Засуха?
Фрося (толкнула Дуню, чтоб та налила ей воды из графина, выпила стакан воды). Немного напортила засуха. С весны. А потом прошли дождики, хорошие.
Тимошин. Семена, может, плохие были?
Дуня. Нет, хорошие.
Тимошин. Трактора вам не пахали?
Фрося. Пахать-то пахали… Вот бригадира спросите, она вам все расскажет, что у нас делается.
Федосья. Ни засуха не виновата, Денис Григорьич, ни семена. Сами плохо работали.
Силкин. Кто плохо работал?
Федосья. Да разве сразу назовешь. У нас три бригады. Всякий народ есть.
Тимошин. Вот вы подвели свою знатную стахановку. Она заслужила звание Героя Социалистического Труда. А колхоз не выполнил плана урожайности. Не можем ее представить. Нехорошо получается.
Федосья (взглянув на Настю). Мы — подвели? Жалуется?.. (С жаром.) Ну, Денис Григорьич, у нас в колхозе такое творится, что без пол-литра не разберешь, кто кого подвел!..
Тимошин. Ругаетесь?
Дуня. Настасья Никитишна с нами не ругается. Она нас просто не замечает.
Федосья. На такую высоту поднялась, что прочие люди оттуда ей маленькими козявками показываются.
Силкин. Это ты, Федосья Андреевна, бунт против нее учинила весною?
Федосья. Я! Как сказала она, что мои девчата способны только воду таскать на ее рекорды, я говорю им: «Бросайте! Пошли домой, спать!»
Фрося. И мы говорили там разные слова. Не отказываемся. Хоть судите нас! Не боимся!
Тимошин. Тш-ш!.. За что судить тебя, дочка?
Федосья. Не мы ее подвели, сама себя подвела. Примирилась, что рядом с нею другие хуже работают. Как ножом отрезано: это Настин участок, а это — других-прочих. Даже называть стали так: то показательный посев, а то, мол, — хозяйственный… А еще я скажу — вот что у нас делается. (Встала). На рекорды — всё, а для нас Шавров лишний раз и трактора в эмтэесе не попросит. «Чего? Еще и стерню вам лущить тракторами? Запрягайте лошадей». А где ж они, лошади, когда в ту пору все тягло на уборке занято? Боится лишних сто пудов натуроплаты хлебом заплатить, а тысячи пудов урожая — теряем. И ей оно — не болит.
Настя. Не болит?.. Это ты мне говоришь?
Федосья (твердо). Я.
Настя (встала). Да как ты можешь?.. Товарищи! Вы же не знаете. Ведь эта самая Фенька Голубова, сколько она мне крови испортила! От нее ли слышу: «Не болит»? Давно ты стала бригадиром? В военное время выдвинули… Когда я первый раз выступила на собрании — давно это было, еще до войны: «Дайте, говорю, мне участок, покажу, на что способна наша земля!» — все смеялись надо мною, а она — пуще всех. Не говорила ты: «Крестьянское дело — не завод, тут про пуды нечего наперед загадывать, что уродит, то и соберешь»?
Федосья. Говорила. Как думала тогда, так и говорила.
Настя. Когда помет птичий собирала я по дворам — не дразнила меня всякими дурацкими прозвищами? А когда ячмень но весне бороновала? Никогда не забуду! Гнали меня палками с поля! «Не позволим наш хлеб губить!..» И в колхоз вступила позже других. Два года раздумывала!
Федосья. Зачем, Настя, старое тревожить? Разное понятие у нас было. Ты раньше поняла про колхоз, да. Ну что ж, гордись этим. Я — позже. Но теперь я с этой дороги никуда не сверну!.. Знаешь, какой у меня был Фомич, покойник. Вот уж сколько раз решали с ним: вступим в колхоз. Как станет отвязывать быков, чтоб вести на общий двор, да как заплачет над ними, как дитё, — сердце разрывается. Не чужой ведь — муж. Думаешь: «А будь он неладен, ваш колхоз, как из-за него человек убивается!» Мы ж только перед самой коллективизацией тех быков нажили… Так же и агрономам не сразу поверила я. Век сеяли хлеб, с дедов, с прадедов, а они говорят: не так сеяли, вот так надо. А может, он вредитель какой, что заставляет яровые весною боронить? Ты на курсах была не раз, ты моложе меня, тебя и в Москву посылали. Ну, ладно, я — старая дура, виновата перед тобой. А вот — девчата. Молодежь. Им ни богами, ни чертями голову не забивали. Покажи, поучи их и — сделают. Всё сделают!.. Только не учи их своевольничать по-твоему.
Настя. Я вас учила, учила, да и рукой махнула. Десять лет учила!
Федосья. Вот, слышите?.. Опять стародавнее вспоминаешь! Вспомнила бы ты, Настя, что недавно было. Когда вернулась ты с Урала. Не вместе ли с тобой мы колхоз из пепла подняли? Мы — народ… Мы натерпелись здесь такого, что другим оно и во сне не привидится! Мне дай теперь простор, хочу для государства делать больше! Хочу нашу силу так укрепить, чтобы никогда больше никакой враг не пришел на нашу землю!.. (Разволновалась, ищет рукой сзади стул. Черных подал ей стул. Села).
Фрося (простодушно). А может, вы, тетя Настенька, боитесь, что мы вас обгоним?
Настя. Вы?..
Тимошин. Не может Колосова этого бояться! Она советский человек, коммунизм строит. Знает, что для коммунизма одних ее рекордов мало.
Настя. Ну, ладно, пусть вы такими сознательными стали. А еще у нас сколько людей! (К Тимошину и Силкину.) С теми что делать? И за тех мне отвечать?
Силкин. Да. Тебе — за них отвечать, им — за тебя.
Настя. А по-моему, уже каждый показал себя достаточно — на что он способен.
Тимошин. Настя!.. Тяжелое это слово — «бюрократ», да и не клеится оно к тебе, труженице. Но ты оторвалась от народа.
Настя. Я — бюрократка? Заработала. Мало терпела там, еще и от вас…
Тимошин. Десять лет учила! А как же? Будем учить, пока всех не научим. Для того и существуем!.. Да и кому ты это говоришь: «учила», «учила»? Эти девчата тогда еще под стол пешком ходили.
Силкин. Другие, может, подкачали, а они работают хорошо. Они — наша опора.
Тимошин. Да, да. Она этого не хочет видеть… Что у тебя дома делается? Не то музей, не то канцелярия. Приемная мастера высоких урожаев. Знатный человек, Настя, это — не чин, не должность.
Настя. Канцелярия, да! И секретаршу завела! А что же мне делать? Идут, едут, письма пишут. Во все газеты статьи просят.
Тимошин (помолчав). Слишком резко бросается всем в глаза разница между твоими урожаями и средними, вот ты и на виду, и едут к тебе все.
Настя. Ладно… Значит — не заслужила? Работала, здоровья не жалела… Ехать домой и так и сказать всем: «Не заслужила»? Пусть насмехаются?
Силкин. Над чем же насмехаться?
Настя. Эх, товарищ Силкин, товарищ Тимошин! Не знаете вы всего, что делается у нас. Думаете, нет таких, что скажут: «Ну что, наградили тебя за твое старание?» (Сдерживая слезы, идет к двери.)
Тимошин. Погоди! Не то говоришь.
Черных. Настасья Никитишна!.. (Идет за нею.)
Настя уходит.
Вернуть ее?
Тимошин. Не надо. Пусть у нее перекипит… Она, может быть, впервые выслушала здесь такое.
Федосья (встала). Ох, уедет она на линейке, а нам пешком идти придется!
Тимошин. Не уедет… Нам надо бы с вами еще поговорить.
Силкин. На машине отвезем вас. Я дам машину, мой «газик» вышел из ремонта. Садитесь.
Все уселись опять по местам. Пауза.
Федосья. А это она верно сказала, Денис Григорьич: есть и такие людишки у нас, что посмеются над нею.
Тимошин. А письмо — ваше? (Показывает письмо.)
Фрося. Наше. Мы писали. Дуня конверт клеила, я писала, а тетя Федосья подсказывала. Разве можем мы молчать, когда в колхозе непорядки?.. Денис Григорьич! Мы с Дуней комсомолки, нам молодежь приходится убеждать. А нам отвечают: «Довольно на Колосову указывать! Потому она всегда с урожаем, что ей условия особые создают!»
Дуня. Приезжайте к нам, Денис Григорьич, да поживите подольше — сами всё увидите, что у нас делается!
Тимошин. Приеду, обязательно. (К Черных.) И Василия Павловича попросим почаще к вам приезжать. Он не только за МТС — и за ваш колхоз отвечает.
Федосья. Мы не худа ей желали, а добра. Как бы нам хотелось, чтоб она могла по-прежнему, с чистой совестью, от каждого человека требовать: «Почему ты не работаешь так, как я?» Да мы бы первые на ее звездочку порадовались!.. Простая женщина, весь ее род — мужики простые. А чего достигла? В Кремле была! Мы смотрим на нее и думаем: наша плоть, и мы такие, всё сможем! Ее удача — и нам радость. А как ошибется она, не то говорит, не то делает — это нам нож в сердце!..
Силкин. А ведь — дорогой человек! Талант!
Федосья. Что говорить!..
Тимошин. Только некому у вас этот талант держать в руках.
Федосья. Вам с горы виднее, кто кого у нас прибрал к рукам.
Тимошин. Придется начинать с головы, с председателя. (Испытующе смотрит на Федосью.) Нам нужны в руководстве колхозов не оборотистые мужички, а воспитатели народа, широкой души люди.
Федосья подошла к окну, посмотрела.
Не уехала?
Федосья. Нет, ждет… Что нам деляночки, Денис Григорьич. Показательными гектарами народ не накормишь. И вам бы надо как-то иначе руководить. Довольно одним звеном звенеть!.. Война кончилась, люди должны почувствовать, что мирная жизнь наступила. Много хлеба надо, чтоб досыта всех и в городах накормить, и чтоб сами колхозники богато зажили. Нам на тысячах гектаров нужно брать то, что Настя на своих делянках берет!
Тимошин. Верно говоришь, Федосья Андреевна. Именно это и нужно нам!.. Ну, поезжайте домой. Займемся вашим колхозом. Поправим дело! Подумаем и о Шаврове… Жизнь — штука беспощадная, идет и идет вперед, как колонна на марше, не останавливаясь из-за одного-двух отставших… До свиданья! (Пожимает руки Федосье и девушкам.) Спасибо за науку. Письмо ваше — правильное.
Федосья. До свиданья, Денис Григорьич! Ждем в гости!
Фрося. Приезжайте, Денис Григорьич!
Федосья и девушки, попрощавшись со всеми, уходят.
Тимошин. Ну?.. Маленькая картинка для выяснения больших вопросов… Чего загрустил, Василий Павлович? Жалко Настю? А народ-то какой!
Силкин. Одну Настю потеряли — десять взамен ее нашли!
Черных. Потеряли Настю?..
Тимошин. Погоди, не торопись ее терять! Если потеряем ее, то и нам с тобой надо подавать в отставку. Для чего мы здесь сидим? Бумажки только писать или таких людей находить, поднимать? Находить, а не терять!..
Силкин. Ох, и женщина! Огонь с перцем! Но как она землю любит, как работает! Были и раньше в деревнях вот такие хлеборобы, у которых урожай всегда раза в три больше, чем у других. Колдунами их называли. А по-моему, просто талант.
Тимошин. Затвердил: талант, талант!.. Талант — это обязанность, Лука Демьяныч! Не помню, чьи слова. Настоящий талант тот, который сам творит и другим дорогу дает. Радуется, когда видит рядом с собой новые таланты. Не завидует, не боится, что его славу, может, затмят.
Черных. Зависти у нее нет, Денис Григорьич. Не думаю, чтобы она сознательно людей обижала. Просто очень она натерпелась в свое время в колхозе от таких, которым в коммунизм не к спеху.
Тимошин. Может быть, может быть… (К Силкину.) Да не крути ты шнур! Ну что за человек, что за привычка! Придет, сядет и крутит его, крутит. Опять у меня телефон заикается! Три шнура уже перекрутил! Вот — самородок!
Силкин. Засёк! Теперь так и будет меня звать!..
Тимошин распахивает широкую двустворчатую дверь на веранду. Ветра нет. Все вышли на веранду.
Тимошин. Утихла буря. А ты на восемнадцать дней пророчил. Погодка какая чудесная!
Силкин. Хорошая осень стоит. Сухо, тепло. Много зяби напашем.
Тимошин. Люблю осень, время плодов, зрелых мыслей, новых планов… Поезжай к ней, Василий Павлович. Сегодня же поезжай.
Черных. Сейчас заеду в МТС, там у меня еще дело есть. А вечером — к ним в колхоз.
Тимошин. Поезжай. Нельзя ее теперь оставлять одну. Помоги ей понять все.
Занавес.
Действие третье
Дом Насти. Вечерние сумерки. Настя, вернувшись из района, лежит, не зажигая огня, накрывшись шалью, на диване в прихожей. Столик, за которым сидела Люба, отодвинут к стене. Посреди комнаты валяется стул.
Стук в дверь. Входит Черных.
Черных. Можно войти?
Настя, чуть пошевелившись, что-то невнятно отвечает ему.
Темно… Кто-то будто есть. Хозяйка дома?
Настя. Дома.
Черных (подходит). Здравствуй еще раз. Чего лежишь? Захворала?
Настя. Нет…
Черных. С вечера спать легла… Свет зажечь? (Находит выключатель. На секунду комната освещается.)
Настя. Не надо…
Черных (гасит свет, поднимает стул, садится). А я к вам в колхоз приехал.
Настя. Правление — рядом.
Черных. Знаю я, где ваше правление. Там никого нет… Давно вернулась? Ты сразу из райкома домой поехала?
Настя. Да… (Помолчала). А Шаврова хата — напротив, за колодцем.
Черных (удивленно). Гонишь? Не вовремя зашел?
Настя. Устала я сегодня. Люди, люди, разговоры…
Черных. Хорошо, я уйду. (Встает.) А может, ты обиделась на меня, что не заступился в райкоме?
Настя. Кто я вам такая, чтоб за меня заступаться. И не ждала от вас защиты. Сама себе защита.
Черных (немного смущенно). Не ждала? Ну, конечно… (Делает шаг к двери.)
Настя приподнимается.
Настя. Чего мне так холодно?.. Что там на дворе?
Черных. На дворе тепло.
Настя. А меня знобит.
Черных. Перенервничала.
Настя. Ну, мои нервы ко всему привычны… Что это вы за кличку мне придумали: «вечный передовик»?
Черных. А… Я не в насмешку сказал. (Садится.) Неужели тебе нравится, что другие из года в год отстают?
Настя. Я не возражаю — пусть обгоняют.
Черных. Опять не то говоришь! Помоги другим с тобою поравняться, а сама — дальше вперед, если не хочешь потерять славы. Больше жизни было бы! Больше тебе беспокойства!
Настя (усмехнувшись). Вот чего вы мне желаете.
Черных. Самого лучшего!.. А разве от того, что ты успокоилась — легче тебе?
Настя. Успокоилась?..
Черных. Вожаком была ты, Настя, за то и любили тебя… Что ты сказала, помнишь, в ту ночь, когда я пришел: с кем строить?..
Настя. Я не про всех сказала — про наш колхоз.
Черных. Чем же ваш колхоз хуже других?
Настя. Не знаю… Может, я сама хуже стала… Я ли не хотела хорошей жизни всем на свете?..
Черных (оглядел комнату). Одна живешь? Никого больше нет у тебя?
Настя. Одна… Сестренка была со мною в эвакуации, на Урале, — замуж вышла там… Ох, война! Верите, Василий Павлович, за войну и за эти годы, чувствую, будто на двадцать лет постарела.
Черных. Еще бы! Что пережили…
Настя. Устала я. И поддержки нет.
Черных. Ну, это неправда! Сегодня тебе хотели от души помочь. Зачем убежала? Куда? В пустую хату. Стены тебе помогут здесь?
Настя. Стены… Насмотрюсь еще на них за зиму… Пока работы в поле — редко бываю дома. А вот зима придет, холодная, снег белый, вьюги…
Черных. Устала?.. Мы в первых рядах идем. И слава нам, и тяжесть — все на наши плечи… Но так уж мы привыкли строить, что без этого жить не можем.
Настя. Это верно, не можем… Может быть, я что-то перестала понимать… Бабы, бабы. Нам бы человека посильнее нас. Трудно нам!.. Вас Тимошин прислал со мною поговорить?
Черных. Нет… Я бы и сам приехал… Знаешь, что Тимошин еще сказал о тебе, когда ты ушла?
Настя. Что?
Черных. Что ты заболела чистоплюйством.
Настя. Что?.. (Засмеялась.) Это еще что такое?
Черных. Это… как бы тебе сказать… ну, не прощаешь другим их недостатки. А сама тоже была когда-то такой.
Настя. Нет! Никогда я против колхоза и в мыслях плохого не подумала!.. Мой муж рвался отсюда в город, нравилось ему, как рабочие живут культурно, дружно. А я ему говорила: уехать — легче всего. Надо сделать, чтоб и здесь было все, как в городе!
Черных. Тимошину тоже, конечно, не все равно, как ты дальше будешь…
Настя. Работать?
Черных. И работать, и жить… Если бы ты просто зазналась — ну что ж, пустой человек. Не так жалко было бы.
Настя. А вам меня жалко?
Черных (помолчав). Я, Настя, давно в партии. Это всегда было главным нашим делом — собирать лучших людей. Беспокойных, настойчивых. Как золотые самородки искали мы их. Случалось — ошибались. Блеснет что-то красивое в человеке, рассмотришь — нет, не золото. Настойчивость тоже разная бывает — чего и как добиваться…
Настя. Может, в вашем колхозе иначе относились к стахановцам. А у нас… В район поедешь — почет тебе, выбирают в президиум, все такое, в области тоже душевно принимают, в Москве — еще лучше. А дома, где каждый день трудишься, — и сплетни, и злоба, и насмешки. От тех самых, для которых трудишься!..
Черных. Не много чести передовикам, если бы им легко было.
Настя. Не то трудно, что трудно, а то трудно, что… (Улыбнулась.) Наговорила!.. Ну, почему бы не понять всем, всем: сегодня больше поработаем — скорее наступит то время, когда всем нам легче станет!
Черных. Все, может быть, еще не поняли, а многие — поняли. Что сказала Голубова: «Чтоб никогда больше никакой враг не пришел на нашу землю!» Это — клятва, верь таким словам!.. А об усталости ты мне не говори. Я тоже будто одну жизнь уже прожил… Поддался было горю, чуть оно меня не сломило. Не хотел на родину возвращаться. А потом посмотрел, как людям трудно. Не мне одному. Нет, поддаваться нельзя!..
Песня на улице. Настя встает, раскрывает окно.
Настя (слушает песню). Мои девчата. С поля идут… Без меня сегодня работали.
Черных. Хорошо поют…
Настя. Раньше всех на работу, позже всех домой. Сколько лет уже я с ними!.. (Срывает с куста под окном веточку сирени.)
Черных. Что это?
Настя. Сирень.
Черных. Почему она в это время цветет?
Настя. Второй раз в нынешнем году зацвели у меня эти кусты. Бывает так… Осенний цвет.
Песня приближается.
(Распахивает все окна). А луна какая! Все видно, как днем. Вон на речке гуси белые спят… Вот поют! (Оборачивается к Черных.) Загулять, что ли, товарищ Черных?
Черных. По какому случаю?
Настя. Но случаю, что не заслужила Героя. Русские люди зовут к столу и на именины и на поминки… Да просто так — вечер хороший. (Кричит в окно.) Эй, девчата! Наташа! Поди сюда!
К окну подходит Наталья.
Чего распелись на улице? Заходите в хату. Тут у меня гость скучает, послушал бы вас.
Наталья (вглядывается). Кто? А мы смотрим, у тебя света нет, думали — спишь.
Настя. Василий Павлович! Зажгите свет.
Черных зажигает свет.
Наталья. Здравствуйте, товарищ Черных.
Черных. Здравствуйте.
Настя. Где были?
Наталья. За большой дорогой.
Настя. Кончили?
Наталья. Кончили.
Настя (дает Наталье деньги). Беги в лавку. Если уже закрыто — со двора пройди, постучи.
Наталья. Зачем в лавку?.. А-а… Да мы еще и дома не были… На все?
Настя. На все. Федосью позови. Шаврова… Кого встретишь — всех зови!
Наталья уходит. Настя начинает наводить порядок в комнате, застилает стол, ставит посуду.
Верно, невежа я какая! Отсылаю гостя к председателю, будто уполномоченного какого-то по контрактации телят.
Входят Ксюша, Мария, Луша, Люба.
Ксюша. Здравствуйте, Василий Павлович… Куда ж это Наташка побежала?.. О, тут вот что затевается! Хлеб-соль на столе.
Мария. Здравствуйте… Не на сговоры ли позвала нас?
Черных. Песни ваши послушать захотелось ей. Хорошо поете.
Мария. Наши-то песни она каждый день слышит!..
Луша. А что? Давайте, девчата, споем. Какую еще?
Ксюша. Погоди, отдохни. От твоего голоса тут стекла посыпятся, как от бомбежки.
Все принимаются помогать Насте собирать на стол. Настя говорит что-то шепотом женщинам — речь идет о добавке к ужину. Женщины уходят, через некоторое время возвращаются, неся кто помидоры в фартуке, кто арбуз, кто блюдо, накрытое полотенцем.
Настя. Люба! Давай подвинем стол на середину. Убери книжки на полку.
Люба. Стульев еще надо.
Настя. Принеси лавку со двора.
Наталья (входит). Ваше приказание выполнила! (Ставит на стол бутылки, консервные банки.) В аккурат подогнала, без сдачи. Народу много придет. Игнат с Фроськой придут, Федосья, Шавров обещал.
Ксюша. А верно — с чего это ты, Никитишна, надумала?
Наталья. Да, да, с какой радости? Может, хорошее известие из района привезла?..
Входит Дуня — рослая, медлительная, спокойная в движениях девушка, — деловито несет на ремне через плечо баян.
Люба. Вот и гости!
Дуня. Добрый вечер!
Наталья (к Черных, указывает на Дунин баян). Перешли на самообслуживание, Василий Павлович. Баянистов еще не хватает, а попеть, потанцевать девушкам хочется.
Луша. Теперь под баян споем. Давай, Дуня! Дуня. Я еще не все умею, только учусь.
Садится, начинает перебирать басы баяна, наконец, берет правильно и громко аккорды, играет «Вишню». Женщины поют:
На пороге — Федосья Голубова, Дарья, Алена, Марфа Семеновна. Пауза. Дарья и Алена, переглянувшись, подхватывают затихшую при их появлении песню:
Настя. Люба! Давай еще тот столик. Приставь сюда. Наташа! Принимай гостей, будь За хозяйку. (Села за стол, задумалась.)
Наталья (рассаживает гостей). Кто хочет сыт быть — садись ближе к хозяйке, кто выпить хочет — к хозяину… А хозяина-то и нет… Василий Павлович! А ну-ка — за хозяина! Разливайте. Девчатам вот в эти, маленькие!
Луша. Вот попали вы, товарищ Черных, в женскую компанию!
Черных. Хоть бы пришел кто-нибудь на помощь.
Наталья. Придет парень. Вы его знаете, воевали вместе.
Черных. Кто?
Наталья. Да я уж говорила: Игнат Седов.
Черных. Седов?.. Командиром отделения у меня был. Так он мне писал, что до сих пор служит в оккупационных войсках.
Наталья. Пришел недавно, на прошлой неделе.
Ксюша. Настя! Так за что выпьем?
Луша. Тише! Чапай думает…
Федосья. Мы-то званые пришли на ваш пир или нет? Наталья говорит: «Идите вон туда, где огонь светится». А может, по другому делу?
Настя (поднимает голову). Званые… За ваши успехи, Василий Павлович!
Черных. А за ваши?
Луша. Дойдет черед и до наших.
Настя. Закусывайте, Ксюша! Передай хлеб на тот край… Ой, соль рассыпала!
Марфа Семеновна. Кинь щепотку через левое плечо!
Настя. Зачем?
Марфа. А то поругаешься с кем-то.
Настя. Еще поругаюсь?..
Федосья. Может, теперь, бог даст, с кем нужно…
Входят Игнат Седов и Фрося.
Игнат. Разрешите присутствовать?
Наталья. Пожалуйста. Только тут мы вас разлучим. Фрося! Садись к девушкам. А ты, Игнат Трофимыч, сюда, к своему командиру.
Черных (встает). Сержант Седов!
Игнат. Никак нет — гвардии лейтенант.
Целуются.
Товарищ капитан!.. Василий Павлович!
Черных. Майор… Где же ты потом воевал?
Игнат. О, до самой Эльбы!
Черных. Долго тебя продержали в армии!
Игнат. По молодости. Тебе, холостому, говорят, не к кому домой спешить.
Отходят от стола, разговаривают.
Дуня. Пусть поговорят. Фронтовые друзья встретились. А мне что делать? Я дома ужинала… Ну, я вам сыграю. Кушайте, как в ресторане, под музыку.
Играет вальс.
Федосья. Выпьем, Настя?..
Дуня перестает играть. Настя, молча взглянув на Федосью, наливает ей.
Ты такой была, как эти (на Фросю) девчата, когда колхоз зачинался. Нам, пожилым, труднее от старого отвыкать. Молодая да бедовая была… Мириться будем или браниться?
Фрося (вскакивает). Не миритесь!
Настя (удивленно). Почему?
Фрося. Да вот вы, тетя Настя, и с председателем нашим мирно стали жить, а нам-то от этого какая польза?
Настя (смеется). Занозистая девчонка!
Федосья. И ты такой была.
Настя (серьезно). За что ты меня, Фрося, не любишь?
Фрося. Я — не люблю?
Настя. Да.
Фрося. Как сказать… (Подошла к Насте).
Настя. Ну-ну, за что не любишь?
Фрося. За то, что загордились своею славой. К вам и на козе не подъедешь, такие всегда важные да сердитые.
Настя. Загордилась? Врешь… А любишь за что?
Фрося. Тетя Настя! У меня матери нет. Папанька на фронте погиб. А сестра ушла из колхоза, на станции в буфете квасом торгует. Легкой работы ищет. Разве она меня научит как жить? Я бы к вам пришла, как к сестре старшей, за помощью, за лаской…
Настя молча обнимает Фросю.
Наталья (к Черных, который, разговаривая с Игнатом, прислушивается и к разговору Насти с Фросей). Василий Павлович, что ж вы ушли? Садитесь за стол. Не в эмтээс ли сманываете Игната Трофимыча? Не надо! Нам такие офицеры и в колхозе нужны.
Игнат (идет с Черных к столу). Нет, я хочу в колхозе остаться… А все же — трудное мое положение!
Черных. Почему?
Игнат. Сразу из десятилетки на фронт пошел. Воевать научился, а больше никакой специальности не приобрел. Полгода только после школы поработал помощником машиниста на мельнице… Но я ведь на фронте последнее время ротой командовал. Вот с такими бородами были у меня бойцы-сибиряки. Слушались.
Черных. Да вижу (указывает на орденские колодки Игната), что слушались… Коммунист?
Игнат. Да. В армии вступил.
Черных. Хорошо! Одним членом партии в колхозе прибавится.
Игнат. Хотел вот еще с Настасьей Никитишной посоветоваться. Здесь в третьей бригаде с дисциплиной плохо. Бригадир добровольно мне должность уступает. Говорит: «Просись на мое место, а я по инвалидности — на покой». Как-то неудобно самому набиваться. Доверят мне бригаду?.. Настасья Никитишна!
Федосья. А ты не ее одну спрашивай. Как народ скажет на собрании.
Игнат. Да… (Принял намек.) Вот военные уставы знаю, а колхозные — забыл… Подметил я в себе такое. Все вспоминается: какие города брал, какие реки форсировал, где бои были, за что награды получал. Очень люблю рассказывать про войну. И даже страшно стало, как подумал: может, еще пятьдесят лет проживу и все буду эти четыре военных года вспоминать? И ничего больше видного не сделаю?..
Черных (с удовольствием слушает молодого ветерана). Посиди, присмотрись, что здесь происходит.
Игнат. За ваше здоровье, Настасья Никитишна! (Чокается с Настей). Пол-России после этой войны с чинами, с орденами. Если каждый подумает: «Всё! Достиг своего!» — так и жизнь остановится.
Настя. Прости, Игнат Трофимыч. С тобою мы всегда поговорим. А людей-то я собрала зачем?..
Большая пауза.
Наталья (видя, что Настя еще не собралась с мыслями). Давайте станцуем что-нибудь. Дуня, сыграй!
Дуня играет вальс, женщины танцуют. Настя отошла, стоит у окна. На минуту гаснет свет. Музыка — тише. Поворот круга в темноте. Когда свет зажигается — Игнат и Фрося одни во дворе у крыльца Настиного дома. Видны два освещенных окна, из них доносится музыка.
Игнат. Фрося!.. Я что-то хочу сказать тебе.
Фрося. Что?
Игнат (берет Фросю за руку). Почему я тебя совсем не помню до войны?
Фрося. Гм… Не помнишь? А мы далеко от вас жили, на том краю, за школой вторая хата. Нашу хату немцы спалили, теперь я у тетки живу.
Игнат. Отца-то вашего я знал. Неужели у Степана Ильича Любченко была такая дочка?
Фрося. Вот — была…
Игнат. Нет, не помню!
Фрося. Так я была маленькая.
Игнат. Ты и сейчас маленькая.
Фрося. Мне сейчас девятнадцать, а тогда было двенадцать… А я тебя помню. Ты большой был, да…
Игнат. Ну-ну, какой, говори.
Фрося. Глупый. Тебя девушки не любили. Приглашают тебя потанцевать, а ты говоришь: «Работайте ногами, кто головой неспособен». Зачем ты так говорил?
Игнат. Да я стеснялся тогда девушек.
Фрося. А на меня ты и не смотрел. Конечно, не помнишь!.. Ты мотористом на мельнице работал. Важный такой ходил, как… индюк. Меня мама послала в кочегарку горячей воды набрать на стирку, а ты поймал меня за косичку, говоришь: «Будешь еще, выдра курносая, лазить сюда?» — и хотел мне на наждачном точиле нос подточить. Я испугалась!
Игнат. А, вспоминаю!.. Бегала к нам девчонка рыжая, такая оторвиголова! С мальчишками дралась. Это, значит, ты была?
Фрося. Я.
Игнат. Ничего похожего! Конопатая, рыжая, ноги худенькие, как палочки. И такая стала хорошенькая!
Фрося. А, не обманывай! Хорошенькая!..
Игнат. Верно, Фрося. Ты лучше всех девушек.
Фрося. Скажешь!.. Вот ты — какой стал! Офицер. Раненый был. Бедненький!.. Зачем ты погоны снял? Тебе с ними красивее.
Игнат. Не положено в запасе носить.
Фрося. И ордена не надел… Мне девчата завидуют, что ты все со мною гуляешь. Я тебя издали слышу, когда проходишь вечером по нашему переулку: идешь — и медали звенят.
Игнат. Фрося!..
Фрося. Что?..
Игнат обнимает ее, хочет поцеловать.
Ой, не надо! (Вытирает быстро рукавом губы.) Увидят. (Оглядывается на окна).
Игнат. Не увидят.
Фрося. Еще придет кто-нибудь сюда…
Игнат. Пока придет… (Целует Фросю.)
Фрося (после поцелуя, растерянно). Спасибо… Игнат. Что?.. (Рассмеялся.) Что ты сказала? Фрося. Не надо, не смейся!.. Игнат! Я еще никогда ни с кем не целовалась. Я не знаю, что надо…
Игнат нежно привлекает к себе Фросю и еще раз целует ее. Гаснет свет. Поворот круга. Свет. Дом Насти. Дуня играет, женщины танцуют. Игнат с Фросей стоят у двери. Настя делает знак Дуне, чтоб перестала играть, возвращается от окна к столу.
Настя. Ну, вот что, бабы! Я вас не на девишник позвала… Василий Павлович! Что на фронте делают, когда войско неудачу потерпело?
Черных. Командир сначала садится, берется за голову руками и думает. Ты это уже сделала.
Игнат. Подсчитывает убитых и раненых.
Луша. Ну, у нас все живы-здоровы.
Федосья. Одна Фроська с Игнатом собираются, кажется, опять пропасть без вести.
Фрося. Нет, тетя Федосья, мы не уходим!
Черных. А перед новым наступлением в штабе разрабатывается план.
Настя. Вот! Думайте, бабы, думайте!
Алена. Кому думать-то? Вам или нам?
Мария. Погоди, не чуди.
Федосья. Тут дело серьезное. Всем надо подумать.
Настя. Сегодня меня в райком вызывали… Не будет нашему звену в этом году наград.
Наталья. Почему?
Настя. Не выполнил колхоз плана урожайности.
Наталья. Ну, и как теперь?
Настя. Ну, и нам — ничего… Сказал товарищ Тимошин спасибо за наши труды… Досталось мне за то, что колхоз плана урожайности не выполнил. (Усмехнулась.) Вот как пришлось! На других лютовала, что на поводке надо их тянуть вперед, а и меня самое легонько подтолкнули в шею. Так легонько, что в глазах потемнело. Ну, ничего, мы к нежностям и непривычны.
Ксюша. О, бабы, что ж это такое выходит?
Мария. Стало быть, не с радости решила кутнуть?
Настя. Да и не с горя!..
Луша. Значит — за всех мы в ответе?
Настя. За всех… А что же нужно сделать, чтоб колхоз поднять?..
Наталья. Как же заставить всех по-нашему работать? Свои руки всем не приделаешь.
Черных. У рук есть помощники — машины. Надо такую агротехнику показывать людям, чтоб на всех полях можно было ее применить. Думаю об урожаях, но забывать о машинах, это все равно как, ну вот на фронте, — поставить задачу только пехоте и забыть об артиллерии, «катюшах», танках.
Фрося чихнула.
Игнат. Правильно!
Все смеются.
Дарья. Эх, Василий Павлович! «Не сама машина ходит, человек машину водит». Есть у нас такие людишки, что — ни так, ни этак. Хоть в мягком кресле поедет с сеялкой по полю — все равно наделает огрехов. Давно надо перед всем народом ответа от них потребовать: как они думают дальше жить с нами?
Луша. А кто им дал послабление? Сам председатель.
Фрося. И нашим и вашим! Всем угодить хочет!
Настя. Насчет Шаврова я вам так скажу, бабы: надо нам, не надеясь на него, самим во все вмешаться.
Федосья. Давно, Настя, ждем мы от тебя этих слов!..
Входит Шавров.
Шавров. Хлеб-соль!
Наталья. Милости просим к нам!
Шавров. Чего это вы загуляли?.. (Кланяется Черных.) Василию Павловичу! (Садится на диван, подзывает Настю. Вид у него озабоченный.) Слышь, Настасья Никитишна! Звонил мне сейчас Тимошин. Нашумел, накричал!..
Настя. За что?
Шавров. Говорит: «Наступила осень, люди в это время уже наперед планы составляют. У нас, хлеборобов, говорит, год с осени начинается. Какой у тебя генеральный план борьбы за урожай в будущем году?..» Да… А какой он, генеральный?.. «Ну о чем, говорит, ты, председатель, лично думаешь сейчас, когда зябь пашешь, озимку сеешь?» — «Да много, говорю, всяких мыслей в голову лезет…»
На пороге — Иван Гаврилович.
Иван Гаврилович. Нашел, у кого мысли спрашивать! У Прокопа нынче одна мысля: кому бы негодный мотор с крупорушки продать.
Шавров. А, помолчи, дед!..
Иван Гаврилович. Почтение женскому синоду!
Марфа Семеновна. Садись, Иван Гаврилыч! Желанный гость! Садись!..
Шавров. Напиши, Настя, Тимошину. Обмозгуй чего-нибудь. Какую там опыляцию сможем будущим летом во всех бригадах сделать? А?
Настя. Много кой-чего можно уже во всех бригадах делать, да кто заставит их?..
Федосья. «Настя, обмозгуй». Ничего больше умного не скажешь нам?
Алена. Прокопыч! Отвечай: наш колхоз передовой или нет?
Шавров. У отсталых полмиллиона доходу не бывает.
Ксюша. Вот ты как понимаешь!.. А почему плана урожайности не выполнили?
Шавров. Да вы что? Отчета требуете прежде срока? Хоть до нового года подождите. Болячка на мою голову! Нету нигде спасения! Я думал, они меня выпить-закусить позвали.
Наталья. Дадим еще и выпить, и закусить!
Марфа Семеновна. Садись, Прокопыч, к столу. Вот тебе местечко.
Луша. Посовестился бы! Прибежал: «Настя, обмозгуй!»
Люба. Барышами хвалитесь, а куда ни глянь — прорехи да упущения!
Дуня. Клуба хорошего до сих пор не построили!
Фрося. Кировцы звуковое кино уже купили. Артисты из города к ним приезжают. А нам и передвижку некуда пустить!
Алена. Полмиллиона! Похвалился!.. А мы вот давеча читали про один сибирский колхоз «Заря коммунизма». Пять миллионов доходу. Урожай на всех полях такой, как у нас одна Настя собирает. Электричеством пашут. Водопровод в каждый дом провели!
Шавров. Еще чего? Водопровода захотели! Да сами же и пожалеете. Посмотришь утром, как сойдетесь возле колодца — целый час языки чешете, все новости друг дружке перескажете. А как потечет вода прямо в горшки в хате — и с соседкой за целый день не повидаешься!
Женщины смеются.
Федосья. Ой, трудно будет нам с тобою, Прокопыч, двигаться дальше вперед!..
Шавров (сел за стол). Так, так… (К Насте). Тебе тоже досталось сегодня от Тимошина? Аварию потерпела? Слыхал… Так по какому случаю вы тут собрались? (К Насте и Федосье). Мировую, что ли, пьете? Поладили?.. Теперь я вам неугоден стал?.. Ну-ну, наступайте общими силами!.. Председателя переизбираете? Кого же наметили?.. Тебя, что ли, Настя?
Настя. О перевыборах пока речи не было.
Шавров (на Черных). Этот — при месте. А может, тебя, Игнат? Не выдюжишь! У вас, фронтовиков, нервы потрепанные. Тут, знаешь, как нужно держать оборону против этих лиходеек? На три сажени в землю закопаться и бронею сверху покрыться!..
Иван Гаврилович. А ежели не на мужчин, а на женщин глаз кинуть? Может, из женского полу есть подходящая кандидатура?.. (Поглядел на Федосью.)
Настя. Легче было бы нам с тобой договориться, Прокопыч, если бы ты сам свою отсталость сознавал.
Дуня. Опыляция!.. Как же вы людей заставите по-научному за урожай бороться, когда сами не знаете, что и как? Гибридизацию от стратификации не отличаете!
Дарья. Мы-то поможем таким, что отстают. Придем, посоветуем чего-нибудь, пристыдим. А все же мы люди маленькие. Ежели нету в колхозе головы-ы!..
Шавров. Да вы что — всерьез?
Луша. Всерьез, Прокопыч.
Шавров (встает). Так, так… Надоел? Намозолил глаза за восемь лет? Перемены захотелось?.. За что же вы меня будете снимать? За пьянство, за буянство? А?.. А может, лодырь я? За что — старика?.. Может, припомните такой случай, хоть раз, чтоб меня, председателя, солнышко в постели застало?
Мария. Такого не было, ты не лежебока, знаем…
Шавров. А может, перед ревизией когда-нибудь хоть на копейку не отчитался?
Алена. Лишнего не скажем про тебя, Прокопыч.
Шавров. Коров давали колхозникам, которые в войну хозяйства лишились, — себе последним взял, телочку маленькую…
Марфа Семеновна смахнула со щеки слезу. И Наталья с Дарьей готовы расплакаться.
Хату мою спалили. Приехал с Урала — в землянке жил до последнего дня, пока всем новые хаты построили… А может, лишний пуд зерна себе выписал, когда с хлебом было плохо?..
Федосья. Знаем! Все знаем мы, Прокопыч! Еще больше, может, хорошего про тебя знаем, чем ты сам рассказал. Не грубиян, не безобразник. И за хозяйством болеешь, как можешь. Да, видишь ли, моготы твоей по нынешним временам — недостаточно. Мы хотим свой колхоз так поднять, чтоб вот тот колхоз «Заря коммунизма», про который Алена говорила, приезжал к нам поучиться!.. Кабы втрое больше урожая собирали — кому хуже! И государству польза, и нам. Вон молодежь, слышь, чего требует? Им и театры подай, и радио в каждую хату. А ты спокойной жизнью прожить хочешь. Нашел середину, где и за отсталость не бьют, и похвалиться вроде есть чем. Так ведь не для того колхозы, чтоб председателям удобно и покойно было жить. Нам серединки мало!
Иван Гаврилович. Мало, Прокопыч!..
Зазвонил телефон. Настя ушла к нему.
Настя. Слушаю… Слушаю! Здравствуйте, Денис Григорьич!.. Да, виделись уже сегодня. Сегодня день большой… Осердилась? Нет, только начинаю… Товарищ Черных? У меня. Позвать? Василий Павлович! Тимошин вас зовет.
Шавров. Ага! Еще одному, может, за что-нибудь всыпет!..
Черных (в трубку). Я слушаю, Денис Григорьич!.. Ваша машина? Нет, не было. За мною послали?.. Да, на моей агроном уехал на селекционную станцию… Этой ночью?.. Поезд в три с минутами. Успею, конечно… А, вон что… Хорошо, поеду…
Пока Черных, с большими паузами, говорит по телефону, Шавров делает последнюю попытку разрядить шуткой напряженную атмосферу.
Шавров (к Ивану Гавриловичу, громко). Планы, планы, комплексы!.. Оттого, дед, и трудно работать в сельском хозяйстве, что не угадаешь наперед, что случится. Надумал, скажем, скирдовать, утром встаешь — дождь обложной, погода такая, что только сидеть в хате да чай пить. Пошлешь в лавку — нету ни четвертинки, не завезли с базы. В другой раз — и завезли, и компания хорошая собралась, только сядешь за стол — бежит рассыльный с телефонограммой: «Езжай немедленно в район с отчетом по мобилизации средств». Вот тут и планируй!.. От климата зависим. Можно и по пятьдесят центнеров наобещать, да возьмешь ли столько? Как климат дозволит.
Иван Гаврилович. Ну, давай по одной. Пока климат дозволяет…
Женщины смеются.
Черных (в трубку). Хорошо, хорошо… Заехать к вам? В райкоме будете?.. Хорошо, заеду. Расскажу. (Положил трубку.) Вызывают меня в Москву.
Настя. Зачем?
Черных. Завтра начинаются там испытания тракторов новых марок, что выпустила наша промышленность. И новых прицепных орудий. Принимать их будет комиссия. В той комиссии несколько директоров МТС. Меня тоже включили. Не знаю, кто включил, вероятно, обком. Надо ехать.
Настя. Так срочно? Сейчас на станцию?..
Черных. К двенадцати дня надо быть в министерстве. (Садится.) Посижу еще немного, пока машина придет… Ну что придумала, Настасья Никитишна?..
Настя. Ох, целый день думаю — мало придумала… Бабы! Вот что нам нужно сделать. Мы тут, в своем передовом звене, верно, вроде как святые от грешных в монастырь отделились. Собрались все ретивые на работу, по характеру схожие, душа в душу. А других кто будет подтягивать?.. Наташа! Ксюша! Мария! Десять лет вместе работаем, не хотелось бы разлучаться, а может, пришло время разойтись нам?..
Наталья. Разойтись?..
Настя. Да еще, может, по разным бригадам. Вот и дадим свои руки всем!.. А я себе наберу новеньких. Я этих новеньких буду учить, а вы там — других.
Иван Гаврилович. Вот и случится, Прокопыч, чего боялся — двадцать будет таких, как Настя.
Шавров. Шуток не понимаешь…
Черных. Самое дорогое отдаешь? Девчат своих?.. (Ко всем.) В субботу к вам приедет Денис Григорьич. Он просил продолжать обсуждение вашего (шутливо) генерального плана. А в воскресенье он хочет созвать у вас общее собрание. Придется тебе, товарищ Шавров, отчитаться перед колхозниками, не дожидаясь нового года. Слышишь?
Шавров. Слышу. Отчитаемся… (Подает руку Черных.) Ну, что ж, Василий Павлович, поезжай в Москву, в министерство. А я пойду на элеватор, в пожарную охрану наниматься. Пока вакансия есть. У них вчера старший пожарник помер… Либо на амбары — сторожем… Настя! Я ли тебе не помогал?
Настя. Помогал, Прокопыч, так, что лучше бы и не надо. От нашего согласия колхозу пользы было мало.
Шавров. Эх, бабы, бабы!.. (Собрался уходить, надел кепку.)
Марфа Семеновна. Да куда ж ты уходишь, Прокопыч? Посиди с нами, нехорошо! В кои века собрались!
Черных. Погоди, товарищ Шавров. Денис Григорьич просил передать тебе: решено послать тебя на курсы. В школу председателей. На три года. Вот сейчас сказал мне по телефону.
Шавров. Чего-о? В школу?..
Фрося. Правильно! Поучиться вам нужно, дядя Прокоп!
Шавров. На три года?!
Иван Гаврилович. Не возражай, Прокоп. Без позору, по-хорошему — не снимают, на учебу посылают.
Шавров. Возраст мой не тот, чтоб за парту садиться. Своих школьников дома полно.
Черных. Ну не старик!.. Сколько меньшому, которого я за внука твоего принял?
Шавров. Восемь месяцев… Васька Ненашев из «Красного Октября» учился на этих курсах. Говорит: столько предметов проходят, и по политике, и по грамматике!..
Иван Гаврилович. Как раз то самое, чего тебе не хватает.
Наталья. Одну книжку прочитал за эти годы, и то забыл как называется. Шолохова сочинение, говорит, «Поднятая зябь».
Шавров. До книжек ли мне было? Что принял после оккупации? Три лошадиных хвоста! Сами знаете, чем сеяли, как убирали? Эх!.. Да там, на этих курсах, может, и пища такая, что мое деревенское брюхо не выдержит?..
Луша. А ты возьми из дому мешок сала, яичек побольше, бидон меду — не отощаешь.
Наталья. Передачу будем возить тебе, по старой дружбе.
Иван Гаврилович. Соглашайся, Прокоп, не отказывайся!.. Сдашь экзамен на пятерки — вернешься профессором!
Шавров (озлившись). А что, пятерка такая уж недостижимая цифра?.. (Снял кепку, сел опять за стол.) Ежели на то пошло — нажму на науку!..
Смех, молодежь аплодирует Шаврову.
Марфа Семеновна. Ух!.. (Перекрестилась.) Ну, слава богу!.. Поучись, Прокопыч, еще возьмешь свое! А то такое сгородил — в сторожа! Ходить мимо амбаров да плакать, на тебя глядя?..
Гудок машины на улице.
Дуня. Машина пришла.
Настя. В такую минуту нас покидаете…
Иван Гаврилович. Я думал — посидим, поговорим с тобою… Посошок на дорогу, Вася! (Шаврову.) Наливай, студент!..
Черных. (Насте). Так решила — отдать девчат, набрать новеньких?.. Нет, думаю, этого тебе мало — сызнова начинать на десяти гектарах. Бригаду тебе надо бы взять.
Настя. Бригаду?.. Хорошо, пусть мне дадут бригаду… Вот Федосью Андреевну выберем председателем…
Федосья. Что ты, Настя?..
Дарья. А мы уж давно решили, Федосья: как будет собрание, тебя будем кричать!
Фрося. Вас, тетя Федосья, вас!
Настя. Что ты — не поведешь за собою людей? Не сможешь доказать, что хорошо, что плохо?.. Тому трудно доказывать, у кого у самого за душою ничего нет.
Федосья. Меня — в председатели?.. Настя! Ты это как говоришь? С чистым сердцем?..
Настя. Даю тебе слово, Федосья Андреевна, вот при людях: буду помогать. Колхоз — наш дом, нам с тобою в нем жить… Ты двух сыновей отдала за нашу победу.
Федосья. Настя! Вот это мне дороже всего. Спасибо, что сыновей помянула… (Разволновалась.) Ну, ежели не шутите… Дайте хоть подумать! Как я это все охвачу?..
Черных. Думай, Федосья Андреевна, до самого воскресенья.
Настя. Вот, говорю, она примет колхоз, а на ее место бригадиром назначим (на Игната) его. А третью бригаду, куда ты просился, Игнат Трофимыч, дайте уж мне. Самую отсталую… А может, еще чего-нибудь, потруднее?.. Вот тот участок у нас, за Глубокой балкой, сто гектаров. Нам его не засчитывают в план. Негодная, говорят, земля, солончаки. Дайте мне и ту землю! В год — не ручаюсь, а года через три — посмотрите, какой там будет урожай!.. Все равно первенства не уступлю!..
Федосья. Черт в юбке!..
Все смеются. Гудок машины.
Черных. Ничего не поделаешь, приходится в такую минуту уезжать от вас. Мне еще надо домой заехать, документы захватить. До свиданья! Спасибо за хлеб-соль, за песни!
Наталья. Гостинцев привезите нам из Москвы!
Фрося. Да спросите — скоро ли там выставка откроется опять? Может, за наши труды и нас пригласят на выставку? До войны я девчонкой была, не работала еще, теперь выросла, могу заслужить — выставку не открывают. А Москву посмотреть хочется!
Игнат, Фрося и Настя провожают Черных.
Черных (Игнату). Видал, какой народ?
Игнат. Да, с ними держи ухо востро!
Черных. Боишься, еще пятьдесят лет проживешь и ничем больше не прославишься? Они заставят прославиться!
Настя. И от меня, Василий Павлович, поклонитесь Москве. Я свой первый орден в Кремле получала. Никогда не забуду тот день!.. (Улыбнулась.) А носила я его знаете как? Вот с Наташкой по очереди. Неделю я носила, неделю она. Дуры были обе, молодые, не знали еще тогда, что нельзя так.
Гудок машины. Игнат и Фрося отошли.
Недолго вы у меня гостили…
Черных. Я приеду еще, когда вернусь из Москвы. В тот же день приеду. Хорошо?
Настя. Приезжайте…
Черных. Вот ты и ожила. А когда я пришел…
Настя. Нет, жалеть меня не надо! Еще увидите, что сделаю!
Черных. Настя!..
Настя. Что?
Черных. Я тебе — никто?
Настя. А… Я про себя сказала: кто я вам такая, чтоб заступаться за меня.
Черных. Чуть не выгнала…
Настя. Ну, не надо… Приедете еще — не буду гнать.
Черных. Да?..
Настя. Нельзя на пороге прощаться.
Черных. Пойдем, проводи меня.
Уходят. Все посмотрели вслед им. Насти долго нет. Наталья, лукаво улыбнувшись, запевает: «Ох!.. Люди добрые, поверьте, расставанье хуже смерти…» Женщины вполголоса подхватывают песню: «Он увлек меня речами, я не стала спать ночами… До свиданья милый скажет, а на сердце камень ляжет…»
Настя (входит). Бросьте!..
Женщины со смехом оборвали песню. Настя подошла к открытому окну… Гудок, блеснули фары — машина, развернувшись, ушла.
Дуня! Сыграй мою любимую.
Дуня играет, женщины поют. Настя стоит у окна.
(Сорвала с куста за окном веточку сирени.) Наташа, поди сюда! Смотри. Сирень у меня зацвела второй раз. К чему это?
Наталья (подошла, обняла Настю). А ты лучше меня знаешь, про всякие растения — отчего такое с ними случается?..
Женщины поют:
Занавес.
1949–1950
Навстречу ветру
Пьеса в 3-х действиях,
6-ти картинах
Андрей Николаевич Глебов — главный инженер МТС, 27 лет.
Степан Романович — бригадир тракторной бригады, 48 лет.
Вера Сергеевна — агроном, 28 лет.
Григорий Софронович Лошаков — пенсионер, 60 лет.
Семен Ильич — почтальон, 50 лет.
Федор Алексеевич Карасев — тракторист, 25 лет.
Павел Арефьевич Шубин — директор МТС, 48 лет.
Виктор Петрович Соловьев — секретарь партбюро МТС, 40 лет.
Татьяна Ивановна — бухгалтер МТС, 38 лет.
Дарья Мироновна — жена Степана Романовича, 45 лет.
Трактористы, их жены, парни, девушки.
Действие первое
Поле. Вдали небольшой лесок. Солнечный весенний день. Стан тракторной бригады. Полевой вагончик, бочки с горючим, водовозка, пустые ящики, банки, за кустами трактор со снятым радиатором. Бригадир Степан Романович сносит к вагону инструмент и разбросанные вокруг вещи. Почтальон Семен Ильич починяет свой велосипед. В вагоне на топчане спит Федор, из открытой двери видны его ноги.
Семен Ильич. Значит, кончаете сегодня, Степан Романыч?
Степан Романович. Да, к вечеру добьем посевную. Завтра начнем пахать пары.
Семен Ильич. Вот хорошо. И мне ближе будет почту вам возить… Романыч! Где у тебя тут ненужные железки? Мне надо одну штучку, на мой вездеход.
Степан Романович. Чего доброго, железок у нас хватает. Вон (повел рукой вокруг) ищи.
Семен Ильич. Два болтика мне надо на мою машину, а то скоро совсем рассыплется. На бечевочках езжу.
Степан Романович (посмотрел на велосипед). Да, машина у тебя того…
Семен Ильич. Казенная.
Степан Романович. Поищи в той куче, под вагоном.
Семен Ильич (порылся в куче старого железа). Вот, кажется, подходящие.
Степан Романович. Инструмент тебе? Ключи там, в ящике подбирай.
Семен Ильич (чинит велосипед). Казенная… До меня четыре почтальона ездили, я пятый. А на ремонт не дают ни копейки. Ты, говорит, мэтэес обслуживаешь, у тебя там сто приятелей, пусть починяют так, по дружбе, за хорошие письма.
Степан Романович. Что там чинить. Выкрасить его да выбросить.
Семен Ильич. Не слышно твоих тракторов. Далеко, что ли, работают?
Степан Романович. Далеко. За Фатеевской дорогой.
Семен Ильич (прислушивается). Вроде один гудит.
Степан Романович. Нет, то Федор храпит.
Федор (поднимается). А?..
Степан Романович. Я тебя не звал.
Семен Ильич. Ишь ты, как чутко спит! Заячий сон.
Степан Романович. Он думал, обедать зовут. Еще не привезли.
Федор (зевает). Ильич! Мне писем нет?
Семен Ильич. Нету. Пишет.
Федор. Ну, посплю еще. (Ложится.)
Степан Романович. В ночной смене работал. Отдыхает.
Семен Ильич. Пусть поспит.
Федор сильно захрапел.
О, опять храпит, слышь! Как будто и не просыпался. Счастливый народ — эта молодежь! Беззаботные ребята! Как ляжет — сразу храпит.
Степан Романович. А тебе что, плохо спится?
Семен Ильич. Да что-то стала мучить бессонница по ночам. Какие-то думки в голову лезут, все что-то вспоминается…
Степан Романович. Совесть нечиста. Нагрешил много, вот оно теперь и вспоминается.
Семен Ильич. Какие у меня грехи! Никого не убил, не ограбил.
Степан Романович. Знаем, какие. По женской части.
Семен Ильич. Ну, что ты, Романыч, давно уже прекратил. Выдумаешь!.. Ты вот что лучше скажи мне: как к нему (на велосипед) моторчик приделать? Вот такой, что в «Динамо» продаются. Все же облегчение труда — ногами не крутить.
Степан Романович. Я ж тебе говорю: ручку к нему надо приделать, чтоб покрепче взяться, и забросить его вон аж туда, в тот овраг.
Семен Ильич. Ну, ну, забросить! Еще поездим. (Кончил чинить велосипед.) Всё! Как новенький! Тарахтит, будто собаке к хвосту банку привязали, ну ничего. Километров пятьсот еще пройдет. (Порылся в сумке). Вот вам газетки. Три районных, подписчикам, и твоя, областная.
Степан Романович. Положи там. В обед почитаем.
Семен Ильич. Вот тут еще два письма вашему инженеру Андрею Николаичу. В конторе его не застал, в бригады, говорят, уехал. К тебе он не завернет? А то назад отвезу, в мэтэес.
Степан Романович (посмотрел на дорогу). А вон он сам идет.
Семен Ильич. Да, он. А с ним кто это?.. А, это агрономша из «Красного Октября», Верочка… забыл по отчеству. Ну, ей письма на колхоз идут, ежели кто ей пишет… Хорошенькая девушка, а вот почему-то до сих пор не замужем. А, Романыч?
Степан Романович. Хорошенькая, да. А почему не замужем — не знаю. Спроси ее.
Семен Ильич. Что ты! Это неприлично — спрашивать у девушек про такое.
Степан Романович. Ох, кум, кум! Все девушками интересуешься! Попадало тебе на орехи, да мало!..
Подходят Андрей и Вера.
Андрей (продолжая разговор). Нет, тот случай, Вера Сергеевна, нам в вину никак нельзя ставить! Трактор простоял, да, ну и что? В тот день рано было еще начинать там боронить. Грязь размазывать? Наш главный агроном сказал, что не подпишет акт, бросьте ерундить!
Вера. Да мне что, я хоть сейчас его порву, этот акт. Председатель нажимает!.. А вы там в дирекции порвите тот акт, что на нас составили, когда в третьей бригаде семена не вывезли в поле.
Андрей. Вот как! Вы нам простите наши грехи, мы — вам. Уже научились этим штучкам?..
Вера. Ох, эти проклятые акты, бумажки! Ни о чем другом и разговору нет, только о них! (Порвала акт.)
Андрей. Порвали? Ну, все! Больше не будем о бумажках!.. (Засмеялся.) Но мы тот акт у себя все же не порвем!.. Здравствуйте! (Задерживается возле разобранного трактора).
Вера. А я уж сегодня здесь была. Вас только не видела, Семен Ильич. Здравствуйте!
Семен Ильич. Добрый день!
Степан Романович. Здравствуйте!
Андрей. Степан Романыч!
Степан Романович. Ась?
Андрей. Пятый номер надо обязательно ставить на ремонт. Я вам дал два дня отсрочки, больше график ломать не буду. Да и мотор уже еле тянет, я был сейчас возле пятого, их председатель (к Вере) подвез меня туда. Он вам за неделю полтонны пережога сделает.
Степан Романович. Так и наметили, Андрей Николаич. До вечера работает, а ночью Мищенко отгонит его в мастерскую.
Андрей. Все в борозде, кроме (указывает на трактор) этого?
Степан Романович. Все.
Андрей. Радиатор для него еще не привезли?
Степан Романович. Нет. Я сказал нашему горючевозу, чтоб заехал за ним в мастерскую. Но у нас же не горючевоз, а чучело гороховое! Выделил колхоз облома — нá тебе, боже, что нам негоже! Вместо мастерской к закусочной подвернет и будет там за кружкой пива полдня язык мозолить с такими же пустобрехами!..
Федор (вылезает из вагончика). Привет начальству!
Вера. Здравствуй, трудящийся! Запух ты, Федор Алексеич.
Андрей. Здравствуй, Федя.
Федор. Да, маленько переспал. Сон хороший снился, жалко было просыпаться.
Вера. Какой же?
Федор. Будто вы, Вера Сергеевна, замуж за меня выходили.
Вера. А, интересный сон. Сон под воскресенье, говорят, сбывается к обеду. А сегодня вторник.
Федор. Какая жалость! (Идет к водовозке, умывается, расчесывает мокрые волосы, заглядывая, как в зеркало, в ведро с водой.)
Семен Ильич. Вам два письмеца, Андрей Николаич.
Андрей берет письма, садится на ящик, держит письма, не распечатывая, на коленях. Вера заглядывает через его плечо.
Вера. Как будто не от девушек письма. Хотя иногда бывает и у девушки такой твердый, мужской почерк.
Андрей. У девушки с твердым характером. Нет, это от друзей по институту.
Семен Ильич. Три друга у вас, я уж приметил по штемпелям. Один пишет с Дальнего Востока, другой — из Харьковской области, а третий без марок шлет, солдатские. Подтверждаю, Вера Сергеевна, от девушек он не получает, таких писем я ему не доставляю.
Вера. Мало же у вас друзей. Только трое?
Андрей. Зато хорошие друзья.
Вера. А хозяйка у вас хорошая?
Андрей. Что? Какая хозяйка?..
Вера. Ну та хозяйка, где вы на квартире живете. Вы же здесь в селе на квартире? Один? Без родных?
Андрей. У меня родных, кроме какой-то троюродной тетки, никого нет. Чем вас интересует моя хозяйка? Молодая ли? Старая? Лет пятидесяти. Я ее почти не вижу. Как уйдет на ферму, отдаст мне ключ от хаты, так неделю, две и не вижу ее.
Вера. А кто же вам готовит, стирает?
Андрей. Кто? Сам. Суп сварить — дело нехитрое. Молоко у соседки покупаю.
Вера. То-то, я вижу, у вас на рубахе пуговиц нет. Одна осталась, и та еле держится.
Андрей. Да? А вы пришейте.
Вера. С удовольствием. Что пришить? Нужны пуговицы.
Андрей. Пуговицы — вот они, в кармане.
Степан Романович. А иголка с ниткой у нас найдутся. Федя, подай-ка.
Федор выносит из вагончика нитки и иголку, Степан Романович передает их Вере.
Черные. Сойдут. Белых не держим, не по нашей одёже.
Вера пришивает Андрею пуговицы к рубахе.
Семен Ильич. Возьми, Андрей Николаич, чего-нибудь в зубы, а то она тебе память зашьет. (Поднимает с земли гаечный ключ.) Вот — ключ.
Андрей. У меня карандаш есть. (Берет в зубы карандаш.)
Степан Романович. Семен Ильич! Кум! Ты специалист по этой части, объясни-ка. Почему девушки любят пришивать пуговицы парням, особенно когда парень девушке нравится? А почему жены мужьям не любят пришивать?
Семен Ильич. Не любят!..
Вера. Неужели так, Степан Романыч?
Степан Романович. Верно! Вот я в субботу был дома. Пожалуйста, посмотрите! (Показывает — на рубахе недостает двух пуговиц.)
Вера. Ну, ничего, я и вам пришью.
Федор (просматривает пуговицы на своей рубахе). Все на месте. (Отрывает одну, слабо державшуюся пуговицу.) Нет, и у меня одной не хватает…
Вера. Ну, это уж вы бросьте! Я вам не портниха. Мне надо вон еще к тем сеялкам, в шестую бригаду, пройти.
Федор. Выходит, зря оторвал? Придется самому и пришивать? (Садится на корточки и пристально смотрит, как Вера пришивает пуговицу.) Товарищ агроном! Вера. А?
Федор. Вера Сергеевна!..
Вера. Ну?
Федор. Верочка!..
Вера. Ну говори же, что?
Федор. Не можете вы мне объяснить такое дело?.. Почему, когда я встречаю очень красивую девушку, меня всегда берет какое-то сомнение?
Вера. В чем — сомнение?
Федор. На меня находит робость, безнадежное настроение. Хороша Маша, да не наша. Очень уж красивая! Не может быть, чтоб такая девушка никем не была занята. Конечно, ее многие любят, не один ты восхищаешься ее красотой. И она уже кого-то полюбила. Тут твоя, Федор, не попляшет!.. И еще такая мысль приходит в голову: но почему же все-таки она, такая красавица, до сих пор не замужем?
Семен Ильич. Вот, вот!..
Федор. А может, ее все избегают, потому что у нее есть какой-то скрытый недостаток?
Вера. Что-о? Какой недостаток?
Андрей. Федор, ты бы полегче.
Федор. Я сейчас объясню. Мой отец был заядлый лошадник, очень любил лошадей и разбирался в них. И хотя я вырос уже при колхозах, единоличного хозяйства у нас не было, он все же давал мне такие советы. Если, говорит, будешь когда-нибудь покупать лошадь на базаре, не гонись за очень красивой и лощеной, у такой красавицы, может, под лоском какие-то скрытые пороки.
Андрей качает головой.
Погоди, погоди, Андрей Николаич, все будет прилично. Лошадь, говорит, надо выбирать в черном теле, лишь бы она была молодая и крепкая в кости. У такой все недостатки, ежели они есть, налицо.
Вера. Ну и сравнения же у тебя, Федя: девушки, лошади!..
Федор. Так это я только для примера. А может, у той девушки, насчет которой я сомневаюсь, просто очень плохой характер. Вот я о чем говорю! И все об этом ее недостатке знают, один я, дурак, не знаю, любуюсь ее красотой и поражаюсь — почему до сих нор не замужем?
Вера (помолчав). Ничего не могу тебе объяснить, Федя… Вот, может быть, в этом и несчастье мое. Все, как ты, робеют передо мной, впадают в уныние, думают, что опоздали, что я уже занята, и никто не предлагает мне руку и сердце.
Федор (изображая восторг). Да? Вера Сергеевна! Верочка! Это правда? Не занята?..
Вера. Правда.
Федор. И, значит, я могу?.. (Опускается на одно колено.)
Семен Ильич. Погоди, Федор, наивный ты человек! Тебе же глаза отводят. Тут, можно сказать, ухаживание идет полным ходом, а ты лезешь не в свои сани.
Андрей. Есть, Федя, такая игра: третий лишний. Знаешь, на сколько ты опоздал? Ровно на одну минуту. Мы только что с Верочкой сказали все друг другу глазами.
Вера, наклонившись к Андрею, перекусывает нитку у самой его груди.
Федор (хватается за сердце). Ох! (Встает, шатаясь идет к водовозке, берет ведро, где воды на донышке, и делает вид, будто выпивает целое ведро воды.)
Степан Романович (улыбается). Молодежь!..
Семен Ильич. Вот так, с шуток, может, и свадьбу сгуляем? А?
Вера. Давайте теперь вам, Степан Романыч.
Степан Романович. Спасибо, спасибо, не надо! У меня пуговиц нет, затерял. Потерплю до следующей субботы… Вы, Вера Сергеевна, если у вас время есть, прочитайте, пожалуйста, наш боевой листок. Вон на вагончике, на двери. Наш грамотей, Миша Павлов, заболел, я сам писал. Проверьте мое сочинение, может, ошибок наделал.
Вера отошла к вагончику, читает боевой листок.
Свадьбу, говоришь, кум, сгуляем? Что ж, свадьба — дело неплохое. Не все ж сеять и пахать, надо и свадьбы гулять. Я вот осенью приглашу вас всех к себе на серебряную. Двадцать пять лет отмучился! Сколько лет наша мэтэес существует, столько лет и я женатый… Два года ухаживал я за своей Дарьей Мироновной — ни в какую! И этот вот (на Семена Ильича) возле нее вертелся, сватов засылал. Отказ, обоим. На Гришку Козлова заглядывалась, на секретаря нашего сельсовета. А как пришел я с курсов, сел на новенький трактор, да как проехал мимо Дарьиного дома на третьей скорости два раза туда-сюда — не устояла! Тогда трактористы были в почете у девок!..
Федор. Не так, как сейчас.
Семен Ильич. Сейчас — уже не в диковину… Заговорился я с вами, а еще в три бригады надо почту развезти. (Встает.) Ничего нет на почту передать?
Федор. Погодите, кто-то из ребят написал письмо, видел в вагончике на столе. (Выносит из вагончика письмо.) Вот, бросьте там в ящик.
Семен Ильич. Куда — в ящик? Видишь написано: заказное. Еще шестьдесят копеек надо.
Федор дает ему монеты.
Ну, будьте здоровы, живите богато! Поехал!.. А отец правильный тебе дал совет, Федя! (Садится па велосипед и уезжает.)
Вера жестом подозвала Андрея, попросила у него карандаш, стала что-то исправлять в боевом листке.
Степан Романович (снимает с веревки, привязанной к дереву и вагончику, сушившиеся на ней майку, рубаху, трусы, полотенце, отдает их Федору). Твое хозяйство? Прибери в вагончик.
Федор. Так ночью снимаемся отсюда?
Степан Романович. Конечно, надо сниматься. Паровое поле под самым селом. Чего ж — пахать пары там, а жить нам — здесь?
Федор. Это дело! Ближе к селу — ближе к девчатам! (Стаскивает к вагончику ящики, ведра, бидоны, Андрей ему помогает.) А вагончик наш за весну полозьями в землю не врос? Стронем его трактором с места? (Пробует плечом.) Стронем!..
Вера. Прочитала, Степан Романович. Четыре ошибки было. И в заголовке пропустили буквы. Вместо «Передовики труда» у вас: «туда». Я поправила.
Степан Романович. Спасибочко!.. Переедем ночью, если вот этот не задержит. Вот незадача! Тут и сборки всего на час, был бы радиатор. Не видать там, не едет Николай?
Федор (смотрит на дорогу). Не видать.
Степан Романович. Черти б его съели с квасом!.. Сколько раз доказывал председателю: обязательно нужна нам при тракторной бригаде хорошая лошадь с повозкой, кроме тех, что горючее и воду возят! Для всякого такого случая. Вот надо быстро отвезти в мастерскую что-то или оттуда забрать. Рысака нужно! Чтоб за час туда и обратно смотаться! Не дает. То лошадь не подберут, то ездового нет, то повозки не находится. Покупайте, говорит, мотоцикл, вы много денег зарабатываете.
Андрей. А если б у них эти трактора были свои, колхозные, все бы нашлось — и лошадь, и повозка.
Степан Романович. О, тогда бы все нашлось! Свое — что говорить! Совсем другая забота!
Проселочной дорогой к стану подходит Лошаков с полевой сумкой через плечо.
Лошаков. Здравствуйте, товарищи!
Степан Романович. Здорово, товарищ Лошаков. Ходишь?
Лошаков. Хожу. (Осматривает трактор, разбросанные ящики, бочки.)
Андрей. Вот мы с Верой шли сюда и по дороге как раз об этом говорили. Все же как-то неладно у нас получается. Земля — колхозная, трактора, что ее обрабатывают, — государственные, трактористы — не то рабочие, не то колхозники… А не пришло время передать это все в одни руки?
Федор. Как — в одни руки? Совхоз, что ли, сделать? А что! Я и в совхоз пойду, мне все равно, где работать.
Вера. И я пошла бы в совхоз. Там агроному твердая зарплата.
Андрей. Может быть, на месте какой-то МТС надо и совхоз организовать, если колхозники согласятся. А может, просто продать колхозам все наши машины? И пусть они сами обрабатывают ими свою землю. А?.. Колхозы сейчас окрепли уже — что, они не справятся с этой техникой? А кадры — вот они, вы. Перейдете в колхоз и будете работать на этих же тракторах и комбайнах.
Лошаков. Интересно!..
Степан Романович толкает локтем Андрея, тот не понимает его знаков.
Андрей. Что интересно, товарищ Лошаков?
Лошаков. Главный инженер МТС вносит предложение о ликвидации МТС!
Андрей. Да уже многие председатели колхозов об этом поговаривают. Дайте, говорят, нам всю вашу технику, и мы сами управимся с нею не хуже вас.
Лошаков. Так то председатели говорят! У них свои цели. А вы — главный инженер государственной машинно-тракторной станции. Вы должны отстаивать интересы государства, а не колхозов.
Андрей. Разве у колхозов не те же интересы, что у государства?.. Я думаю, наш общий интерес сейчас — поднять больше урожайность в колхозах.
Лошаков. Вот и работайте в этом направлении! Улучшайте состояние тракторного парка, повышайте у каждого тракториста чувство ответственности за урожай! Влияйте на колхозы! Требуйте от правлений колхозов точного соблюдения договорных обязательств!
Андрей. Требуем, как же. Колхозы пишут на нас жалобы в райком, мы — на них. Если б по каждому случаю нарушения договоров затевать тяжбы, так директор из суда не вылезал бы.
Лошаков. Ваша священная обязанность, товарищ Глебов, всячески поднимать организующую роль МТС и укреплять ее авторитет в массах! А вы его подрываете!
Андрей. Чем подрываю?
Лошаков. Вот такими разговорчиками. Мы, МТС, не можем, не в состоянии навести порядок в колхозном производстве и обеспечить повышение урожайности — пусть передадут трактора колхозам. Расписываетесь в собственном бессилии. Хорошенькое дело! Конечно, если у самого главного инженера такое настроение!.. А может, вы просто хотели бы остаться не у дел, чтоб поскорее удрать, вернуться в город?
Андрей. Почему — вернуться? Я не горожанин. Я в городе жил только, пока в институте учился. Я сам из села, родился в селе, и десятилетку там кончал.
Лошаков. Из какого села?
Андрей. Из села Артюхово, Дубовецкого района.
Лошаков. Так… Если вы хоть немного знакомы с политэкономией, то должны бы знать, что высшей социалистической формой является государственная, общенародная собственность на орудия и средства производства. А колхоз — это только общественно-кооперативная форма. Так что же вы предлагаете — из высшей формы перейти в низшую?.. Может, и станки с крупных государственных заводов продать каким-нибудь артелям кустарей?
Андрей. Политэкономию-то я немножко знаю…
Лошаков. Вот именно — немножко!.. Да и что это вообще за слова: «свое», «не свое»! А чье же это все — эти поля, машины, заводы? Вы полагаете, что наша колхозная деревня до сих пор по уши сидит в старомужицких предрассудках, деля все сущее на «свое» и «чужое»? Колхозники, в лице лучшей своей части, думают широко, по-социалистически, по-государственному! Вы отстаете в развитии сознания от рядовых колхозников, товарищ главный инженер!.. (Поднимается по ступенькам в вагончик. Пока он там что-то осматривает, все продолжают молча работать. Выйдя из вагончика, достал из полевой сумки блокнот, что-то записал.) Опять не вижу свежего боевого листка.
Степан Романович. Вон он висит!
Вера закрывает дверь вагончика — показывает боевой листок.
Мы его снаружи пришпилили, чтоб виднее было. А стенгазета — там. (Указывает на стену вагончика, обращенную в глубь сцены.)
Федор. Даже моя персона там фигурирует.
Андрей. С какой стороны?
Федор. В стенгазете — с отрицательной, а в боевом листке — с положительной. В этом, говорят, мой главный недостаток: не выдерживаю ровного стиля в работе. Неделю назад заснул ночью на тракторе, в канаву заехал. А вчера полторы нормы дал.
Лошаков. А обязательства надо было в рамку завести, под стекло. Кто-то отполосовал уже кусок на цигарку.
Степан Романович. Заведем в рамку. У меня дома есть такая пустая рамка, принесу.
Лошаков. Да, интересное дело! До чего договорились: трактора надо колхозам продать! Мобилизуете механизаторов на успешное завершение весеннего сева?
Степан Романович. Мы сегодня заканчиваем сев, товарищ Лошаков. На пять дней раньше, чем в прошлом году.
Лошаков. Это вы во всех тракторных бригадах такие политбеседы проводите, товарищ Глебов? Или только начали с этой бригады?
Андрей. Только начал.
Лошаков. Не советую продолжать… А этот трактор почему стоит, не работает?
Степан Романович. Стоит, потому что мотор разобрали. Без мотора он не поедет. А мотор разобрали — на профилактику, срок подошел. К вечеру поедет.
Лошаков. Да? К вечеру поедет? Ну, хорошо. Работайте, работайте! (Увидел идущую по дороге машину, машет кепкой, кричит.) Э-эй! Стой! Наша машина. Стой! Федоренко, ты куда едешь? В Ушаковку? Погоди, меня подвезешь! (Перекидывает сумку через плечо.) До свиданья, товарищи! (Уходит по дороге быстрым шагом.)
Степан Романович. Прощайте!
Федор. Будьте здоровы!
Андрей. Чего вы меня толкали, Степан Романович?
Степан Романович (качает головой). Дернул тебя черт, Андрей Николаич, прости за выражение, при нем такие вещи говорить! Ты же не знаешь этого человека.
Андрей. Как не знаю? Знаю. Бывший секретарь партбюро МТС.
Степан Романович. Ох, не знаешь!.. Он где-то в другом районе работал секретарем райкома, не то вторым, не то третьим. Там его прокатили на конференции. Потом прислали его к нам. Два года сушил он нам мозги. А на прошлых выборах и мы его прокатили. Не прошел тайным голосованием в бюро. Но ему уже за пятьдесят, инвалид какой-то группы — в общем, вышел на пенсию. А живет здесь и на учете состоит в нашей парторганизации. Никак не можем от него отделаться! Вот видишь — берет партпоручения, ходит по бригадам, копается, как скорпион, в бумажках!
Вера. Какой ты неосторожный, Андрей!
Федор (грустно). Уже на «ты» перешли!..
Степан Романович. Когда он был у нас секретарем, не проходило партсобрания, чтоб он в заключительном слове не предложил либо исключить из партии кого-то, либо выговор ему записать. Только и видел одно средство, как помочь человеку, если он в чем-то ошибается или слабо работает: наказать его! Не собрания были, а судилища! И, знаешь, так заговорит всех, так подведет вопрос, как будто он и прав! Нельзя с ним не согласиться!
Вера. О политэкономии он верно говорит. Так и написано там о формах собственности.
Андрей. Только не написано, как выйти из такого положения, когда колхозной землей два хозяина распоряжаются! Наш главный агроном приказывает трактористам: «Так надо сеять!», а колхозный агроном говорит: «Нет! Не позволю, надо сеять так-то!» Кому-кому, Вера, а тебе это лучше, чем мне, известно. Разве это порядок?
Вера (пожала плечами). Не нами он установлен, не нам его и ломать. Надо просто договариваться как-то между собою.
Андрей. А если я говорю на черное — черное, а ты говоришь на черное — белое, сможем мы с тобой когда-нибудь договориться?
Вера (улыбнулась). Ну, может быть, сойдемся на том, что скажем на черное — серое.
Андрей. Нехорошо сказала. Не хочу слышать от тебя таких слов даже в шутку!..
Степан Романович. Нет, это тебе так не пройдет, Андрей Николаич, вот посмотришь! Он тут чего-нибудь раздует. Записал что-то в свою книжечку.
Андрей. Пусть пишет! Подумаешь, какие страхи!
Вера. Мальчишество!..
Андрей. Что я такого сделал? Что из этого можно раздуть? Я же не открыл тут распродажу тракторов. Не в моих это правах. Ты куда хотела идти, Вера? К сеялкам? Пойдем, провожу… Ты чего надулась? Разве я сказал что-нибудь обидное?.. Или ты, в самом деле, за меня боишься?
Вера. Да, боюсь…
Андрей. За меня?.. Почему?
Вера. Я много слышала хорошего о тебе, Андрей… Я позавчера была в райисполкоме. Наш председатель ездил отчитываться за посевную и меня взял. И секретарь райкома там был, и ваш директор. Секретарь спросил его: как там у вас работает молодой инженер? И директор ваш такую блестящую характеристику тебе дал! Энергичный, способный!.. Всего не буду рассказывать, а то еще зазнаешься… Зачем же давать возможность какому-то Лошакову на тебя капать?
Андрей (взял Веру под руку). Вера! Да при чем тут Лошаков? Я же вот это все, что сказал здесь, и самому секретарю райкома скажу! Ничего я не говорил такого, чтоб оглядываться — не слышит ли меня кто… Ну, пойдем, а то и посевная закончится, пока к твоим сеялкам доберемся. А я там, Степан Романыч, возьму у Савченко мотоцикл, добегу в Макаровку и позвоню оттуда в мастерскую. Может, там наша «походка» стоит — пусть привезут вам радиатор.
Степан Романович. Давай, давай, позвони! Чтоб не застрять нам тут до завтра.
Андрей. До свидания!
Степан Романович. Всего хорошего!
Федор. Будьте здоровы!
Вера и Андрей уходят.
Федор (сидя на ступеньках вагончика, смотрит им вслед). Инженер… Все-таки высшее образование украшает человека. А у меня — среднее, незаконченное… (Достал из вагончика бутылку молока, выпил.)
Степан Романович (кончая прибирать инструмент). Помню, нагрянул как-то Лошаков ко мне на полевой стан — это еще когда он секретарем работал. Осенью было дело, зябь пахали. Все машины пашут, никаких поломок, ну и я прилег отдохнуть. Как налетел Лошаков! «Что за безобразие! Трактора все в борозде, работают, а бригадир спит!» Здрасьте, говорю, Григорий Софроныч, мое вам почтение! А что же мне делать, когда трактора исправные и работают? Бегать вокруг вагончика, заголясь? Почему они исправные? Значит, я возле них потрудился, полазил, настроил всё! Теперь мне только и отдохнуть, пока они работают… Ох, и понятие же у человека! Ругает бригадира за то, что у него все трактора в борозде! И чем только такие люди думают!
Федор. Вот именно! Чем они думают!.. (Вынес из вагона гармошку, сел на ступеньки, играет и поет какую-то грустную песню. Оборвал песню, посмотрел на солнце). Когда же нам привезут обед?..
Занавес.
Комната партбюро в конторе МТС. Обстановка в беспорядке — мебель только что перенесена из другого помещения. На полу связки книг, свернутые в трубку плакаты. Соловьев подвинул на место письменный стол, прибивает на стену диаграммы и плакаты. Входит Шубин.
Шубин. С добрым утром!
Соловьев. Привет!
Шубин (оглядывает комнату). Ну, тут тебе лучше будет, на новом месте?
Соловьев. Мне и там было неплохо, не обо мне речь, Павел Арефьич. Тесно было там. Придут три человека — и негде им сесть. А тут мы и партсобрания сможем проводить.
Шубин. Да, тут кубатура подходящая. Мебели надо добавить.
Соловьев. Десяток стульев надо еще поставить. Не таскать же всякий раз из твоего кабинета. И тот диван взять, что в бухгалтерии стоит.
Шубин. Да. А для книг стеллажи надо поделать. Ладно, пришлю к тебе столяра и выпишу десяток досок.
Соловьев (смотрит на стену). А сюда что прибьем?.. Еще можно один плакат. (Разворачивает плакаты.) Ну вот. «Соблюдайте правильный режим кормления грудного ребенка». Это нам не подходит. Не по нашей специальности. (Разворачивает другой плакат.) «День морского флота». Тоже к нам не относится, мы люди сухопутные… Да, слушай, Павел Арефьич! А День тракториста или День механизатора, как они тут называют, будем проводить? К воскресенью, пожалуй, закончим вспашку паров, трактора станут, люди свободные — самое подходящее время. Междупарье.
Шубин. Не знаю, как с этим Днем тракториста… Нет же Указа Верховного Совета насчет такого праздника.
Соловьев. Указа нет, но здесь люди сами издавна начали его проводить. Во всех МТС. Мы с тобой люди новые, а тут это уже в традицию вошло. Праздник проводят на вольном воздухе, в роще, на берегу реки. Выезжают туда машинами, пищепром вывозит мороженое, безалкогольные напитки. Самодеятельность выступает.
Шубин. В прошлом году тут, говорят, в День железнодорожника двое пьяных в речке утонуло.
Соловьев. Ну что ж, теперь из-за двух пьяных все праздники прикрыть? Ничего, Павел Арефьич, все будет аккуратно, беру ответственность на себя. Поговорим с бригадирами, с коммунистами. Жены трактористов приедут, тут же будут, с мужьями, присмотрят за порядком.
Шубин. Какая жена, а то еще больше мужа выпьет…
Соловьев. Нет, нет, нельзя, надо провести! Обидятся люди.
Шубин. Если проводить такой праздник, то надо бы как-то отметить на нем передовиков весеннего сева. Я-то вообще не против. Это, конечно, поднимает дух. Премии бы дать ребятам, подарочки хорошие, кому часы, кому велосипед. Но денег на это дело у нас, кажется, ни гроша. Сейчас узнаем. (Открывает дверь в соседнюю комнату, зовет.) Татьяна Ивановна! Зайдите на минутку!
Входит Татьяна Ивановна, бухгалтер МТС.
Татьяна Ивановна. Слушаю вас, Павел Арефьич.
Шубин. Татьяна Ивановна! Будем проводить День механизатора.
Татьяна Ивановна. Очень хорошо! Я в прошлом году выступала на этом празднике в самодеятельности. Кажется, имела успех. Подготовлю новый репертуар.
Шубин. Вот и прекрасно. А деньжата на премии у нас найдутся?
Татьяна Ивановна. Деньжата?.. Нет ничего.
Шубин. Директорский?..
Татьяна Ивановна. Пусто.
Шубин. Я вчера договорился с райпотребсоюзом. Они покупают у нас…
Татьяна Ивановна. Что бы они ни купили у нас, Павел Орехович, все такие суммы поступают на соответствующие счета, и на премии оттуда мы не можем взять ни копейки.
Шубин. Какой я вам Орехович?
Татьяна Ивановна. Простите, пожалуйста! Слышу часто, как вас другие называют, и сама обмолвилась.
Шубин. Но у нас же есть всякие экономии! Неужели нельзя там несколько тысчонок выкроить? Для святого дела! Для премирования передовиков весеннего сева и вспашки паров!
Татьяна Ивановна. Перечисления из статьи в статью категорически воспрещены.
Шубин. А я вот возьму у вас под отчет пять тысяч, куплю подарки передовикам, а вы потом в какую хотите статью заносите их!
Татьяна Ивановна. Ну что ж, это уже будет уголовная статья. Растрата.
Шубин. Ушлю вас в отпуск, без вас сделаю. С Иваном Никифоровичем!
Татьяна Ивановна. Только через мой труп.
Шубин. Да… Тяжелая вы женщина, Татьяна Ивановна!
Татьяна Ивановна. Вы хотели сказать — тяжелый у меня характер?
Шубин. Да, да! Именно — характер!
Татьяна Ивановна. (пожала плечами). Какой есть.
Соловьев. Но можно у вас взять хотя бы диван из бухгалтерии для этого кабинета?
Татьяна Ивановна. Пожалуйста! С удовольствием отдам. Только обейте его заново. Его так замаслили трактористы своими стеганками. Я на него никогда не сажусь… Можно идти?
Шубин. Можно.
Татьяна Ивановна уходит.
Все ясно. Кремень! Ни копейки из нее не выжмешь!..
Соловьев. Ну, ничего, Павел Арефьич, и без премий проведем. Отметишь передовиков в приказе, объявишь им благодарность, отпечатаем в типографии грамоты, вручим их принародно. Знаешь, есть пословица: не дорого пиво, дорого диво. Наши механизаторы не так уж мало зарабатывают, что им стоит самим купить те часы. Важно внимание проявить к людям!
Шубин. Ну ладно, договорились. Посмотри по календарю, какой там будет подходящий день, в конце месяца.
Соловьев. Да вот не помню, куда я девал календарь. (Ищет календарь между книгами на столе, открывает ящик стола, находит бумажку.) Да! Вот еще дело!.. Поступило заявление в партбюро, Павел Арефьич, на нашего молодого инженера, на Глебова.
Шубин. Какое заявление? О чем?
Соловьев. Разлагает массы, ведет агитацию…
Шубин. Что? Какую агитацию?..
Соловьев. Агитацию против МТС. Короче сказать, завел в одной тракторной бригаде разговор с трактористами о том, что МТС не нужны и что надо бы продать наши трактора колхозам. А заявление на него написал при сем присутствовавший товарищ Лошаков.
Шубин. Лошаков! Он везде присутствует! Ну-ка, дай заявление. (Прочитал заявление, повертел его в руках, положил на стол.) Да, продать трактора колхозам… Не знаю, как бы оно получилось… Конечно, колхозы наши выросли, есть уже такие, что справятся с этой техникой не хуже нас. Умному председателю дай машины в руки — он с ними еще больше поумнеет. А дай машины дураку!.. Все же есть у нас еще председатели, которые потому только и держатся, что кто-то за них пашет, сеет, убирает хлеб. Да вот взять по нашей зоне… (Задумывается, перебирает в уме). Семь колхозов таких, что можно смело продать им машины, и это им пойдет только на пользу. А три колхоза — я не знаю, там надо что-то делать. Вот этот наш знаменитый очковтиратель, передовик по взятым обязательствам товарищ Бубликов. Это же барышник, шибай, а не председатель! Он будет на тракторах картошку в Донбасс возить продавать! Или — Сидоркин. Называется — тридцатитысячник! Приехал поднимать колхоз «своими руками», а с первого дня поглядывает, как бы «своими ногами» назад удрать!.. Если передавать машины колхозам, то надо тогда еще раз пересмотреть кадры председателей. Тут уж нельзя нигде оставлять разгильдяев или таких, что ни рыба, ни мясо, ни богу свечка…
Соловьев. Погоди, Павел Арефьич, ты вроде как уж всерьез начал обсуждать предложение Андрея. Не в этом же дело. Тут о самом Андрее речь. Надо что-то решать.
Шубин. А что — об Андрее?
Соловьев. Вот те и раз! Да вот же — заявление на него!
Шубин. Не знаю, что тут решать…
Входит Лошаков с кипой книг под мышкой. Из книг торчат длинные закладки.
Лошаков. Здравствуйте, товарищи!
Шубин. День добрый… Вот счастливый человек! В бессрочном отпуску! Я бы на твоем месте, Григорий Софроныч, справил ружьишко, удочки, сети и целыми днями из речки не вылезал! Погода-то какая стоит! А сомята, говорят, как берутся сейчас на подпуска!
Соловьев. Между прочим, Григорий Софроныч, наш рабочком открыл лодочную станцию на реке. Три лодки там у них, двухвесельные. Они, правда, за деньги дают их, напрокат, по рублю за час, что ли, но тебе, как почетному пенсионеру, можно и бесплатно. Мы договоримся. Бери лодку хоть на целый день и плыви куда-нибудь подальше!..
Лошаков. Как — подальше?
Соловьев. Ну — по реке туда, к самым красивым местам, под Гремячее или под Любимовку. Вот там-то, Павел Арефьич, и сомят берут — под Любимовкой, где белая гора. Знаешь то место? Возле парома. Да не сомят, а сомов! Вот таких! (Показывает.) По пуду!
Лошаков. Я этими делами не занимаюсь.
Шубин. Не любишь природу? Зря! Переночевал бы хоть раз у лесного озера или на речке, у костра, послушал бы, как птицы восход солнца встречают, как под утренним ветерком лес просыпается, травка на полянах шелестит. Это, знаешь, так очищает душу!..
Лошаков. Я восход солнца каждый день в своем дворе вижу. И птиц у нас хватает на тополях, грачей особенно. Чуть станет рассветать — орут, проклятые, спать не дают… Заявление мое еще не разбирали?
Соловьев. Да нет еще. Бюро было три дня назад, а партсобрание по плану двадцать девятого.
Лошаков (кладет книги на стол). Вот я здесь подобрал все решения о машинно-тракторных станциях, начиная с первой МТС, что была организована у нас в Советском Союзе в 1928 году. Шевченковская МТС Одесской области. Слыхали про такую? (Раскрывает книги перед Соловьевым.) Вот одно решение. Вот другое решение. Вот третье развернутое решение. Вот еще. Вот еще. Везде, где закладки, это об МТС. И во всех решениях подчеркивается, что МТС являются не только хозяйственными организациями, но и политическими. Им принадлежит организующая, направляющая роль. Я оставлю все это у вас. Прочтите внимательно.
Соловьев. Зачем? У меня есть все эти сборники. Я только не привел еще в порядок библиотеку.
Лошаков. Ничего, ничего. Там вы будете искать, а здесь я уже все нашел и отметил. Прочтите. Вот, пожалуйста. (Читает.) «Машинно-тракторные станции осуществляют организующую роль и являются крупными государственными предприятиями…» А вот как сказано: «МТС — это важнейшие опорные пункты в руководстве колхозами со стороны Советского государства». Понятно? И после этого говорить, что МТС нам не нужны, что их надо ликвидировать, а трактора продать колхозам! Это же оппортунизм!
Шубин. Я пошел, товарищи! Меня ждут во дворе. Посылаю машины на станцию за шифером.
Соловьев. Павел Орехович!.. Тьфу, прости… ради бога! Если увидишь там Андрея, скажи ему — пусть зайдет сюда.
Шубин. Скажу. (Раскрывает дверь в бухгалтерию.) Уже увидел. Вот он сам пришел. (Пропускает Андрея в дверь.) Заходи, ты… ликвидатор!
Андрей входит, Шубин уходит.
Андрей. Вы звали меня, Виктор Петрович?
Соловьев. Да. Садись.
Андрей и Лошаков сидят, Соловьев продолжает развешивать плакаты и диаграммы.
Что ты там натворил, Андрей Николаич?
Андрей. Где? Чего натворил?
Соловьев. А вон возьми (указывает на заявление, лежащее на столе), прочти.
Андрей взял заявление, прочитал, поглядел на Лошакова, пожал плечами.
Андрей. Да, был такой разговор с трактористами.
Соловьев. Не отрицаешь?
Андрей. Чего ж отрицать, если было.
Соловьев. Как же ты до этого додумался? Почему ты считаешь, что МТС не справляются со своими задачами? И что их нужно ликвидировать?
Андрей. Не то что не справляются. Но все же много у нас неладного… С первых дней, как стал работать в МТС, я все время, Виктор Петрович, об этом думаю. Ведь фактически мы, работники МТС, держим в своих руках судьбу колхозного урожая. Но если мы вырастили плохой урожай, плохо пахали, плохо убирали хлеб — кто от этого страдает? Только колхоз. Ни с вас не вычтут из зарплаты ни копейки, ни с меня, ни с тракториста. А у колхозников трудодень — лопнул!.. Тракторист с гектара вспашки получает, а не от центнера урожая. Это все равно, как если бы на заводе рабочему платили за количество оборотов его станка, а не за продукцию, что он выпустил на этом станке… Работники МТС обрабатывают колхозные поля, и оказывается, что они меньше всего заинтересованы материально в повышении урожайности! Что же это такое? Так же нельзя дальше жить! Все время думаю об этом.
Лошаков. Он думает! А больше об этом некому подумать? Вы приехали сюда работать, товарищ, Глебов, а не думать!
Андрей. Человек так устроен, что у него есть голова. Вот он ею и думает.
Соловьев. Что-то ты не то сказал, Григорий Софроныч. Работать — значит не думать, что ли?..
Лошаков. О какой заинтересованности вы говорите, товарищ Глебов? Вы считаете, что наших людей можно увлечь только рублем на достижение новых побед в социалистическом строительстве? Этот только вид заинтересованности признаете — брюхо? Вы забываете, что все наши трактористы — советские люди, и им колхозные интересы должны быть дороги, как свои собственные! И мыс вами обязаны не покладая рук трудиться над воспитанием коммунистического сознания у наших механизаторов, вести среди них упорную, повседневную, кропотливую массовую работу!.. Но если мне память не изменяет, в тракторной бригаде не об этом был разговор — не о материальной заинтересованности. Вы что-то начинаете тут крутить!
Андрей. Одно с другим связано. Я и об этом думал: если уж оставлять МТС, то надо как-то перестраивать зарплату механизаторов.
Лошаков. «Думал», «думал»! Мыслитель какой! Сократ!.. Да кому нужны ваши политически вредные путаные мысли? Предлагает от государственной собственности идти назад, к кустарщине. Если у вас зашевелилась там какая-то недозрелая мыслишка — совсем не обязательно выносить ее в массы. Держите ее при себе! (Встает, расхаживает по кабинету, потом, увлекшись, садится по-хозяйски на секретарское место за стол, продолжая разговор, машинально переставляет по-своему на столе чернильный прибор, пепельницу, графин, складывает книги одна на другую.) Ваш разговор в тракторной бригаде — это, по существу, выступление против решений партии! Вы отдавали отчет своим словам? Ликвидировать МТС! Вот, смотрите, что партия говорит об МТС! (Резким жестом подвигает к Андрею через стол стопу книг.) Вам знакомы эти книги? Или только по обложкам?..
Андрей берет книгу, раскрывает на закладке.
Чему вас учили там, в институте! Монпонсапом, вероятно, зачитывались, а решения партии и правительства не изучали!..
Соловьев, кончив прибивать плакат, обернулся, увидел Лошакова на своем месте, усмехнувшись, переглянулся с Андреем. Лошаков не спеша поднялся с кресла, отошел от стола.
Соловьев. Григорий Софроныч! Мне все ясно. Ты оставь заявление, а когда у нас будет бюро или собрание, я тебя, конечно, извещу. Без тебя не будем разбирать. Там расскажешь все, что имеешь сообщить по этому делу. Идет? Что у тебя еще ко мне?.. Ты просил у Шубина машину, дров привезти из лесу. Давали тебе машину? Привез?
Лошаков. Привез.
Соловьев. Очень хорошо!
Лошаков вынимает из полевой сумки бумагу.
А это что у тебя? (Берет бумагу.) А, итоги проверки соцсоревнования бригад на весеннем севе. Я уже имею эти сведения, наш рабочий комитет проводил проверку. И ты тоже провел? По собственной инициативе? Ну ничего, маслом каши не испортишь. Оставь мне. (Посмотрел цифры.) У Полякова пережог больше тонны. Но это не по их вине, там их этот старый дизель подводит. Гроб — не машина. Верно, Андрей Николаич?
Андрей. В этот дизель на восстановительный ремонт надо всадить столько денег, сколько и новая машина не стоит. Его давно пора выбраковать.
Соловьев. Не знаю, разрешат ли нам его выбраковать, а норму горючего для него надо пересмотреть обязательно, иначе у тракториста и зарплаты не хватит за пережог рассчитаться. Я поговорю с Шубиным… Ну, все?
Лошаков. Пока все. (На книги.) Оставить?
Соловьев. Нет, не надо.
Лошаков забирает книги, уходит. Соловьев идет за ним к двери, плотно ее прикрывает, возвращается на середину комнаты, берется за живот, хохочет.
«Монпонсаном зачитывались!» Ой, не могу!..
Андрей. Вам смешно, Виктор Петрович, а мне не очень… Будете обсуждать меня на партсобрании?
Соловьев. Ну, раз уж поступило такое заявление, то не подошьешь же его просто к делу. Придется разобрать. Ты, конечно, сделал глупость. У тебя могут быть всякие личные соображения насчет структуры МТС и наших взаимоотношений с колхозами, но зачем высказывать их трактористам? Ты не учел, что являешься представителем дирекции МТС и должен всячески укреплять у наших сотрудников чувство любви к своей МТС и ответственности за свой участок работы. Не с трактористами, конечно, обсуждать такие проблематичные вопросы.
Андрей. Почему же не с трактористами? Кто больше тракториста знает о всех наших неурядицах?
Соловьев. Ну, ладно. Я могу быть не согласен с тобою, могу и буду спорить по самому существу вопроса — о передаче тракторов, но я, в общем, не считаю, что ты сделал большое преступление и что тебя надо казнить. Ничего, как-нибудь отпишемся. Но впредь — будь осторожнее.
Во дворе загудел трактор. Стучат топоры на строительстве новой мастерской, вызванивают молотки в кузнице — шум рабочего дня на усадьбе МТС. В окно со двора заглядывает Шубин.
Шубин. Андрей!
Андрей. Что, Павел Арефьич?
Шубин. Ты собирался в Любимовку ехать? Машина сейчас отправляется.
Андрей. Еду, еду! Пусть подождет минутку!
Шубин отходит от окна.
Соловьев. Ты — к Максимову?
Андрей. Да. Он звонил утром. Два дня как взяли трактор из ремонта и — планетарка полетела.
Соловьев. Для таких случаев у нас есть разъездные механики.
Андрей. Нет, я сам хочу проверить, кто тут виноват: мастерская или трактористы. Это у Максимова при мне уже вторая авария.
Соловьев. Поеду и я с тобой! А здесь вечером порядок наведу. (Свертывает в трубку оставшиеся плакаты, складывает книги в одну кучу в угол.) Вчера в райкоме целый день продержали, позавчера с этими сведениями по кадрам возился — три дня в поле не был.
Соловьев и Андрей идут к двери. Соловьев хлопает Андрея по спине, хохочет.
«Кому нужны ваши недозрелые мысли, товарищ Глебов? Вы приехали сюда работать, а не думать!..»
Андрей у порога пропускает Соловьева вперед, сам на минуту задерживается. В окно заглядывает Вера.
Вера. Андрюша! Зачем они тебя вызывали сюда? Чего Лошаков приходил?
Андрей. Приехала?.. (Подошел к окну.) Здравствуй!
Вера. Здравствуй! Приехала на совещание. Всех агрономов из колхозов вызвали. По севооборотам. А у вас что тут было?
Андрей. Лошаков написал на меня заявление. Вера. Написал-таки? Вот видишь! Я же тебе говорила!.. Ну и что теперь?
Андрей. Не знаю. Будут обсуждать.
Вера. Вот тип! Какой противный!.. А Соловьев что сказал?
Андрей. Соловьев смеется.
Вера. Ну, смеется — это ничего!
Голос Шубина из соседней комнаты: «Андрей!»
Андрей. Сейчас, одну минутку!
Вера. Ты уезжаешь, Андрей? (Села на подоконник.) Как неудачно! Я могла бы сегодня остаться здесь, в колхоз поеду утром. Погуляли бы вечером в парке…
Андрей. Оставайся, Вера! Я скоро вернусь. Посмотрю аварийный трактор в бригаде и к вечеру вернусь.
Вера. Взять билеты в кино?
Андрей. А тебе очень хочется в кино?
Вера. Нет, не очень. Там плохая картина идет.
Андрей. Просто походим, погуляем. А? Сегодня ночь будет хорошая, луна. К старой мельнице пойдем.
Вера. Где девушки на троицу венки по воде пускали? Пойдем!
Андрей. А где я тебя найду вечером?
Вера. Я остановилась у подруги. Их дом напротив почты. Угловой, под красной черепицей. Запомнишь?
Андрей (повторяет). Угловой, под красной черепицей.
Вера. Постучи в то окошко, что с переулка. Во двор не заходи, у них злые собаки.
Андрей. Меня собаки не рвут. Любого цепняка отвяжу, и он будет ласкаться, пойдет за мной, как щенок.
Вера. Не хвали сам себя! Я где-то читала: хорошего человека любят женщины, дети и собаки.
Андрей. Не знаю, не читал такого. Значит, я нехороший. Девушки меня не любят.
Вера. Много ты понимаешь в девушках!.. Ты хочешь, чтобы девушка первая тебе сказала?..
Андрей. Вера!.. (Взял ее за плечи, повернул лицом к себе).
Входит Шубин.
Шубин. Андрей! Ох!.. (Отворачивается.) Да ты едешь или нет? Сколько может машина ждать?
Вера исчезает.
Андрей. Еду, еду! (Бежит к двери.)
Занавес.
Действие второе
Сельская улица. Светлая лунная ночь. За сценой шум подъезжающих и отъезжающих машин, голоса, песни, музыка — трактористы, колхозники возвращаются с гулянья, что было где-то за селом в роще по случаю Дня механизатора.
Прошли улицей девушки и парни — с баяном, с песнями. Спустя некоторое время идут Соловьев, Шубин, Татьяна Ивановна, Федор, Степан Романович, трактористы, девушки.
Соловьев. Ну вот и отметили День тракториста!
Шубин. Повеселились! Хорошо прошел праздник!.. А ночь какая! И домой идти не хочется. Степан Романыч! Где наши двадцать лет!..
Степан Романович. Эх, кабы вернулись наши двадцать лет!
Шубин. Я парнем был здоровый, как битюг, выносливый! Прогуляешь ночь до рассвета, доберешься до постели, чуть вздремнешь — отец будит: вставай, запрягай пахать. Пашешь, еле ноги по борозде волочишь, думаешь: ну, будь оно неладно, эту ночь отосплюсь. А как услышал вечером: гармошка заиграла — пошел опять к девчатам! Неделями без сна — как на фронте!.. Ишь ты, слушай, баянист что выделывает! С переборами! Ноги на месте не стоят!
Соловьев. Понравилась тебе наша самодеятельность?
Шубин. Понравилась! Хорошо, молодцы! Не знал я, что у нас столько талантов! Ты, Федя, на баяне лучше даже, чем на тракторе, откалываешь. И «Теркина» хорошо декламировал, сам Твардовский остался бы доволен. Артист!.. Но лучше всех Татьяна Ивановна спела! Вот бы никогда не подумал! Не ожидал!
Татьяна Ивановна. Чего не ожидали?
Шубин. Что у вас такой чудесный голос. И что вообще вы способны…
Татьяна Ивановна. А мне рассказывали, как вы на Первое мая в парке лазили на макушку дуба и достали грачиные яйца из гнезда. Тоже никогда бы не подумала.
Шубин (смутившись). То меня там раззадорили. Не поверили, что я в тридцать восьмом году на паруснике «Товарищ» плавал фок-марсовым.
Федор. Матросом были? По мачтам лазили?
Шубин. Не по мачтам, а по вантам.
Федор (оглядел тучную фигуру Шубина). Не верится что-то.
Татьяна Ивановна. Не верится, Павел Арефьич!
Девушки. Не верится, не верится!
Шубин. Бросьте! Тут нет такого дуба.
Федор. Татьяна Ивановна! Когда вы пели, я лег под кустом на спину, закрыл глаза, и мне представилось, что я не на земле, а где-то на небесах. Какой голосок! Это же ангел божий пел, а не человек!.. (К трактористам.) Но попробуйте вы у этого ангела выпросить аванс, когда у вас не сойдутся концы с концами!
Трактористы. Да, выпросишь, как нее! Держи карман пошире!
Татьяна Ивановна. Дорогой Федор Алексеевич! Авансы очень вредное явление в нашей жизни и финансовой политике. Не стройте свое благополучие на авансах. Бюджет каждого трудящегося должен быть рассчитан так, чтобы не прибегать к авансам. Ведь и вам самим неприятно, когда в получку остается только расписаться за то, что было получено раньше.
Федор. Ой-ой-ой! Что я слышу! Те же уста, тот же голос и такие слова!..
Шубин. Да, ребята, если бы не эта… не этот ангел, вы бы получили сегодня по случаю Дня механизатора еще кое-что, кроме похвальных грамот.
Татьяна Ивановна. Павел Арефьич! Это нечестно — выдавать наши деловые секреты! Мало ли чего не бывает у нас в конторе! Жалуйтесь на меня на производственном совещании, но не здесь!
Шубин. Да не сердитесь! Вас хвалят, а вы ерепенитесь! Молодец! Прекрасно пели! Можно вас за это поцеловать в щечку?
Татьяна Ивановна. Нельзя. У вас жена есть.
Шубин. Ну нельзя, так нельзя… Жена в гости уехала к родным в Ленинград.
Федор уходит с девушками и парнями, подхватив под руку Татьяну Ивановну.
Степан Романович. Ваша жена в Ленинграде, а моя жена куда девалась? (Оглядывается.) Где ж это она отстала? Ехали на одной машине, а как слезли возле моста, больше я ее и не видел. Ох, и заводная она у меня! Выпьет полстопочки и пошла куролесить, гляди да гляди за нею!.. И кума нет.
Шубин. Какого кума?
Степан Романович. Да Семена Ильича, почтальона нашего. Он тоже с нами был в роще. (Прислушивается к песне женщин за сценой.) Вроде ее голос.
Все слушают песню, присев на лавочке у забора.
Шубин. Хорошо поют!..
Идет Лошаков, на минуту задерживается возле сидящих.
Лошаков. Отдыхаете? Ну, отдыхайте, отдыхайте. Спокойной ночи!
Шубин. Спокойной ночи.
Лошаков ушел в переулок.
Степан Романович. Тоже был на гулянье.
Шубин. За порядком наблюдал.
Соловьев. Испортил мне этот Лошаков весь праздник!
Шубин. Про статью говоришь?
Соловьев. Ну да. Ведь сказал я ему: двадцать девятого партсобрание, разберем ваше заявление на Глебова. Так не дождался собрания, еще и в газету послал статейку!
Шубин. Разрисовал он тебя там!
Соловьев. Разрисовал. Главный инженер ведет агитацию против МТС, а секретарь партбюро не борется с его антигосударственными выпадами. Попустительство, укрывательство, гнилой либерализм!
Степан Романович. Ну ты, Виктор Петрович, человек бывалый, выпутаешься. А вот этого молодого парня жалко! Говорил я ему, Андрею Николаичу: бойся этого Лошакова, обязательно какую-нибудь пакость сотворит!
Соловьев. С Андреем — дело хуже. Еще поступил на него материал.
Степан Романович. Ну-у? Какой материал? Откуда?
Соловьев. Письмо пришло вчера на партком. Павел Арефьич знает. Анонимное, правда. Но когда ехали утром в рощу на праздник, я показал его Андрею — не отрицает. Пишет о нем кто-то из Каменевского района, что его исключали из института; что он строгий выговор имел, когда работал на практике в Каменевской МТС, и что он бросил девушку с ребенком. Там, где учился в институте. Только ребенка не признает Андрей, а об остальном сказал: было.
Степан Романович. Что ты говоришь! Из института исключали?..
Подходят трактористы и женщины, среди них Дарья Мироновна и баянист.
Шубин. Да, брат, Виктор Петрович, какая ерунда получается. Я поначалу не придал значения, а, видно, придется все это разбирать.
Степан Романович. Ага! Вот моя отставшая супруга.
Дарья Мироновна. Куда ж ты запропал? Я думала, ты той улицей домой пошел. Я тебя там искала.
Степан Романович. Вот, вот! Я запропал! Чего б это я давал такого кругу по то-о-ой улице? Я прямо домой пошел. А Семена Ильича где потеряли? Не остался в роще?
Дарья Мироновна. Доедет! Он на своем велосипеде.
Степан Романович. Не очень-то доедет. Он там малость лишку хватил.
Женщина (к Шубину и Соловьеву). Ну чего вы тут загрустили? Опять про какие-то дела разговаривают! А мы не догуляли! Нам еще попеть, потанцевать хочется!
Вторая женщина. День тракториста раз в году бывает!
Заиграл баянист.
Женщина (поет и пританцовывает).
Дарья Мироновна.
Степан Романович. Какому миленочку? Мне, что ли, или кому другому?
Дарья Мироновна. Тебе, тебе, Степа!
Женщины обступают Степана Романовича.
Женщина. Вам, Степан Романович, вам!
Степан Романович (на женщин). Это, Павел Арефьич, моя бывшая женская непобедимая тракторная бригада. Кроме жены. Жена не работала трактористкой.
Женщина. Да, да, наш бригадир!
Вторая женщина. Старый наш бригадир, Степан Романыч! Дядя Степа!
Степан Романович. Старый? Это теперь он старый стал, а тогда был еще ничего!.. Вот с ними я тут, Павел Арефьич, после немцев мэтэес восстанавливал. Натерпелся лиха!..
Третья женщина. Слышите? Лиха с нами, говорит, натерпелся!
Степан Романович. Пришел я домой по ранению в сорок четвертом, а военкомат меня — на бронь: иди на старое место, бригадиром в мэтэес. И подсудобили мне бригадку — семь девчат. Как в песне поется: семь девок, один я. Все только с курсов, да и курсы-то были какие — месяц всего поучились… Машины — утильсырье, из выбракованных деталей собраны. Один трактор там остановится, за три километра, другой там — еще дальше. Язык на плечо, и бегаешь по всему полю, ни днем, ни ночью тебе отдыха. Она ж сама и мотор не заведет, и ручку ту с места не стронет, и случись какая-нибудь ерунда, свеча забарахлит, уже ревет: «Ой, машину поломала!..» Слабосердная команда! Хлебнул я горя с ними!
Женщина. Кто — с кем…
Степан Романович. Чего?..
Третья женщина. А мы не водили тебя, немощного, под руки по полям? Как разболятся у него раны, скрючит его всего!.. Без нас он бы пропал!
Вторая женщина. Носили его от вагончика к трактору, чтобы только посмотрел, в чем там причина, почему мотор заглох.
Степан Романович. Было, было!.. Вот так и работали. На карачках! А все же за весну семьсот гектаров весновспашки подняли. Три колхоза на ноги поставили!.. Вот эти все девчата у меня в бригаде были. Зина была, Настя была, Мария была. Это, Павел Арефьич, учтите, всё — трактористки. А потом повыходили замуж, детишки у них пошли — побросали машины. Теперь у них мужья зарабатывают, а они, как барыни. И на колхозную работу не ходят.
Женщины зашумели: «Не все! Которые не ходят, а которые и ходят!», «Это ты брось, Степан Романыч, на нас наговаривать!», «Когда по двадцать копеек на трудодень платили, тогда не ходили, а теперь ходим!», «У нас только одна Кузьменчиха не работает, так у нее справки от врачей!».
(Схватился за голову.) Затронул! Застрекотали, как сороки!.. Вот так, Павел Арефьич, я с ними и работал! Им — слово, а они тебе — двадцать! Да мне за то время, что я с ними мучился, за сорок четвертый год, надо бы все ордена, какие есть в Советском Союзе, присудить!..
Тракторист. Сейчас смеемся, а тогда не до смеху было. Я в другой бригаде работал. Хуже было, чем на передовой. У нас тракторист — Миша Скворцов — с фронта пришел живой, а дома на мине подорвался. Трактор — в куски, и ему два осколка вот сюда, в грудь. Насмерть…
Второй тракторист. А читал, Степан Романыч, в газете про нашего главного инженера Глебова? Пишут, что он будто выступал против мэтэес? Не нужны, мол, теперь мэтэес, без них колхозам лучше будет.
Степан Романович. Читал, знаю. Как раз в моей бригаде он это говорил… Конечно, сейчас время другое, колхозы уже не те. А тогда, после немцев, на голой земле! Что бы они сделали, колхозы, без нас? Хоть и мало было тракторов, а все же помогли всем колхозам! Всюду наши советские люди, все хотят жить! Без мэтэес не вылезли бы из разрухи. Где и коров немцы угнали до единой — там чем пахали бы землю?.. Теперь-то, конечно, не то…
Шубин. Теперь — не то…
Степан Романович. Пусть нам, кто это все зачинал, поставят памятник вот такой, от земли до неба! А потом можно и колхозам отдать трактора.
Выходит из-за угла Лошаков в пиджаке внакидку и пижамных штанах.
Соловьев. И этот туда же — отдать трактора! Оглянись! (Кивает на Лошакова).
Степан Романович (увидел Лошакова). Ох, мать честная! Черт его поднес! Не спит, ходит. Он в той хате живет на квартире.
Заиграл баянист.
Женщина (поет и пляшет).
Лошаков. Товарищи! А не пора ли расходиться по домам? До самого утра, что ли, будет шум на улице?
Дарья Мироновна. Так праздник же сегодня, товарищ Лошаков.
Лошаков. Праздник был вчера, в воскресенье. (Посмотрел на часы.) А сейчас уже времени — час тридцать четыре минуты. Уже другой день пошел, понедельник.
Тракторист. Точно, как на железной дороге.
Подходят еще два парня.
Парень (поет).
Второй парень (поет).
Лошаков. Что за песни у вас? Кто это сочинил? К чему такие слова?
Парень. А в нашем колхозе, товарищ Лошаков, точно так и было, пока другого председателя не выбрали.
Дарья Мироновна (к женщинам). Вот есть люди: как войдет в хату, поведет глазами — и молоко в кувшинах скисает.
Лошаков. Улица — это общественное место, товарищи. Довольно вам тут глотки драть. В каждом доме живут трудящиеся люди, которым ночью надо отдохнуть.
Дарья Мироновна. Никто там сейчас еще не отдыхает! Все были с нами на гулянье.
Лошаков. Вот вы уже не молоденькая женщина, а кричите громче всех. Это вам даже как-то неприлично.
Дарья Мироновна. А разве только молодым повеселиться хочется? (Поет и пляшет.)
Женщина. Вот это любовь! (Повторяет.)
Девушка (к Лошакову).
Вторая девушка (к первой девушке).
Третья женщина. Пойдемте, бабы! Ну его!.. Вон там, возле моей хаты, посидим еще. Оттуда не прогонит!
Женщины, трактористы, баянист уходят в одну сторону, Соловьев, Шубин и Лошаков направились в другую сторону, в переулок. Дарья Мироновна хотела было идти с женщинами — Степан Романович удержал ее.
Степан Романович. Хватит! Пора домой.
Дарья Мироновна. Ты тоже, как Лошаков!.. Степан Романович. Довольно, говорю! Ишь, разгулялась! А завтра буду тебе поясницу горячим утюгом растирать?.. Пойдем туда, кума встретим вон там еще какая-то машина подошла. И — домой!
Дарья Мироновна (уходя).
Уходят.
Соловьев. Не утерпели, товарищ Лошаков? И статейку в газету написали!.. Я же вам сказал, что двадцать девятого будет партсобрание и мы ваше заявление разберем.
Лошаков. Я почувствовал по вашему несерьезному настроению, что вы склонны замять это дело. Вы не дали должной политической оценки поведению Глебова. И даже когда я посоветовал вам прочитать постановления партии и правительства об МТС, то вы мне ответили: зачем?
Соловьев. Что?.. Я сказал: зачем оставлять мне книги, они у меня есть.
Лошаков. Я вас так понял.
Шубин (оглядел опустевшую улицу). Эх! Навели порядок, разогнали людей! Нехорошо!.. Так довольны были все! Провели весело время. Никто не напился, не безобразничал.
Лошаков. Вот и пусть идут по домам, пока — без происшествий.
Шубин. Ты прямо как тот унтер!
Соловьев. Пришибеев.
Лошаков. Не знаю никаких унтеров. Ни в царской, ни в белой армиях не служил.
Уходят. Минуту улица пуста. Слышны вдали песни и музыка.
Идут Андрей и Вера.
Андрей. Ну вот, я тебе все и рассказал… Что молчишь?
Вера. Трудная будет у тебя жизнь, Андрей.
Андрей. Почему так думаешь?
Вера. Сужу по началу.
Андрей. Что, плохое начало?
Вера. Я не говорю — плохое. Трудное.
Андрей (помолчав). Посидим здесь?
Вера. Давай посидим немножко.
Садятся на лавочку у забора.
Вон еще машины едут. Должно быть, последние.
Слышны песни, баян.
Молодежь не расходится, ей еще бы погулять. А неплохо прошел праздник. Да?
Андрей. Неплохо…
Долгая пауза.
Вера. Ну что ж, Андрей, я думаю, что все эти обвинения отпадут, если ты мне правду рассказал об институте и об этой девушке. Останется только этот разговор о продаже тракторов. А по этому вопросу тебе надо будет сказать, что вот, мол, я обдумал все, осознал, я тогда ошибался, а сейчас перечитал все постановления и признаю свою ошибку. И ничего тебе не будет.
Андрей. Я тебе целый день толкую, почему я пришел к такому убеждению, а ты мне: обдумал, осознал. Да ничего я не осознал!
Вера (сухо). Ну, тем хуже для тебя.
Пауза.
Андрей. Вера! Ты немногим больше меня работаешь здесь. Но откуда у тебя такая зрелая житейская мудрость?
Вера. Мудрой я себя не считаю, а просто — не дура.
Андрей. Просто — не дура…
Вера. Живи просто, проживешь лет до ста.
Андрей. Ты другой смысл в эту пословицу вкладываешь. Рано вставай, рано спать ложись, ешь простую пищу — будешь здоров и долго проживешь. Вот как наши деды говорили.
Вера (смеется). Ну и я тоже рано встаю, рано ложусь, целый день провожу на воздухе.
Андрей. Не хитри. Я тебя, кажется, начинаю понимать… Сколько еще неустройства в колхозах! Как бы все хорошо жили, если бы все-все делалось по-умному! Сколько есть еще таких людей, что ради сводки, ради того, чтоб сегодня им чем-то щегольнуть, готовы рубить и тот сук, на котором сидят! А ты как-то смотришь на все равнодушно… Вот ты, Вера, всего три года работаешь агрономом, а успела уже за это время и отречься от тех авторитетов, которым поклонялась в институте, и опять признать их. Успела и распахать в колхозе клевера и опять их посеять.
Вера. Чего меня стыдишь? Покрупнее меня специалисты, академики, и те отрекались.
Андрей. У академика своя совесть, у тебя своя. Не надо прятаться ни за кого.
Вера. Что я могла сделать? Как сказано было про травопольщиков, что их систему нельзя применять шаблонно, так и получили мы директиву из района: распахать клевер, весь до гектара, и на семена не оставлять.
Андрей. Что могла сделать? Лечь перед трактором! «Не пущу плуги на клеверные поля! Не позволю!»
Вера. Ох, какой героизм! Лечь под трактор!
Андрей. Можно было, конечно, под трактор и не ложиться. Но ты даже не возмущалась, когда рассказывала мне это. Другой агроном просто плакал, с ума бы сходил, что собственными руками сделал преступление! А ты — ничего. Рассказывала и смеялась: распахали, мол, а теперь, когда разобрались, что эти слова насчет шаблона не к нашей зоне относились — опять рекомендуют нам сеять клевер.
Вера. Чего еще недоставало, чтоб мне с ума сходить из-за клевера! Если все так переживать, как ты говоришь, так мне нервов и на пять лет жизни не хватит.
Андрей. Знаю, знаю, слышал уже: живи просто. Очень ты себя бережешь… Зачем же выбрала такую беспокойную профессию? Почему ты стала агрономом?
Вера. А я тоже, как и ты, люблю село. Я не горожанка и не очень гонюсь за всякими там театрами, музеями. У меня мать в Березниках живет, у нас там и дом свой. Если не переведут меня в тот колхоз, мы тот дом продадим, а здесь купим. Я очень люблю, когда во дворе есть сад, хозяйство. На городской квартире, где-то на седьмом этаже, я бы просто зачахла с тоски… А в общем, довольно меня допрашивать: почему я агроном, почему я так делаю, а не так. (Встала).
Андрей (удерживает ее). Обиделась?
Вера. Не любовь, а какая-то самокритика!
Андрей. Погоди, сядь.
Вера садится.
Поговорим еще… Больше всего мне хотелось, чтобы ты была согласна с моими мыслями, чтобы ты меня поняла!..
Вера (мягче). Ты — хороший, Андрей. (Положила руку ему на плечо.) Только ты немножко похож на тех старичков, что когда-то правду искали. А чего ее искать? Правда сама возьмет свое, пробьется, если она правда.
Андрей. Да? Сама возьмет свое?..
Вера. Нравлюсь я тебе?
Андрей. Чего бы я сидел здесь с тобою, если б я тебя не любил! (Обнял Веру.)
Вера. Какие у тебя сильные руки. Большие руки, как у кузнеца… (Поцеловала Андрея.) Тебе было бы со мною хорошо, да?.. Эх, Андрей, Андрей! Все я знаю, все понимаю, и меня жизнь уже кой-чему научила. С тобою жить — и дня не будешь спокойной. Не за себя, так за тебя будешь душою болеть. Да и не уживешься ты долго на одном месте. Такие не уживаются. Вот снимут тебя здесь с работы и погонят куда-нибудь на целину. А оттуда на Камчатку. А там еще куда-нибудь. А я не большая охотница до таких переездов… Боюсь я неудачников. Очень боюсь!
Андрей (отстранился). Это еще неизвестно, неудачник я или удачник.
Вера (помолчав). Значит, не принимаешь моего совета?
Андрей упрямо покрутил головой.
Не хочешь вот так на собрании сказать, что ошибся?.. Все не правы, один ты прав?.. Слово скажи — и отвяжутся от тебя… Не хочешь? Беды себе нажить хочешь? Очень жаль… (Встала). Ну что ж, пойдем… Только не верь ты, пожалуйста, этой болтовне Федьки Карасева, будто меня женихи избегают. Я не такая уж старуха. Не тороплюсь — как-нибудь, лишь бы выскочить замуж.
Андрей (встал). Мне, Вера, что-то расхотелось провожать тебя домой.
Вера. Да?..
Андрей. Ночь светлая, народ на улицах, собак не слышно — дойдешь одна благополучно. Идти недалеко… Напротив почты угловой дом под черепицей, окошко с переулка…
Вера. Даже не проводишь?
Андрей. Нет.
Вера отошла на несколько шагов
Вера!..
Вера (остановилась). Что?
Андрей. Нет, ничего… Иди.
Вера. Ну что ж… (Уходит.)
Андрей стоит один посреди улицы. Идут Степан Романович, Семен Ильич и Дарья Мироновна.
Семен Ильич. Ну вот и я на вашем празднике погулял!.. А ты, кума, небось уже подумала, что я в Семеновку на улицу к девчатам подался?
Дарья Мироновна. Так и подумала. Там в Семеновке девчата тебя ждут не дождутся. Как же! Такой кавалер!..
Степан Романович. Кавалер!.. Сел за кустом переобуться и заснул!
Семен Ильич. Заснул, да. Кабы шофер фарами туда не посветил, я бы и сейчас там спал… И машина моя там осталась, под кустом.
Степан Романович. Никто ее не украдет, твою машину. Завтра найдешь на том же месте.
Семен Ильич. А если и украдет, далеко не уедет на ней. (Увидел Андрея.) А, товарищ инженер! Наше вам!
Дарья Мироновна. Виделись уже в роще, который раз здороваешься.
Степан Романович (поглядел вслед уходящей Вере). Чего ж, Андрей Николаевич, девушку не провожаешь?
Семен Ильич. Да, да! Пошла одна домой. Нехорошо!..
Андрей. Пусть идет.
Степан Романович. Чего так строго?.. Должно быть, из-за того письма?
Андрей. Нет… Вам Соловьев показывал письмо?
Степан Романович. Рассказывал.
Андрей. Не все там правда, в том письме.
Дарья Мироновна. А что, Андрюша, говорят про вас, будто вы девушку с ребенком где-то бросили?
Семен Ильич. Кого что, а женщин больше всего это интересует!
Андрей. Никакого ребенка у меня нет, Дарья Мироновна! Это выдумки!
Дарья Мироновна. А девушка была?
Андрей. Девушка была…
Семен Ильич. А у кого их не было?
Дарья Мироновна. И где же та девушка осталась? Почему не поженились?
Андрей. Осталась в городе. Вышла замуж там.
Семен Ильич (поглядел в ту сторону, куда ушла Вера). Значит, это тебе уже со второй девушкой не повезло?
Андрей. Со второй…
Степан Романович. Ну ничего, может, с третьей повезет!
Семен Ильич. А вообще, Андрей Николаич, насчет удачной женитьбы — вот мы со Степаном люди старые, бывалые, — я тебе такой пример приведу, не при куме Дарье будь сказано. Возьми ты — что? (пошарил в карманах) — вот этот орех, расколи на две половинки и брось эти половинки — ну куда? — в Черное море, одну с нашего берега, а другую с турецкого, и ежели эти две половинки сплывутся на середине моря, вот это значит — удачно женился, счастливый брак!.. (Отдал половинки расколотого ореха Андрею.)
Андрей. Спасибо, утешили…
Дарья Мироновна. Ну ты, Семен Ильич, в самом деле, как скажешь! Человек в расстройстве, а ты еще печали ему придаешь! Не верьте ему, Андрюша! Много есть хороших девушек!
Семен Ильич. Все девушки хороши, а откуда злые жены берутся?..
Дарья Мироновна. Себя спрашивайте! Берете хороших, а почему плохими делаемся?
Степан Романович. Когда я на тебе женился, в тебе и трех с половиной пудов не было. С чего ж это ты так раздобрела? Муж виноват?
Дарья Мироновна. А, мужья! Вот — каков гусь, полюбуйтесь! (На Семена Ильича). Уехал один на праздник гулять, а жену дома бросил!
Семен Ильич. У меня, кума, сегодня выходной. Понятно? Вы-ход-ной! Могу, стало быть, выйти из дому и — куда глаза глядят!.. Ну пойдем, Степан Романыч, по домам. Надо и ангелам покой дать.
Дарья Мироновна. Каким таким еще ангелам?
Семен Ильич. Ну, знаешь же, по Священному писанию — у каждого человека есть свой ангел-телохранитель. И вот пока тот человек не спит, колобродит, и ангел ходит за ним следом, оберегает его от всякого греха…
Дарья Мироновна. То-то вы, смотрю, такие береженые, не грешные, прямо святые!
Семен Ильич. Да. А когда человек уснет, то, значит, и ангел-телохранитель ложится отдыхать.
Степан Романович. А у Андрея тоже ангел есть?
Семен Ильич. Андрей человек молодой, у него и ангел молодой. Пусть со своим ангелом еще погуляют!
Улицей идут Федор, баянист, парни, девушки. Музыка, песни.
Вон сколько их! Одна другой краше!..
Степан Романович (приосанился). Где наши двадцать лет!..
Дарья Мироновна. Ну вы, старые пеньки! Пошли, пошли! Вам тут нечего делать. Они (на девушек) лучше нас Андрюшу развеселят.
Степан Романович, Семен Ильич и Дарья Мироновна уходят. Девушки, парни окружают Андрея. «Пойдем с нами, Андрей Николаич!», «До старой мельницы пойдем!», «Эту ночь никому спать не дадим!», «Гулять так гулять — до утра!», «И день тракториста и ночь тракториста!», «Пойдем, инженер, догуливать!».
Федор (берет Андрея под руку, отводит в сторону, декламирует). «Эх, товарищ, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой!..» Чего ж она пошла одна?
Андрей. Не по пути нам.
Федор. Не по пути?..
Андрей. Боится, что на моем пути кочек будет много.
Федор. Вон что!.. Верно я подметил, Андрей Николаич: есть какой-то скрытый недостаток!
Андрей. Не пойду я сейчас с вами гулять, Федя. Не могу. Мне что-то совсем невесело.
Федор. Да не горюй ты! Не только свету, что в окне! Полюбуйся, сколько их! Глаза разбегаются! И вообще не смотри ты на это высшее образование, не избегай наших колхозных девушек, сам же колхозником был! Образование — дело наживное, подучится заочно и такая ж будет культурная, как и ты. А вот когда у нее вместо сердца кусок вареной свеклы…
Андрей. Не надо, не говори так.
Федор. «Ка-ак мно-ого-о де-евушек хоро-оших!..»
Андрей. Не так просто. Одну — потерял, другую — нашел…
Федор. Да ты что, всерьез?.. Хорошо, что вовремя ее раскусил! А то женись, а потом разводись! Так лучше, меньше волокиты!
Андрей. Брось, Федя, балагурить. Верно говорю — мне сейчас очень тяжело.
Федор отходит к своей притихшей компании, делает знак, чтобы удалялись.
Федор. Пойдемте. Человеку не до нас. Бывает такое.
Уходят, баянист тихо наигрывает. Андрей садится на лавочку. Через минуту к нему возвращается Федор, садится рядом, трогает Андрея за плечо.
Пусть идут без меня. Я уже нагулялся… А она там сидит, Андрей, за углом, возле парка… Одна.
Андрей сделал движение, будто хотел встать, но остался сидеть.
Андрей. Я, кажется, грубо с нею поступил…
Федор. Что? Обидел?.. Ну пойди, извинись.
Андрей. Нет… Она меня больнее обидела. Ничего не поняла!.. Говорит: неудачник я.
Федор. У меня, Андрей, тоже плохо вышло с девушкой. Вот смеюсь, смеюсь, а иной раз, как схватит за сердце тоска!.. Ну, у меня другое — сам виноват… Папиросы у тебя есть?
Андрей достает пачку, дает Федору, сам берет папиросу. Не закуривают.
Шурой зовут ее. Из нашего села. Сейчас в Ленинграде учится на врача. Договаривались, что будем ждать друг друга, пока она институт закончит. И дернул меня черт тут с одной вдовушкой!.. В город съездил с нею на областную выставку, два раза. Сообщили ей — полгода не пишет мне. Домой шлет письма, а мне — ни слова… Эх! Вот она какая, проклятая любовь! Полюбишь — сам не знаешь за что. Шурочка и не очень красивая, худенькая, росточком не вышла, но так она мне в душу запала! Умненькая, ласковая… А там, в институте, небось много ребят почище меня. Образованные! Чего я жду, на что надеюсь?.. Мне бы самому учиться поехать, да вот беда — не пошла наука. Два года сидел в седьмом, так в восьмой и не перелез. По математике совсем никаких способностей, одни двойки да колы носил. Поступить бы в какое-нибудь театральное училище в Ленинграде, где на артистов учат, — и там, говорят, на экзаменах за десятилетку спрашивают… А спички есть?
Андрей достает спички.
Не горюй, Андрюша! Давай закурим по одной!
Закурили, сидят молча, слушают баян и песню.
Занавес.
Действие третье
Те же декорации, что во второй картине — комната партбюро, но уже обжитая, все развешено, расставлено в порядке. Соловьев и Андрей то присаживаются к столу, то ходят по комнате, то останавливаются у раскрытого окна.
Соловьев. Ты еще совсем молодой коммунист. Нельзя, слушай, Андрей, так легкомысленно относиться к своему положению члена партии! Запачкать партбилет, заработать взыскание — это в самом начале жизненного пути! Партбилетом надо дорожить.
Андрей. Простите, Виктор Петрович, я что-то не совсем вас понимаю. Как я должен, по-вашему, дорожить партбилетом?.. Чтобы не запачкать партбилет, я должен, значит, на собрании выступить и сказать, что я не я и хата не моя? Вчера я думал так, но я ошибался, а сегодня я уже все пересмотрел, думаю совсем иначе. Так? То есть должен обмануть партийную организацию? Чему вы меня учите?..
Соловьев. Но ты же теперь небось прочитал решения об МТС? Те материалы, что я тебе дал? Вдумался в них? В самом деле, о чем в них говорится? О какой роли МТС? А «Экономические проблемы социализма» читал?
Зазвонил телефон на столе.
Андрей. То все было написано и сказано в свое время. Но жизнь движется вперед. Нельзя превращать в догмы то, что было сказано о вчерашнем дне.
Соловьев. Ну и нельзя также открыто осуждать те решения партии, которые пока что не отменены!
Андрей. Вот и вы уже так говорите: осуждать решения партии. Да ничего я не осуждал!..
Соловьев. Ну как же! Раз ты считаешь, что МТС не нужны, значит, этим самым ты ставишь под сомнение правильность самой идеи создания машинно-тракторных станций!.. Кажется, телефон звонил? (Снял трубку, послушал, положил трубку.)
Андрей. Все было правильно, Виктор Петрович, для своего времени. Что вы мне говорите! Я же в колхозе вырос, жил, все видел. Сам прицепщиком работал с одиннадцати лет. Было время — на МТС все держалось. Но теперь нам эта двойственность в руководстве колхозами уже сильно мешает. Колхозы-то уже выросли. Зачем кормить ребенка с рук, когда он сам умеет держать ложку!..
Соловьев. Конечно, МТС не является раз навсегда застывшей формой. Но почему ты убежден, что именно в этом направлении пойдет их перестройка? А может быть, начнем преобразовывать их в совхозы? Все-таки высшая, последовательно социалистическая форма — это совхоз! Завод на земле, сельскохозяйственный завод!
Андрей. Совхоз — это дело добровольное. Нужно согласие колхозников.
Соловьев. А мы в руководстве деревней никогда не полагались на самотек. Мы — организаторы. Выдвигаем идею и мобилизуем массы, боремся за ее претворение в жизнь!.. Нет, все же надо бы признать, что ошибся, не разобрался, наболтал лишнего и это послужит тебе уроком на будущее: не заниматься отсебятиной в таких серьезных вопросах, в каких ты еще слабо подкован и теоретически и практически.
Андрей (вздохнув). Отсебятина… А есть еще слово — инициатива…
Опять зазвонил телефон. Соловьев не берет трубку.
Соловьев. Инициатива?.. Ну, не всякая инициатива нам на пользу.
Андрей. Ленин говорил, что нам надо научить каждую кухарку управлять государством… Виктор Петрович! Может быть, и на совхозы дело повернет, может, еще иначе как-либо решится. Но я могу свои предложения высказать? Неужели у Ленина про кухарку — это только художественный образ?..
Соловьев. Нет, конечно, не только образ.
Андрей. А как же мне их высказать, свои предложения?.. Я бы написал статью, послал в газету, но ведь не напечатают. И там скажут так же: пересмотр старых решений.
Соловьев. Не знаю. Напиши, пошли… Значит, упорствуешь? Хочешь, чтобы осложнилось дело? (Помолчав.) Я же не могу просто порвать это заявление!
Андрей. А я этого и не прошу.
Соловьев. Понимаешь, Андрей, как все складывается… Если ничего тебе не записать, представляешь, какая заварится каша! Этот же Лошаков будет писать в райком, в обком, в ЦК! Тогда уж он не одного меня обвинит в попустительстве и либерализме, а всю парторганизацию! Нам придется возвращаться к твоему делу еще сто раз!.. (Садится за стол, перебирает бумаги.)
Андрей. Виктор Петрович! Меня ждут в мастерской. Там привезли с завода станки с каким-то браком. Надо составить акт. Я могу идти?
Соловьев. Иди. В шесть часов — партсобрание.
Андрей уходит.
(Один, задумчиво.) Чему вы, говорит, меня учите?..
На минуту гаснет свет.
Те же декорации. Партсобрание. За столом, на диване, на стульях у стены сидят: Соловьев, Шубин, Степан Романович, Татьяна Ивановна, Лошаков, еще человек шесть-семь коммунистов. Андрей стоит у окна.
Андрей (продолжает давать объяснение). Насчет института я уже рассказывал Виктору Петровичу. Да, исключали меня. В пятьдесят третьем году. Я тогда учился на втором курсе. Меня послали на практику в Касиновский район. Там мне пришлось поработать и в колхозах и в МТС. Ну, вы знаете Касиновский район, сколько лет он был отстающим. Очень тяжелое положение было там в колхозах. На трудодни давали граммы, копейки, трактористы разбегались, на уборке работали одни мобилизованные, колхозники сидели дома. Вернулся я в институт и в своем отчете показал все, как оно было. Это не относилось к теме моей работы, но я описал подробно, что видел там в колхозах. Думаю, может, по моей записке все же примут какие-то меры. Ну вот тогда меня и исключили из института — за клевету на нашу колхозную действительность. Комсомольская организация меня поддерживала, но дирекция — ни в какую! «Что он врет, где он видел в наших колхозах такие страсти-мордасти?» Ровно десять дней не ходил я на лекции. Учебный год начался первого сентября, а седьмого открылся Пленум ЦК, сентябрьский Пленум. А на том Пленуме тогда было все сказано откровенно о положении в сельском хозяйстве: и насколько сократилось поголовье скота, и что с зерном у нас плохо, и что убита материальная заинтересованность колхозников. Я как прочитал газету, сейчас же побежал в институт. Ну а там товарищи тоже уже поняли, что перегнули палку. Через два дня директор отменил приказ о моем исключении, и я стал опять учиться.
Шубин. Так, ясно…
Андрей. Можете написать в институт, проверить.
Татьяна Ивановна. А что у вас, товарищ Глебов, было в Каменевской МТС?
Андрей. Так. В Каменевской МТС. Там у меня было другое. Туда я ездил уже с четвертого курса. Тоже на уборку. Ну, там меня использовали не как специалиста, а просто прикрепили уполномоченным к комбайну. Убирали мы сортовой участок, семена. И вот налетел один толкач из района. Завтра пятидневная сводка, ночью надо как можно больше зерна отправить на элеватор — заставляет колхозников везти эту сортовую пшеницу. Два года колхоз выводил свои семена, сорт признали очень хорошим, высокоурожайным, и — гони его на элеватор, сыпь в общую кучу! Я не дал. «Вы, говорю, уполномоченный, и я здесь тоже уполномоченный, и не позволю такими глупостями заниматься!» А тут и агроном разволновался, подъехал председатель, тоже набрался храбрости. В общем, не дали мы ту сортовую пшеницу пустить в хлебозаготовку. Ночью нам подбросили еще один комбайн, переключили всё на другие участки и оттуда возили зерно на элеватор. Не знаю, что потом этот человек рассказал обо мне в районе. В письме написано, что мне там строгий выговор объявили. Это неправда. Никакого выговора не было, но дали мне такую характеристику с практики, что хоть не появляйся с нею в институте. Волчий билет. Я пошел в обком. Несколько раз ходил, потом меня принял секретарь обкома. Я рассказал ему все, как было. Он звонил в Каменевку, а те ничем не могут подтвердить характеристику. Не дал вывезти сортовые семена — только всего. Он страшно возмутился, порвал ее на моих глазах, ругался. В общем, дня через три я получил по почте совсем другую характеристику. Вот что было в Каменевской МТС.
Молчание.
Шубин. А все-таки ты, Андрей Николаич, скрыл это, не написал в автобиографии, когда поступал к нам.
Андрей пожимает плечами.
А, впрочем, чего ж писать, самому на себя пятно класть, поскольку все это другим концом обернулось? (Оглядывает собрание). А?..
Андрей. И я так подумал. Ведь отменено же все.
Степан Романович. А расскажи, товарищ Глебов, кто это написал на тебя анонимку из Каменевского района? Что за приятель такой?
Андрей. Я не могу точно утверждать, что именно он, но догадываюсь. Больше некому. Был такой парень, вместе с ним учились, сейчас он в Каменевской МТС работает, на такой же должности, как и я здесь. Вот он прочитал в областной газете статью товарища Лошакова, узнал мой адрес, видит, что у меня тут большие неприятности, решил еще добавить… Что за человек? Очень грязный человек. Получал повышенную стипендию по подложным справкам, живого отца сделал покойником по документам. Брал у наших студенток деньги и не отдавал. Одну зиму я жил с ним в общежитии в одной комнате. Дня не проходило, чтоб не поругались. Только и разговору было: деньги, деньги, деньги. Кто как устроился, кто выгодно женился, кто сколько зарабатывает.
Шубин. Это вы с ним девушку не поделили?
Андрей. С ним. Но за девушку он никак не может на меня обижаться. Она же не вышла за меня… О ребенке еще раз говорю: не бросал я нигде никаких детей. Это уж он просто из пальца высосал. Решил — гадить так гадить. Я дам адрес этой девушки, напишите ей. Она уже замужем. Не я виноват, что она не захотела со мной регистрироваться, не поехала в село. Она хоть и немножко такая, легкомысленная, но совесть у нее есть, напишет вам правду, врать не будет.
Пауза. Андрей сел.
Коммунист. Да… Такие-то дела…
Лошаков (поднимает руку). Разрешите, товарищ Соловьев? (Встает.) Для меня это все новость — письмо, исключение из института, брошенные дети. Меня перед собранием никто об этом не информировал. Пусть не все было так, как объяснил нам сейчас товарищ Глебов, но в данный момент нам не представляется возможность проверить его утверждения. Это нужно было раньше сделать, товарищ Соловьев, такую проверочку! Написать в институт, в Каменевскую МТС, той девушке или женщине, о которой здесь говорилось, а потом уж выносить все на широкое обсуждение. Ну ладно, оставим это пока. Меня удивляет, почему товарищ Глебов ни слова не сказал о самом главном?
Андрей. А что самое главное?
Лошаков (развернув газету, указывает на свою статью). Вот. Ваша агитация против МТС. Об этом пишет областная газета. Не обращайте внимания на подпись. Тут могла бы стоять подпись и не «Лошаков», а, скажем, «Сидоров» или «Иванов». Пока статья или заметка только написана, она является личным достоянием автора, выражает только его личное мнение. Но с той минуты, как она напечатана в газете, это уже слово органа областного комитета партии. Что вы на это ответите?
Коммунист. Да что ему об этом говорить! Он написал объяснение, мы его все читали, и вашу статью, товарищ Лошаков, мы читали. Что двадцать раз об одном и том же! Давайте прямо обсуждать!
Лошаков. Правильно. Давайте обсуждать. (Сел.)
Соловьев. Кто хочет взять слово?
Длинная, очень длинная пауза. Кто-то закашлялся, кто-то вытащил папиросы, ищет по карманам спички, кто-то пересел с места на место, кто-то налил в стакан воды из графина, но не пьет.
Кому дать слово?.. Никто не хочет?.. Так что, перерыв, что ли, объявить?..
Степан Романович. Можно, Виктор Петрович? (Встает.) Я хочу сказать о нашем главном инженере, о товарище Глебове… Я на тракторах работаю уже двадцать пятый год, ну, если фронт откинуть, три года, значит, двадцать второй. Не могу сказать, чтобы мне, как старому практику, очень уж помогал наш главный инженер.
Коммунист с удивлением взглянул на Степана Романовича, громко крякнул.
Да, да! Такого не было, чтоб какая-то там техническая причина, и вот товарищ Глебов пришел, указал мне на мою ошибку, и я понял, что вот этого я, старый тракторист, до сих пор не знал. Как он учился в институте, силен ли он по теории, не знаю, но практики у него маловато. Был даже случай, когда они с Михаилом Кравченко полдня с новым дизелем возились, не могли его запустить, а я видел, в чем там дело, но не могу же я подрывать авторитет главного инженера перед трактористами. Я отвел его в сторонку и шепнул: загляни вон туда. И он пошел, сделал это, и сразу запустили мотор. Как инженер, он еще, конечно, слабоват… Ну ладно, что ж. Раз прислали нам молодого инженера, будем работать с молодым. Но я вот скажу, как товарищ Глебов к делу относится. Очень хорошо относится! И к делу своему и к людям. Были мы на ремонте — не вылезал из мастерской, вместе с нами с начала и до конца. Не из тех начальников, что даст команду и пошел или что боятся руки об грязное железо запачкать. Опять же, придет на поле — и в вагончике с нами заночует, а не то и под копной, и книжку ребятам прочитает, и поговорит с ними, пошутит. Душевный парень, простой. И еще скажу. Вот я пожилой человек, он мой начальник. Ни разу мне не «тыкнул», всегда: Степан Романович, вы. Это тоже приятно — вот такое отношение. Не зазнается. В общем, мое мнение: главный инженер у нас на месте, свою должность оправдывает. (Сел.)
Коммунист. Разрешите, товарищ Соловьев? (Встает.) Что ты, Степан Романович, тут сморозил: главный инженер он не очень знающий, слабый инженер. Да ведь он всего год как из института! Разве большие специалисты так сразу ими и родятся? А ты сам сразу, что ли, стал таким передовым бригадиром? Не вместе ли мы с тобой на курсах учились? Не варил ты в радиаторе картошку? Помнишь, как я тебя застукал на этом деле, а ты говоришь: «Ну что ж такого, не пропаду, туда керосин не проходит». Изучил уже технику, узнал, что в радиатор керосин не попадает! Да не о тебе, говорю, печаль, твоему луженому брюху, может, и от керосина ничего не станется, так соты, трубочки забьет картошкой разваренной! Так же и я всякие штуки откалывал. Однажды так подтянул подшипники, что как дал хорошие обороты, так сразу все четыре шатунных и сгорели!.. Специалисты были! А сейчас вот уже ничего, кой-чего смыслим… Неопытность, молодость, Степан Романович, — это не грех. Этого недостатка в человеке с каждым днем убывает. (Сел.)
Степан Романович. Да ты меня не понял, Кузьма Филиппыч! Я не говорю: плохой он инженер, я говорю: опыта нет.
Коммунист. А! Это дело наживное!
Степан Романович. Ну, конечно, наживное! И я ж тебе об этом толкую!..
Соловьев (стучит карандашом по столу). Ясно!.. Кто еще хочет сказать?.. Прошу все-таки говорить по существу вопроса: о статье товарища Лошакова. В статье обвиняются два человека: товарищ Глебов — в агитации против МТС и я — в попустительстве. Так вы уж о нас обоих и говорите.
Шубин. Разреши, Виктор Петрович. (Встает.) Я тоже не против молодых специалистов. Каждый старый человек был в свое время молодым, каждый молодой станет стариком. Конечно, много у нас всяких ненормальностей. Колхозы на нас обижаются, что мы не болеем об урожае и гонимся зачастую только за голыми гектарами, за выработкой. Что ж, обижаются, надо сказать, правильно. Но опять же, с этим вопросом надо разобраться! Не от хорошей жизни мы гектары нагоняли, планирование было такое!.. Я шестнадцатый год работаю директором МТС. Здесь я недавно, но общие порядки знаю. И у вас было то же самое.
Голоса: «Было, было!», «И сейчас еще есть!», «Никак те порядки не изживем!».
Очень много неувязок и в самой нашей системе, и в наших взаимоотношениях с колхозами. И дело так дальше не пойдет, если мы…
Соловьев (постукивает карандашом). Павел Арефьич! Ты говори о Глебове.
Шубин. А что я могу сказать о Глебове? Человек и года еще не работает. Но вижу — берется за дело неплохо, старается. У меня, как директора, никаких претензий к нему нет. Есть кое-что, но об этом мы с ним в рабочем порядке поговорим. (Сел.)
Лошаков. Товарищи умышленно уходят от существа дела! И Глебов молчит!
Второй коммунист. Это верно вы сказали, Павел Арефьич: Глебов и года у нас еще не работает. И вообще — человек молодой. Не он это все строил. Потому так легко и рассуждает: мэтэесы не нужны! А я здесь с первого дня! Один дом стоял кулацкий — контора, да два станочка в сарае вертелось. А теперь — вон какое хозяйство! Тут нашего пота пролито!..
Степан Романович. Ну что ж, Макарыч, и я — с первого дня. Но если видим мы, что…
Соловьев. Просите слова!
Лошаков. Вопрос ставится ребром: говорили вы, товарищ Глебов, что трактора надо продать колхозам?
Андрей. Говорил.
Лошаков. И как вы сами это расцениваете?
Татьяна Ивановна (начинает возмущаться). Прямо как на суде: «Признаете себя виновным?..»
Андрей (встал). Нет, не признаю… Я только в том виноват, что позволил себе думать о вещах, которые не входят в мои обязанности, как главного инженера. Мне надо бы думать только о запчастях, горючем, ремонте, а я осмелился подумать и о завтрашнем дне нашей деревни. Если это можно назвать моей виной, называйте… Но я все-таки иначе смотрю на вещи. У нас еще много непорядков. Надо всем нам об этом думать — как быстрее двинуть вперед сельское хозяйство!.. Я маленький человек, рядовой коммунист, к тому же молодой коммунист. Но я отвечаю за будущее своей родины, за все, что мы делаем и что должны сделать, не меньше больших руководителей.
Лошаков. Что-о? Договорился! (К собранию.) Слышали? Какое зазнайство! Он отвечает за сельское хозяйство не меньше министра! Вот куда вас потянуло — на министерское кресло!
Соловьев (разозлился). Глебов правильно сказал, товарищ Лошаков, не передергивайте! У нас каждый, самый маленький человек — строитель коммунизма. При чем тут кресло?..
Шубин. Все бы вот так сознавали ответственность: не по должности, а по совести!..
Третий коммунист. Можно мне, товарищ Соловьев? (Встал.) Чтоб товарищ Лошаков не говорил, что мы уклоняемся… Вот я тоже бригадир тракторной бригады, как и Степан Романыч. На своей шкуре, можно сказать, все испытал. Пока директор мэтэес с председателем колхоза в ладу живут — и нам все же легче работать. А вдруг что-нибудь повздорили, черная кошка между ними пробежала — ну тогда пошло! Директор приезжает, приказывает мне: «Делай то-то!» Председатель налетит: «Ваш директор ничего не понимает — делай то-то!» Один: «Запрягай!», другой: «Выпрягай!» Я на службе в мэтэес, мог бы председателя и послать подальше, так у меня семейство в колхозе. Не потрафлю ему — сена не даст, корова без корму подохнет, лошади не даст на базар съездить. Так и крутишься между мэтэесом и колхозом, как тот наш разъездной механик Сенька Хваткин, у которого две жены было: одна в Любимовке, а другая в Теткином.
Коммунист. Правильно говорит!
Третий коммунист. Я согласен с товарищем Глебовым. Пора все это дело в одни руки передавать. Как, в чьи руки — не знаю, но в одни. Либо, чтоб директор был хозяином над всем, либо машины отдать колхозам. А вопрос о товарище Глебове я предлагаю вообще закрыть. Никаких решений не выносить. Вроде как и не было этой статейки. (Сел.)
Соловьев. Как же не было, когда есть она!..
Лошаков. Какие смелые заявления: «Я согласен!», «Надо передать в одни руки!». Да кто у вас вообще спрашивает, с кем и с чем вы согласны? Что за дискуссия здесь такая открылась? Кто вам разрешил ее проводить?..
Шум: «Эк, куда гнет!», «Что за человек!», «Никому слова сказать не дает!».
Андрей. Мне, товарищи, нетрудно было бы сейчас сказать здесь, что я, перечитав старые решения об МТС, убедился, что говорил тогда в бригаде у Степана Романовича глупости и теперь от тех слов отказываюсь. Мне и в институте тогда говорили: пойди к директору, возьми назад свою записку, скажи, что ошибся, не разобрался. Язык без костей, повернется куда хочешь. Все признать можно… Но трудно мне будет потом жить!.. Не хотелось бы мне смолоду учиться врать. Это, знаете, как на болоте: идешь и бережешься, пока не набрал в сапоги через голенища. А как набрал — тогда пошел по грязи смело, хоть по пояс.
Коммунист. Я думаю, товарищи, на такого человека больше надежи, который твердо стоит на своем.
Второй коммунист. Смотря на чем стоит! В чем упорствует!
Третий коммунист. Товарищ Глебов стоит на том, что старые решения о машинно-тракторных станциях вроде как бы отживают. И мы все это чувствуем. А какие новые будут решения — не знаем. Но слово свое об этом сказать можем.
Молодой коммунист. А мне можно, Виктор Петрович?
Соловьев. Почему же нельзя.
Молодой коммунист. Так я кандидат.
Соловьев. Можно, можно, давай.
Молодой коммунист (встал). Я хочу рассказать, почему я подал заявление в партию. Там у нас есть в бригаде ребята, говорят: «Ты что, Егор, начальником большим хочешь стать?» Нет, в начальство я не лезу, не для того вступал. Мне нравится на тракторе работать, я с этой работы — никуда. А для того я вступал, чтоб не ходить посторонним человеком по-за окнами, когда вот тут соберутся коммунисты и решают что-то об нашей жизни. От того, как партия поведет дело, вся наша жизнь зависит. И я хочу тоже — во все вникать, за все отвечать… Я не бригадир, но как стал кандидатом партии, что случится у нас в бригаде нехорошее — мне уже совестно перед людьми. Я же теперь коммунист, как я допустил, не помог бригадиру, товарищам?.. Вот это все, что говорил здесь товарищ Глебов, это мне — очень по душе. Ни на какое министерское кресло он не лезет, и я туда не лезу, но если мы что-то дельное говорим — хочется, чтобы к нам прислушивались… А вам, Виктор Петрович, надо бы как-то покрепче выразиться… не то говорю… ну, в общем, надо как-то яснее свою точку высказать. За кого вы — за товарища Глебова или за товарища Лошакова? Вы же секретарь, воспитываете нас, молодых коммунистов. (Сел.)
Соловьев. За Лошакова? Нет, я не за Лошакова. Такие… с толку нас сбивают! Когда он заходит сюда, в этот кабинет, я чувствую, как у меня голова чугунеет, и по нервам бьет, как током… Я перед собранием советовал Глебову отказаться от своих слов. Переубедить его не сумел, не смог, а требовал, чтоб он покривил душой. Сделай, мол, вид, что все понял. Плохому учил. Жалеючи его… Забудь, Андрей, о том разговоре! (К секретарю собрания.) Товарищ Плотников! Можешь записать в протокол: я не считаю поведение товарища Глебова антипартийным.
Коммунист. Вот, давно бы так!
Андрей. Я должен еще заявить партийной организации, что все свои мысли о наших отношениях с колхозами, все, что слышал от людей и что сам видел, я не буду таить про себя. Я напишу большое письмо, с фактами, с цифрами, возьму из колхозов материалы и пошлю это письмо в Центральный Комитет. (Сел.)
Лошаков. Сказал! В Центральный Комитет пошлет! ЦК без вас не знает, что ему делать? Там люди сидят и ждут, прямо изнывают от нетерпения: когда же товарищ Глебов пришлет нам свои руководящие указания!..
Татьяна Ивановна (вскочила). Ох, какой вы страшный человек, товарищ Лошаков!.. Товарищ Соловьев! Разрешите?.. Простите, я волнуюсь…
Шубин налил ей стакан воды, подал, она отпила глоток.
Я хочу рассказать о товарище Лошакове, один штришок из его личной жизни…
Второй коммунист. Мы не обсуждаем сейчас товарища Лошакова.
Третий коммунист. А зря не обсуждаем! Может, надо бы обсудить?..
Татьяна Ивановна. Когда у него умерла жена — это было в пятьдесят пятом году, он тогда работал секретарем, — прошло несколько месяцев, я замечаю, что он начинает ухаживать за мной. То до квартиры проводит вечером, то билет в кино предложит. Дальше, больше — чувствую, что он скоро сделает мне предложение. И вдруг узнаю, что он ходил в эмвэдэ справляться, нет ли там каких-нибудь материалов на меня. Что ж это такое? Он коммунист, я коммунистка, он хочет жениться на мне и не может прямо спросить: кто были мои родители, жила ли я на оккупированной территории, нет ли у меня родственников за границей. Да я бы все ему сказала сама, зачем же ходить туда?.. Ах, какие люди бывают, какие люди!.. (Села).
Лошаков (к Соловьеву). Ответить? (Встает.) Что ж, товарищи, я действительно хотел провести такое мероприятие — жениться на Татьяне Ивановне. Но я знал ее всего каких-нибудь полгода, по совместной работе в МТС, и только. А как она жила раньше, что она вообще из себя представляет — это мне было неизвестно. Вполне естественно, что я пошел к авторитетным товарищам выяснить некоторые вопросы, посоветоваться. Вы тогда совершенно напрасно обиделись на меня, Татьяна Ивановна. Сказано: доверяй, но проверяй! (Сел.)
Татьяна Ивановна. Я не обиделась на вас. Я послала вас к черту!
Под окном знакомые звуки — дребезжание велосипеда почтальона. Семен Ильич заглядывает в окно.
Семен Ильич. Товарищи, можно беспартийному зайти на минутку?
Второй коммунист. У нас собрание.
Семен Ильич. Я знаю, читал здесь утром объявление. Я на одну минутку. Очень важное дело! (Исчезает, через минуту входит в дверь. Без сумки, несколько газет в руках.) Вот у нас на почте только что получили газеты. Это мне завтра надо развозить, но я, как прочитал, вижу, кажись, то самое, что вы обсуждаете на собрании. Об Андрее Николаиче решаете? Ну вот, прочитайте, тут как раз об этом сказано.
Газеты расходятся по рукам, все встают, читают в одиночку и группами. Семен Ильич указывает пальцем отчеркнутые места. Слышны только короткие замечания: «Так!», «Вот это самое!», «Так-так!», «Здорово!». Лошаков закашлялся.
Коммунист. Что, товарищ Лошаков?
Лошаков. Ничего.
Степан Романович. Читай, читай, товарищ Лошаков!
Лошаков. Что?
Степан Романович. Да вот, что держишь в руках. Вслух читай!
Лошаков (читает). «Районным работникам надо заботливо воспитывать людей, работать с ними. У нас иной раз встречаются на посту председателей колхозов люди…»
Шубин. Не то читаешь.
Коммунист. Я прочитаю, послушайте. (Читает отдельные места). «МТС перестали играть ту политическую роль, которую они играли на первом этапе колхозного строительства…», «Не лучше ли машины продать колхозам, пусть они сами используют технику в интересах хозяйства…», «Эти вопросы Центральный Комитет и Совет Министров тщательно изучают…». Что скажешь, товарищ Лошаков?
Лошаков. Ничего. Я читаю… Ну да, конечно, вот слушайте. (Читает.) «Машинно-тракторные станции сыграли историческую роль в утверждении новой, социалистической системы хозяйства в деревне…», «МТС помогли колхозам окрепнуть в организационно-хозяйственном отношении…». Ну ясно! На определенном историческом этапе нужна была такая форма, а сейчас изменившаяся обстановка требует принятия других решений.
Степан Романович. Но ты-то что говорил?!
Лошаков. Да вот и говорю: тогда была такая форма, а теперь — другая.
Третий коммунист. Ну как его назвать?.. Что это такое? Как это называется?..
Соловьев (хлопает ладонью по газете, лежащей на столе). Черт побери! Век живи, век учись!.. (И опять углубляется в чтение).
Семен Ильич. Ну что, хороша газета? Вовремя доставил?
Степан Романович. Вовремя! Молодец, кум!
Андрей молча читает газету, отойдя с нею к окну.
Второй коммунист. Так у нас что, перерыв или совсем закрыли собрание?
Лошаков. Товарищи! Я вношу предложение об изменении повестки дня! Давайте зачитаем полностью этот исторический документ и примем его к неуклонному исполнению.
Третий коммунист. Так это пока еще проект.
Лошаков. Проекты даются не для обсуждения, а для выполнения!
Коммунист. Зарапортовался!..
Шум. Каждый по-своему переживает происшедшее.
Лошаков. Товарищи! Что за шум? Как вы себя ведете? Вы где находитесь, на собрании или на базаре?.. Так что вы со своим письмом в ЦК опоздали, товарищ Глебов! Видите, и без вас там обошлись. Вы, конечно, оказались, в общем, на высоте, но ценность ваших предложений возросла бы во много раз, если бы вы выступили с ними года два назад. (Заходит за стол, стучит об графин стеклянной пробкой.) Товарищи! Поскольку мы имеем сейчас на руках этот важнейший документ, близко касающийся нас, работников МТС, мы обязаны…
Соловьев отбирает у Лошакова пробку, затыкает ею графин, легонько, плечом, выталкивает его из-за стола. Шум.
Занавес.
Околица. Дорога из МТС в село. Берег реки. Скамейка у автобусной остановки. Лунная ночь.
Андрей и Вера встретились на дороге. Долгий поцелуй.
Вера (вырвалась из объятий Андрея). Ух!.. Воздуху не хватило! Ну и поцелуй! Как затяжной прыжок на парашюте.
Андрей (засмеялся). А ты прыгала с парашютом?
Вера. Нет. Видела, как наши студентки прыгали, когда учились в институте. Ну тебя! Чуть не задушил! Что-то хрустнуло здесь. (Щупает.) Не ключицу ли сломал?.. Нет, целая. Медведь! Вот за это тебя девушки и не любят, что ты кости им ломаешь.
Андрей. Не любят?..
Вера. Любят, любят!.. (Прижалась к Андрею.) Хороший ты мой!.. Мой?
Андрей, не отвечая, опять обнял ее.
Ой-ой-ой! Ты лучше словами скажи.
Андрей. Ты куда шла?
Вера. Так. Гуляла.
Андрей. За селом? Одна?..
Вера. А с кем же?.. Куда шла? Тебя встретить. Я была у подруги. Увидела из окна, что в конторе МТС свет погас — значит, кончилось у вас собрание. И ты этой дорожкой пойдешь домой… А ты, если бы не встретились, куда бы вот отсюда пошел сейчас? (Показывает.) Туда или туда?
Андрей (чуть поколебался, показал). Туда.
Вера. Домой?.. И не зашел бы к Аннушке узнать обо мне? Может, я приехала из колхоза, может, у нее сижу, жду тебя?..
Андрей. Честно сказать?.. Нет, сегодня бы не зашел к Аннушке… Может, после, потом…
Вера (чуть отодвинулась от Андрея). Не пойму я, Андрей, любишь ты меня или — только так…
Андрей. Люблю.
Вера. Любишь и не можешь мне простить?
Андрей. Мне нечего тебе прощать, Вера.
Вера. Тогда я что-то совсем тебя не пойму.
Большая пауза.
Я очень переживала за тебя.
Андрей. Да?.. (Осененный радостной догадкой.) Погоди! Но ты же еще не знаешь, чем кончилось собрание?
Вера. Не знаю.
Андрей. И все же пришла?
Вера. Пришла.
Андрей. Ох, Верка, молодец! (Обнял ее). Молодец!.. Пришла!.. Но почему ты такая… спокойная?.. Ведь меня исключили из партии.
Вера. Неправда, не пугай меня. За такое не исключают. Ну, выговор, может, записали или строгий. И все равно ничего тебе не будет! Завтра все отменят!
Андрей. Почему так думаешь?
Вера. Вот. (Подала Андрею свернутую в трубку газету.) Ты прав оказался, Андрей!
Андрей (развернул газету). А… (Увял.) Мы уже читали это. Там.
Вера. Как? Аннушка мне сказала, что эти газеты завтра разнесут. Она же на почте работает. Я только пришла к ней, и она прибежала домой с этой газетой… А я думала, что только мы с Аннушкой об этом знаем!..
Андрей. Еще днем прочитала?
Вера. Ну да. Часов в шесть.
Андрей. Как раз в шесть у нас началось собрание…
Вера. Я как прочитала, хотела прямо бежать к тебе в МТС!
Андрей. Чего ж не побежала?
Вера. Но меня бы не пустили на собрание, я же беспартийная.
Андрей. А Семена Ильича пустили…
Вера. А, вон кто вам ее принес!.. Ну и как он — успел?
Андрей. Успел. Еще никто никаких решений не предлагал…
Вера. Зачем же обманывать — исключи-или! Так я тебе и поверила! Я тебя услышала, когда ты еще вон за теми деревьями шел. Ты шел и насвистывал что-то веселое. Если б исключили — не насвистывал бы!
Большая пауза.
Ну что ты замолчал?.. А ночь еще светлее, чем тогда была. Когда мы с тобой гуляли последний раз. Луна больше стала. Видишь, вон под тем берегом далеко-далеко маленький огонек сверкнул? У самой воды. Что это такое? Погас.
Андрей пожал плечами.
Вероятно, рыбак сидит. Закуривал. Или на лодке кто-то катается. Вот бы сейчас на лодке покататься! А у Аннушкиного отца есть лодка, он рыбак. Я знаю, где они лодку прячут. Вон в тех камышах. Можно взять у Аннушки ключ… Чего замолчал? Вот ты какой! Значит, тебе нужны сочувствующие только когда тебе худо? А когда у тебя праздник, радость — никто не нужен, ни с кем не хочешь своею радостью делиться?.. Мне эти дни было очень плохо, Андрей, тоскливо. Как мы тогда глупо расстались! Вероятно, и я сказала тебе что-то не то. Прости! (Взяла Андрея за руку.) Я тебя тогда еще час ждала за углом, и ты не пришел. Ты, оказывается, злой!.. Ну не молчи! Расскажи, что было на собрании.
Андрей. Что там было… Что могло быть после газеты? Мне — ничего.
Вера. А Лошаков? Как он там крутился? Вероятно, смешно было?
Андрей. Да, смешно…
Вера. Победитель!.. Как все хорошо кончилось, Андрюша! Я так рада за тебя! Говорила я тебе: правда свое возьмет!
Андрей. Говорила… Трудно мне сейчас рассказывать о собрании, Вера.
Вера. Ну о чем-нибудь другом расскажи… Перебрался на другую квартиру?
Андрей. Да.
Вера. Рядом со старой, в том доме, что показывал мне?
Андрей. Да.
Вера. Лучше на новой квартире?
Андрей. Лучше.
Вера. Хозяева — хорошие люди?
Андрей. Хорошие.
Пауза.
Вера. Ты не хочешь со мною разговаривать. Я уйду. (Встала).
Андрей (удерживает ее). Нет, посиди.
Вера (садится). Так и будем сидеть? «Я нашла себе милого, он молчит, и я ни слова…» Нет, верно, Андрей, ты какой-то себялюб. Только своими мыслями и занят, все о себе думаешь, о своем… Ты меня не любишь и не любил. Просто я немножко приглянулась тебе.
Андрей. Нет, не немножко…
Вера. Раз ты все что-то взвешиваешь, оцениваешь, значит, не любишь. Любовь, говорят, слепа, не рассуждает… Если заметил у девушки в характере что-то плохое, значит, надо оттолкнуть ее от себя? Уходи, я — хороший, ты — плохая, не хочу с тобой знаться! Так? Конечно, это эгоизм!.. Я, может, не такая умная, как ты, чего-то недопонимаю. Ну что ж, перевоспитывай. В Китае вон даже капиталистов перевоспитывают.
Андрей. Ты испугалась, что тебе со мной будет трудная жизнь.
Вера. А, ты все о том же… Я попросила у тебя прощения за тот вечер, чего тебе еще надо. Девушка просит у тебя прощения.
Андрей. За что прощения просишь, Вера? Ты не на ногу мне наступила… (Взял Веру за руку.) А может, это все зря? Зачем мы здесь сидим с тобою? Ничто ведь не изменится. Я таким и останусь, какой есть.
Вера. Все течет, все изменяется. И люди меняются… Был один — ничего не боялся, рисковал. А будем вместе — семья, ответственность…
Андрей. Вон что!.. Нет, на это, Вера, не надейся. Нет, не надейся!..
Вера отняла руку. Большая пауза.
Я вот расскажу тебе одну человеческую историю. Послушай… Была у нас в институте преподаватель физики Надежда Николаевна Кириллова. Ее муж, летчик, отправился в тридцать шестом году добровольцем в Испанию. Там его самолет сбили. Воевал в пехоте, до конца. Ну, чем кончилось в Испании, ты знаешь. Франция дала убежище тем добровольцам, кто остался в живых. Только называлось — убежище, на самом деле — тюрьма, каторга. Попал он в Африку, в Алжир, на рудники. Потом работал во Франции на заводах. Потом — война, оккупация. Забрали его немцы в лагерь. Из лагеря он бежал, добрался до горных районов, встретил французских партизан. Они приняли его в отряд. Пришли американцы, других, кто был с ним, распустили по домам, его, как русского, — в лагерь. И война кончилась, а он еще три года сидел за проволокой в американских лагерях. Вот жизнь у человека! Тринадцать лет не видела его Надежда Николаевна. За все время три письма она получила от него — каким-то чудом дошли. В письмах он ей одно писал: я на чужой земле, но родине своей не изменил, ты знаешь меня, каким я был, верь, что я и сейчас такой. И она верила. Могла бы отречься. Не знаю, мол, что он там делает за границей, может, в иностранное подданство уже перешел. Не хочу быть связанной с подозрительным человеком, жизнь себе портить из-за него. Ее ведь и с преподавательской работы снимали, за мужа. Нет, верила и ждала. Когда передали его американцы нашим пограничникам — что ж, опять взяли его в лагерь, для проверки. Голый человек, на лбу ничего не написано, говорит, что был там-то и там-то, доказательств никаких. А может, власовец? Или завербованный? И вот оттуда же, в сорок девятом, сообщили Надежде Николаевне, где находится ее муж. Поехала к нему. Он дал ей имена, кого мог вспомнить, кто был с ним в Испании и в лагерях. Одни имена, без адреса. Помнил только, из какого города тот человек, из Амстердама или из Марселя. Она немножко знала со школы французский и английский, еще подучила. Писала письма и посылала в разные страны. Ездила в приморские города, просила моряков, которые уходили в дальнее плавание: вот вы будете стоять в таком-то порту — сходите в адресное бюро, узнайте адрес этого человека, напишите на открытке и киньте ее в почтовый ящик, и если он отзовется, придет к вам на корабль, запишите все, что он расскажет о муже и пришлите мне туда-то. И что ж ты думаешь, Вера! Получила много писем в ответ! Помогла ему подтвердить шаг за шагом всё. Так, может, много времени прошло бы — не один ведь он такой, — а с ее помощью быстро выяснилось… Восстановили его в партии, с прежним стажем. Я его видел. Еще не старый. Высокий такой, плечистый. Лицо в шрамах, одна рука повреждена, не сгибается в локте. Работает в гражданской авиации, на земле, диспетчером в аэропорту… Очень я их полюбил, и его, и Надежду Николаевну. Часто бывал у них. Учился у них жить…
Вера (долго молчит). Ну что ж, Андрей, такие жены редко встречаются. На десять тысяч, может, одна. Это — мечта.
Андрей. Мечта?.. (Встал.) Тогда — прощай, Вера. Иди.
Вера. Андрей!..
Андрей. Иди. Совсем.
Вера уходит.
Я найду свою мечту!..
Занавес.
1958