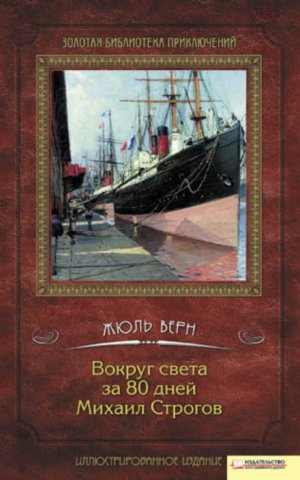
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011
Факты, даты, цитаты
Жюль Верн о себе
Море, музыка и свобода – вот все, что я люблю.
Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, все это всегда будет ниже действительности. Настанет время, когда достижения науки превзойдут самое смелое воображение.
Я не могу равнодушно видеть, как отчаливает судно – военное, торговое, даже простой баркас, – чтобы всем своим существом не перенестись на его борт. Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства.
Современники и потомки о личности и творчестве Жюля Верна
Александр Дюма-отец (1802–1870), французский писатель (по книге Е. Брандиса «Рядом с Жюлем Верном»)
В феврале 1849 года с помощью влиятельного родственника Жюль Верн попадает на прием к автору «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». Оробевшего юношу проводят через анфиладу ярко освещенных комнат, убранных с кричащей роскошью; он чувствует себя затерянным в шумной толпе веселящихся гостей. Но стоило хозяину дома сказать ему несколько приветливых слов, и застенчивость как рукой сняло… Этот синеглазый, белокурый бретонец пришелся Александру Дюма по душе. Писатель оценил его начитанность и остроумие и даже пригласил на премьеру в свой «Исторический театр». Жюль Верн об Александре Дюма-отце: Когда я впервые встретил Дюма, я решил: то, что он сделал для истории, я сделаю для географии.
Александр Дюма-сын (1824–1895), французский драматург и прозаик С моим отцом его роднит воображение, молодой задор, чудесный юмор, неистощимая выдумка, здоровый дух, ясность мысли и еще одна добродетель, которую не признают слабосильные, – плодовитость.
В письме к Жюлю Верну
Никто не приходил в больший восторг от чтения Ваших блестящих, оригинальных и увлекательных фантазий, чем автор «Монте-Кристо». Между ним и Вами столь явное литературное родство, что, говоря литературным языком, скорее Вы являетесь его сыном, чем я.
Жюль Кларти (1840–1913), французский романист и драматург
Жюль Верн – это Александр Дюма, действующий в эпоху, когда красноречие Цицерона можно передать по телефону и руководить военными операциями по телеграфу.
Андре Лори (псевдоним Паскаля Груссе, 1845–1909), французский писатель-фантаст, автор приключенческой литературы, последователь Жюля Верна
И до него были писатели, начиная от Свифта и кончая Эдгаром По, которые вводили науку в роман, но использовали ее главным образом в сатирических целях. Еще ни один писатель до Жюля Верна не делал из науки основы монументального произведения, посвященного изучению Земли и Вселенной, промышленного прогресса, результатов, достигнутых человеческим знанием, и предстоящих завоеваний. Благодаря исключительному разнообразию подробностей и деталей, гармонии замысла и выполнения, его романы составляют единый и целостный ансамбль, и их распространение на всех языках земного шара еще при жизни автора делает его труд еще более удивительным и плодотворным.
Эдмондо де Амичис (1846–1908), итальянский писатель, поэт и журналист, о визите к Жюлю Верну
Мы постучали в дверь углового дома на тихой улице. Нас провели в светлую уютную гостиную, куда сейчас же вошел Жюль Верн, протягивая нам обе руки. Если бы мы встретили его, не зная, кто он, то ни за что не узнали бы. Он был похож, скорее, на генерала в отставке, на профессора математики, наконец, на начальника департамента, чем на писателя ‹…›. Во взгляде и в речи его была живость, присущая художникам. Держал он себя просто, и на всем существе его лежал отпечаток прямоты и чистоты мыслей и чувств. Судя по его одежде, речи и движениям, он принадлежал к числу людей, которые не любят привлекать к себе внимания. Мое удивление возрастало, по мере того как он говорил о своих произведениях: он говорил так беспристрастно, как будто речь шла не о его трудах!..
Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894), шотландский писатель и поэт (по книге Е. Брандиса «Жюль Верн. Жизнь и творчество»)
По словам Роберта Льюиса Стивенсона, Жюль Верн ведет за собой читателей, на шаг опережая действительность. Причудливая смесь необыкновенного с реальным и придает оригинальность его трудам. Обладая исключительной для прозаика силой воображения, он завоевал умы читателей XIX века (статья «Сочинения Жюля Верна», 1876).
Мишель Кордэ (1870–1937), автор книги «Исповедь родившегося в осаде» Один человек оказал могучее влияние на детей, родившихся непосредственно до и после минувшей войны (1870), – Жюль Верн. Как должно быть благодарно ему это поколение. Он сумел устроить ему бегство из его глупейшей темницы. Он внушил ему любопытство – стремление узнать мир, вкус к научному знанию, культ мужества и энергии… Я глубоко уверен, что через столетие наши потомки не смогут объяснить себе, почему этот совершеннейший писатель, могучий поэт, воспитатель, наделенный магической силой, предтеча, чьи фантазии в их время будут уже воплощены в жизнь, не был осыпан самыми высшими почестями, какие только наша эпоха даровала своим великим писателям. И только наш невероятный страх показаться смешными, наше низменное раболепие перед законами моды, грязная изнанка, всегда имеющаяся там, где мы что-то освящаем, – только это все явится для них ключом к разгадке.
Жан Жюль-Верн (1892–1980), внук Жюля Верна и автор его биографии До последних дней его интересовало все, связанное с прогрессом науки… Он обладал обширными научными познаниями, и никак нельзя сказать, что его романы были плодом досужего вымысла. Он всегда опирался на точные и строго проверенные научные данные своего века. В самых фантастических его книгах содержится немало ценных для науки того времени наблюдений.
Мы присутствуем при настоящем возрождении Жюля Верна и видим в нем больше, чем только автора приключенческих книг для юношества. Его творчество адресовано читателям всех возрастов. В любом возрасте мы можем черпать в нем все более разнообразное содержание.
Шарль-Ноэль Мартен (1923–2005), французский физик, автор предисловия к полному собранию сочинений Жюля Верна, 1971 г.
Жюль Верн, как и Гюго, был как бы ясновидящим – в смысле яркости его воображения, – он внутренним взором видел сцены, которые затем описывал с изумительной четкостью, выявляющей у художника его способность наблюдать. Искусство Жюля Верна состоит в значительной мере в том, что он сумел заставить десятки миллионов читателей увидеть то, что сам он увидел внутренним взором.
Русские читатели Жюля Верна
Марко Вовчок (настоящее имя Мария Александровна Вилинская, 1833–1907), украинская писательница, переводчица (по книге Е. Брандиса «Рядом с Жюлем Верном»)
Широкому распространению книг Жюля Верна среди русских читателей способствовали переводы, выполненные известной писательницей Марко Вовчок ‹…›.
В шестидесятых годах Марко Вовчок жила в Париже. Тургенев познакомил ее с Этцелем (Пьер Жюль Этцель – друг и издатель Жюля Верна). Знакомство вскоре перешло в дружбу. ‹…›
Перед возвращением писательницы в Петербург Этцель предложил ей право на авторизованные переводы романов Жюля Верна и обещал предоставить привилегию на издание его книг какому-нибудь солидному издателю, который вступит с ним в деловые отношения. Жюль Верн горячо поддержал инициативу Этцеля, заявив своему другу-издателю, что полностью доверяет «этой умной, интеллигентной, образованной женщине, тонко чувствующей и превосходно знающей французский язык». ‹…›
Гранки очередного романа, пока он постепенно печатался в «Журнале воспитания и развлечения», а также клише иллюстраций Этцель отправлял в Петербург, и роман в переводе Марко Вовчка появлялся на русском языке почти одновременно с подлинником. ‹…›
По тому времени это были самые лучшие русские издания книг Жюля Верна – и по качеству переводов, и по художественному оформлению.
Лев Николаевич Толстой (1828–1910), русский писатель и мыслитель Романы Жюля Верна превосходны. Я их читал совсем взрослым и все-таки, помню, они меня восхищали. В построении интригующей, захватывающей фабулы он удивительный мастер. А послушали бы вы, с каким восторгом отзывается о нем Тургенев! Я прямо не помню, чтобы он кем-нибудь еще так восхищался, как Жюлем Верном.
Лев Толстой читал произведения Жюля Верна своим детям и даже проиллюстрировал роман «Вокруг света за восемьдесят дней». Об этом вспоминал его сын.
Илья Львович Толстой (1866–1933)
Каждый день он приготовлял к вечеру подходящие рисунки, и они были настолько интересны, что нравились нам гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах. Я как сейчас помню один из рисунков, где изображена какая-то буддийская богиня с несколькими головами, украшенными змеями, фантастическая и страшная. Отец совсем не умел рисовать, а все-таки выходило хорошо, и мы были страшно довольны. Мы с нетерпением ждали вечера и всей кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку.
Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), русский ученый-энциклопедист, общественный деятель (по книге К. Андреева «Три жизни Жюля Верна»)
Очень любил и высоко ставил Жюля Верна Д. И. Менделеев. Он называл французского писателя «научным гением» и постоянно перечитывал его книги.
Николай Егорович Жуковский (1847–1921), русский ученый, основоположник современной аэродинамики (по книге К. Андреева «Три жизни Жюля Верна»)
Единственной беллетристической книгой в библиотеке Н. Е. Жуковского был роман Жюля Верна.
Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935), русский и советский ученый, исследователь, основоположник современной космонавтики Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Ж. Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении. Явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не повела, если бы не встретила помощь со стороны науки.
Антон Павлович Чехов (1860–1904), русский писатель, драматург (по статье А. Удовой «Жюль Верн в России»)
В 1883 году Чеховым была написана и опубликована в журнале «Будильник» (№ 19) пародия под названием «Летающие острова. Сочинение Жюля Верна». Это небольшой забавный рассказ, по стилю и содержанию пародирующий манеру письма Жюля Верна. Необыкновенный талант и чувство юмора, присущие Чехову, позволяют делать это беззлобно, легко и весело.
Владимир Афанасьевич Обручев (1863–1956), русский геолог и географ, исследователь Сибири и Центральной Азии
Хороший научно-фантастический роман дает большее или меньшее количество знаний в увлекательной форме, а главное – побуждает читателя к более глубокому ознакомлению с описываемыми в нем странами, явлениями, изобретениями ‹…›. В качестве примера я могу сказать, что сделался путешественником и исследователем Азии благодаря чтению романов Жюля Верна ‹…›, которые пробудили во мне интерес к естествознанию, к изучению природы далеких малоизвестных стран.
Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк Жюль Верн… не знаю писателя (кроме разве Эдгара По), который произвел бы на меня такое впечатление. Я впивал в себя его романы. Некоторые страницы его произведений произвели на меня неотразимейшее действие.
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940), русский писатель, драматург и театральный режиссер (по статье А. Удовой «Жюль Верн в России») Известно, что Жюль Верн был одним из любимых авторов писателя и драматурга Михаила Булгакова. В 1924 году появляется его маленькая сатирическая повесть «Багровый остров». Действие происходит на неком острове Тихого океана, где неожиданно появляются жюльверновские романтические герои: лорд Гленарван, Мишель Ардан, капитан Гаттерас, Паганель и Филеас Фогг. По воле Булгакова они превращены в интервентов и участвуют в гражданской войне. В конце концов местному населению удается отстоять свою независимость и прогнать пришельцев. На самом деле содержание повести иносказательно. В эту небольшую антиутопию вошел целый период русской истории, увиденный глазами внимательного и остроумного современника. Позже, в 1927 году, Булгаков пишет пьесу-памфлет под тем же названием, где появляется как бы сам ее автор, незадачливый писатель, взявший псевдоним «Жюль Верн» и принесший в театр для постановки свою пьесу «Багровый остров». Эта пьеса, веселая и трагичная, до сих пор не сходит со сцен московских театров.
Леонид Ильич Борисов (1897–1972), русский советский прозаик, автор романа «Жюль Верн» – художественной биографии писателя
Роману о Жюле Верне подобает быть веселым, жизнерадостным, увлекательным, – он должен быть таким же, как и творчество этого великого реалиста, фантазия которого сегодня служит делу мира во всем мире.
Кирилл Константинович Андреев (1906–1968), русский писатель, журналист, критик, автор биографии Жюля Верна в серии «Жизнь замечательных людей»
Каждый из нас живет в своей собственной вселенной, масштабы которой он часто склонен считать измерениями великого и безграничного мира звезд, планет и людей.
Вселенная Жюля Верна была огромна: она охватывала весь земной шар – все страны, все части света, включала в себя прошлое и будущее, в нее были включены не только Земля, но и другие планеты солнечной системы, и она достигала таинственной и недоступной до этого времени сферы звезд…
Евгений Павлович Брандис (1916–1985), русский советский литературовед, исследователь жизни и творчества Жюля Верна, почетный член Жюльверновского общества
В романах Жюля Верна наука поглощается с аппетитом, потому что она неотделима от действия. На ней, собственно, и держится замысел. Читатель незаметно воспринимает какую-то сумму сведений, сплавленных с сюжетом романа.
…Образы главных героев выполнены так рельефно, что запоминаются на всю жизнь.
О романе «Вокруг света за 80 дней»
Жюль Верн о своем замысле в письме к отцу в октябре 1871 года
В редкие часы досуга я готовлю рассказ о путешествии, проделанном с максимальной быстротой, какая только возможна в наше время.
В письме к Этцелю
Я просто мечтаю о нем (о путешествии вокруг света в восемьдесят дней)! И пусть оно так же позабавит наших читателей. Я, наверно, сам немного спятил, я поддаюсь всем экстравагантным выдумкам своим героев. Жалею только об одном – что сам не могу проделать их pedibus cum jambis («своими ногами»).
В беседе с журналистом
Я обратил внимание на тот факт, что в настоящее время вполне возможно объехать вокруг света за восемьдесят дней, и мне тотчас же пришло в голову, что, воспользовавшись разницей меридианов, путешественник может либо выиграть, либо потерять один день в зависимости от того, поедет ли он против солнца или навстречу солнцу… Может быть, вы припомните, что мой герой Филеас Фогг благодаря этому обстоятельству прибыл домой, выиграв пари, вместо того чтобы потерять один день, как это ему показалось.
Кирилл Константинович Андреев
Главу за главой, по мере того как они появлялись из-под его пера, писатель печатал отдельными фельетонами в газете «Тан» с начала 1873 года. ‹…›
Неожиданный успех нарастал, словно снежная лавина. Парижане спорили о будущих приключениях Филеаса Фогга, а корреспонденты американских газет посылали на родину каблограммы с маршрутом путешественников. Эксцентричный Филеас Фогг (Филеас – великий путешественник древней Греции, а Фогг – по-английски «туман», атрибут этой страны), великолепный пройдоха Паспарту (по-французски – «пройдет повсюду», пройдоха), глуповатый, но исполнительный сыщик Фикс стали всеобщими любимцами. Когда путешественников отделяла от цели только Атлантика, ажиотаж достиг апогея: американские пароходные компании засыпали автора романа телеграммами, предлагая огромные суммы только за то, что Филеас Фогг выберет для своего последнего рейса судно их компании. Это поставило Жюля Верна в такое затруднительное положение, что он вынужден был заставить своего героя купить корабль, чтобы не быть обязанным своим успехом никому!
О постановке произведения на сцене (по книге Е. Брандиса «Рядом с Жюлем Верном»)
Эффектная инсценировка «Вокруг света в восемьдесят дней» стала самым большим событием театрального сезона в 1874 году. Каждый вечер у боковой двери театра Порт-Сен-Мартен собирались толпы зевак, жаждавших увидеть, как проведут в стойло одного из участников феерического зрелища – огромного индийского слона, которому, по ядовитому замечанию Эмиля Золя, пьеса и была в первую очередь обязана своим баснословным успехом.
Николай Семенович Лесков (1831–1895), русский писатель, в письме сыну из Парижа
Это такое представление, что глаз не отведешь.
О романе «Михаил Строгов»
Жюль Верн о своем произведении
Я не могу сейчас думать ни о чем другом – это меня в высшей степени увлекает, великолепный сюжет. Я пустился в Сибирь, да так, что не могу остановиться. Мой роман скорее татарский и сибирский, чем русский.
Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), русский писатель, в письме к Этцелю
Мой дорогой друг, книга Верна неправдоподобна – но это неважно: она занимательна. Неправдоподобие заключается в нашествии бухарского хана на Сибирь в наши дни – это все равно, как если бы я захотел изобразить захват Франции Голландией.
Жан Жюль-Верн
«Курьер царя» был напечатан в «Журнале воспитания и развлечения» в 1875 году. Скрепя сердце писатель соглашается изменить название романа на «Михаил Строгов». По прошествии ста лет трудно понять подобные тонкости.
Жюль Верн был возмущен критикой, вызванной этой первой публикацией:
«Татарское нашествие – почему бы и нет, имею же я право на писательский вымысел. Считать нашествие на Нижний Новгород более правдоподобным, чем на Иркутск, это абсурдно, можно ли забывать об Уральских горах? Да и потом, разве я предупреждал публику, что “Гаттерас” и “Двадцать тысяч лье” – это выдумка?»
Издатель, опасаясь стрел цензуры, и в самом деле предложил обратиться к читателям с предупреждением, что в романе речь пойдет о событиях вымышленных. Из опасения цензурных «вымарок» автор, жертвуя второстепенным, чтобы спасти главное, соглашается снять «все, что может быть приписано нынешнему царю или его отцу».
«Досадно, – добавляет он, – что цензура читает книги так поверхностно. Тургенев, который знает Россию не хуже этих господ, не усмотрел в этом ничего предосудительного».
‹…›
«Михаил Строгов» вышел отдельным изданием в 1876 году. Известно, что успех его превзошел все ожидания, и Дюкенель предложил поставить в театре Одеон пьесу по мотивам романа. Жюль Верн взял в соавторы Деннери, и премьера с огромным успехом прошла в Шатле 17 ноября 1880 года. Спектакль был настолько хорош, что фраза «Прекрасно, как “Строгов”» стала поговоркой! Пошла мода на все русское, каракулевые шапочки произвели фурор. А раз уж женщины выражали таким образом свое одобрение, значит, автор одержал полную победу!
Евгений Павлович Брандис
Интрига держит читателя в напряжении от первой до последней страницы. Выдуманное восстание «туркестанских племен», в ходе которого они якобы захватывают часть Восточной Сибири, служит фоном для напряженного действия. Фельдъегерь Михаил Строгов, преодолев тысячи препятствий, прибывает в Иркутск к генерал-губернатору с личным посланием царя и в финале разоблачает предателя, возглавившего восстание кочевников.
В то же время почти безупречно географическое описание России на всем пути следования героя от Москвы до Иркутска – через Нижний Новгород с его прославленной ярмаркой, Казань, Пермь, Тюмень, Омск, Колывань, Томск, Красноярск и другие города. Жюль Верн хорошо знает специальную справочную литературу, правильно указывая даже самые захолустные села и посады, почтовые станции и перевалочные пункты, состояние проезжих дорог и объездные пути. Он дает также описания природы, рассказывает о населении и занятиях жителей. В этом смысле роман имел для французских читателей несомненную познавательную ценность. Французские школьники в течение многих десятилетий знакомились с географией России по «Михаилу Строгову».
Однако будь это только путеводитель, не было бы увлекательной книги. Привлекают в ней, кроме сюжетных хитросплетений, благородные мужественные герои – бесстрашный Михаил Строгов, которого не останавливают никакие преграды, обаятельная русская девушка Надя, отправившаяся в Сибирь на поиски отца, сосланного на пожизненную каторгу.
Забавные истории из жизни Жюля Верна
По книге Кирилла Андреева «Три жизни Жюля Верна»
– Да кто же такой в конце концов Жюль Верн?! – воскликнул в отчаянии один американский репортер, прибывший в Париж, чтобы побеседовать со знаменитым писателем. – Быть может, его вовсе не существует?
Действительно, было отчего прийти в отчаяние. Все, кого он расспрашивал, сообщали ему самые противоречивые сведения.
– Жюль Верн – неутомимый путешественник, – сказал один. – Он объехал Европу, Азию, Африку, обе Америки, Австралию и сейчас плавает где-то в Океании. В своих романах он описывает только собственные приключения и наблюдения.
– Жюль Верн никогда и никуда не выезжал, – возразил другой. – Он живет где-то в провинции и строчит свои романы, не выходя из кабинета. Все, что он издает, списано с книг знаменитых географов и путешественников.
– Жюль Верн вовсе не француз, – сообщил третий. – Он еврей, уроженец города Плоцка близ Варшавы, и его настоящее имя Юлий Ольшевич – от слова «ольха» – по-старофранцузски «вернь». Свою карьеру он начал литературным секретарем знаменитого Александра Дюма. Это он, Жюль Верн, является подлинным автором романов «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».
– Жюль Верн – это миф, – объявил четвертый. – Это просто коллективный псевдоним, под которым пишет целое географическое общество.
– Жюль Верн действительно существовал, но он умер несколько лет назад, – заключил пятый. – Это английский капитан, старый морской волк, командир корабля «Сен-Мишель». Первые его романы были изданы предприимчивым издателем Этцелем, который до сих пор, используя популярное имя, продолжает выпускать ежегодно два тома сочинений под маркой «Жюль Верн».
Анекдоты и легенды окружали его при жизни, заслоняя от читателей подлинное лицо писателя. Но он не сердился, не протестовал, только улыбался. Скромный, пожалуй, даже скрытный, он никогда не говорил о себе. Только однажды, указывая на карту Земли, украшавшую стену его кабинета, он сказал одному из своих друзей:
– Я довольствуюсь вот этим. Я иду по следам своих героев. От настоящих путешествий мне всегда приходится отказываться.
– Как, вы не совершили ни одного кругосветного плавания? – спросил изумленный гость.
– Нет, никогда!
– И никогда не видели людоедов?
– Что вы! Я боялся, что они меня съедят!
«К какой школе ты принадлежишь, – спрашивал сына Пьер Верн, привыкший к порядку, к точным определениям, – к классикам или романтикам?» «Что касается школ, – шутил Жюль в ответном письме, – то я полагаю принадлежать только к своей собственной…»
По книгам Е. Брандиса
Романтика моря имела для него такую притягательную силу, что однажды, когда ему было одиннадцать лет, он убежал из дому с небольшим запасом сухарей и нанялся юнгой на трехмачтовый парусник «Корали», державший путь в Индию. В тот же день блудный сын был возвращен поднявшим тревогу родителям и вынужден был подтвердить догадку матери, что отправился в Индию на поиски без вести пропавшего тридцать лет назад нантского капитана Санбена.
По книге Жана Жюль-Верна «Жюль Верн»
…В марте 1855 года он взял в долг у отца 60 франков. Правда, просьбу о займе он изложил в стихах! Отец ответил ему тем же:
Стишок твой, право, очень мил, Еще бы он приятней был, Когда б я за него не заплатил.
(Перевод Н. Рыковой, Н. Световидовой)
Однажды, выведенный из себя ревом малыша (сына Мишеля), Жюль Верн выбежал из своего кабинета, чтобы узнать о причине шума. Онорина (жена) без тени смущения заявила: «Он требует маятник стенных часов!» Углубленный в свои мысли, писатель воскликнул: «Так отдайте ему маятник, и пусть он уймется!»
Фамилия писателя и легенда о его происхождении
Верн – кельтское название ольхи.
Не лишено значения, что одна река в Бретани, впадающая в море около Бреста, называется Ольн (l’aulne – фр. ольха). И еще примечательней, что название ольхи – верн – этимологически восходит к слову кельтского происхождения и потому более древнему. Многочисленные французы, носящие фамилию Верн, могут быть уверены, что их наиболее отдаленные предки были кельтами, то есть галлами, первыми из индоевропейцев достигшими Атлантического океана.
Какая-нибудь семья кельтского происхождения, обосновавшаяся в Божоле, получила прозвание Верн, вероятно, потому, что обитала на берегу речки, поросшем ольхой. Есть все основания считать, что те, кто сохранил это кельтское наименование, принадлежали к населению областей, впоследствии покоренных римлянами.
В 1875 году Жюль Верн получил из Польши письмо от некоего г-на Отсевича (так в написании самого Жюля Верна), который называл его братом и утверждал, что они не виделись тридцать шесть лет. Он счел это шуткой. Спустя два месяца тот же поляк прислал второе письмо, а за этим последовал визит со стороны одного польского журналиста, который авторитетно заявил Жюлю Верну: «Вы – польский еврей и родились в Плоцке, в русской Польше. Фамилия ваша Ольшевич от слова “ольша”, что по-польски значит “ольха”. Дерево это на старофранцузском называется “вернь”, или “верн”, вы сами перевели свою фамилию на французский язык. Вы отреклись от иудейского вероисповедания в 1861 году, находясь в Риме, для того чтобы получить возможность жениться на богатой польке княжеского рода. Монахи польской конгрегации Воскресения окрестили вас после того, как в христианской вере вас наставил преподобный отец Семенко. Однако помолвка ваша с княгиней Крыжановской не состоялась, и ваше перо купила Франция, предложив вам по совету Святого престола должность в министерстве внутренних дел».
Писатель, разумеется, расхохотался и ответил шуткой. Если верить госпоже Аллот де ла Фюи, он посмеялся над своим собеседником, заявив ему, что фамилия его польской невесты была Кракович, что он ее похитил и что она вследствие ссоры с ним утопилась в озере Леман.
Профессор Эдмондо Маркуччи решил выяснить, чем могло быть вызвано нахальство польского журналиста, искавшего тему для статейки, когда дело усложнилось выступлением одного итальянского журналиста в «Джорнале д’Италиа», поддерживавшего ту же версию.
По просьбе Эдмондо Маркуччи отец Тадеуш Олейньезак, настоятель монахов Воскресения, справился в архивах своего ордена и написал ему следующее письмо:
«Дело Верна основано на чистом недоразумении. После кончины знаменитого писателя (25 марта 1905 года) покойный отец Павел Смоликовский опубликовал в газетах данные о его якобы еврейско-польском происхождении. Не разобравшись как следует, он допустил ошибку circa persona (относительно персоны), спутав француза Жюля Верна с бывшим польским евреем Ольшевичем, принявшим имя Жюльен де Верн».
Комментарий Жана Жюль-Верна
Признаюсь, что я не разделяю возмущения ‹…› этой легендой. Если на Жюля Верна претендовали поляки, если итальянцы считали его итальянцем, венгры полагали, что он венгр, то не является ли это признаком величайшего уважения к интернациональному, универсальному ‹…› характеру его творчества?
Литература
• Андреев К. Три жизни Жюля Верна. – 3-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1960. – 304 с. – (Жизнь замечательных людей).
• Борисов Л. Жюль Верн: Роман. – Ленинград, 1955. – 312 с.
• Брандис Е. П. Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе (Жюль Верн). – М.: Молодая гвардия, 1976. – 224 с.
• Брандис Е. П. Жюль Верн в России // http://lib.rus.ec/b/283525/read
• Брандис Е. П. Жюль Верн. Жизнь и творчество. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград: Детгиз, 1963. – 336 с.
• Брандис Е. П. Жюль Верн и его романы // http://lib.rus.ec/b/8420/read
• Брандис Е. П. Рядом с Жюлем Верном: Документальные очерки. – 3-е изд. – Ленинград: Дет. лит., 1991. – 207 с.
• Жюль-Верн Ж. Жюль Верн / Пер. с фр. Н. Рыковой, Н. Световидовой. – М.: Прогресс, 1978. – 446 с.
• Удова А. Жюль Верн в России // http://mart4910.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
Вокруг света за 80 дней
Глава I
в которой Филеас Фогг и Паспарту[1] обретают друг друга в качестве хозяина и слуги
В 1872 году на Сэвилл-роу, в Берлингтон Гарденс, в том самом доме под номером 7, где пятьдесят восемь лет назад скончался Шеридан, проживал Филеас Фогг, эсквайр, большой оригинал, заметно выделявшийся среди членов лондонского Реформ-клуба, хотя сам он, казалось, вовсе не стремился привлекать внимание к своей персоне.
Следуя примеру одного из величайших ораторов, коими гордится Англия, сей Филеас Фогг был фигурой загадочной: никто ничего о нем не знал, кроме того, что он весьма галантный и едва ли не самый видный джентльмен в высшем британском обществе.
В нем усматривали сходство с Байроном, имея в виду лицо, поскольку ноги у него в полном порядке, но то был Байрон с усами, с бакенбардами и до того невозмутимый, что мог прожить, не старея, добрую тысячу лет.
Бесспорный англичанин Филеас Фогг, возможно, не был уроженцем Лондона. Его не встречали ни в банке, ни на бирже, он не появлялся ни в одной из контор Сити. В доках и гаванях Лондона никогда не приставало судно, принадлежавшее Филеасу Фоггу. Этот джентльмен не числился среди тузов городской администрации. Его имя ни разу не прозвучало в стенах коллегии адвокатов и в Темпле, в юридических коллегиях Линкольна или Грея о нем тоже слыхом не слыхали. Он никогда не вел тяжб ни в Канцлерском суде, ни в Церковном, ни в Суде королевской скамьи или в Шахматной палате. Не был ни промышленником, ни негоциантом, ни купцом, ни земледельцем. Не принадлежал ни к Британскому королевскому обществу, ни к Лондонскому институту, равно как к Институту Рассела, Институтам прикладного искусства, права, западных литератур, да и к Институту наук и искусств, процветающему под собственным милостивым покровительством Его Величества, не имел ни малейшего отношения. Наконец он не примыкал ни к одному из всевозможных обществ, а ведь британская столица ими кишмя кишит, начиная с «Общества ценителей гармонии» и кончая «Энтомологическим», основанным преимущественно с целью истребления вредных насекомых.
Филеас Фогг был членом Реформ-клуба, и только.
Тому, кто удивится, как столь загадочный джентльмен смог получить доступ в это почтенное сообщество, следует объяснить, что он попал туда по рекомендации господ братьев Бэринг, в банке которых ему предоставлялся открытый кредит. Отсюда особый «лоск» его деловой репутации, порожденный тем обстоятельством, что все его чеки неукоснительно погашались по первому предъявлению, а дебетовый остаток его счета неизменно свидетельствовал о несокрушимой кредитоспособности!
Выходит, этот Филеас Фогг был богат? Бесспорно! Но о том, каким образом он сколотил состояние, не имели понятия даже наиболее информированные из его сограждан, а обращаться с подобным вопросом к самому мистеру Фоггу стоило в последнюю очередь. Как бы то ни было, он отнюдь не слыл мотом, однако и скаредности не проявлял: если какому-либо благородному, полезному или милосердному делу требовалась поддержка, он всегда оказывал ее. Молча, даже анонимно.
В общем, это был как нельзя более замкнутый джентльмен. Настолько немногословный, что говорить меньше просто невозможно. Крайняя молчаливость усугубляла впечатление окутывающей его тайны. Между тем жизнь Фогга протекала на виду, он всегда делал одно и то же, повторяя это изо дня вдень с такой математической четкостью, что воображение стороннего наблюдателя, возмутясь, принималось искать сокрытые от глаз объяснения происходящего.
Не доводилось ли ему прежде колесить по свету? Весьма вероятно, ведь никто лучше Фогга не разбирался в карте мира. Казалось, он располагает точными сведениями о любом, самом отдаленном уголке планеты. Порой он высказывал – вскользь, но ясно и лаконично, – множество предположений касательно судьбы погибших или заблудившихся путешественников, в клубе его замечания передавались из уст в уста. Он предвидел наиболее вероятные повороты событий, и зачастую казалось, что он наделен тайным зрением: со временем реальность всегда подтверждала его догадки. Этот человек, похоже, успел побывать всюду – по крайней мере, мысленно.
Однако же было совершенно очевидно, что Филеас Фогг уже много лет не покидал Лондона. Те, кто имел честь знать его немного ближе, чем все прочие, говорили, что ни одна душа не вправе утверждать, будто этот джентльмен хотя бы раз был замечен где-либо, кроме той прямой дороги, по которой он ежедневно проходил из дома в клуб и обратно. Свое время он посвящал исключительно чтению газет и висту. В этой молчаливой игре, так отвечающей его характеру, он часто выигрывал, но никогда не отправлял эти суммы в свой кошелек – они дополняли, притом существенно, его пожертвования на благотворительность.
Впрочем, надобно заметить, что мистер Фогг играл, по всей видимости, не затем, чтобы выиграть, а ради самой игры. Она была для него сражением, борьбой с трудностями, но эта борьба обходилась без движения, без перемены мест, без усталости, что соответствовало его характеру.
У Филеаса Фогга не наблюдалось ни жены, ни детей, как бывает порой и у самых приличных людей, а также ни друзей, ни родни, что, сказать по правде, случай более редкий. В своем доме на Сэвилл-роу он жил один, и никто не переступал его порога. О том, что творилось внутри его души или жилища, речь никогда не заходила. Филеас Фогг имел только одного слугу, однако этого ему хватало.
Завтракал и обедал он в клубе в раз и навсегда определенные часы, в одном и том же зале, за одним и тем же столом, не затевая бесед с завсегдатаями, не приглашая никого из посторонних. Домой возвращался ровно в полночь исключительно затем, чтобы лечь спать, и никогда не пользовался комфортабельными покоями, находящимися в распоряжении членов Реформ-клуба. Из двадцати четырех часов он проводил у себя дома лишь те десять, что требовались ему для сна и забот о своем туалете. Если он прогуливался, то не иначе как обходя мерным шагом просторный вестибюль с мозаичным деревянным полом или галерею, что опоясывала залу, которую украшал голубой стеклянный купол, поддерживаемый двумя десятками ионических колонн из красного порфира. Когда он обедал или завтракал, именно клуб обеспечивал ему искусство своих поваров, подкрепляемое богатством кладовой и буфетной. К его столу подавали сочную рыбу и молоко из клубных запасов, его обслуживали лакеи клуба, солидные персоны в черных одеяниях и башмаках с подбитыми войлоком подошвами; они подавали яства в посуде из редкого фарфора, расставляя ее на великолепных саксонских скатертях. Шерри, портвейн и кларет с примесью корицы, папоротника и кинамона наливали ему в хрустальные бокалы, изготовленные по ныне утраченному клубному образцу, и наконец, для поддержания этих напитков в достаточно свежем состоянии подавали лед, за бешеные деньги привозимый с американских озер.
Если быть эксцентричным – значит жить в такихусловиях, то надо признать, что в эксцентричности есть свои преимущества!
Дом на Сэвилл-роу, не будучи роскошным, отличался отменным комфортом. Впрочем, задача его поддержания упрощалась благодаря исключительной однотипности привычек хозяина. Тем не менее Филеас Фогг требовал от своего единственного слуги четкости и пунктуальности поистине экстраординарных. В тот день, 2 октября, онуволил некоего Джеймса Форстера, поскольку малый провинился: принес ему для бритья воду, подогретую до восьмидесяти четырех градусов по Фаренгейту вместо положенных восьмидесяти шести. Теперь он ждал его преемника, который должен был явиться между одиннадцатью и половиной двенадцатого.
Филеас Фогг плотно уселся в кресло, сдвинул ноги, будто солдат на параде, уперся ладонями в колени, выпрямился, вскинул голову и устремил взор на стрелку настенных часов – сложного устройства, показывающего день недели, число и год, а не только часы, минуты, секунды. Как только прозвонит половина двенадцатого, мистер Фогг должен, согласно своей ежедневной привычке, выйти из дому и направиться в Реформ-клуб.
Тут раздался стук в дверь малой гостиной, где расположился Филеас Фогг.
На пороге показался уволенный Джеймс Форстер.
– Новый слуга, – объявил он.
Вошел малый лет тридцати, поздоровался.
– Вы француз и зовут вас Джон? – осведомился Филеас Фогг.
– Жан, если мсье не против, – уточнил вновь прибывший, – Жан Паспарту. Это прозвище ко мне прилипло, оно говорит о моей прирожденной способности выходить сухим из воды. Я честный человек, мсье, но, сказать по правде, занятий поменял много. Был странствующим певцом, наездником в цирке – трюки выделывал не хуже Леотара, танцевал на проволоке, как Блонден. Потом, чтобы с пользой применить свои таланты, стал учителем гимнастики, а под конец еще поработал в Париже пожарным. У меня на счету даже найдется несколько выдающихся пожаров. Но вот уже пять лет, как я покинул Францию, чтобы испытать вкус к жизни в домашнем кругу, и нанялся в Англии лакеем. А теперь, лишившись места и услышав, что мистер Филеас Фогг – самый аккуратный и положительный джентльмен во всем Соединенном королевстве – ищет слугу, решил предложить мсье свои услуги в надежде пожить у него так спокойно, чтобы даже от прозвища Паспарту избавиться…
– Против Паспарту я не возражаю, – ответил джентльмен. – Мне вас рекомендовали. Я получил о васхорошие отзывы. Моиусловия вам известны?
– Да, мсье.
– Хорошо. Сколько на ваших часах?
– Одиннадцать двадцать две, – сообщил Паспарту, вытащив из глубин жилетного кармана огромные серебряные часы.
– Они у вас отстают, – сказал мистер Фогг.
– Прошу прощения, мсье, но это невозможно.
– Отстают на четыре минуты. Неважно. Достаточно учесть запаздывание. Итак, начиная с этого момента, то есть с одиннадцати часов двадцати девяти минут сегодняшнего дня, среды 2 октября 1872 года, вы у меня на службе.
Сказав так, Филеас Фогг встал, взял в левую руку свою шляпу, привычным, доведенным до автоматизма движением водрузил ее на голову и удалился, не прибавив ни слова.
Паспарту слышал, как дверь подъезда захлопнулась в первый раз – это вышел на улицу его новый господин. Затем послышался второй хлопок – Джеймс Форстер, его предшественник, в свой черед отправился восвояси.
В доме на Сэвилл-роу Жан Паспарту остался один.
Глава II
в которой Паспарту убеждается, что, наконец, нашел свой идеал
«Черт возьми, – сказал себе Паспарту, поначалу малость огорошенный, – таких живчиков, как мой новый хозяин, я встречал только у мадам Тюссо!»
Здесь следует пояснить, что «живчики» мадам Тюссо – восковые фигуры, на которые лондонцы валом валили поглазеть, выглядят и впрямь весьма натурально, им не хватает только дара речи.
За краткие мгновения своей только что состоявшейся встречи с Филеасом Фоггом Паспарту успел быстро, но тщательно рассмотреть своего нового господина. Это был мужчина, по-видимому, лет сорока, с красивым, благородным лицом, скорее бледным, чем румяным, с великолепными зубами, высокого роста, без малейшего намека на полноту, со светлыми волосами и бакенбардами, с гладким лбом, не тронутым даже легчайшими морщинками на висках. Казалось, ему в высшей степени присуще то качество, общее для всех, кто более склонен делать дело, чем поднимать шум, которое физиономисты называют «спокойствием в действии». Невозмутим, флегматичен, веки неподвижны – законченный тип хладнокровного британца, чью несколько напыщенную манеру так метко воспроизводит волшебная кисть Анжелики Кауфман. Рассматривая сего джентльмена в различных ситуациях бытия, следовало предположить, что он ни при каких обстоятельствах не утратит уравновешенности, безукоризненной, словно хронометр «Леруа» или «Эрншоу»: Филеас Фогг и в самом деле являл собой воплощенную точность, о чем явственно свидетельствовало «выражение его стоп и кистей рук», ибо конечности человека, как и у животных, выдают все движения страстей.
Филеас Фогг был из тех математически точных натур, которые никогда не спешат, но всегда успевают, однако воздерживаются от лишних движений и необязательных поступков. Такой без необходимости шагу не ступит, но выберет кратчайший путь к цели. Он не станет попусту пялиться на потолок, вообще не позволит себе ни единого лишнего жеста. Никто не увидит его возбужденным либо растерянным. Это самый неторопливый, но и самый точный человек на свете. Как бы то ни было, можно понять, почему он жил один и, так сказать, вне всех общественных связей. Мистер Фогг знал, что в жизни надобно пообтереться, но поскольку это процесс затяжной, неопределенный, он так и не притерся ни к кому.
Что до Жана, прозванного Паспарту, он был парижанином до мозга костей, вот уже пять лет жил в Англии, освоил ремесло лакея, но тщетно искал хозяина, к которому мог бы привязаться.
Паспарту не стоит уподоблять всем этим востроглазым и самоуверенным Фронтенам да Маскарилям, которые пожимают плечами, держат нос по ветру, а по сути являются не чем иным, как бесстыжими прохвостами. Нет, Паспарту, славный парень с приветливой, немного губастой физиономией, казалось, был всегда готов кого-то поцеловать или что-нибудь перекусить. Мягкосердечный, услужливый малый, он имел круглую добрую голову – такую, какую каждый рад бы увидеть на плечах у друга. У него были синие глаза, подвижная мимика, такие толстые щеки, что он сам мог видеть их. Его отличали могучее телосложение, широкая грудь, крепкая мускулатура (наделенный геркулесовой силой, он смолоду еще и великолепно развил ее регулярными упражнениями). Шевелюра у него была довольно непослушная. Не в пример античным скульпторам, знавшим восемнадцать способов укладывания волос Минервы, Паспарту владел одним методом укрощения своих: три взмаха расчески – и порядок.
Элементарная предусмотрительность не позволяет догадаться, как этот экспансивный парень приспособится к запросам Филеаса Фогга. Станет ли Паспарту тем безупречно аккуратным слугой, какой требуется его хозяину?
Остается только поглядеть, как пойдет дело. Пока нам известно одно: хлебнув в юности бродяжьей жизни, Паспарту теперь жаждал покоя. Наслушавшись похвал британской методичности и пресловутому джентльменскому хладнокровию, он подался в Англию искать счастья.
Однако до сих пор судьба его не баловала. Прижиться, пустить где-нибудь корни все не удавалось. Он поменял уже десяток мест, но атмосфера во всех домах, где доводилось служить, была причудливой, нестабильной: один хозяин оказывался искателем приключений, другой жаждал перемены мест… Паспарту это не манило, он утратил вкус к подобным вещам. Его последний наниматель, молодой лорд Лонгсферри, член парламента, проводя ночи в «устричных залах» Гай-Маркета, слишком часто возвращался домой в бесчувствии, на плечах полисменов. Паспарту, испытывая прежде всего потребность уважать своего господина, отважился на кое-какие почтительные замечания, но они были дурно восприняты, и он порвал с лордом. Тут-то он и прослышал, что Филеас Фогг, эсквайр, ищет слугу. Стал наводить справки об этом джентльмене. Человек, ведущий столь размеренную жизнь, всегда проводя ночи дома, не путешествуя, никогда, даже днем, не болтаясь непонятно где, заведомо должен был ему подойти. О том, при каких обстоятельствах он представился и был принят, мы уже знаем.
Итак, едва часы пробили половину двенадцатого, как Паспарту остался в доме на Сэвилл-роу один. И тотчас приступил к осмотру помещений. Он обошел их все, от подвала до чердака. Чистый, упорядоченный, пуритански суровый, отлично приспособленный для обслуживания дом пришелся ему по душе. Он производил впечатление красивого панциря улитки, но эту раковину обогревал и освещал газ, ведь углеводород здесь вполне обеспечивал все потребности в свете и тепле. На третьем этаже Паспарту без труда обнаружил комнату, которая предназначалась слуге. Она ему подходила. С покоями, находящимися на втором этаже и на антресолях, она сообщалась посредством электрических звонков и переговорных трубок. Электрический маятник на камине был соединен с маятником в спальне Филеаса Фогга, так что оба раскачивались в полном согласии друг с другом, секунда в секунду.
«Это по мне! Все по мне!» – подумал Паспарту.
В своей комнате он заметил также пояснительную записку, висевшую на видном месте, над маятником. Это был список его ежедневных обязанностей. Там перечислялось все, начиная с восьми часов утра, часа, когда Филеас Фогг вставал, и до половины двенадцатого, когда он выходил из дому, чтобы позавтракать в Реформ-клубе; каждая подробность была расписана: чай и жареный хлеб подавать в восемь двадцать три, воду для бритья – в девять тридцать семь, прическа – в десять без двадцати и так далее. И затем, с половины двенадцатого дня до полуночи, когда педантичный джентльмен ложится спать, все размечено, предусмотрено, организовано. Обдумывание этой программы, закрепление в памяти различных ее пунктов доставило Паспарту настоящее удовольствие.
Что до гардероба этого господина, он был превосходен и великолепно подобран. Каждая пара панталон, любой сюртук или жилет, снабженные порядковыми номерами, фигурировали в списке, где отмечались даты, когда должны надеваться эти предметы одежды, сменяя друг друга в зависимости от времени года. Такого же рода регламент предусматривался и для обуви.
В общем, этот дом на Сэвилл-роу, в пору, когда здесь обитал прославленный, но легкомысленный Шеридан, должно быть, являвший собой цитадель беспорядка, ныне стал уютным, прекрасно оборудованным жилищем. Библиотека отсутствовала, никаких книг, они были без надобности мистеру Фоггу, поскольку Реформ-клуб предоставил в его распоряжение две библиотеки: одну – с книгами по изящной словесности, другую – по вопросам политики и права. В спальне имелся средних размеров несгораемый шкаф, конструкция которого одинаково надежно предохраняла его содержимое как от пожара, таки от кражи. Какое-либо оружие в доме отсутствовало – ни следа охотничьего или боевого снаряжения. Здесь все говорило о самом мирном умонастроении хозяина.
Подробно осматривая здание, Паспарту потирал руки, его физиономия все больше расплывалась в широкой улыбке, и он радостно бормотал:
– Это по мне! Вот работа для меня! Мы славно поладим, мистер Фогг и я! Он образец порядка, домосед! Машина, а не человек! Что ж, я не прочь обслуживать машину!
Глава III
где завязывается беседа, которая может дорого обойтись Филеасу Фоггу
Филеас Фогг покинул дом на Сэвилл-роу в половине двенадцатого и, пятьсот семьдесят пять раз выставив свою правую ногу впереди левой и пятьсот семьдесят шесть – левую впереди правой, достиг внушительного здания Реформ-клуба, что высится посреди Пэлл-Мэлл. Его возведение некогда обошлось миллиона в три, не меньше.
Без промедления Филеас Фогг вошел в зал ресторана, через девять окон которого открывался вид на красивый парк, где деревья уже позолотила осень. Там он занял место за своим привычным столом, накрытым в ожидании его прихода. Завтрак его состоял из закусок, паровой рыбы под первосортным редингским соусом, кровавого ростбифа с грибной подливкой, пирога с ревенем и крыжовником и ломтика честерского сыра. Все это сопровождалось несколькими чашечками великолепного чая, собранного по специальному заказу Реформ-клуба и хранимого в его кладовой.
В двенадцать сорок семь наш джентльмен встал и направился в большую гостиную, пышно обставленную и украшенную живописными полотнами в богатых рамах. Там лакей подал ему неразрезанную «Тайме», каковую он аккуратнейшим образом приготовил к чтению, причем его уверенные движения доказывали, что он в совершенстве освоил эту трудоемкую операцию. Изучение этой газеты заняло Филеаса Фогга до трех часов сорока пяти минут, а чтение «Стандард», которое за ней последовало, продолжалось все время до обеда. Трапеза эта проходила в тех же условиях, что и завтрак, но с добавкой «королевского британского соуса».
Снова появившись в большом салоне, джентльмен погрузился в «Морнингкроникл». Ачерез полчаса туда явились еще несколько членов Реформ-клуба, и у камина, где пылал огонь (топливом служил каменный уголь), собралась небольшая компания. Это пожаловали неизменные партнеры мистера Филеаса Фогга, помешанные, подобно ему, на игре в вист: инженер Эндрю Стюарт, банкиры Джон Сэлливен и Сэмюэль Фаллентэн, пивовар Томас Флэнеган, а еще Готье Ральф, один из администраторов Английского банка. Все они были людьми богатыми и почтенными даже среди членов этого клуба, куда входили крупнейшие промышленники и финансовые воротилы первой величины.
– Итак, Ральф, – поинтересовался Томас Флэнеган, – что слышно об этой краже?
– Ну, – отозвался Эндрю Стюарт, – банку этих денег больше не видать.
– Я же, напротив, полагаю, что мы найдем похитителя, – возразил Готье Ральф. – Полицейских инспекторов, весьма ловких ищеек, послали в Америку и Европу, во все главные порты. Они глаз не спустят с прибывающих и отбывающих. Этому господину будет трудно от них улизнуть.
– Значит, они располагают приметами вора? – спросил Эндрю Стюарт.
– Начнем с того, что это не вор, – серьезно заявил Готье Ральф.
– Позвольте, а кто же? Тип, стащивший пятьдесят пять тысяч фунтов в билетах Английского банка (1375000 франков), не вор?
– Нет, – подтвердил Готье Ральф.
– Стало быть, это проделал фабрикант? – усмехнулся Джон Сэлливен.
– Джентльмен, если верить «Морнинг кроникл».
Последнюю реплику подал не кто иной, как Филеас Фогг, чья голова как раз вынырнула из пухлой волны газетных листов, скопившихся перед ним. Он тут же не преминул поприветствовать своих коллег, и те раскланялись в ответ.
Событие, о котором шла речь, вызвавшее жаркие споры на страницах газет Соединенного королевства, произошло тремя днями раньше, 29 сентября. Пачка банкнот на огромную сумму – пятьдесят пять тысяч фунтов стерлингов – была похищена с конторки главного кассира Английского банка.
В ответ на вопросы тех, кто недоумевал, как подобная кража могла пройти незамеченной, заместитель управляющего Готье Ральф ограничился сообщением, что за всем не усмотришь: внимание кассира в тот момент было полностью занято – он регистрировал поступившую сумму в три шиллинга шесть пенсов.
Впрочем, здесь следует заметить (дабы прояснить ситуацию), что Bank of England, Английский банк, это замечательное учреждение, по всей видимости, чрезвычайно озабоченное тем, как бы не оскорбить достоинство публики, не имеет никакой стражи, никаких инвалидных команд, решеток и тех в помине нет! Золото, серебро, банковые билеты открыто разложены, отданы, так сказать, «на милость» первого встречного. Ведь нельзя же ставить под сомнение порядочность посетителя, кем бы он ни был. Один из наиболее внимательных наблюдателей английских нравов рассказывал даже такое: как-то раз он, оказавшись в одном из залов банка и любопытства ради вздумав рассмотреть поближе золотой слиток фунтов на семь-восемь, лежавший на столе у кассира, взял его, повертел, передал стоявшему рядом, тот – соседу, и слиток, кочуя таким образом из рук в руки, уплыл в темный коридор, а на свое место возвратился не раньше, чем через полчаса, причем кассир и глазом не моргнул.
Однако 29 сентября все происходило несколько иначе. Пачка банкнот так и не вернулась, и когда великолепные часы, расположенные над drawingoffice, комнатой, где оформляют серьезные деловые сделки, отбили пять ударов, возвещая об окончании работы, Английскому банку не оставалось ничего другого, как перенести пятьдесят пять тысяч фунтов из графы прибылей в графу убытков.
Когда факт похищения был надлежащим образом установлен, полицейские агенты, так называемые «детективы», из числа самых ловких, были разосланы в главные порты – Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и т. д., причем в случае успеха счастливчику обещали премию в две тысячи фунтов (что равноценно 50 000 франков) плюс пять процентов от возвращенной суммы. В ожидании дополнительных сведений, которыми должно было снабдить полицию незамедлительно начатое следствие, этим инспекторам поручили приглядываться самым дотошным образом ко всем путешественникам, прибывающим и отплывающим.
Так вот, согласно сообщению «Морнинг кроникл», имелись основания предполагать, что похититель не принадлежал ни к одному из криминальных сообществ Англии. В тот день, 29 сентября, в кассовом зале выплат, то есть на месте преступления, был замечен бродивший там хорошо одетый джентльмен с приличными, исполненными достоинства манерами. Расследование дало возможность установить его приметы достаточно точно, они без промедления были сообщены всем детективам Соединенного королевства и континента, и это внушало людям здравомыслящим, к числу которых принадлежал Готье Ральф, надежду на то, что вор не уйдет.
Надо полагать, для Лондона и Англии в целом все это находилось в центре внимания. Повсеместно вспыхивали споры о том, насколько вероятен в данном случае успех полиции, кто-то страстно выступал за, кто-то против. Не стоит удивляться тому, что и члены Реформ-клуба задались подобным вопросом, тем более, что в их кругу оказался заместитель управляющего банком.
Достопочтенный Готье Ральф и в мыслях не имел подвергать сомнению результаты поисков преступника, тем паче, что объявление о награде должно было изрядно повысить рвение и сметливость сыщиков. Однако его коллега Эндрю Стюарт отнюдь не разделял подобного оптимизма. Дискуссия продолжалась и тогда, когда джентльмены уже сидели за столом для виста, Стюарт напротив Флэнегана, Фаллентэн напротив Филеаса Фогга. Во время самой игры партнеры молчали, но прерванный разговор тем энергичнее возобновлялся между робберами.
– Я убежден, что на стороне вора больше шансов, он наверняка ловкач, каких мало! – сказал Эндрю Стюарт.
– Вот еще! – Ральф пренебрежительно хмыкнул. – Уже не осталось ни одной страны, куда он мог бы сбежать.
– Черта едва!
– Куда же ему, по-вашему, податься?
– Понятия не имею. – Эндрю Стюарт пожал плечами. – Но, что ни говорите, мир достаточно велик.
– Когда-то был велик, – буркнул Филеас Фогг себе под нос. – Снимите! – добавил он, протягивая колоду Томасу Флэнегану.
На время роббера спор затих. Но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его.
– Что значит «когда-то»? – вполголоса переспросил он. – Не могла же планета случайно взять да и уменьшиться?
– Как сказать, – отозвался Готье Ральф. – Я разделяю мнение мистера Фогга. Земля стала меньше, поскольку теперь ее можно объехать вдесятеро быстрее, чем сто лет назад. В настоящем случае это ускорит розыски.
– Но также облегчит бегство похитителя!
– Ваш ход, мистер Стюарт! – напомнил Филеас Фогг.
Однако доводы оппонента не убедили въедливого Стюарта. Как только партия закончилась, он опять принялся за свое:
– Надо признать, что вы, мистер Ральф, нашли забавный способ доказательства того, что планета уменьшилась. Таким образом, если теперь действительно ее можно объехать за три месяца…
– Всего за восемьдесят дней, – промолвил Филеас Фогг.
– На самом деле, господа, – вмешался Джон Сэлливен, – по выкладкам, приведенным в «Морнинг кроникл», можно и за восемьдесят, при условии, что открыто движение по линии между Роталем и Аллахабадом, по Великой индийской железной дороге. Судите сами:
Из Лондона в Суэц, через Мон-Сени и Бриндизи поездом и пакетботом – 7 дней.
Из Суэца в Бомбей пакетботом – 13 дней.
Из Бомбея в Калькутту поездом – 3 дня.
Из Калькутты в Гонконг (Китай) пакетботом – 13 дней.
Из Гонконга в Иокогаму (Япония) пакетботом – 6 дней.
Из Иокогамы в Сан-Франциско пакетботом – 22 дня.
Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом – 7 дней.
Из Нью-Йорка в Лондон пакетботом и поездом – 9 дней.
Итого – 80 дней.
– Ну-да, восемьдесят! – воскликнул Эндрю Стюарт и по рассеянности побил козырную карту. – Только они не учли плохую погоду, встречные ветры, кораблекрушения, сход с рельсов и все такое.
– Все учтено, – возразил Филеас Фогг, продолжая играть, так как на сей раз азарт дискуссии превозмог почтение к висту.
– Даже если индусы или индейцы разберут рельсы? – Эндрю Стюарт громко захохотал. – А если они примутся останавливать поезда, грабить вагоны, сдирать скальпы с пассажиров?
– Все учтено, – повторил Филеас Фогг, открывая свои карты, и добавил: – Два старших козыря.
Эндрю Стюарт, чья очередь подошла «сдавать», собрал карты со словами:
– Теоретически вы правы, мистер Фогг, но на практике…
– На практике тоже, мистер Стюарт.
– Хотел бы я посмотреть, как вы осуществили бы подобное предприятие.
– Дело за вами. Отправимся вместе.
– Боже меня упаси! – воскликнул Стюарт. – Но готов держать пари на четыре тысячи фунтов (100 000 франков), что в существующихусловиях это невыполнимо.
– Напротив, вполне возможно, – отвечал мистер Фогг.
– Что ж, предлагаю вам это сделать!
– Объехать вокруг света за восемьдесят дней?
– Да.
– Охотно.
– Когда?
– Немедленно.
– Это безумие! – воскликнул Эндрю Стюарт, начиная раздражаться: настойчивость партнера бесила его. – Давайте лучше играть.
– В таком случае раздайте карты заново, – отвечал Филеас Фогг. – Они сданы неправильно.
Разгоряченный Стюарт дрожащей рукой собрал карты, но тут же внезапно швырнул их на стол.
– Что ж, будь по-вашему, мистер Фогг! Ставлючетыре тысячи фунтов! Да!
– Дорогой Стюарт, – вмешался Фаллентэн, – успокойтесь. Это несерьезно.
– Когда я говорю, что держу пари, это всегда серьезно, – отрезал Эндрю Стюарт.
– Идет! – бросил мистер Фогг. Затем, повернувшись к партнерам, заявил: – У меня есть двадцать тысяч ливров в банке братьев Бэринг. Я охотно рискну ими…
– Двадцать тысяч фунтов, полмиллиона франков! – возопил Джон Сэлливен. – Вы готовы лишиться двадцати тысяч из-за какой-то непредвиденной задержки?
– Непредвиденного не существует, – просто ответил Филеас Фогг.
– Но, мистер Фогг, восемьдесят дней – срок, который высчитывался как самый минимальный.
– Минимум, с толком использованный, – это все, что требуется.
– Однако, чтобы его не превысить, надо с математической точностью перепрыгивать из поездов прямиком на пакетботы, а с пакетботов на поезда!
– Я буду перепрыгивать именно так.
– Да нет же, вы шутите!
– Истинный англичанин никогда не шутит, когда дело касается такой серьезной вещи, как пари, – заявил Филеас Фогг. – Ставлю двадцать тысяч фунтов, что объеду вокруг света за восемьдесят дней или того меньше, иначе говоря, за тысячу девятьсот двадцать часов, или за сто пятнадцать тысяч двести минут. Кто-нибудь примет пари?
– Принимаем, – сказали, посовещавшись, Стюарт, Фаллентэн, Сэлливен, Флэнеган и Ральф.
– Хорошо, – мистер Фогг кивнул. – Поезд в Дувр отходит в восемь сорок пять. Я поеду этим поездом.
– Нынче вечером? – спросил Стюарт.
– Именно, – подтвердил Филеас Фогг. – Стало быть, – уточнил он, сверившись со своим карманным календарем, – коль скоро сегодня среда 2 октября, я должен возвратиться в Лондон, в эту самую гостиную, в субботу 21 декабря, в восемь часов сорок пять минут вечера, если же нет, двадцать тысяч фунтов, хранящиеся на моем счете у братьев Бэринг, законно и по праву перейдут в ваше владение, господа.
Протокол пари был составлен и тут же подписан шестью заинтересованными лицами. Филеас Фогг сохранял полнейшее хладнокровие. Он заключил это пари, разумеется, не затем, что рассчитывал приумножить таким образом свой капитал, и эти двадцать тысяч – половину того, что имел, – поставил на кон, предвидя, что вторую половину придется потратить ради успешного завершения своего трудного, чтобы не сказать невыполнимого плана. Что до его противников, они казались взволнованными – не из-за непомерного размера заклада, а потому, что им было несколько неловко ввязываться в борьбу на подобных условиях.
Часы пробили семь. Мистеру Фоггу посоветовали прервать игру, чтобы выкроить время для подготовки к путешествию.
– Я всегда готов! – бесстрастно отвечал джентльмен, раздавая карты.
– Бубны козыри, – объявил он. – Ваш ход, мистер Стюарт.
Глава IV
в которой Филеас Фогг ошарашивает Паспарту, своего лакея
В семь часов двадцать пять минут Филеас Фогг, выиграв в вист двадцать гиней, распрощался с достопочтенными партнерами и покинул Реформ-клуб. Когда он, открыв дверь, вошел в свой особняк, на часах было семь пятьдесят.
Паспарту, успевший тщательно изучить распорядок дня, несколько удивился, увидев мистера Фогга, допустившего столь предосудительную неточность, как появление в неурочный час. Ведь согласно оставленной им инструкции обитатель Сэвилл-роу должен был вернуться домой ровно в полночь, не раньше.
Филеас Фогг направился прямиком в свою комнату и окликнул слугу:
– Паспарту!
Тот и ухом не повел. Этот зов не мог относиться к нему. Еще не время.
– Паспарту! – повторил мистер Фогг, не повышая голоса.
Теперь Паспарту предстал перед ним.
– Я уже второй раз вас зову, – заметил мистер Фогг.
– До полуночи далеко, – ответил Паспарту, держа в руке часы.
– Знаю, – сказал Филеас Фогг, – и потому не упрекаю вас. Через десять минут мы едем в Дувр, а затем в Кале.
На круглом лице француза проступило что-то вроде гримасы. Было заметно, что он с трудом верит собственным ушам.
– Мсье уезжает?
– Да, – отвечал Филеас Фогг. – Мы отправляемся в кругосветное путешествие.
Тут Паспарту неимоверно вытаращил глаза, брови у него сами собой поползли вверх, руки бессильно опустились, тело обмякло – все его существо являло признаки изумления, доходящего до полного помутнения.
– Кругосветное путешествие!.. – пробормотал он.
– За восемьдесят дней, – сообщил мистер Фогг. – Итак, мы не можем терять ни секунды.
– Но как же багаж?.. – выговорил Паспарту, непроизвольно качая головой: она клонилась то вправо, то влево.
– Никакого багажа. Только дорожная сумка, две шерстяные рубахи, три пары носков. Для вас то же самое. Остальное купим по дороге. Захватите мой макинтош и плед. Наденьте удобную обувь. Впрочем, ходить мы будем мало. Или совсем не будем. Ступайте.
Паспарту хотел воспротивиться. Но не смог. Он вышел из комнаты мистера Фогга, поднялся к себе и рухнул на стул, пробормотав на языке отчизны довольно-таки вульгарную фразу. «Ах! – сетовал он. – Это уж слишком! Вот каналья! Я так хотел покоя, и надо же, чтобы именно со мной…»
А сам уже машинально приступил к дорожным приготовлениям. Вокруг света за восемьдесят дней! Уж не связался ли он с сумасшедшим? Нет… Или это шутка? Ехать в Дувр, ну, куда ни шло. В Кале, так и быть, пусть. Да это и не может слишком огорчить славного парня, пять лет не ступавшего на родную землю. Может, они идо Парижа доберутся? Право слово, он бы рад снова повидать великую столицу. Но джентльмен, который столь бережно расходует каждый свой шаг, конечно, далеко не уедет… Да, само собой, оно так, а тем не менее он уезжает, этот джентльмен, до сей поры такой домосед, он хочет сдвинуться с места!
К восьми часам Паспарту уложил в скромный саквояж вещи своего господина и собственные пожитки, потом, все еще взбудораженный, вышел из комнаты, тщательно запер за собой дверь и направился к мистеру Фоггу. Тот уже был готов. В руках он держал знаменитый «Путеводитель по континентальным железным дорогам» Джорджа Брэдшоу, призванный снабдить его всеми сведениями, необходимыми для путешествия по суше и по морю. Он взял из рук Паспарту дорожную сумку, раскрыл и сунул туда толстую пачку новеньких банкнот, имеющих хождение во всех странах мира.
– Вы ничего не забыли? – осведомился он.
– Ничего, сударь.
– Мой макинтош и плед?
– Вот они.
– Хорошо, возьмите сумку.
И мистер Фогг передал саквояж Паспарту.
– Берегите его, – сказал он. – Там двадцать тысяч фунтов.
Паспарту чуть не выронил сумку, как будто эти двадцать тысяч были в золоте и вес имели соответствующий.
Затем господин и слуга спустились вниз, и ключ, запиравший дверь, ведущую на улицу, повернулся дважды.
Станция дилижансов находилась в конце Сэвилл-роу. Филеас Фогги его слуга сели в кэб, который быстро покатил к вокзалу Черинг-Кросс, откуда берет начало одна из веток Юго-Восточной железной дороги. В двадцать минут девятого кэб остановился перед оградой вокзала. Паспарту спрыгнул на землю. Его хозяин последовал за ним и расплатился с кучером. Тут к мистеру Фоггу приблизилась нищенка, державшая за руку ребенка; ее босые ноги были грязны, на голове потрепанная шляпа с жалким пером, сама в рубище, на плечах изодранная шаль. Она попросила милостыню. Филеас Фогг вытащил из кармана двадцать гиней, которые только что выиграл в вист, и протянул их нищей.
– Возьмите, милая женщина, – сказал он. – Я рад, что встретил вас!
И пошел дальше.
Паспарту почувствовал, что у него как будто повлажнело под веками. Хозяин стал ближе его сердцу.
Вскоре они с мистером Фоггом достигли здания вокзала и вошли в большой зал. Там Филеас Фогг распорядился, чтобы Паспарту купил два билета первого класса до Парижа. Потом, обернувшись, увидел своих пятерых коллег из Реформ-клуба.
– Господа, я еду, – сказал он. – Проделанный мной путь вы сможете по возвращении проследить по различным визам, проставленным в моем паспорте.
– О мистер Фогг, – учтиво запротестовал Готье Ральф, – в этом нет надобности. Мы полагаемся на вашу честь джентльмена!
– Что ж, тем лучше, – обронил тот.
– Но вы не забыли, что вам надо возвратиться… – начал Эндрю Стюарт.
– Через восемьдесят дней, – прервал его мистер Фогг, – в субботу 21 декабря 1872 года, в восемь часов сорок пять минут вечера. До свиданья, господа!
В восемь сорок Филеас Фогг и его слуга заняли места в своем купе. Пять минут спустя раздался свисток, и поезд тронулся.
Ночь выдалась темная. Моросил мелкий дождик. Филеас Фогг, прислонившись в уголке, сидел молча. Паспарту, все еще порядком ошарашенный, машинально прижимал к себе саквояж с банкнотами.
Поезд еще не миновал Сайденхема, когда из уст слуги вырвался самый настоящий вопль отчаяния!
– Что с вами? – осведомился мистер Фогг.
– Дело в том, что я… впопыхах… от волнения… забыл…
– О чем?
– Погасить газовый рожок в своей комнате.
– Что ж, мой милый, – спокойно ответил мистер Фогг, – он будет гореть за ваш счет!
Глава V
где возникает новая ценность, способная котироваться на бирже
Покидая Лондон, Филеас Фогг наверняка не представлял, сколько шума наделает его отъезд. Сначала слухи о пари распространились внутри Реформ-клуба, не на шутку взбудоражив его достопочтенных членов. Затем стараниями репортеров ажиотаж выплеснулся на страницы газет, захватив лондонскую публику, а там – и все Соединенное королевство.
«Историю о кругосветном путешествии» обсуждали, о ней спорили, ее разбирали по косточкам, словно речь шла о каком-нибудь международном политическом скандале, схожем с «Алабамской распрей». Одни принимали сторону Филеаса Фогга, другие – именно последние вскоре сформировали внушительное большинство – высказывались против. Затея объехать вокруг света за минимально возможный срок не умозрительно, не на бумаге, пользуясь средствами передвижения, доступными в наши дни, – это не просто невозможно, утверждали они, это – чистое безумие!
«Тайме», «Стандард», «Ивнинг стар», «Морнинг кроникл» и десятка два других весьма популярных газет выразили неодобрение мистеру Фоггу. Лишь «Дейли телеграф» хоть отчасти поддержала его. Филеаса Фогга дружно объявили маньяком, психопатом, досталось и его коллегам по Реформ-клубу: их порицали за согласие на пари, столь явно изобличавшее умственное расстройство того, кто мог такое предложить.
Чрезвычайно запальчивые, но и четко логичные статьи, посвященные этой теме, появлялись одна за другой. Как известно, англичане питают особый интерес ко всему, что касается географии. А потому не нашлось ни одного читателя, к какому бы общественному слою он ни принадлежал, кто не заглатывал бы с жадностью газетные колонки, посвященные затее Филеаса Фогга.
Поначалу некоторые смелые умы – преимущественно женские – еще выражали ему симпатии, особенно когда в «Иллюстрейтед Лондон ньюс» появилась его фотография, взятая из архива Реформ-клуба. Некоторые джентльмены тоже отваживались говорить: «Гм-гм! В конце концов, почему бы и нет? Случались вещи и более невероятные!» В основном это были читатели «Дейли телеграф». Но вскоре стало заметно, что и эта газета начинает сдавать позиции.
И было отчего: 7 октября появилась длинная статья в «Известиях Королевского географического общества». Она рассматривала вопрос с разных точек зрения и тем вразумительнее демонстрировала безрассудство подобного предприятия. Согласно этой статье все было против путешественника: его ждали препятствия, чинимые как людьми, так и природой. Чтобы успешно осуществить такой план, потребовалась бы волшебная согласованность часов отправления и прибытия – согласованность, которой нет и быть не может.
Что касается Европы, занимающей относительно небольшой отрезок пути, там, по крайней мере, можно рассчитывать, что поезда будут придерживаться расписания, но как полагаться на подобную же точность, планируя пересечь Индию за три дня, а Соединенные Штаты за неделю? А технические неисправности, схождения с рельс, нежелательные столкновения, ненастное время года, снежные заносы? Разве все это не встанет на пути Филеаса Фогга? В зимнюю пору на борту пакетботов не будет ли он зависеть от вихрей и туманов? Нередко случается, что даже лучшие покорители водных пространств при трансокеанских рейсах опаздывают с прибытием в порт назначения на двое-трое суток. А ведь достаточно одного такого опоздания, одного-единственного, чтобы вся запланированная цепочка сменяющих друг друга средств сообщения непоправимо рассыпалась. Стоит Филеасу Фоггу, потеряв всего каких-нибудь несколько часов, пропустить очередной пакетбот, и ему придется ждать следующего, так что его вояж будет окончательно испорчен.
Статья наделала шума. Почти все газеты перепечатали ее, и тут-то акции Филеаса Фогга изрядно понизились.
После отъезда этого джентльмена за первые несколько дней по поводу его «рискованного предприятия» стали заключаться крупные пари. Как известно, Англия – страна любителей «биться об заклад», сообщество спорщиков представляет собой целый мир, более интеллигентный и просвещенный, нежели мир обычных игроков. Держать пари – это пристрастие заложено в природе британского характера. Вот почему не только члены Реформ-клуба принялись вкладывать весьма основательные суммы, делая ставки за или против Филеаса Фогга: движение, разрастаясь, увлекло множество их сограждан. Уподобившись беговой лошади, внесенной в список призовых рысаков, Филеас Фогг приобрел особую ценность. И в этом качестве тотчас стал котироваться на лондонской бирже. На «Филеаса Фогга» возник спрос, «его» приобретали и продавали за наличные или в кредит; он стал объектом крупных сделок. Но спустя пять дней после его отъезда, когда появилась статья в «Известиях Королевского географического общества», предложение резко превысило спрос. «Филеас Фогг» падал в цене. Его предлагали пачками. Сначала против него ставили по пять или по десять, затем уже по двадцать, по пятьдесят или по сто против одного!
Однако один верный стороннику него остался. То был старый, разбитый параличом лорд Олбермейл. Почтенный джентльмен, прикованный к креслу, отдал бы все свое состояние, чтобы объехать вокруг света хоть лет за десять! Вот он и поставил на Филеаса Фогга пять тысяч фунтов (100 000 франков). И когда ему доказывали, что затея этого господина не только глупа, но и обречена на провал, он отвечал:
– Если это в принципе осуществимо, желательно, чтобы первым, кто это сделает, стал англичанин!
Однако в общем, так или сяк, ряды сторонников Филеаса Фогга редели, подавляющее большинство настроилось против, ставки теперь делались сто пятьдесят-двести к одному; когда же через неделю после его отъезда в дело вмешался совершенно непредвиденный поворот событий, он был окончательно сброшен со счетов.
В тот день и впрямь случилось неожиданное – в столицу пришло по телеграфу следующее донесение:
«Из Суэца в Лондон.
Роуэну, начальнику полиции, центральное управление, Скотланд-плэйс.
Я преследую вора, обокравшего Английский банк, это – Филеас Фогг. Безотлагательно вышлите ордер на арест в Бомбей (Британская Индия).
Фикс, полицейский агент».
Донесение произвело мгновенный ошеломляющий эффект. Почтенного джентльмена более не существовало – его место занял вор, утащивший банкноты. Фотография мистера Фогга, что хранилась в Реформ-клубе наряду с фотографиями прочих его членов, подверглась скрупулезному изучению. Она точь-в-точь соответствовала описаниям неизвестного, чьи приметы были выявлены в ходе следствия. Припомнили и все то, что было таинственного в образе жизни Филеаса Фогга, его замкнутость, его внезапный отъезд. Казалось очевидным, что этот субъект под предлогом нелепого пари затеял кругосветный вояж исключительно затем, чтобы сбить со следа агентов английской полиции.
Глава VI
в которой агент Фикс проявляет вполне законное нетерпение
Эта депеша относительно Филеаса Фогга была отправлена при следующих обстоятельствах. В среду, 9 октября, к одиннадцати часам утра, в порту Суэца ждали пакетбот «Монголия» компании «Пенинсула энд Ориентл Стим Навигейшн». Это был трехпалубный железный винтовой пароход грузоподъемностью в две тысячи восемьсот тонн и номинальной мощностью в пятьсот лошадиных сил. «Монголия» совершала регулярные рейсы между Бриндизи и Бомбеем через Суэцкий канал. Этот пароход считался одним из самых быстроходных судов названной компании: согласно установленному регламенту, его скорость составляла 10 миль в час на отрезке пути между Бриндизи и Суэцем и 9,53 – между Суэцем и Бомбеем, причем обычно «Монголия» шла даже несколько быстрее.
В ожидании ее прибытия по набережной прогуливались двое мужчин, затерянных в толпе местных жителей и иностранцев, нахлынувших в этот город – еще недавно заурядный поселочек, – которому великое творение господина Лессепса обеспечило солидную будущность.
Один из этих двоих служил у английского консула в Суэце; наперекор мрачным прогнозам британских властей и зловещим предсказаниям инженера Стефенсона он ежедневно наблюдал, как по каналу проходят британские суда, тем самым вдвое сокращая путь из Англии в Индию, вместо того чтобы, как встарь, огибать мыс Доброй Надежды.
У другого, худощавого, невысокого, было нервное, довольно умное лицо, на котором особенно привлекали внимание упрямо насупленные брови. Сквозь длинные ресницы блестели чрезвычайно живые глаза, чей острый взгляд их обладатель при надобности умел пригашать. Сейчас он проявлял признаки нетерпения и, не в силах оставаться на месте, расхаживал взад и вперед.
То был некто Фикс, один из детективов, иначе говоря, агентов британской полиции, которых разослали по всевозможным портам в связи с похищением денег из Английского банка. Этому Фиксу поручили смотреть в оба, приглядываясь ко всем пассажирам, держащим путь в Суэц, и если кто-либо из них покажется подозрительным, следовать за ним по пятам, пока не прибудет ордер на арест.
Прошло как раз двое суток с того момента, когда Фикс получил от начальника лондонской полиции описание внешности предполагаемого похитителя. Речь шла о том хорошо одетом, с виду почтенном джентльмене, который был замечен тогда в банковском зале выплат.
И вот детектив, по всей видимости, не на шутку прельстившись щедрой наградой, обещанной в случае успеха, с понятным нетерпением ждал прибытия «Монголии».
– Стало быть, господин консул, вы говорите, что это судно не может опоздать? – уже во второй раз спросил он.
– Нет, господин Фикс, – отвечал его собеседник. – Вчера, по нашим сведениям, оно находилось в открытом море близ Порт-Саида, а пройти сто шестьдесят километров по каналу для такого корабля не задача. Говорю же вам: «Монголия» никогда не упускала приз в двадцать пять фунтов, который правительство выделяет за сутки, выигранные сверх расписания.
– Этот пакетбот идет прямиком из Бриндизи? – спросил Фикс.
– Ну-да, из самого Бриндизи, он там забирает почту для Индии. Он вышел из Бриндизи в субботу в пять вечера. Такчтоне беспокойтесь, он не замедлит прибыть. Но если этот ваш тип и окажется на борту «Монголии», я, сказать по правде, не понимаю, как по тем приметам, что вам прислали, вы сможете его узнать.
– Господин консул, – изрек Фикс, – этих людей не столько узнаешь, сколько чуешь. Тут надо иметь нюх, особое чутье, которое можно уподобить слуху, зрению и обонянию. За свою жизнь я арестовал немало подобных джентльменов и ручаюсь вам: если вор окажется на борту, ему от меня не улизнуть.
– Что ж, желаю удачи, господин Фикс. Ведь речь идет о довольно неординарной краже.
– Великолепная кража! – воскликнул сыщик с восторгом. – Пятьдесят пять тысяч фунтов! Нечасто нам попадается такая добыча. Воры измельчали! Шепарда по нашим временам не встретишь, его наследники вырождаются! Теперь на виселицу идут за каких-нибудь несколько шиллингов!
– Господин Фикс, – консул усмехнулся, – вы говорите с таким вдохновением, что я еще больше желаю вам преуспеть. Но, повторяю: вы поставлены в такие условия, что, боюсь, это будет трудно. Заметьте: по приметам, которыми вас снабдили, этот вор выглядит как порядочный человек.
– Видите ли, господин консул, – ответил полицейский инспектор назидательным тоном, – крупные воры всегда похожи на приличных людей. Надо вам заметить, что у тех, кто похож на прохвоста, нет другого выхода, как только оставаться законопослушными, в противном случае их мигом сцапают. А вот у кого лицо честное – с теми в первую очередь держи ухо востро. Да, нелегкая у нас работа, должен признаться. Это не столько профессия, сколько искусство.
Как видим, самомнения вышеназванному Фиксу было не занимать.
Между тем народу на набережной становилось все больше. Ее наводняли теперь разноплеменные моряки, торговцы, носильщики, феллахи. По всей видимости, до прибытия пакетбота оставалось совсем немного.
Погода стояла довольно хорошая, но дул холодный восточный ветер. Несколько минаретов, озаренные бледными лучами солнца, четко вырисовывались на фоне неба над городом. На рейде Суэца, словно простертая рука, тянулся к югу длинный двухкилометровый пирс. По волнам Красного моря скользили несколько рыбацких и каботажных суденышек, иные из которых изяществом силуэтов напоминали античные галеры.
Блуждая среди густеющей толпы, Фикс стремительным, профессионально цепким взглядом привычно осматривал встречных.
Время подошло к половине одиннадцатого.
– Да он никогда не прибудет, этот пакетбот! – воскликнул сыщик, услыхав бой часов.
– Наверняка он уже близко, – промолвил консул.
– Сколько он простоит в Суэце? – спросил Фикс.
– Четыре часа. Время, нужное для загрузки угля. Ему необходимо немало топлива: от Суэца плыть через Аден, а это же дальняя оконечность Красного моря, 1310 миль пути.
– А из Суэца судно направится прямо в Бомбей? – поинтересовался Фикс.
– Да, прямиком, без дополнительной загрузки топлива.
– Что ж, – сказал Фикс, – если вор избрал этот путь и это судно, он наверняка планирует сойти на берег в Суэце, чтобы другим путем достигнуть голландских или французских владений. Он не может не понимать, что плыть в Индию ему опасно, это английская территория.
– Вы правы, если это человек не слишком отчаянный, – отвечал консул. – Знаете, преступнику, ежели он британец, всегда легче скрываться в Лондоне, чем за границей.
Поделившись этим соображением, давшим сыщику серьезный повод пораскинуть мозгами, консул отправился в свою контору, которая располагалась неподалеку. Полицейский инспектор остался один, объятый нервным нетерпением. Им овладело до странности острое предчувствие, что долгожданный вор должен находиться на борту «Монголии». Да и в самом деле, если этот проходимец покинул Англию с намерением перебраться в Новый Свет, он вряд ли станет пересекать Атлантику: путь через Индию, где властям труднее осуществлять надзор, для него предпочтительнее.
Фиксу не пришлось долго предаваться этим размышлениям. Раздался пронзительный гудок, возвещающий о прибытии пакетбота. Орда носильщиков и феллахов ринулась к причалу, создавая толкучку, не вполне безопасную для одежды пассажиров и даже грозящую легким членовредительством. Десяток лодок, отчалив от берега, устремился навстречу «Монголии».
Вскоре стал виден ее гигантский корпус, бороздящий воды канала; когда пакетбот встал на рейд, с шумом извергая пар из выпускных труб, часы как раз пробили одиннадцать.
Пассажиров на борту оказалось довольно много. Некоторые, оставаясь на палубе, любовались живописной панорамой города, но большинство стало спускаться в облепившие «Монголию» лодки.
Фикс самым придирчивым образом разглядывал тех, кто сходил на берег.
И тут один из них, энергично растолкав феллахов, осаждавших его предложениями услуг, приблизился к сыщику и в высшей степени учтиво осведомился, не укажет ли тот ему, как пройти в британское консульство. При этом пассажир предъявил ему паспорт, в котором, видимо, желал проставить английскую визу.
Машинально взяв паспорт, Фикс мигом пробежал глазами указанные в нем данные.
Он насилу смог скрыть порыв охотничьего азарта. Листок задрожал в его руке. Приметы, указанные в паспорте, полностью соответствовали тем, которыми снабдил его начальник полиции метрополии.
– Это не ваш паспорт? – спросил он пассажира.
– Нет, – подтвердил тот. – Это паспорт моего хозяина.
– А где же он сам?
– Остался на борту.
– Но ему же нужно лично явиться в контору консульства, чтобы подтвердить свою идентичность.
– Вот еще! Это так необходимо?
– Абсолютно необходимо.
– А где она, эта контора?
– Вон там, в дальнем конце площади, – инспектор указал на здание, расположенное в сотне метров от собеседников.
– Тогда мне придется сбегать за хозяином. Однако ему это совсем не понравится, он беспокойства не терпит!
На том пассажир и простился с Фиксом, спеша вернуться на борт парохода.
Глава VII
где лишний раз доказывается бесполезность паспортов там, где имеешь дело с полицией
Инспектор тотчас покинул набережную и поспешил в консульство. Уступая настоятельным требованиям, его без промедления провели к консулу.
– Господин консул, – заявил он без предисловий, – у меня имеются веские основания полагать, что интересующий нас субъект прибыл на борту «Монголии»!
И Фикс пересказал ему беседу, состоявшуюся по поводу паспорта между ним и тем слугой.
– Отлично, мистер Фикс, – ответил консул. – Я бы и сам не прочь посмотреть в лицо этому мошеннику. Но если он и впрямь тот, за кого вы его принимаете, он, может быть, и не сунется в мою контору. Вор не любит оставлять за собой следы, к тому же все эти формальности, связанные с паспортами, не столь обязательны.
– Надо полагать, это весьма крепкий орешек, господин консул, – возразил полицейский агент. – А если так, он сюда явится.
– Чтобы завизировать свой паспорт?
– Да. Паспорта всегда создают лишние хлопоты порядочным людям, а проходимцам только помогают скрыться. Уверяю вас: у этого паспорт наверняка в полном порядке. Но я от души надеюсь, что вы его не завизируете…
– Каким образом? – удивился консул. – Если паспорт в порядке, я не вправе отказать в визе.
– Тем не менее, господин консул, мне нужно задержать этого человека здесь до тех пор, пока из Лондона не прибудет ордер на арест.
– Ну, господин Фикс, это ваше дело, – сказал консул, – что до меня, я не могу…
Закончить фразу консул не успел. Раздался стук в дверь, и, сопровождаемые клерком, в кабинет вошли двое иностранцев, один из которых оказался тем самым слугой, который только что разговаривал с детективом.
Это и впрямь были господин и слуга. Первый предъявил свой паспорт, кратко высказав просьбу о том, чтобы консул соблаговолил проставить в нем визу.
Тот взял паспорт и стал внимательно изучать его, между тем как Фикс из угла кабинета созерцал, а точнее пожирал иностранца глазами.
Закончив чтение, консул спросил:
– Итак, вы Филеас Фогг, эсквайр?
– Да, сударь, – отвечал джентльмен.
– А этот человек ваш слуга?
– Да. Француз по имени Паспарту.
– Вы прибыли из Лондона?
– Да.
– А куда направляетесь?
– В Бомбей.
– Хорошо, сударь. Вам известно, что мы больше не настаиваем на предъявлении паспортов, такчто оформление визы – ненужная формальность?
– Я это знаю, – отвечал Филеас Фогг, – но хочу, чтобы ваша виза послужила подтверждением того, что я проехал через Суэц.
– Будь по-вашему, сударь.
И консул, проставив в паспорте дату и подпись, приложил свою печать.
Мистер Фогг оплатил визовую пошлину, холодно откланялся и вышел, сопровождаемый слугой.
– Что скажете? – спросил инспектор.
– Скажу, что он выглядит вполне порядочным человеком!
– Возможно, – отвечал Фикс, – однако он отнюдь не является тем, кем выглядит. Разве вы не заметили, господин консул, что этот тип точь-в-точь соответствует описанию вора, о котором нам сообщили?
– Согласен, но, знаете ли, все эти описания…
– Тут совесть моя будет чиста, – настаивал Фикс. – Его слуга, по-моему, не столь непроницаем. К тому же он француз, а следовательно, не сможет удержаться, проболтается. Итак, до скорой встречи, господин консул.
С этими словами сыщик удалился, чтобы пуститься на поиски Паспарту.
Что до мистера Фогга, тот, покинув консульство, направился к набережной. Дав слуге кое-какие поручения, он затем сел в лодку, возвратился на борт «Монголии» и заперся у себя в каюте. Там он раскрыл записную книжку, где значилось:
«Отправление из Лондона – среда 2 октября, 8 часов вечера.
Прибытие в Париж – четверг 3 октября, 7 часов 20 минут утра.
Отъезд из Парижа – четверг, 8 часов 40 минут утра.
Прибытие в Турин через Мон-Сени – пятница 4 октября, 6 часов 35 минут утра.
Отъезд из Турина – пятница, 7 часов 20 минут утра.
Прибытие в Бриндизи – суббота 5 октября, 4 часа дня.
Отплытие на «Монголии» – суббота, 5 часов вечера.
Прибытие в Суэц – среда 9 октября, 11 часов утра.
Всего потрачено 158,5 часов, или 6,5 суток».
Все эти даты мистер Фогг вписывал в путевой дневник, разграфленный на колонки, где были со 2 октября по 21 декабря заблаговременно отмечены месяц, число и день запланированного прибытия в основные пункты: Париж, Бриндизи, Суэц, Бомбей, Калькутту, Сингапур, Гонконг, Иокогаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ливерпуль, Лондон, а также оставлено место для указания прибытия фактического, дабы легко было высчитать, сколько времени выиграно или потеряно на каждом этапе путешествия.
Подобный метод ведения путевых записей позволял мистеру Фоггу ничего не упустить и всегда точно знать, опережает он свой план или запаздывает.
Итак, сегодня, в среду 9 октября, он записал, что прибыл в Суэц согласно установленному сроку, то есть без опоздания, но и без опережения.
Глава VIII
где Паспарту выбалтывает, что может статься, несколько больше, чем следовало
Фиксу потребовалось совсем немного времени, чтобы настигнуть на набережной Паспарту, который слонялся, глазея по сторонам, и не помышлял о том, что лучше бы ему не зевать.
– Что ж, мой друг, – подкатился к нему Фикс, – с вашим паспортом дело уладилось?
– А, это вы, сударь, – француз кивнул. – Благодарю вас, все в полном порядке.
– И теперь вы осматриваете город?
– Да, но мы путешествуем в такой спешке, что мне кажется, будто все это только снится. Настолько, что я даже не уверен, где мы сейчас. Это Суэц?
– Суэц.
– Он в Египте?
– Разумеется.
– Ив Африке?
– В Африке.
– Африка! – повторил Паспарту. – Прямо не верится. Вообразите, сударь, я-то думал, что не придется ехать дальше Парижа, а мне только и довелось посмотреть на эту славную столицу с семи двадцати утра до восьми сорока, в окно фиакра по дороге от Северного вокзала до Лионского, да еще дождь лил как из ведра, стекла запотели! Вот досада! Мне так хотелось побывать на Пер-Лашез! И еще в цирке на Елисейских полях!
– Значит, вы очень торопились? – спросил полицейский инспектор.
– Я-то нет, это все мой хозяин. Кстати, мне же поручено купить носки и рубашки! Мы выехали без багажа, с одной дорожной сумкой.
– Могу проводить вас на базар, там вы найдете все, что вам нужно.
– Сударь, – отвечал Паспарту, – поистине вы сама любезность!
И они зашагали рядом. Паспарту болтал без умолку.
– Главное, – изрек он, – мне надо быть начеку, чтобы не опоздать на пароход.
– Времени у вас еще много, – успокоил его Фикс. – Сейчас всего лишь полдень.
Паспарту достал свои громадные часы, глянул на них и запротестовал:
– Как это полдень? Девять часов пятьдесят две минуты!
– Ваши часы отстают, – заметил Фикс.
– Мои часы?! Фамильные часы, доставшиеся мне от моего прадеда? Да они за целый год сбиваются на пять минут! Это настоящий хронометр!
– Я понял, в чем дело, – объяснил Фикс. – Они все еще идут, как в Лондоне, а тамошнее время часа на два отстает от здешнего. Вам надо не забывать в каждой стране переводить свои часы на местное время.
– Переводить мои часы? – закричал Паспарту. – Ни за что!
– Что ж, тогда их ход перестанет соответствовать движению солнца.
– Тем хуже для солнца, сударь! Это его вина, а не моих часов!
И славный малый величественным жестом опустил часы в жилетный карман.
Выдержав паузу в несколько секунд, Фикс полюбопытствовал:
– Стало быть, вы покинули Лондон в большой спешке?
– Да уж, я бы сказал! В прошлую среду в восемь вечера наперекор всем своим привычкам мистер Фогг вернулся из клуба, и через сорок пять минут мы выехали.
– Но куда же направляется ваш хозяин?
– Все вперед и вперед! Ему подавай кругосветное путешествие!
– Кругосветное? – вскричал Фикс.
– Ну да, вокруг света за восемьдесят дней! Он говорит, что заключил пари, но тут я, между нами будь сказано, ему не верю. Это было бы слишком нелепо. Нет, здесь что-то другое.
– А, значит, он большой оригинал, ваш мистер Фогг?
– Сдается мне, что так.
– И, надо думать, богат?
– Похоже на то. Он с собой прихватил знатную сумму в таких новеньких банкнотах! И денег в дороге не жалеет! Только подумайте: пообещал механику с «Монголии» сказочную награду, если мы придем в Бомбей до срока!
– А давно вы его знаете, этого господина?
– Я-то? – Паспарту ухмыльнулся. – Ничуть не бывало: я поступил к нему на службу как раз в день нашего отъезда.
Нетрудно вообразить, как подействовали подобные ответы на и без того перевозбужденное воображение полицейского инспектора. Поспешный отъезд из Лондона вскоре после кражи, увезенная при этом крупная сумма, нетерпение поскорее добраться до дальних стран, эксцентричное пари, выдуманное явно лишь как повод, – все подтверждало подозрения Фикса, да иначе и быть не могло. Поощряя француза к дальнейшей болтовне, он уверился, что этот парень и впрямь знать не знал своего господина, однако слышал, что тот ведет в Лондоне крайне замкнутую жизнь, слывет богачом, но о происхождении его средств ничего не известно, что вообще это человек-загадка и т. д.
В то же время Фикс мог теперь считать делом решенным, что Филеас Фогг не высадится в Суэце, а действительно направляется в Бомбей.
– А что, Бомбей – это далеко? – спросил Паспарту.
– Неблизко, – ответил сыщик. – Вам еще дней десять придется плыть морем.
– Скажите, а где он, этот Бомбей?
– В Индии.
– Это в Азии?
– Несомненно.
– Черт! Я вот что вам скажу… есть одна вещь, которая меня мучает… мой рожок!
– Какой рожок?
– Газовый. Я его забыл погасить, и он теперь горит за мой счет. Вот я и посчитал, что там за сутки нагорает на два шиллинга, это ровно на шесть пенсов больше, чем я зарабатываю в день. Вы же понимаете, если путешествие затянется…
Понял ли Фикс, что там за история с газовым рожком? Едва ли. Он больше не слушал: он уже знал, что намерен делать. Между тем они с французом подошли к базару. Фикс предоставил своему спутнику делать покупки, пожелал не опоздать на «Монголию» и со всех ног поспешил в консульство.
Теперь, когда решение было принято, к нему вернулось все его обычное хладнокровие.
– Сударь, – объявил он консулу, – у меня не осталось более никаких сомнений. Я нашел вора. Он выдает себя за эксцентричного чудака, которому вздумалось объехать вокруг света за восемьдесят дней.
– Значит, он хитрец, каких мало, – заметил консул. – Рассчитывает вернуться в Лондон, сбив со следа полицию двух континентов!
– Это мы еще посмотрим, – процедил Фикс.
– Но не ошибаетесь ли вы? – в который раз засомневался консул.
– Не ошибаюсь.
– Если так, зачем понадобилось этому вору подтверждать визой, что он проезжал Суэц?
– Зачем? Да не знаю, господин консул, – отмахнулся детектив, – но послушайте, что я вам скажу.
И он вкратце изложил собеседнику наиболее впечатляющие факты, почерпнутые из беседы с лакеем вышеупомянутого Фогга.
– Действительно, – вздохнул консул, – все говорит против этого человека. И что же вы собираетесь делать?
– Отправить в Лондон депешу с настоятельной просьбой выслать мне в Бомбей ордер на арест, а самому отплыть на «Монголии», последовать за вором в Индию и там, благо это английская территория, самым учтивым образом подкатиться к негодяю с ордером в одной руке, чтобы тут же положить другую ему на плечо.
Спокойно отчеканив эту фразу, сыщик распрощался с консулом и направился на телеграф. Оттуда он послал начальнику полиции метрополии уже известную нам депешу.
Спустя четверть часа Фикс с легким багажом, однако запасшись достаточной суммой денег, взошел на борт «Монголии», и вскоре быстроходное судно уже бороздило на всех парах воды Красного моря.
Глава IX
в которой Красное море и Индийский океан благоприятствуют намерениям Филеаса Фогга
Расстояние от Суэца до Адена – ровно 1310 миль. На то, чтобы его одолеть, Компания, согласно условиям договора, предоставляла своим пакетботам 138 часов. Огонь в топках «Монголии» пылал жарче некуда, и судно неслось вперед, по-видимому, обещая прибыть в порт раньше намеченного срока.
Большинство пассажиров, взошедших на борт в Бриндизи, намеревались в дальнейшем разъехаться по всей Индии. Одни держали путь в Бомбей, другие в Калькутту, но для многих Бомбей был лишь перевалочным пунктом, ведь с тех пор, как индийский полуостров из края в край пересекла железная дорога, у путников отпала необходимость огибать Цейлон.
Среди пассажиров «Монголии» находились штатские чиновники и офицеры различных рангов. Кое-кто из последних состоял собственно в рядах британской армии, другие командовали подразделениями сипаев – войска, сформированного из местных жителей. Все они даже по нынешним временам, когда государство приняло на себя обязанности и права угасавшей Ост-Индской компании, получали щедрое содержание: жалованье младшего лейтенанта равнялось 7 тысячам франков, бригадному начальнику причиталось 60 тысяч, генералу – 100 тысяч[2].
Поэтому на борту «Монголии», в кругу чиновников, куда замешалось несколько молодых англичан, прибывших сюда с миллионами в кармане, чтобы заняться коммерцией вдали от отечественных контор, жизнь текла не без приятности. Казначей, доверенное лицо Компании, по части полномочий равный капитану, роскошествовал. За утренним завтраком, за ленчем в два часа дня, за обедом в половине шестого и ужином в восемь часов столы ломились от свежайших мясных блюд и закусок, приготовленных на камбузе или доставленных из кладовых судна. Дамы – среди пассажиров было несколько особ женского пола – меняли туалеты два раза в день. На пароходе играла музыка, даже танцы устраивали, если позволяла погода.
Однако Красное море, как все узкие и длинные заливы, весьма капризно и часто преподносит дурные сюрпризы. Стоило ветру задуть хоть со стороны Азии, хоть с африканского побережья, и длинный корпус «Монголии», этакое длинное веретено с винтом, шедшее бортом к волне, испытывал ужасную качку. Тогда дамы исчезали с палубы, пианино немело, песни и танцы мгновенно прекращались. Но мощный судовой двигатель наперекор вихрю и волнам гнал корабль к Баб-эль-Мандебскому проливу, не замедляя хода.
Чем в это время занимался Филеас Фогг? Могут подумать, что он, непрестанно волнуясь, томясь от тревоги, следил за переменами ветра, который, мешая нормальному ходу корабля, вызывал беспорядочную тряску, способную привести к поломке машины, грозил причинить одну из возможных аварий, что вынудило бы «Монголию» сделать незапланированную остановку в каком-нибудь порту, тем самым разрушив его планы?
Ничуть не бывало! По крайней мере, если наш джентльмен и задумывался о вероятности подобных происшествий, внешне его беспокойство никак не проявлялось. Это был все тот же бесстрастный господин, невозмутимый член Реформ-клуба, поразить которого не под силу никакому инциденту, никакой катастрофе. Казалось, он нервничает не больше, чем бортовые хронометры. На палубе он появлялся лишь изредка. Его не прельщало созерцание навевающего богатые воспоминания Красного моря, этих подмостков, где разыгрывались первые сцены истории человечества. Он не выходил из каюты, чтобы взглянуть на экзотические города, рассеянные по побережью, чьи живописные очертания порой явственно вырисовывались на горизонте. Его не заставляли призадуматься даже опасности Арабского залива, о котором античные историки – Страбон, Арриан, Артемидор, Эдриси – упоминали не иначе как с ужасом, а мореплаватели старины никогда не отваживались спускать на его воду свои суда прежде, чем умилостивив богов искупительными жертвоприношениями.
Что же делал этот чудак, запертый на «Монголии»? Во-первых, не пропускал ни одной из четырех ежедневных трапез, ибо ни бортовая качка, ни килевая не могли расшатать равновесие великолепно отлаженной машины, которую являл собой его организм. Ну, а во-вторых, он играл в вист.
Да! Он нашел здесь партнеров, также горячо приверженных этой игре, как он сам: сборщик податей из Гоа, возвращавшийся к месту своей службы, священник, преподобный Децимус Смит, возвращавшийся в Бомбей, и бригадный генерал британской армии, спешивший в Бенарес к своему корпусу, подобно мистеру Фоггу, питали страсть к висту. Молчаливые и сосредоточенные, все четверо проводили за картами целые часы.
Что до Паспарту, морская болезнь его совсем не брала. Он занял каюту в носовой части судна и тоже со вкусом отдавал должное здешней кухне. Надобно признать, что это путешествие, учитывая его условия, отнюдь не претило французу. Парень был доволен, что принимает в нем участие. Славная пища, удобная каюта, к тому же он успел уверить себя, что эта вздорная блажь не занесет его господина дальше Бомбея.
На следующий день после отправления из Суэца, 10 октября, Паспарту не без удовольствия встретил на борту того предупредительного господина, с которым он разговорился, высадившись в Египте.
– Я ведь не ошибаюсь, – спросил он, подойдя к нему с самой приветливой улыбкой, – это же вы, сударь, так любезно послужили мне гидом в Суэце?
– Да, верно, и я узнаю вас! – ответил детектив. – Вы слуга того английского оригинала…
– Точно, господин… позвольте, как вас?
– Фикс.
– Господин Фикс, – Паспарту удовлетворенно кивнул. – Очень рад встретить вас снова! Куда же вы направляетесь?
– Туда же, куда и вы, в Бомбей.
– Вот и славно! А вы там уже бывали?
– Неоднократно, – сказал Фикс. – Я агент транспортной компании, которой принадлежит пароход.
– Стало быть, вы знаете Индию?
– Ну, в общем, да… – промямлил Фикс, опасаясь сказать лишнее.
– Там есть что-нибудь любопытное, в этой Индии?
– Очень много любопытного! Мечети, минареты, крепости, факиры, пагоды, тигры, змеи, баядерки! Но есть ли надежда, что у вас будет время осмотреть Индию?
– Хотелось бы надеяться, мсье Фикс. Вы ж понимаете, человеку в здравом уме не пристало проводить жизнь, перескакивая то и дело с парохода на поезд, а оттуда снова на пароход под тем предлогом, что нужно объехать вокруг света за восемьдесят дней! Нет. Вся эта свистопляска закончится в Бомбее, уж не сомневайтесь.
– А как себя чувствует ваш хозяин, мистер Фогг? – поинтересовался сыщик самым непринужденным тоном.
– Отлично, мистер Фикс. Впрочем, я тоже не жалуюсь. Ем, будто людоед после поста. Не иначе как от морского воздуха.
– А почему вашего хозяина совсем не видно на палубе?
– Никогда не выходит. Он не любопытен.
– Знаете, господин Паспарту, этот его якобы восьмидесятидневный вояж, может быть, служит прикрытием для какой-нибудь секретной миссии… дипломатической, к примеру!
– Право же, мсье Фикс, про это мне ничего не известно, да я бы, признаться, и полукроны не дал, чтобы об этом узнать.
После этой встречи Паспарту и Фикс частенько сходились, чтобы поболтать. Полицейский инспектор стремился покороче сойтись со слугой мистера Фогга. При случае это могло пригодиться. Поэтому он то и дело угощал его в баре «Монголии» несколькими рюмками виски или кружкой эля, а добрый малый принимал эту любезность без церемоний и, чтобы не оставаться в долгу, даже отвечал тем же и Фикса считал вполне порядочным джентльменом.
А пакетбот тем временем быстро двигался вперед. Тринадцатого числа миновали город Мока. Он появился на берегу в окружении руин крепостной стены, из-за которыхтутитам выглядывали зеленеющие кроны финиковых пальм. Вдали, на горных склонах, раскинулись кофейные плантации. Паспарту был восхищен тем, что видит своими глазами этот знаменитый город. Он даже нашел, что кольцевая стена полуразрушенного форта смахивает на половинку громадной разбитой чашки.
На следующую ночь «Монголия» достигла Баб-эль-Мандебского пролива (это арабское название означает «Врата слез»), а назавтра, 14-го, сделала остановку в Стимер-Пойнт – гавани, расположенной у северозападной оконечности Аденского рейда. Там пакетбот должен был снова пополнить запас горючего.
Это важное, серьезное предприятие – доставка топлива для пароходов на большие расстояния от мест его добычи. Одна только Английская транспортная компания ежегодно тратит на это восемьсот тысяч фунтов (20 миллионов франков). Ведь пришлось устраивать специальные склады в целом ряде портов, так что в отдаленных морях стоимость угля возрастает до восьмидесяти франков за тонну.
«Монголии» еще оставалось пройти до Бомбея 1650 миль, и потому она должна была простоять в Стимер-Пойнте четыре часа, чтобы загрузить углем свои трюмы. Однако эта задержка никоим образом не могла помешать планам Филеаса Фогга. Она была предусмотрена. К тому же «Монголия» вместо того, чтобы прибыть в Аден утром 15 октября, причалила еще вечером 14-го. Это давало выигрыш в пятнадцать часов.
Мистер Фоггиего слуга сошли на берег. Джентльмен хотел завизировать свой паспорт. Фикс, оставаясь незамеченным, следовал за ними. Исполнив формальности, связанные с получением визы, Филеас Фогг возвратился на борт, чтобы возобновить прерванную партию в вист.
Паспарту же, по своему обыкновению, принялся слоняться в пестрой сутолоке индийцев, сомалийцев, парсов, евреев, арабов, европейцев, из которых состоит двадцатипятитысячное население Адена. Он восторгался укреплениями, превращающими этот город в Гибралтар Индийского океана, и великолепными водоемами, которые некогда были созданы инженерами царя Соломона и два тысячелетия спустя все еще служат благодаря заботам их британских коллег.
«Занятно, очень занятно! – думал Паспарту, возвращаясь на пароход. – Должен признать: тому, кто рад повидать новое, не мешает попутешествовать».
В шесть часов вечера «Монголия» вспенила лопастями своего винта воды Аденского рейда и вскоре вышла на простор Индийского океана. Теперь ей полагалось за сто шестьдесят восемь часов покрыть расстояние от Адена до Бомбея. Впрочем, этот океан был к ней милостив. Дул северо-западный ветер. На помощь паровой машине пришли паруса.
С новым грузом судно стало остойчивей, качка уменьшилась. На палубе снова показались пассажирки, успевшие обновить свои наряды. Опять начались танцы и пение.
Короче, путешествие проходило в приятнейшей обстановке. К тому же Паспарту благодарил случай, пославший ему в лице Фикса столь любезного попутчика.
В воскресенье 20 октября около полудня вдали показался индийский берег. Два часа спустя на борт «Монголии» поднялся лоцман. Череда холмов проступила на горизонте, волнистой чертой отделив землю от неба. Вскоре стала видна и яркая зелень пальмовых аллей, чьи кроны осеняют город. Пакетбот встал на рейде напротив Бомбея у островов Солсетт, Колаба, Элефанта и Батчер. В половине пятого он причалил.
г. Филеас Фогг в тот момент как раз заканчивал очередной роббер, тридцать третий задень, причем благодаря дерзкому маневру они с партнером взяли тринадцать взяток, увенчав это путешествие великолепно разыгранным «большим шлемом».
«Монголии» полагалось прибыть в Бомбей лишь 22 октября, она же успела к 20-му. Следовательно, начиная с отъезда из Лондона, у Филеаса Фогга накопилось двое суток форы, каковые он, раскрыв путевой дневник, аккуратно вписал в графу «прихода».
Глава X
где Паспарту благодарит судьбу, что дешево отделался, хоть и лишился обуви
Общеизвестно, что площадь Индии, этого гигантского перевернутого треугольника, основанием обращенного к северу, а вершиной к югу, составляет 1 400 000 квадратных миль. Обитало на этой территории неравномерно рассеянное по ней население численностью 180 миллионов человек. Реальный контроль британского правительства распространялся лишь на некоторую часть этой огромной страны. Осуществляли эту власть генерал-губернатор в Калькутте, губернаторы в Мадрасе, Бомбее, Бенгалии и вице-губернатор Агры.
Однако площадь собственно английской Индии, строго говоря, не превышала 700 тысяч квадратных миль с населением от 100 до 110 миллионов. Не будет преувеличением сказать, что значительная часть индийских земель еще не находилась под властью королевы Британии: по существу, некоторые области страны, управляемые свирепыми и беспощадными раджами, сохраняли полную независимость.
Начиная с 1756 года, когда на месте нынешнего Мадраса было основано первое английское поселение, идо принявшего огромный размах восстания сипаев знаменитая Ост-Индская компания была здесь всемогущей. Она мало-помалу прибирала к рукам провинции, одну за другой откупая их у раджей взамен на обещание ренты, которую выплачивала неаккуратно, а то и не выплачивала вовсе, она назначала генерал-губернатора и всех подопечных ему штатских и военных чинов, но теперь ее больше нет, и английские владения в Индии перешли напрямую под власть короны.
В связи с этим внешний вид огромного полуострова, его нравы и этнический состав, похоже, меняются что нидень. Прежде путники здесь пользовались древними средствами передвижения: брели на своих двоих, скакали на лошадях, ездили на двухколесных тележках, в разных колымагах и паланкинах и просто на спинах людей. Ныне же по Инду и Гангу на высокой скорости снуют пароходы, сеть железных дорог, ветвясь, оплетает всю Индию, и от Бомбея до Калькутты лишь три дня пути.
Если посмотреть на карту, видно, что эта железнодорожная линия пересекает Индию не по прямой. Оцениваемое с птичьего полета, такое расстояние равнялось бы 1000, от силы 1100 миль. Поезду, даже не слишком быстроходному, и трех дней не потребовалось бы, чтобы его покрыть. Но крюк, который делает железная дорога, забирая к северу до Аллахабада, увеличивает дистанцию как минимум на треть.
В общем, «Великая индийская железная дорога», отходя от острова Бомбей, пересекает Солсетт и, прыгнув на материк напротив Тхана, пересекает горный хребет Западных Гхат, поворачивает на северо-восток до Бурханпура, проходит по землям почти независимого княжества Бундельханд, далее на север до Аллахабада, после чего, следуя в восточном направлении, у Бенареса встречается с Гангом и, слегка отклоняясь от речного русла, устремляется на юго-восток к Бурдвану и французскому городу Шандернагору, а там и конечный пункт – Калькутта.
Итак, в половине пятого вечера пассажиры «Монголии» сошли на берег в Бомбее, а поезд на Калькутту отправлялся ровно в восемь.
Мистер Фогг распрощался с партнерами по висту, покинул пакетбот, поручил слуге сделать кое-какие покупки, напомнил, что тот должен неукоснительно успеть на вокзал до восьми, и размеренным шагом, будто отсчитывая ногами секунды с точностью астрономических часов, направился к паспортной конторе.
Его не тянуло взглянуть на чудеса Бомбея – ратушу, дивную библиотеку, форты, доки, хлопковый рынок, базар, мечети, синагоги, армянские церкви, блистательную пагоду Малабар-Хилл, украшенную двумя многоугольными башнями. Ни чудесные образцы архитектуры в Элефанте не удостоились его внимания, ни таинственные подземелья в юго-восточной части гавани, ни пещеры Канхери на острове Солсетт – эти изумительные останки творений буддийского зодчества!
Нет! Он всем этим пренебрег. Выйдя из паспортной конторы, Филеас Фогг преспокойно зашагал к вокзалу, где распорядился подать ему обед. Метрдотель счел уместным наряду с прочими блюдами предложить ему так называемое «фрикасе из местного кролика в белом вине», заверив, что оно восхитительно. Филеас Фогг согласился, однако, вдумчиво отведав фрикасе, нашел, что оно омерзительно и даже насыщенный пряностями соус не может скрасить его.
Он позвонил, подзывая метрдотеля:
– Сударь, – и устремил на него пристальный взгляд, – вы утверждаете, что это кролик?
– Да, милорд, – нагло отвечал мошенник. – Кролик джунглей!
– А не мяукал ли он, когда его убивали?
– Кролик мяукал? О милорд! Как можно? Я вам клянусь…
– Господин метрдотель, – холодно прервал его мистер Фогг, – не клянитесь. Лучше вспомните: когда-то в Индии кошек почитали как священных животных. Славные были времена!
– Для кошек, милорд?
– Для путешественников, пожалуй, тоже.
Поделившись этим соображением, джентльмен спокойно продолжил обед.
Что до агента Фикса, он вслед за мистером Фоггом тоже расстался с «Монголией»: сошел на берег и тотчас побежал к начальнику полиции Бомбея. Объявил ему, что является детективом, сообщил о порученной миссии и о том, какая ситуация сложилась с предполагаемым вором. Получен ли ордер на арест?
Нет, из Лондона ничего не приходило.
И в самом деле: ордер, касающийся Фогга, не могли так быстро доставить в Бомбей.
Фикс пришел в замешательство. Попытался добиться от начальника полиции, чтобы тот сам выписал ордер на арест мистера Фикса. Но он отказался. Дело находилось в компетенции властей метрополии, и по закону выдать такой ордер могли только они. Такая твердость принципов, строгая осмотрительность в вопросах законности вполне объяснимы, они отвечают английским нравам, не допускающим никакого произвола там, где речь идет о свободе личности.
Фикс не настаивал: понял, что должен смириться и ждать, когда прибудет ордер. Однако он решил все то время, что его непроницаемый мошенник пробудет в Бомбее, глаз с него не спускать. Он не сомневался, что Филеас Фогг здесь задержится, да и Паспарту был того же мнения. Стало быть, время есть: ордер на арест успеет прийти.
Но как только хозяин, сойдя с «Монголии», дал ему очередные поручения, до Паспарту сразу дошло, что в Бомбее повторится то же, что было в Суэце и Париже. Путешествие здесь не закончится, оно продлится как минимум до Калькутты, а возможно, и дальше. Он начал спрашивать себя, уж не было ли пари Филеаса Фогга абсолютно серьезным. Неужели злой рок вынудит его, мечтавшего пожить в покое, и вправду объехать вокруг света за восемьдесят дней?
А пока он, закупив несколько пар носков и рубашки, решил прогуляться по улицам Бомбея. Они были заполнены разноплеменной публикой: кроме европейцев всех национальностей, здесь встречались персы в остроконечных колпаках и сикхи в четырехугольных, банианы в круглых тюрбанах, армяне в долгополых халатах, парсы в высоких черных шапках. В тот день был празднику парсов, или гебров, ведущих свой род от приверженцев Заратустры, – это самые предприимчивые, самые цивилизованные, самые умные, самые суровые среди индусов; богатейшие из нынешних негоциантов, коренных уроженцев Бомбея, из их числа. Праздник же представлял собой нечто вроде религиозного карнавала, включавшего шествия и всевозможные забавы: в нем участвовали баядерки, задрапированные в прозрачные розовые покрывала, расшитые золотом и серебром, они волшебно и притом без малейшей нескромности танцевали под звуки скрипок и барабанов.
Паспарту загляделся на эти удивительные церемонии, развесил уши, таращил глаза, только бы успеть побольше услышать и увидеть – что говорить, он выглядел ни дать ни взять как самый что ни на есть наивный «бобби», какого только можно представить.
Увы, к несчастью для него и его хозяина, чье путешествие он чуть не испортил, любопытство завлекло Паспарту дальше, чем следовало. Дело в том, что когда Паспарту, полюбовавшись карнавалом парсов, направился к вокзалу, по дороге ему попалась великолепная пагода Малабар-Хилл, и его посетила злополучная идея посмотреть, что там внутри.
Он не знал двух вещей: во-первых, что христианам официально запрещен доступ в некоторые индусские пагоды, и, во-вторых, что даже те, кто входит туда для молитвы, обязаны оставлять свою обувь у порога. Здесь надо заметить, что английское правительство из чисто политических соображений проявляет почтение к религиозным верованиям жителей страны, требует скрупулезно, вплоть до мелочей, соблюдать ее обычаи и строго карает тех, кто их оскорбляет.
Паспарту вошел без дурных намерений, как простой турист, и залюбовался внутренним убранством Малабар-Хилла, ослепительным для наивного европейца блеском его украшений, впрочем, свойственных любому браминскому храму. Но внезапно путник был повержен на священные плиты. Три жреца, яростно сверкая очами, набросились на него, сорвали с его ног башмаки вместе с носками и принялись, испуская дикие вопли, дубасить беднягу.
Однако француз, малый крепкий и проворный, ухитрился одним рывком подняться с пола. Двоих противников он свалил, угостив одного ударом кулака, другого пинком, благо оба сильно путались в своих длинных черных одеяниях. Затем со всех ног бросился вон из пагоды и вскоре сумел на порядочное расстояние оторваться от преследователя – третьего индуса, который бросился было в погоню, попутно возбуждая толпу негодующими криками.
В восемь без пяти, то есть всего за несколько минут до отправления поезда, босой, без шляпы, потеряв в суматохе пакет с покупками, Паспарту примчался на железнодорожный вокзал.
Фикс был там же, на посадочной платформе. На вокзал его привела слежка за мистером Фоггом, понаблюдав за которым, он понял, что этот проходимец вправдууезжает из Бомбея. И тут же принял решение следовать за ним до Калькутты, а если понадобится, и дальше. Паспарту Фикса не заметил, так как сыщик держался в тени, зато последний слышал его рассказ о происшествии в храме: слуга в двух словах поведал господину о своем приключении.
– Надеюсь, это не повторится, – скупо заметил Филеас Фогг, направляясь на свое место в вагоне поезда.
Бедный парень, босоногий и пристыженный, ни слова не говоря, поплелся вслед за хозяином.
Фикс собирался сесть в другой вагон того же состава, но внезапная мысль удержала его, разом отменив планы отъезда.
«Нет, я остаюсь, – решил детектив. – Теперь, когда имело место преступление, совершенное на индийской территории… Он у меня в руках!
В это мгновение локомотив издал оглушительный свисток, и поезд исчез во мраке ночи.
Глава XI
где Филеас Фогг за бешеную цену покупает животное, пригодное для верховой езды
Поезд отошел от платформы согласно расписанию. В вагонах набралось всякого народу – были там офицеры, штатские чиновники, торговцы опиумом и индиго, имевшие на востоке полуострова свои неотложные коммерческие дела.
Паспарту ехал в одном купе со своим хозяином. Третий пассажир расположился в уголке напротив. То был бригадный генерал, сэр Фрэнсис Кромарти, один из партнеров мистера Фогга по висту, игре, что скрашивала им путь из Суэца в Бомбей. Его армейские части были расквартированы близ Бенареса, куда он и направлялся.
Сэра Фрэнсиса Кромарти, рослого светловолосого мужчину лет пятидесяти, который весьма отличился во время недавнего восстания сипаев, можно было по праву считать местным жителем. С юныхлет обосновавшись в Индии, он лишь изредка навещал родные места. Как человек образованный, он охотно поделился бы сведениями насчет обычаев страны, рассказал бы о ее истории и общественном укладе, да только Филеас Фогг был не из тех, кто задает подобные вопросы. Сей джентльмен ни о чем не спрашивал. Он, собственно, и не путешествовал, он описывал окружность. Являл собой массивное тело, проходящее по орбите вокруг земного шара, соблюдая в своем движении точные законы механики. В данный момент он мысленно пересчитывал часы, потраченные с момента его отъезда из Лондона, и если не потирал при этом руки, то лишь потому, что бессмысленные движения претили его натуре.
Своеобразие характера попутчика отнюдь не укрылось от внимания сэра Фрэнсиса Кромарти, хотя он мог наблюдать его не иначе, чем с картами в руках или в перерывах между робберами. У него были основания сомневаться, бьется ли человеческое сердце под этой холодной оболочкой, имеется ли у Филеаса Фогга душа, способная отзываться на красоты природы, или ему вовсе чужды любые высокие порывы. На эти вопросы бригадный генерал ответа не находил. Он хоть и повидал на своем веку разных оригиналов, ни один из них не шел в сравнение с этим порождением точных наук.
Филеас Фогг не скрыл от сэра Фрэнсиса Кромарти ни своего плана, ни обстоятельств, породивших его. На взгляд бригадного генерала, подобное бесполезное пари являлось не более чем эксцентричной выходкой, недостойной разумного человека, поскольку она напрочь лишена благой цели, способности «transire benefaciendo» – «идти, творя добро», – как выражались древние римляне. Чудаковатый джентльмен вступил на путь, где все усилия заведомо бессмысленны: ни себе ни людям.
Спустя час после отправления из Бомбея поезд прошел виадуки, пересек остров Солсетт и достиг материка. Миновав станцию Кальян, он оставил справа железнодорожную ветку, ведущую через Хандаллу и Пуну на юго-восток Индии, и вскоре уже подъезжал к станции Пауэлл. Затем состав углубился в массив Западных Гхат – сильно разветвленного горного хребта, основания которого высятся громадными лестницами базальтовых уступов, а самые высокие вершины поросли густым лесом.
Время от времени сэр Фрэнсис Кромарти и Филеас Фогг обменивались парой слов, и вот бригадный генерал, стремясь поддержать то и дело затухающую беседу, заметил:
– Всего несколько лет назад на этом месте вас, мистер Фогг, ждала бы задержка, которая, вероятно, сорвала бы ваши замыслы.
– Каким образом, сэр Фрэнсис?
– Дело в том, что у подножия этих гор рельсы обрывались, далее до станции Хандалла – а она на противоположном склоне – приходилось ехать в паланкине либо верхом на пони.
– Мой план организован так, что нимало не пострадал бы от подобной задержки, – отвечал мистер Фогг. – Я не упустил из виду, что надлежит учесть вероятность возникновения некоторых препятствий.
– Тем не менее, мистер Фогг, – возразил бригадный генерал, – приключение этого молодого человека могло навлечь на вашу голову очень большие неприятности.
Паспарту, закутав ноги своим дорожным пледом, спал какубитый и знать не знал, что рядом говорят о нем.
– В отношении проступков такого сорта английские власти крайне суровы, причем не без оснований, – продолжал сэр Фрэнсис Кромарти. – Они, прежде всего, стоят на том, чтобы сохранять уважение к религиозным традициям индийцев, и если бы вашего слугу задержали…
– Что ж, сэр Фрэнсис, – отвечал мистер Фогг, – допустим, его бы арестовали, приговорили, он понес бы наказание, потом спокойно вернулся бы в Европу. Не вижу, с какой стати это дело могло бы задержать его хозяина!
Тут разговор опять оборвался.
За ночь поезд пересек Гхаты, миновал Насик и на следующее утро, 21 октября, уже катил среди относительно ровных и тщательно возделанных полей Кхандейша. То здесь, то там попадалось селеньице, над крышами которого вместо привычной глазу европейца церковной колокольни возвышался минарет пагоды. Множество речек, впадающих в Годавери или какой-либо из ее притоков, орошали эту щедрую землю.
Проснувшись и оглядевшись, Паспарту с трудом мог поверить, что пересекает экзотический полуостров на поезде Великой индийской железной дороги. Это казалось ему невероятным. А тем не менее все до того реально, что дальше некуда! Паровоз, в топках которого горел английский уголь, под управлением английского машиниста мчался, извергая клубы дыма, среди плантаций кофе, хлопка, мускатного ореха, гвоздичного дерева, красного перца. Пар, завиваясь спиралью, плавал вокруг пальмовых рощиц, между которыми виднелись то живописные бунгало, то заброшенные монастыри, так называемые «виари», то дивные храмы, разукрашенные прихотливым орнаментом, чье неисчерпаемое разнообразие характерно для индийской архитектуры. А дальше, сколько хватало глаз, раскинулись бескрайние пространства джунглей, кишащих змеями и тиграми, которых пугал грохот поезда, и, наконец, просеки, вырубленные по обеим сторонам железной дороги в лесах, где еще обитали слоны, провожавшие задумчивым взглядом несущийся мимо состав.
В то утро путешественники сначала миновали станцию Малегаом, потом пересекли ту зловещую местность, которую почитатели богини Кали так часто обагряют кровью. Неподалеку вставал город Эллора со своими восхитительными пагодами, потом возник его сосед, знаменитый Аурангабад, некогда столица свирепого Ауренгзеба, ныне же – просто главный город одной из провинций, отрезанных от Низамского царства. Это тот самый край, где встарь правил Ферингэа – вождь тхагов, «душителей». Члены неуловимого братства тхагов в честь богини Смерти душили людей всех возрастов, но при этом не проливали ни капли крови; были времена, когда в здешней земле, где ни копни, натыкались на труп. Британскому правительству удалось добиться значительного сокращения числа этих убийств, но кошмарное братство тхагов, или тугов, все еще существует. И продолжает сеять погибель.
В половине первого поезд сделал остановку на станции Бурханпур, где Паспарту удалось за немыслимую цену раздобыть пару туземных туфель, расшитых фальшивым жемчугом, надевая которые, он не смог скрыть тщеславного удовольствия.
Путники наскоро позавтракали, и поезд покатил дальше – к станции Ассургур; рельсы некоторое время тянулись вдоль берега Тапти, речки, впадающей в Камбейский залив близ Сурата.
Сейчас самое время познакомить читателя с мыслями, что рождались в те часы в голове Паспарту. До прибытия в Бомбей он полагал – пока можно было так думать, – что на том дело и кончится. Но теперь, на всех парах пересекая Индостан, он ощутил, как в его душе совершается головокружительный переворот. В нем бурно вскипела его прирожденная страсть к приключениям. Забытые фантазии юных дней пробудились вновь, и он радостно принял всерьез план своего хозяина, поверил в реальность пари, а следовательно, в кругосветное путешествие и тот максимальный срок, который не должен быть превышен. Ондаже начал опасаться всевозможных задержек, его уже пугали дорожные происшествия, способные помешать путникам. Паспарту аж затрясло при одной мысли, как вчера едва не навредило делу его непростительное ротозейство: теперь казалось, будто он и сам кровно заинтересован в успехе этой затеи. Едва начав болеть за нее, он взволновался куда больше, чем Филеас Фогг, ибо отнюдь не отличался подобной флегматичностью. Стал считать и пересчитывать потраченные часы, клял остановки поезда, его несносную медлительность, да и самого мистера Фогга в душе бранил за то, что не посулил награды машинисту. Славный парень полагал, будто на железной дороге это также возможно, как на пакетботе: ему было невдомек, что поезд следует по четкому расписанию.
Под вечер состав нырнул в ущелья гор Сатпура, разделяющих земли Кдандейша и Бундельханда.
На следующее утро, 22 октября, когда сэр Фрэнсис Кромарти осведомился у Паспарту, который час, тот посмотрел на свои часы и сообщил, что сейчас три ночи. И немудрено: сей знаменитый хронометр, поставленный по времени Гринвичского меридиана, проходящего градусов на семьдесят семь западнее, не мог не отставать и отстал уже на четыре часа.
Таким образом, сэр Фрэнсис уточнил время, названное Паспарту, и принялся разъяснять ему то же, что последний уже слышал от Фикса. Попытался втолковать ему, что часы надлежит переводить на каждом новом меридиане, а также что если постоянно двигаться на восток, то есть навстречу солнцу, путники, оставив позади очередной градус, всякий раз сокращают свой день на четыре минуты. Бесполезно! Трудно сказать, понял твердолобый малый объяснения бригадного генерала или нет, но он уперся: его часы останутся верны лондонскому времени, переводить их стрелки он не намерен. Впрочем, кому может помешать столь невинная блажь?
В восемь часов утра поезд, отъехав миль на пятнадцать от станции Роталь, остановился посреди широкой поляны, окруженной несколькими бунгало и хижинами рабочих. Кондуктор зашагал вдоль вагонов, покрикивая: «Пассажиры, выходите! Пассажиры, выходите!..»
Филеас Фогг посмотрел на Фрэнсиса Кромарти, который и сам, казалось, недоумевал, чем объяснить внезапную остановку в лесу, среди тамариндовых деревьев и финиковых пальм.
Паспарту, удивленный не меньше их, выпрыгнул было из вагона, но тотчас бросился назад:
– Мсье, железной дороги больше нет!
– Что вы имеете в виду? – переспросил сэр Фрэнсис.
– Я говорю, что поезд дальше не пойдет!
Теперь уже сам бригадный генерал торопливо вышел из вагона. Филеас Фогг степенно последовал за ним. Они потребовали разъяснений у кондуктора.
– Где мы? – спросил сэр Фрэнсис Кромарти.
– В поселке Кольби, – отвечал тот.
– У нас здесь остановка?
– Понятное дело. Дорога-то не достроена…
– Как это «не достроена»?
– Да вот так! Надо еще проложить отрезок пути в полсотни миль отсюда до Аллахабада. Там снова рельсы начнутся.
– Но газеты объявили, что движение открыто на всем протяжении железной дороги!
– Что вы хотите, господин офицер? Газеты ошиблись!
– Однако вы продаете билеты от Бомбея до Калькутты! – сэр Фрэнсис начал кипятиться.
– Само собой, – кондуктор и глазом не моргнул. – Ведь пассажиры прекрасно знают, что им от Кольби до Аллахабада добираться своим ходом.
Бригадный генерал был вне себя от ярости. Да и у Паспарту прямо руки чесались прикончить кондуктора, от которого, правда, ничего не зависело, но все-таки! А на своего господина он даже взглянуть боялся.
– Сэр Фрэнсис, – спокойно предложил мистер Фогг, – если вы не против, давайте поищем способ, как попасть в Аллахабад.
– Однако, мистер Фогг, тут, по-видимому, речь идет о проволочке, абсолютно губительной для ваших планов?
– Нет, сэр Фрэнсис, это предполагалось.
– Как? Вы знали, что рельсы…
– Отнюдь! Но я знал, что рано или поздно на моем пути возникнет какое-нибудь препятствие. Итак, ничего не потеряно. У меня в запасе двое суток, которыми можно пожертвовать. Пароход из Калькутты в Гонконг отходит в полдень двадцать пятого. А сегодня только двадцать второе. Мы успеем в Калькутту к сроку.
Что тут можно возразить, какой довод противопоставить столь непоколебимой уверенности?
Да, неоспоримый факт: недостроенная железная дорога в этом месте обрывалась. Газеты подобны иным часам, которые с маниакальным упорством обгоняют время: они поспешили, преждевременно возвестив о завершении работ. Но большинство пассажиров и вправду знали, что здесь рельсы кончаются. Сойдя с поезда, они мигом расхватали все средства передвижения, какие нашлись в поселке: четырехколесные повозки – палькигари, тележки, запряженные быками местной породы, так называемыми зебу, дорожные коляски, похожие на передвижные пагоды, паланкины, пони. Мистер Фогг и сэр Фрэнсис Кромарти опоздали: весь поселок обшарили, но так ничего и не нашли.
– Пойду пешком, – сказал Филеас Фогг.
Паспарту, который в этот момент как раз подошел к своему господину, состроил унылую гримасу: до него дошло, что его новые туфли, как ни шикарны, для таких испытаний не годятся. К счастью, он со своей стороны тоже успел пошнырять тут и там и кое-что приметил. Помявшись, он пробормотал:
– Мсье, мне сдается, что одно транспортное средство я нашел.
– Какое?
– Слона! Тут неподалеку живет один индиец, у него есть слон.
– Так пойдем, взглянем на слона, – сказал мистер Фогг.
Пять минут спустя Филеас Фогг, сэр Фрэнсис Кромери и Паспарту подошли к загону, обнесенному высокой оградой, к которой примыкала лачуга. В загоне жил слон, в лачуге – его владелец. По их просьбе он провел мистера Фогга и его спутников в загон.
Там перед ними предстало полуприрученное животное, которое его хозяин обучал, но не затем, чтобы одомашнить до конца, а с целью превратить в боевого слона. Он старался воздействовать на его характер, от природы добродушный, постепенно доводя его до разъяренного состояния, на местном наречии называемого «муч». Для этого индус уже три месяца кормил слона сахаром и маслом. Может показаться, что такой рацион не способен привести к желаемому результату, но местные дрессировщики, тем не менее, пользуются этим средством. И не без успеха. К великому счастью для мистера Фогга, животное, о котором идет речь, на подобный режим перевели недавно, так что «муч» еще не обуял его.
Как и все его сородичи, Киуни – так звали слона – мог бегать быстро и долго, и за отсутствием другой скотины, пригодной для езды верхом, Филеас Фогг решил использовать его.
Однако слоны в Индии ценятся дорого, к тому же они начинают становиться редкостью. Это особенно касается самцов, так как для цирковых состязаний годятся только они. В неволе эти животные почти не размножаются, следовательно, раздобыть их можно, только отлавливая диких. Поэтому они являются предметом неусыпных забот, и когда мистер Фогг спросил индуса, нельзя ли взять слона напрокат, тот отказал. Наотрез.
Фогг настаивал. Предложил чрезвычайно высокую цену – десять фунтов (250 франков) за час. Хозяин нив какую. А если двадцать фунтов? Снова отказ. А сорок?
Нет, и точка! Паспарту чуть не подпрыгивал всякий раз, когда его господин набавлял цену. А индус не уступал. Между тем предложение было куда как соблазнительно. Если считать, что слону потребуется пятнадцать часов, чтобы довезти своего нанимателя до Аллахабада, в сумме получалось шестьсот фунтов (25 000 франков).
И все же индус отвергал сделку. Похоже, чуял прибыльное дельце, мошенник!
Сэр Фрэнсис Кромари отвел своего спутника в сторонку и посоветовал ему подумать, прежде чем продолжать торг. В ответ Филеас Фогг сообщил ему, что не имеет привычки действовать не подумав. Этот слон ему необходим, ведь в конечном счете решается судьба пари на двадцать тысяч фунтов, и он слона получит, даже если придется переплатить раз в двадцать.
Затем мистер Фогг вернулся к индусу, чьи маленькие глазки так разгорелись от жадности, что было ясно: для него деньги решают все. Джентльмен предложил ему тысячу двести фунтов, потом тысячу пятьсот, тысячу восемьсот и наконец две тысячи (то есть 50 000 франков). Паспарту, обычно столь румяный, от волнения даже побледнел.
Перед двумя тысячами индиец не устоял.
– Клянусь своими туфлями, – воскликнул Паспарту, – вот кто умеет сбывать слоновье мясо по хорошей цене!
Сделка была заключена, оставалось лишь подыскать проводника. Эта задача оказалась легкой. Молодой парс с умным лицом сам предложил свои услуги. Мистер Фогг согласился и посулил ему такую плату, которая должна была удвоить его понятливость и рвение.
Слона вывели из загона и без промедления оседлали. Парс отлично знал свое ремесло «махута», или «корнака». Он покрыл слоновью спинучем-то вроде чепрака и приспособил по бокам животного некое подобие двойного сиденья, иначе говоря, пару довольно неудобных корзин.
С индусом Филеас Фогг расплатился банкнотами, извлеченными из пресловутой дорожной сумки. Паспарту при этом так корчился, будто деньги вытаскивали прямо из его внутренностей. Затем мистер Фогг предложил сэру Фрэнсису Кромарти подвезти его в Аллахабад. Бригадный генерал согласился.
Слона это не утомит, такому гиганту лишний пассажир не в тягость.
Провизию на дорогу закупили здесь же, в Кольби. Сэр Фрэнсис Кромарти сел в одну корзину, Филеас Фогг в другую, а Паспарту взгромоздился на слона верхом, пристроившись между своим хозяином и бригадным генералом. Что до парса, он уселся слону на шею, и в девять часов вся компания покинула поселок, избрав самую короткую дорогу. Итак, слон устремился напролом через густой пальмовый лес.
Глава XII
где Филеас Фогг и его спутники отважно, но не без последствий пересекают заросли индийского леса
Желая сократить путь, проводник обогнул, оставив справа, просеку, где шли работы по прокладке железнодорожных путей. Эта просека, крайне извилистая из-за причудливого рельефа гор Виндхья, не являлась кратчайшей дорогой, а потому Филеас Фогг не видел смысла держаться ее. К тому же парс, прекрасно освоившись со всеми дорожками и тропинками края, утверждал, что, если пересечь лес напрямик, можно выиграть миль двадцать. Путешественники решили положиться на него.
Слон, подгоняемый «махутом», двигался вперед бойким аллюром. Филеаса Фогга и сэра Фрэнсиса Кромарти, утонувших по шею в своих корзинах, трясло немилосердно, но оба переносили это состояние с чисто британской невозмутимостью, порой перекидываясь несколькими словами, хотя были почти что лишены возможности видеть друг друга.
Паспарту же, восседая на спине животного, терпел те же толчки, но ничем не смягчаемые, а ему оставалось только, следуя совету своего хозяина, держать язык за зубами, чтобы не откусить его себе напрочь. Славный малый то сползал на слоновью шею, то его отбрасывало на круп, он смешно балансировал, будто клоун на трамплине. Но вся эта мучительная эквилибристика не мешала ему шутить, он то и дело хохотал, а время от времени вынимал из сумки кусочек сахара, и умница Киуни, ни на миг не замедляя своей равномерной рыси, аккуратно брал его кончиком хобота.
Так продолжалось два часа, затем проводник остановил слона и предоставил ему час передышки. Животное сперва утолило жажду из находившейся неподалеку лужи, потом стало щипать веточки кустов и объедать молодые деревца. Сэр Фрэнсис Кромарти тоже ничего не имел против этой остановки. Он чувствовал себя разбитым. Зато мистер Фогг выглядел таким свежим, будто только что встал с постели.
– Да этот человек сделан из железа! – сказал бригадный генерал, с восхищением глядя на него.
– Из кованой стали! – отозвался Паспарту, который в этот момент на скорую руку готовил завтрак.
В полдень проводник дал знак, что можно продолжать путь. Вскоре местность стала выглядеть совсем дикой: громадные леса, где пальмовые деревья сменяются зарослями тамаринда и карликовых пальм; затем перед путниками открылась обширная долина, поросшая чахлым кустарником и усеянная валунами сиенита, следами давних извержений. В этой части гористого Бундельханда, редко посещаемой путешественниками, обитают племена фанатиков, приверженцев одной из самых жестоких индусских сект. Господство англичан здесь еще не упрочилось, так как горы Виндхья почти неприступны, и в области беспрепятственно хозяйничают раджи.
Несколько раз навстречу попадались группы свирепых индусов. Завидев бегущего мимо слона с европейцами на спине, они провожали их угрожающими жестами. Впрочем, парс-проводник, считая такие встречи опасными, по мере возможности избегал их. Животных путешественники за весь тот день видели мало, разве что несколько обезьян, при виде путников удиравших со множеством гримас и ужимок, изрядно повеселили Паспарту.
Однако, помимо всего прочего, парня беспокоила одна мысль. Как мистер Фогг поступит со слоном, когда они доберутся до Аллахабада? Возьмет с собой? Но цена его транспортировки в дополнение к тому, что уже за него уплачено, сделает эту скотину абсолютно разорительной. А может, слона продадут? Или отпустят на волю? Такое почтенное четвероногое заслуживало того, чтобы с ним обошлись уважительно. А что, если мистер Фогг возьмет да и подарит слона ему, Паспарту? Какая забота свалится тогда на его плечи! Эти опасения преследовали француза не отпуская.
В восемь вечера путешественники сделали привал, оставив позади основную горную цепь массива Виндхья. У подножия ее северного склона нашлось полуразрушенное бунгало, там и приютились. За этот день они одолели расстояние миль в двадцать пять. До станции Аллахабад оставалось примерно столько же.
Ночь выдалась холодная. Парс разжег в бунгало костер из сушняка, тепло пришлось весьма кстати. Ужин состоял из продуктов, купленных в Кольби. За трапезой все выглядели изнуренными, разбитыми. Иногда кто-нибудь выдавливал из себя фразу-другую, но речи обрывались на полуслове, беседа затухала, едва начавшись, и вскоре все завершилось звучным храпом нескольких глоток. Только проводник еще послеживал за Киуни, который задремал стоя, привалившись к стволу громадного дерева.
Та ночевка миновала без происшествий. Хотя тишину порой нарушало рычание гепарда или пантеры, но дальше этого хищники не заходили, никакой враждебности к затаившимся в бунгало гостям не проявляли. Сэр Фрэнсис Кромарти спал мертвым сном, какхрабрый воин, подкошенный усталостью. Паспарту тревожно метался, ему и во сне грезилась тряска, которой он натерпелся накануне, все эти вынужденные скачки и кульбиты. Что до мистера Фогга, он почивал также безмятежно, как некогда в мирном особняке на Сэвилл-роу.
В шесть утра они снова двинулись в путь. Проводник рассчитывал успеть на Аллахабадский вокзал нынче же вечером. Таким образом, из сорока восьми часов, сэкономленных мистером Фоггом в первые дни путешествия, он потеряет лишь половину.
Дорога шла подуклон, то были последние откосы горного массива Виндхья. Киуни снова затрусил давешней бойкой рысью. Около полудня парс повел их в обход селения Кдлленджер, расположенного на реке Кен, впадающей в один из крупных притоков Ганга. Было очевидно, что он по-прежнему избегает населенных пунктов, считая более безопасной пустынную местность, где встречались низины – характерная примета, свойственная долинам больших рек. Аллахабадский вокзал находился на северо-востоке, до него оставалось миль двенадцать, не больше. Очередной привал сделали в рощице банановых пальм, на чьи плоды путники набросились особенно жадно, обнаружив, что они действительно сытные, «будто хлеб со сливками», как обычно о них отзываются отведавшие их путешественники.
В два пополудни проводник направил слона в густую чащобу, сквозь которую им предстояло пробираться несколько миль. Парс считал, что путникам разумнее скрываться под пологом леса. Как-никак до сей поры они успешно уклонялись от нежелательных встреч, им уже казалось, что путешествие обойдется без неприятностей. Но тут слон, по-видимому, чем-то встревоженный, внезапно остановился.
Было четыре часа дня.
– Что там такое? – осведомился сэр Фрэнсис Кромарти, высовываясь из своей подвесной корзины.
– Не знаю, господин офицер, – отвечал парс, прислушиваясь. Впереди, за стеной густо сплетенных ветвей, доносился невнятный шум, неясные звуки бубнов. Минута-другая – и звуки, все еще отдаленные, стали явственнее. Теперь там угадывались человеческие голоса, сливающиеся с медным гулом музыкальных инструментов.
Паспарту весь превратился в слух да и глаза раскрыл пошире. Мистер Фогг, не проронив ни слова, терпеливо ждал, что будет дальше. А проводник, спрыгнув наземь, привязал слона к дереву и юркнул в чашу там, где она казалась особенно густой. Спустя несколько минут он возвратился и сообщил:
– Это процессия браминов. Они направляются сюда. Лучше бы не попадаться им на глаза. Попробуем спрятаться.
Парс, отвязав слона, отвел его поглубже в заросли, путникам посоветовал не слезать, сам же приготовился мигом на него вскочить, если придется спасаться бегством. Но он надеялся, что толпа людей, целиком поглощенных своим религиозным ритуалом, проследует мимо, не заметив чужаков, благо густой лиственный полог их полностью скрывал.
Нестройный гул голосов и музыка между тем надвигались. Теперь уже ясно слышались монотонные песнопения, гром барабанов, бубны. Вскоре поддеревьями шагах в пятидесяти от места, где затаились мистер Фогг и его спутники, показалась голова процессии. Сквозь ветви, образующие их укрытие, они могли в свое удовольствие разглядывать причудливых участников церемонии.
Впереди выступали жрецы с митрами на головах, облаченные в длинные расписные храмиды. Вокруг них теснились мужчины, женщины, дети, издавая заунывные звуки, смахивающие на погребальный псалом, через равные промежутки времени прерываемый барабанным боем и звоном бубнов. Следом ехало громоздкое сооружение, влекомое двумя парами зебу в пышно разукрашенных попонах, оно катилось на огромных колесах, спицы и ободья которых были изготовлены в виде переплетающихся змей. На колеснице возвышалась статуя самого мерзопакостного вида с четырьмя руками, темно-красным туловищем, безумными глазами, спутанными волосами, свисающим языком и губами, выкрашенными хной и бетелем. Ее шею обвивало ожерелье из мертвых голов, на бедрах болтался пояс из отрубленных рук. Она стояла на теле безголового поверженного великана.
Сэр Фрэнсис узнал эту статую.
– Кали… – пробормотал он. – Богиня любви и смерти.
– Насчет смерти согласен, но любви – никогда! – ужаснулся Паспарту. – Жутковатая тетушка!
Парс знаком приказал ему замолчать.
Вокруг статуи металась, беснуясь и корчась в конвульсиях, толпа престарелых факиров, их тела были испещрены полосами охряного цвета и крестообразными порезами, из которых капля за каплей сочилась кровь. Это были те самые одержимые недоумки, что во время индусских религиозных церемоний все еще бросаются под колесницу Джаггернаута.
Следом шагали несколько брахманов во всем великолепии своих восточных одеяний. Они вели женщину, едва державшуюся на ногах.
Женщина была молода, белокожа, словно европейка, и с головы до пят обвешана множеством драгоценностей: они сверкали у нее на голове, на шее, плечах, ушах, на ее руках и щиколотках. Ожерелья, браслеты, серьги и кольца, казалось, отягощали ее свыше сил. Шитая золотом туника и покрывало из легкого муслина не скрывали очертаний ее тела.
Вслед за молодой женщиной – контраст, мучительно режущий глаз, – воины с обнаженными саблями, заткнутыми за пояса, и длинными пистолетами с серебряной насечкой несли в паланкине мертвеца.
Это был труп старика в великолепном наряде раджи. Как и при жизни, на голове у него красовался тюрбан, расшитый жемчугом, на кашемировом поясе, перехватывающем златотканый шелковый халат, сверкали бриллианты. Пышное убранство трупа дополняло драгоценное оружие. Все говорило о том, что покойный – какой-то индийский князь.
Следом шли музыканты, а замыкала кортеж толпа фанатиков, вопли которых порой заглушали даже барабаны.
При виде этого торжественного шествия лицо сэра Фрэнсиса Кромарти сильно омрачилось, и он, обращаясь к проводнику, тихо произнес:
– Сутти!
В ответ парс утвердительно кивнул и приложил палец к губам. А длинная процессия текла под сенью деревьев, пока последние беснующиеся фигуры не скрылись в лесной гуще.
Мало-помалу и песнопения затихли. Порой издали еще долетали отдельные особенно неистовые вопли, и наконец все погрузилось в глубокое молчание.
Филеас Фогг расслышал слово, сказанное сэром Фрэнсисом Кромарти. Как только процессия удалилась, он спросил:
– Что такое «сутти»?
– Сутти, мистер Фогг, – отвечал бригадный генерал, – это человеческое жертвоприношение, но добровольное. Женщину, которую вы только что видели, сожгут завтра на рассвете.
– Ох, сволочи! – воскликнул Паспарту, не в силах сдержать негодование.
– А этот труп? – спросил мистер Фогг.
– Это тело ее мужа, раджи, – отвечал проводник. – Правитель независимого Бундельханда умер.
– Как? – не унимался Филеас Фогг, хотя ни единая нотка в его голосе не выдавала ни малейшего волнения. – Здесь все еще существуют эти варварские обычаи? И англичане не могут покончить с ними?
– На большей части индийской территории такие жертвоприношения уже не допускаются, – сказал сэр Фрэнсис Кромарти, – но есть дикие окраины, где мы не имеем никакого влияния. Особенно в Бундельханде. На северных склонах Виндхья убийства и грабежи – повсеместное явление.
– Бедняжка! – прошептал Паспарту. – Сгореть заживо!
– Да, – вздохнул бригадный генерал, – ее сожгут, но если бы она на это не пошла, вы представить не можете, на какую жалкую участь обрекло бы ее собственное семейство! Тогда ей обреют голову, ее будут держать впроголодь, не давая иной пищи, кроме нескольких горсточек риса, от нее все отвернутся, считая грязной тварью, и она умрет где-нибудь в темном углу, как шелудивая собака. Зачастую именно ужас перед подобной перспективой скорее, чем любовь к покойному или религиозный фанатизм, толкает этих несчастных на мученическую смерть. Тем не менее иногда жертва и в самом деле оказывается добровольной, в таких случаях требуется особенно энергичное вмешательство властей, чтобы этому помешать. Скажем, несколько лет назад, когда я жил в Бомбее, одна молодая вдова обратилась к правительству с просьбой разрешить ей сжечь себя вместе с телом покойного супруга. Власти, разумеется, ответили отказом. Тогда вдова покинула город, бежала во владения одного независимого раджи и там все-таки осуществила свой замысел.
Пока говорил бригадный генерал, проводник только молча качал головой, когда же рассказчик умолк, тот вставил:
– Жертвоприношение, которое совершится завтра на заре, не добровольное.
– Почему вы так думаете?
– В Бундельханде все это знают, – сказал проводник.
– Однако несчастная не оказывала никакого видимого сопротивления, – заметил сэр Фрэнсис Кромарти.
– Это потому, что ее одурманили парами опиума и конопли.
– Но куда они ее увели?
– В пагоду Пилладжи, в двух милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании часа жертвоприношения.
– И когда, вы говорите, он наступит?
– Завтра, при первых проблесках зари.
С этими словами проводник вывел слона из зарослей и взобрался ему на шею. Но он не успел условным свистом подать сигнал, что пора в дорогу. Мистер Фогг удержал его и обратился к сэру Фрэнсису Кромарти:
– А что, если мы спасем эту женщину?
– Спасти эту женщину, мистер Фогг? – вскричал бригадный генерал, не веря своим ушам.
– У меня еще двенадцать часов в запасе. Я могу себе позволить потратить их на это.
– Ого! Да вы отчаянный человек! – сказал сэр Фрэнсис.
– Разве что изредка, когда у меня есть время, – невозмутимо ответил Филеас Фогг.
Глава XIII
где Паспарту уже не впервые доказывает, что фортуна любит смельчаков
Замысел был дерзким, возможно, невыполнимым: ситуация топорщилась препятствиями, как дикобраз – иглами. Опасность грозила жизни или, по меньшей мере, свободе мистера Фогга, а следовательно, на карту был поставлен исход его пари. Но наш джентльмен не колебался. Тем паче, что в лице сэра Фрэнсиса Кромарти он нашел решительного сторонника.
Что до Паспарту, на него тоже можно было положиться: он тотчас приготовился действовать. Его необычайно вдохновила идея хозяина. Он почувствовал теперь, что сердце и душа живы под этой ледяной броней. Воистину, Филеас Фогг теперь достоин его любви.
Но оставался еще проводник. Какую позицию займет он? Не примет ли сторону индусов? Если на его содействие нет надежды, необходимо заручиться хотя бы гарантией невмешательства.
Сэр Фрэнсис Кромарти напрямик задал ему этот вопрос. И в ответуслышал:
– Господин офицер, я парс. А та женщина – парсианка. Располагайте мной.
– Отлично, проводник, – одобрил мистер Фогг.
– Но имейте в виду, – продолжал парс, – что мы рискуем не только жизнью. Если попадем к ним в руки, нас ждут страшные истязания. Так что смотрите.
– Это учтено, – отвечал мистер Фогг. – Полагаю, прежде, чем действовать, нам следует дождаться ночи?
– Я думаю также, – проводник кивнул.
Храбрый индиец поведал спутникам кое-какие подробности относительно жертвы. Эта девушка славилась своей красотой, она была дочерью богатого парса-негоцианта из Бомбея. Там она получила чисто английское воспитание: как по манерам, так и по образованности ее можно принять за европейку. Зовут ее Ауда. Когда она осталась сиротой, ее против воли выдали замуж за этого дряхлого раджу Бундельханда. Спустя три месяца она овдовела. Зная, какая участь ее ждет, она пыталась спастись бегством. Но ее быстро настигли, и родственники раджи, заинтересованные в смерти его вдовы, обрекли ее на казнь. Шансов избежать расправы у нее, судя по всему, уже не остается.
Такой рассказ мог лишь укрепить мистера Фогга и его спутников в их великодушном намерении. Было решено, что проводник направит слона в сторону пагоды Пилладжи с тем, чтобы подобраться к ней как можно ближе.
Через полчаса они остановились, укрывшись в густом подлеске в пяти сотнях шагов от пагоды. Видеть ее оттуда они не могли, но завывания фанатиков доносились до их слуха весьма явственно.
Затем стали обсуждать, каким способом пробиться кжертве. Проводнику была хорошо знакома эта пагода Пилладжи, где, как он утверждал, заперли вдову. Нельзя ли прорваться в ворота, когда вся эта орава, перепившись, завалится спать, или лучше проломить дыру в стене? Но такой выбор можно сделать только уже на месте, в последнюю минуту. Одно несомненно: похищение должно состояться именно этой ночью, прежде чем забрезжит утро и жертву поведут на мучительную смерть. С того момента никакое человеческое вмешательство уже не сможет ее спасти.
Итак, мистер Фогг и его спутники стали ждать ночи. Как только стемнело, они решили отправиться к пагоде на разведку. Последние вопли факиров уже затихли. Должно быть, эти индийцы по своему обыкновению вконец одурманили себя питьем, что зовется «hang», – смесью жидкого опия и конопляной настойки. Есть надежда незаметно обойти их и проскользнуть в храм.
Мистер Фогг, сэр Фрэнсис и Паспарту, предводительствуемые проводником, бесшумно крались через заросли. Минут десять им пришлось ползком пробираться под пологом сплетенных ветвей, потом они выбрались на берег маленькой речки и там при свете горящих смоляных факелов на металлических подставках увидели груду распиленных бревен.
То был костер, заранее приготовленный из драгоценного сандалового дерева, пропитанного благовонным маслом. На его вершине возлежал труп раджи, которого полагалось сжечь вместе с его вдовой. В сотне шагов от костра высилась пагода, минареты которой виднелись из мрака над кронами деревьев.
– Пошли! – шепнул проводник.
И молча, с удвоенной осторожностью заскользил среди высокой травы. Спутники двинулись следом.
Теперь безмолвие леса нарушал только ветер, бормочущий в древесных верхушках.
Вскоре дошли до края поляны, и проводник остановился. Пространство, открывшееся перед ними, освещало несколько смоляных факелов. Оно было усеяно телами спящих, которых свалил с ног хмель. Зрелище напоминало поле битвы, покрытое трупами. Мужчины, женщины, дети – все, упившись, валялись вповалку. Некоторые к тому же храпели.
На заднем плане, сливаясь с деревьями, смутно проступал в потемках храм Пилладжи. Однако проводник к немалой своей досаде различил при свете коптящих факелов недремлющих стражей раджи, они исправно бдили у ворот, с саблями наголо прохаживаясь там. Да и жрецы в храме, возможно, тоже не смыкали глаз.
Парс не сделал больше ни шагу вперед. Он понял, что со стороны входа атаковать храм бессмысленно, и отвел своих спутников подальше.
Филеас Фогг и сэр Фрэнсис Кромарти одновременно с ним тоже сообразили, что попытка такого рода ничего не даст.
Остановившись, они стали тихо переговариваться.
– Подождем, – сказал бригадный генерал. – Еще только восемь вечера, есть надежда, что и этих стражей сморит сон.
– Да, это возможно, – признал парс.
Итак, Филеас Фогг и его сподвижники улеглись поддеревом и стали ждать.
Время тянулось бесконечно! Проводник то и дело уходил посмотреть, что делается на поляне. Стража раджи по-прежнему исправно несла свою службу при свете факелов, да и в окнах пагоды маячил слабый свет.
Так они прождали до полуночи. Положение не менялось. Внешняя охрана была все так же начеку. Стало очевидным, что на сонливость воинов рассчитывать бесполезно. По всей вероятности, их уберегли от пьянящего воздействия смеси, именуемой «hang». Следовательно, надо было действовать иначе: проникнуть внутрь, проломив стену пагоды. Хорошо бы узнать, надзирают ли жрецы храма за своей жертвой также неусыпно, как воины, охраняющие врата.
Посовещались в последний раз, и проводник объявил, что готов отправиться. Мистер Фогг, сэр Фрэнсис и Паспарту последовали за ним. Чтобы подобраться к пагоде сзади, пришлось сделать изрядный крюк. Около половины первого они приблизились к подножию стены, никого не встретив. Никто не охранял пагоду с этой стороны, однако, сказать по правде, там ни окон не было, ни дверей – абсолютно ничего.
Ночь выдалась темная. Луна, находившаяся в последней четверти, едва успела выглянуть из-за горизонта, как ее заволокло тучами. Кроны высоких деревьев, распростершись над их головами, делали мрак еще более непроглядным.
Однако пробраться к стене – полдела, в ней еще надо было проковырять отверстие. Для этой цели у Филеаса Фогга и его соратников имелись всего-навсего карманные ножи. Какое счастье, что храмовая стена сложена из кирпича и дерева, такую смесь, наверное, легко пробить! Достаточно извлечь первый кирпич, остальное пойдет как по маслу…
Они принялись за дело, стараясь производить как можно меньше шума. Выламывая кирпичи, проводник трудился с одной стороны, Паспарту – с другой, примериваясь так, чтобы получилась дыра шириной в два фута.
Работа спорилась, но тут из недр храма послышался крик, и почти тотчас другие крики отозвались снаружи.
Паспарту и проводник замерли. Неужели они обнаружены, и это сигнал тревоги? Элементарная осторожность подсказывала, что надо, ни секунды не медля, отойти подальше. Именно это они и сделали. Филеас Фогг и сэр Фрэнсис Кромарти поступили так же. Снова затаились под пологом леса и, припав к земле, ждали, когда переполох, если это был он, утихнет. В таком случае они смогут продолжить операцию.
Однако – вот уж помеха хуже некуда – под стеной пагоды появились стражники, расположившись так, что туда и не подступишься.
Нет слов, чтобы описать разочарование этихчетырех мужчин, чье доброе дело, начатое так удачно, внезапно сорвалось. Как они смогут спасти несчастную, если потеряна надежда добраться до нее? Сэр Фрэнсис Кромарти буквально кулаки себе грыз. Паспарту был вне себя, да и проводнику стоило немалого труда сдерживаться. Только бесстрастный мистер Фогг ждал, не выражая никаких чувств.
– Остается только убраться восвояси? – выдавил бригадный генерал вполголоса.
– Да, иного выхода нет, – отозвался проводник.
– Погодите, – сказал Фогг. – Время терпит: мне ведь только и нужно, что успеть в Аллахабад завтра до полудня.
– На что вы еще надеетесь? – удивился сэр Фрэнсис Кромарти. – Солнце взойдет через несколько часов, и тогда…
– Шанс, который ускользает от нас, может представиться в последнюю минуту.
Сейчас бригадный генерал много бы дал, чтобы заглянуть в глаза Филеаса Фогга. Что он задумал, этот хладнокровный англичанин? Уж не хочет ли он в момент казни броситься к молодой женщине и у всех на виду вырвать ее из рук палачей?
Это было бы чистым безумием, и нельзя допустить, чтобы человек до такой степени лишился рассудка. Как бы то ни было, сэр Фрэнсис согласился дождаться развязки этой кошмарной истории. Тем не менее проводник не разрешил своим спутникам остаться там, где они притаились. Он отвел их на край поляны, откуда они, скрытые купой деревьев, могли наблюдать за разбросанными по земле спящими пьяницами.
Тем временем Паспарту, вскарабкавшись на дерево, ломал голову над одной идеей, которая, сперва лишь молнией мелькнув у него в мозгу, стала отпечатываться в нем все отчетливей.
Сначала он сказал себе: «Ну и бред!», а теперь уже думал: «В конце концов, почему бы не попробовать? Ведь это шанс и, может быть, единственный, а имея дело с такими болванами…»
Как бы то ни было, Паспарту не стал высказывать свои мысли вслух, зато не преминул ловко, по-змеиному, соскользнуть на нижние веткидерева, отчего они так согнулись, что концами касались земли.
Минуты между тем текли. Вскоре черное небо на востоке стало местами казаться уже не таким непроглядным. Эти бледные просветы возвещали, что заря близка, хотя окружающая темень еще оставалась достаточно густой.
Но вот час настал. Все выглядело так, будто жизнь возвращалась к этой доселе бездыханной толпе. Груды тел, разбросанных там и сям, зашевелились. Послышался рокот барабана. Снова раздались песнопения и вопли. Видимо, несчастной пришла пора умереть.
Так и есть: двери пагоды распахнулись. Изнутри вырвался сноп света, куда более яркого, чем раньше. Теперь мистер Фоггисэр Фрэнсис Кромарти могли хорошо разглядеть озаренную им жертву. Два жреца выволокли ее наружу. Казалось, властный инстинкт самосохранения помог женщине стряхнуть дурман, и теперь она пыталась вырваться из рук своих палачей. Сердце сэра Фрэнсиса Кромарти заколотилось, он судорожно стиснул руку Филеаса Фогга и нащупал в ней раскрытый нож.
В этот момент толпа дрогнула, вся разом пришла в движение. А молодая женщина под воздействием паров конопли снова впала в прострацию. Она безропотно прошла сквозь сборище факиров, сопровождавших каждый ее шаг своими фанатическими песнопениями.
Филеас Фогги его сподвижники, смешавшись с толпой, но держась в последних ее рядах, следовали за жертвой.
Спустя две минуты они вышли на берег речки и остановились шагов за пятьдесят от костра, на который уже взгромоздили труп раджи. В предрассветном полумраке друзья видели, какжертва, абсолютно безвольная, распростерлась рядом с телом своего супруга.
Потом факел поднесли к груде дров, и они, пропитанные маслом, мгновенно воспламенились.
В этот миг сэр Фрэнсис Кромарти и проводник едва успели удержать мистера Фогга, который в великодушном порыве рванулся к костру…
Филеас Фогг уже отшвырнул их обоих, когда вдруг события приняли неожиданный оборот. Раздался многоголосый вопль ужаса. Вся толпа, очумев от страха, попадала наземь. Ибо старый раджа восстал из мертвых, у всех на глазах ожил, поднялся в клубах дыма, как призрак, подхватил молодую женщину на руки и соскочил с костра!
Факиры, стража, жрецы, обуянные неописуемым ужасом, распростерлись ничком, уткнувшись лицом в землю, никто не осмеливался поднять глаза и взглянуть на подобное чудо.
Жертва обвисла без чувств на могучих руках, которые несли ее, казалось, совсем не ощущая веса. Мистер Фогг и сэр Фрэнсис Кромарти, оцепенев, застыли на месте. Проводник замер, склонив голову, и Паспарту, надо полагать, был поражен не менее прочих!..
Меж тем воскресший устремился туда, где стояли Филеас Фогг и сэр Фрэнсис, и скороговоркой бросил:
– Бежим!
Это был Паспарту собственной персоной. Прячась за густой дымовой завесой, он проскользнул к костру и, поскольку было еще темно, вырвал молодую женщину из когтей смерти! Это он, Паспарту, так счастливо и дерзко сыграв свою роль, беспрепятственно проложил себе путь среди всеобщей паники!
Через мгновение все четверо уже скрылись в чаще. Но когда слон мощной рысью уносил их прочь, крики, завывания и наконец пуля, пробившая шляпу Филеаса Фогга, дали им понять, что их хитрость разоблачена.
И верно: на пылающем костре стал ясно виден труп старого раджи. Жрецы, опомнившись от испуга, сообразили, что у них на глазах только что совершилось похищение. Они тотчас бросились в погоню. За ними в лес устремились воины. Дали залп, но похитители удирали проворно и через несколько мгновений уже оказались вне досягаемости пуль и стрел.
Глава XIV
в которой Филеас Фогг, оказавшись в живописной долине Ганга, не удостоил ее красоты ни малейшего внимания
Итак, дерзкое похищение удалось. Час спустя Паспарту все еще смеялся, радуясь своему подвигу. Сэр Фрэнсис Кромарти пожал отважному парню руку. Его хозяин сказал: «Хорошо», что в устах этого джентльмена равнялось высшей похвале. Что до Паспарту, он отвечал, что в этом деле вся честь принадлежит его господину, а ему просто пришла в голову «шальная мысль». Вот он и теперь хохотал, думая о том, что несколько минут ему, Паспарту, бывшему гимнасту, отставному пожарнику, довелось побыть старым набальзамированным раджой, супругом очаровательной женщины!
А сама юная индуска все еще не пришла в себя, она не сознавала случившегося. Просто лежала, завернутая в дорожные пледы, в одной из корзин. Между тем слон, управляемый уверенной рукой парса, быстро бежал по лесу, где все еще царил полумрак. Час спустя после того, как пагода Пилладжи осталась позади, они выехали на бескрайнюю равнину. В семь сделали привал. Молодая женщина по-прежнему находилась в полной прострации. Проводник дал ей выпить несколько глотков разбавленного бренди, но последствия одуряющих курений не могли пройти так быстро.
Сэр Фрэнсис Кромарти, знающий, как действуют опьяняющие пары конопли, не видел здесь никаких причин для беспокойства. Но если в выздоровлении молодой женщины он не сомневался, то относительно ее будущего никаких иллюзий не питал. Бригадный генерал прямо заявил Филеасу Фоггу, что если миссис Ауда останется в Индии, она неизбежно снова попадет в руки своих палачей. Эти бесноватые шастают по всему полуострову и, невзирая на английскую полицию, сумеют заполучить обратно свою жертву, настигнув ее хоть в Мадрасе, хоть в Бомбее, хоть в Калькутте. В подтверждение своих слов сэр Фрэнсис рассказал одну историю того же рода, случившуюся не так давно. По его мнению, молодая женщина будет в безопасности, только если покинет Индию.
Филеас Фогг ответил, что обдумает это сообщение и примет меры.
Около десяти часов проводник объявил, что они подъезжают к Аллахабадскому вокзалу. Там снова начиналась прерванная железная дорога, и поезда, идущие по ней, менее чем за сутки, покрывали расстояние от Аллахабада до Калькутты.
Итак, Филеас Фогг должен был вовремя успеть на пакетбот, который отплывал в Гонконг на следующий день, 25 октября, в полдень.
Молодую женщину поместили в одну из станционных комнат. Паспарту поручили купить для нее необходимые предметы туалета: платье, шаль, меховую накидку и тому подобное, – короче, все, что он сможет найти. При этом хозяин предложил ему не стесняться в расходах.
Паспарту, тотчас отправившись на поиски, обшарил чуть не все улицы города. Аллахабад (что в переводе означает «Град Божий») – одно из самых почитаемых в Индии мест, так как построен он на слиянии двух священных рек – Ганга и Джамны. К тому же, как известно из легенд «Рамаяны», Ганг берет свое начало на небесах, откуда нисходит на землю по милости Брамы.
Делая покупки, быстроногий Паспарту успел заодно поглазеть на город. Встарь его защищала великолепная крепость, превращенная ныне в государственную тюрьму. В этом городе, некогда промышленном и торговом центре, ныне ни торговли нет, ни промышленности. Паспарту тщетно метался по Аллахабаду в поисках магазина нового платья, забыв, что здесь ему не Риджент-стрит, где рукой подать до дверей торгово-посреднической фирмы «Farmer et Со». Нужные вещи нашлись в конце концов, но только в лавке угрюмого старого еврея-перекупщика. Там он приобрел платье из шотландки, широкое манто и роскошную накидку из меха выдры, за которую без колебаний выложил семьдесят пять фунтов стерлингов (то есть 1875 франков).
После этого он, торжествуя, вернулся на вокзал.
Между тем миссис Ауда начала приходить в себя. Воздействие курений, которому ее подвергали жрецы Пилладжи, мало-помалу рассеивалось, и ее прекрасные глаза вновь обрели неповторимую индийскую томность.
Некогда, прославляя прелести царицы Ахмеднагара, венценосный поэт Юсуф Уд-Даул выражался так:
«Ее блестящие волосы, разделенные пробором, ниспадают двумя волнами, обрамляя изящный овал белого тонкого лица, сияющего безупречной свежестью. Властный чеканный изгиб ее эбеновых бровей – словно лук Камы, бога любви, а в прозрачной глубине ее больших черных очей под длинными шелковистыми ресницами, словно в священных озерах Гималаев, трепещут чистейшие отблески небесного света. Зубы ее, точеные, ровные, белые, сверкают в улыбающихся устах, словно капли росы в полураскрытом цветке граната. Мочки ее маленьких ушей, безукоризненно закругленные, ее золотистые руки и крошечные ступни, пухлые и нежные, как бутон лотоса, ослепляют, словно блеск прекраснейших жемчужин Цейлона и несравненных алмазов Голконды. Гибкая талия, такая тонкая, что можно обхватить ее пальцами одной руки, подчеркивает изысканные изгибы округлых бедер и пышность груди, где расцветающая юность таит свои самые совершенные сокровища. Под шелковыми складками туники она выглядит статуей, что изваяла из чистого серебра не земная рука, но длань божественного ваятеля Вишвакармы».
Нам же, склонным обходиться без таких экзотических гипербол, достаточно сказать, что миссис Ауда, вдова раджи Бундельханда, была очаровательной женщиной в европейском понимании этого слова. По-английски она говорила очень чисто, и проводник нисколько не преувеличивал, утверждая, что воспитание совершенно преобразило эту юную парсианку.
Между тем подошло время отправления поезда от Аллахабадского вокзала. Парс чего-то ждал. Условленную плату мистер Фогг ему уже выдал, но не прибавил ни фартинга. Паспарту, помнящий, сколь многим его хозяин был обязан этому надежному и преданному человеку, несколько удивился. Ведь, сказать по правде, в истории Пилладжи парс добровольно рисковал жизнью, и если со временем индусы об этом пронюхают, ему трудно будет избежать расправы.
А еще оставалось решить судьбу Киуни. Что станется со слоном, купленным за такую немыслимую цену?
Однако мистер Фогг уже принял решения на сей счет.
– Парс, – сказал он проводнику, – ты исполнителен и верен. Я заплатил за твою службу, но не за верность. Хочешь этого слона? Он твой.
Глаза у проводника загорелись.
– Ваша милость, это же целое состояние! – воскликнул он.
– Соглашайся, проводник, – промолвил мистер Фогг. – Я так или иначе останусь твоим должником.
– В добрый час! – закричал Паспарту. – Бери его, друг! Киуни – славная, храбрая скотина!
И, подойдя к слону, принялся совать ему кусочки сахара.
– Держи, Киуни! На, держи!
Слон издал звук, похожий на удовлетворенное урчание. Затем, подцепив Паспарту за пояс и обхватив его хоботом поперек туловища, поднял и поднес к своим глазам. Нисколько не испугавшись, Паспарту ласково погладил огромное животное, и оно мягко опустило его на землю. На пожатие хобота честного Киуни славный малый ответил крепким рукопожатием.
Через несколько минут Филеас Фогг, сэр Фрэнсис Кромарти и Паспарту, расположившись в комфортабельном вагоне, где лучшее место было предоставлено миссис Ауде, на всех парах мчались к Бенаресу.
Чтобы добраться туда из Аллахабада, нужно было одолеть еще восемьдесят миль, на что им потребовалось два часа. За это время молодая женщина оправилась вполне: дурман от конопляных паров наконец выветрился.
Каково же было ее изумление, когда она осознала, что находится в купе железнодорожного вагона, одета по-европейски и окружена абсолютно незнакомыми пассажирами!
Спутники сначала расточали ей свои заботы, дали выпить несколько глотков ликера, чтобы подкрепить ее силы, а затем бригадный генерал рассказал ей обо всем случившемся. Он особенно подчеркивал самоотверженность Филеаса Фогга, который ради ее спасения рисковал своей жизнью, и то, что благополучная развязка приключения стала возможна благодаря дерзкой изобретательности Паспарту.
Невозмутимый мистер Фогг во время этой речи не проронил ни слова, а Паспарту, ужасно смущенный, все твердил, что «тут и говорить не о чем».
Миссис Ауда горячо, больше слезами, чем словами, благодарила своих спасителей. Ее чудесные глаза выражали признательность так красноречиво, как губы не сумели бы. Потом в ее памяти отчетливо проступили кошмарные сцены «сутти», она огляделась вокруг, осознала, что все еще находится на земле Индии, где ее подстерегает столько опасностей, и содрогнулась от ужаса.
Догадавшись, что творится в душе миссис Ауды, Филеас Фогг предложил ей – впрочем, достаточно холодным тоном – отвезти ее в Гонконг, где она сможет переждать, пока все не уляжется. Миссис Ауда с благодарностью приняла предложение, тем паче, что именно там, в Гонконге, жил ее родственник, тоже парс. Он был одним из крупнейших коммерсантов этого английского города, хоть и расположенного на китайской земле.
В половине первого поезд остановился в Бенаресе. Предания браминов гласят, что этот город построен на месте древнего Кази, который некогда висел в пространстве между зенитом и надиром, подобно гробнице Магомета. Но в нашу, куда более реалистическую эпоху, Бенарес, с легкой руки востоковедов прозванный «индийскими Афинами», абсолютно прозаически стоит на твердой земле, и Паспарту, успевший бросить взгляд на его кирпичные дома и плетеные лачуги, отметил, что они придают городу безнадежно убогий вид, напрочь лишенный местного колорита.
Здесь заканчивалось путешествие сэра Фрэнсиса Кромарти. Воинские части, к которым он собирался присоединиться, раскинули лагерь в нескольких милях к северу от города. Итак, бригадный генерал распрощался с Филеасом Фоггом, пожелав ему всяческих удач, но выразив напоследок надежду, что тот когда-нибудь повторит свой вояж менее экстравагантным способом, но с большей пользой. Мистер Фогг ограничился тем, что слегка пожал протянутую попутчиком руку. Зато прощальные излияния миссис Ауды были не в пример горячее. Она заверила сэра Фрэнсиса, что никогда не забудет, чем обязана ему. Что до Паспарту, бригадный генерал почтил его крепким дружеским рукопожатием, и славный малый, растрогавшись, уже начал ломать голову, где бы, как бы он смог доказать свою преданность этому замечательному человеку. На том они и расстались.
После Бенареса железная дорога какое-то время проходит по долине Ганга. Стояла ясная погода, позволяющая наблюдать сквозь стекла вагона многообразные ландшафты Бихара, зеленеющие горные склоны, поля ячменя, кукурузы и пшеницы, водоемы, кишащие зеленоватыми аллигаторами, ухоженные селения и наперекор времени года все еще не поблекшие леса. Несколько слонов и большегорбых зебу пришли помокнуть в водах священной реки, рядом в ее струях копошились целые орды индусов обоего пола: невзирая на осенний холод они благочестиво совершали ритуальные омовения. То были ярые враги буддизма и горячие приверженцы браминской религии, воплощенной в трех образах: солнечного божества Вишну, Шивы как божественного олицетворения сил природы и Брамы – верховного владыки священнослужителей и законодателей. Но какими глазами Брама, Шива и Вишну посмотрели бы на нынешнюю «британизированную» Индию, где ревущие пароходы мутят священные воды Ганга, пугают чаек, летающих над ним, и черепах, которыми кишат его берега, не говоря о распростертых у реки богомольцах?
Вся эта панорама с быстротой молнии проносилась мимо, и часто облако белого дыма скрывало ее подробности от глаз путников. Им с трудом удалось разглядеть форт Чунар, расположенный в двадцати милях к юго-востоку от Бенареса, древнюю цитадель раджей Бихара, Газипур и крупные фабрики розовой воды и масла, а также могилу лорда Корнуоллиса, которая возвышается на левом берегу Ганга. Промелькнули перед ними и укрепленный город Буксар и Патна, крупный промышленный и торговый центр, где находился главный рынок опиума, а также Монгхир, самый европеизированный из городов страны, выглядящий таким же английским, как Манчестер или Бирмингам, прославленный своими чугунолитейными заводами и фабриками режущих инструментов и холодного оружия; их высокие трубы оскверняли небо Брамы клубами черного дыма – чем не пощечина стране грез?
Но вот настала ночь. Поезд шел на полном ходу, провожаемый рычанием тигров, медведей, волков, перебегавших дорогу паровозу. За окном воцарилась темнота, и уже ничего из чудес Бенгалии нельзя было рассмотреть: ни Голконды, ни Гура, лежащего в руинах, ни Муршидабада, бывшего некогда столицей, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандернагора, некогда основанного на земле Индии французами (Паспарту был бы очень горд, если бы смогувидеть развевающийся над ним флаг своей родины!).
В семь утра поезд наконец прибыл в Калькутту. Пакетбот, следующий в Гонконг, должен был поднять якорь в полдень, стало быть, у Филеаса Фогга было в запасе пять часов.
Согласно его путевому дневнику, этому джентльмену следовало бы добраться до индийской столицы 25 октября, через двадцать три дня после отъезда из Лондона. И он прибыл туда к назначенному сроку. Таким образом, он не опаздывал, но и опережения больше не было. Когда ему настала пора пересечь полуостров, те два дня, что он сумел выиграть между Лондоном и Бомбеем, были потеряны при известных нам обстоятельствах. Впрочем, есть все основания полагать, что Филеас Фогг об этом не сожалел.
Глава XV
где сумка с банкнотами полегчала еще на несколько тысяч фунтов стерлингов
Поезд подкатил к вокзалу. Паспарту первым выскочил из вагона, за ним последовал мистер Фогг, который поддерживал свою спутницу, помогая сойти с подножки. Он собирался отправиться прямо на гонконгский пакетбот, чтобы с комфортом устроить там миссис Ауду, которую он не хотел оставлять одну, так как помнил об опасностях, подстерегающих ее в этой стране.
Но когда наш джентльмен выходил из вокзала, к нему подошел полисмен.
– Мистер Филеас Фогг?
– Это я.
– А этот человек – ваш слуга? – полисмен указал на Паспарту.
– Да.
– Извольте следовать за мной. Оба!
Мистер Фогг ни единым жестом не выразил удивления. Этот полицейский был представителем закона, а закон для англичанина святыня. Паспарту со своими французскими замашками попробовал было возражать, но полисмен коснулся жезлом его плеча, а Филеас Фогг сделал ему знак подчиниться.
– Эта молодая дама может пойти с нами? – спросил мистер Фогг.
– Может, – отвечал полисмен.
Страж порядка усадил мистера Фогга, миссис Ауду и Паспарту в палькигари – это что-то вроде четырехколесной четырехместной коляски, запряженной парой лошадей, – и она тронулась. Путь занял минут двадцать, и пока ехали, никто не произнес ни слова.
Сначала коляска миновала «черный город» с узкими улочками, где ютилось в лачугах разноплеменное население, оборванное и чумазое. Потом въехали в европейские кварталы с веселыми кирпичными домами под кокосовыми пальмами, там, несмотря на ранний час уже попадались навстречу элегантные всадники и роскошные экипажи.
Пальки-гари остановилась перед зданием, с виду неказистым и вряд ли предназначенным для жилья. Полисмен приказал своим пленникам – такое определение здесь вполне уместно – выйти из коляски, отвел их в комнату с зарешеченными окнами и объявил:
– В половине девятого вы предстанете перед судьей Обадиа.
С тем он и удалился, заперев за собой дверь.
– Ну вот! Нас сцапали! – воскликнул Паспарту, опускаясь на скамью.
Тотчас миссис Ауда повернулась к мистеру Фоггу и, безуспешно стараясь скрыть смятение, проговорила дрогнувшим голосом:
– Вам следует оставить меня, сударь! Это из-за меня вас преследуют! За то, что вы меня спасли!
Филеас Фогг лаконично возразил, что это невозможно. Преследовать за историю с «сутти»? Исключено! Кто бы посмел обратиться с подобной жалобой к властям, как ее сформулировать, в каком качестве предстали бы сами истцы? Здесь явное недоразумение. В любом случае, добавил мистер Фогг, он не покинет молодую женщину и доставит ее в Гонконг.
– Но в полдень корабль отчалит! – напомнил Паспарту.
– Мы будем на борту до полудня, – отрезал невозмутимый джентльмен.
Такая убежденность слышалась в этих простых словах, что Паспарту поневоле сказал себе: «Черт возьми! Ни тени сомнения! До полудня мы будем на борту!»
Но сам-то он вовсе не был в этом уверен.
В половине девятого дверь комнаты отворилась. Вошел тот же полисмен. Он повел узников в помещение, находившееся по соседству. Это был зал судебных заседаний, и публики там собралось немало, как европейцев, так и индийцев. Мистера Фогга, миссис Ауду и Паспарту усадили на скамью, расположенную напротив кресел, предназначенных судье и секретарю.
Судья по имени Обадиа, сопровождаемый секретарем, вошел почти тотчасже. Он был толст, можно даже сказать, шарообразен. Сдернув с гвоздя висевший на стене парик, он ловко напялил его себе на голову.
– Слушается первое дело, – возвестил судья.
Но тут же осекся, поднес руку к голове.
– Э, да ведь это не мой парик!
– Действительно, господин Обадиа, это мой, – сказал секретарь.
– Мой дорогой господин Ойстерпуф, не думаете же вы, что судья может вынести справедливый вердикт, когда на нем парик секретаря?
Произошел обмен париками. Во время этих предварительных переговоров Паспарту буквально лопался от нетерпения, ему казалось, что стрелка на циферблате больших настенных часов двигается ужасно быстро.
– Слушается первое дело, – снова объявил судья Обадиа.
– Филеас Фогг? – вопросил секретарь.
– Это я, – отвечал мистер Фогг.
– Паспарту?
– Здесь! – откликнулся тот.
– Отлично! – сказал судья Обадиа. – Вас, обвиняемые, двое суток разыскивали во всех поездах, идущих из Бомбея.
– Да в чем мы провинились? – выкрикнул Паспарту, теряя терпение.
– Сейчас узнаете, – отвечал судья.
Мистер Фогг попробовал вмешаться.
– Сударь, – сказал он, – я как гражданин Англии вправе…
– Вы имеете основания жаловаться на неподобающее обхождение?
– Никоим образом.
– Вот и хорошо. Пригласите истцов.
По приказу судьи дверь отворилась, и вошли три жреца в сопровождении судебного исполнителя.
– Так и есть! – пробормотал Паспарту. – Это те самые мерзавцы, что хотели сжечь нашу молодую даму!
Жрецы, встав перед судьей, слушали, как судебный секретарь громким голосом зачитал жалобу на господина Филеаса Фогга и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении места, священного для приверженцев браминской религии.
– Вы все поняли? – спросил судья, обращаясь к Филеасу Фоггу.
– Да, сударь, – отвечал мистер Фогг и посмотрел на свои часы. – В этом я признаюсь.
– А, так вы признаете…
– Признаюсь и жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они собирались сделать в пагоде Пилладжи.
Жрецы переглянулись. Казалось, они никак не возьмут в толк, о чем говорит обвиняемый.
– Вот именно! – порывисто вскричал Паспарту. – Они там, перед этой пагодой Пилладжи, хотели сжечь свою жертву!
И снова жрецы ошеломленно застыли. Судья Обадиа тоже впал в глубокое недоумение:
– Какую жертву? – пробормотал он. – Сжечь кого-то? В центре Бомбея?
– То есть как Бомбея?
– Именно Бомбея. Ни о какой пагоде Пилладжи речь не шла, мы говорим о том, что произошло в Бомбее, в пагоде Малабар-Хилл.
– А вот и вещественное доказательство: обувь святотатца, – сказал секретарь суда, ставя на стол пару башмаков.
– Мои башмаки! – невольно вырвалось у Паспарту. Он был так ошеломлен, что не смог сдержаться.
Нетрудно вообразить, какое смятение охватило господина и слугу. Они думать забыли о том случае в бомбейской пагоде, однако именно из-за него они предстали перед судом в Калькутте.
А вышло так, что сыщик Фикс в полной мере оценил выгоду, которую мог извлечь из этого злополучного инцидента. Отсрочив свой отъезд на двенадцать часов, он успел переговорить со жрецами Малабар-Хилла, посулил им значительную денежную компенсацию, поскольку знал, что английские власти очень сурово карают за преступления подобного рода. Затем следующим поездом он с ними вместе пустился по следу святотатца. Однако из-за того, что освобождение юной вдовы потребовало времени, Фикс и жрецы прибыли в Калькутту раньше Филеаса Фогга и его слуги, которых местные власти, предупрежденные депешей, должны были задержать, как только те сойдут с поезда. Каково же было разочарование Фикса, когда ему сообщили, что Филеас Фогг все еще не прибыл в индийскую столицу! Ему оставалось лишь предположить, что вор вышел из поезда на одной из промежуточных остановок и бежал куда-то в северные провинции. Целые сутки Фикс, изнывая от мучительного беспокойства, подстерегал его на вокзале. Зато как возликовал сыщик, когда поутру увидел его выходящим из вагона, правда, в компании прелестной женщины, чье присутствие он не мог себе объяснить. Фикс тотчас напустил на него полисмена, вот почему мистер Фогг, Паспарту и вдова раджи Бундельханда предстали перед судьей Обадиа.
Да, если бы Паспарту не был так озабочен своим делом, он приметил бы в дальнем углу зала заседаний детектива, следившего за ходом процесса с напряжением, которое легко понять, если вспомнить, что и в Калькутте также, как в Бомбее и в Суэце, ордера на аресту него все еще не было!
Тем временем судья Обадиа велел занести в протокол признание, что вырвалось у Паспарту, который отдал бы все на свете, лишь бы взять обратно свои неосторожные слова.
– Вы признаете, что факт преступления имел место? – спросил судья.
– Признаю, – бесстрастно отвечал мистер Фогг.
– Поскольку английский закон в равной степени и самым неукоснительным образом защищает религиозные культы всех народностей Индии, за преступление, в коем сознался господин Паспарту, 20 октября уличенный в попытке опорочить своей кощунственной стопой священные плиты пола пагоды Малабар-Хилл, что в Бомбее, означенный Паспарту приговаривается к пятнадцати дням тюрьмы и штрафу в триста фунтов стерлингов (7500 франков).
– Триста фунтов?! – возопил Паспарту. Из всего сказанного по-настоящему проняла его только сумма штрафа.
– Молчать! – взвизгнул судебный исполнитель.
– А также, – продолжал судья Обадиа, – коль скоро господина надлежит признать ответственным за действия его слуги, хотя факт соучастия между ними не находит материальных подтверждений, суд приговаривает вышеупомянутого Филеаса Фогга к восьми дням тюрьмы и штрафу в сто пятьдесят фунтов стерлингов. Секретарь, вызовите тяжущихся по следующему делу!
Детектив, затаившись в своем углу, испытывал чувство неописуемого удовлетворения. Филеас Фогг задержан в Калькутте на восемь дней – следовательно, ордер на арест успеет дойти по назначению, даже если почта будет медлительнее обычного.
Паспарту был огорошен. Этот приговор разорил его хозяина. Пари на двадцать тысяч фунтов проиграно, и все потому, что ему, зеваке несчастному, вздумалось забрести в проклятую пагоду!
Зато сам Филеас Фогг и бровью не повел, он сохранял самообладание настолько безукоризненное, словно этот приговор его вовсе не касался. Но когда секретарь суда объявил, что слушается следующее дело, он поднялся с места и сказал:
– Предлагаю залог.
– Это ваше право, – отвечал судья.
У Фикса холодок пробежал по спине, но он тотчас взбодрился, услышав, что судья, «принимая во внимание, что Филеас Фогг и его слуга являются иностранцами», назначает каждому из них чудовищную сумму залога – тысячу фунтов (25 000 франков). Так что если мистер Фогг не желает посидеть за решеткой, это ему обойдется в две тысячи фунтов.
– Я заплачу, – сказал джентльмен.
Достал из сумки, что была у Паспарту, и положил ее на стол секретаря суда.
– Эти деньги будут вам возвращены, когда отбудете свой срок, – пояснил судья. – Пока же вы отпускаетесь под залог.
– Идем, – сказал Филеас Фогг слуге.
– Пусть мне хотя бы башмаки вернут! – в ярости выкрикнул Паспарту.
Башмаки ему отдали.
«Вот обувка по дорогой цене! – бормотал он про себя. – Больше тысячи фунтов за каждый! Не считая того, что они мне жмут!»
Абсолютно подавленный, Паспарту поплелся вслед за мистером Фоггом, который вел молодую даму под руку. А Фикс все еще тешил себя надеждой, что вор никогда не расстанется с двумя тысячами фунтов, он вернется, чтобы отсидеть в тюрьме свои восемь дней. Пока же он устремился вслед за Фоггом.
Джентльмен нанял экипаж и тотчас уселся в него вместе с миссис Аудой и Паспарту. Фикс со всех ног погнался за экипажем, который вскоре остановился у набережной.
В полумиле оттуда стоял на рейде «Рангун». Флаг, развевающийся на его мачте, означал, что судно готовится к отплытию. Послышался бой часов: одиннадцать. У мистера Фогга все еще оставался в запасе час. Он вышел из экипажа, на глазах у Фикса сел в шлюпку вместе с миссис Аудой и Паспарту.
– Негодяй! – прорычал взбешенный сыщик, топнув ногой. – Он уезжает! Ему плевать на две тысячи фунтов! Поистине воровская расточительность! Эх! Но я от него не отстану, если надо, до края света дойду! Да только при своих замашках он по пути все, что украл, размотает!
У полицейского инспектора были основания для беспокойства. Ведь и вправду: с тех пор как выехал из Лондона, Филеас Фогг потерял более пяти тысяч фунтов (125 000 франков) на путевых расходах, наградных выплатах, приобретении слона, штрафах и залогах. А поскольку причитавшееся детективу вознаграждение за поимку вора исчислялось в процентах от возвращенной суммы, оно при этом тоже непрестанно таяло.
Глава XVI
в которой Фикс притворяется, будто знать не знает, о чем ему толкуют
«Рангун», один из пакетботов компании «Пенинсула энд Ориентл Стим Навигейшн», предназначенных для морских перевозок, ходил в порты Китая и Японии. Это был винтовой железный пароход мощностью в четыреста лошадиных сил и грузоподъемностью в тысячу семьсот семьдесят тонн. По скорости он мог бы тягаться с «Монголией», но по части комфорта сильно ей уступал. Таким образом, там мистеру Фогту не удалось устроить миссис Ауду так удобно, как он бы хотел. Впрочем, речь шла всего лишь о трех сутках пути, а молодая вдова раджи оказалась не слишком притязательной пассажиркой.
За первые дни этого плавания миссис Ауда познакомилась с Филеасом Фоггом поближе. Она не упускала случая выражать ему живейшую признательность. Флегматичный джентльмен внимал ее излияниям в высшей степени холодно (по крайней мере, с виду), ни тоном, ни единым жестом не выражая ни малейших чувств. Однако бдительно следил, чтобы молодая женщина ни в чем не нуждалась. И регулярно, в определенные часы навещал ее, если не затем, чтобы поболтать, то выражая готовность хотя бы слушать. В обращении с ней он строжайшим образом соблюдал правила учтивости, но ждать от него изящества и непосредственности стоило бы не более, чем от автомата, изготовленного специально для этой цели. Миссис Ауда от этого терялась, не знала, что и думать, но Паспарту как мог объяснил ей, каков характер его эксцентричного господина. Он рассказал ей и о том, какое невероятное пари побудило джентльмена-домоседа пуститься в кругосветное путешествие. Этот рассказ вызвал у миссис Ауды улыбку, но поскольку она была обязана жизнью Филеасу Фоггу и смотрела на него не иначе как на своего спасителя, он ничего не мог потерять в ее мнении.
Миссис Ауда подтвердила трогательный рассказ индийского проводника. Она действительно принадлежала к народности, занимающей выдающееся положение среди множества населяющих Индию племен. Многие парсы занимались коммерцией, в том числе торговали хлопком, и нажили большое состояние. Одного из них, сэра Джеймса Джиджибоя, английское правительство возвело в дворянское достоинство, и миссис Ауда была в родстве с этим бомбейским богачом. Именно к его кузену, почтенному Джиджи, она теперь направлялась в Гонконг. Найдет ли она у него убежище и поддержку? Такой уверенности у нее не было. На это мистер Фогг ответил, что причин для беспокойства нет: все устроится «математически»! Он употребил именно это слово.
Понимала ли молодая женщина, что, собственно, означает это странное выражение? Трудно сказать. Как бы то ни было, ее большие прозрачные глаза, «очи, подобные священным озерам Гималаев», часто смотрели на мистера Фогга прямо и неотрывно. Но непробиваемый Фогг, такой же замкнутый, как всегда, казалось, был не из тех, кто способен очертя голову броситься в этот бездонный водоем.
На первых порах плавание «Рангуна» проходило лучше некуда. Погода благоприятствовала путешествию. Этот участок громадного залива, который моряки прозвали «Бенгальским лазом», приветливо встретил пакетбот, избавив его на пути от каких-либо неприятных сюрпризов. Вскоре с «Рангуна» стал виден Северный Андаман, первый из Андаманских островов, увенчанный живописной горой Сэдл-Пик, вершина которой, возвышаясь на две тысячи четыреста футов, издали приветствует мореплавателей.
Берег проплывал за бортом совсем близко. Но дикие папуасы, жители острова, там не показывались. Это существа, стоящие на низшей ступени развития рода людского. Однако те, кто утверждает, будто папуасы грешат каннибализмом, возводят на них напраслину.
Когда перед глазами путешественников стала разворачиваться панорама островов, они были поражены ее великолепием. Огромные леса латаний, капустной пальмы, бамбука, мускатного ореха, индийского дуба, гигантских мимоз и древовидных папоротников, а на заднем плане – изящные очертания гор. Берега кишели тысячами драгоценных саланг, съедобные гнезда которых в Небесной империи считаются изысканным блюдом. Но переменчивые пейзажи Андаманских островов быстро промелькнули мимо «Рангуна», а он на всех парах продолжал свой путь к Малаккскому проливу, служащему воротами в Китайское море.
Что же поделывал тем временем злополучный инспектор Фикс, по недоразумению вовлеченный в кругосветное путешествие? Оставив распоряжения насчет того, чтобы ордер, если таковой наконец прибудет, отослали ему в Гонконг, сыщик успел погрузиться на «Рангун». При этом ему удалось не попасться на глаза Паспарту, и он рассчитывал скрывать свое присутствие вплоть до прибытия пакетбота к месту назначения. Понятно же, насколько сложно будет объяснить, откуда он здесь взялся, не возбудив подозрений у Паспарту, которому известно, что он должен находиться в Бомбее. Однако стечение обстоятельств привело ктому, что детектив волей-неволей возобновил свое знакомство с этим славным малым.
Как это произошло? Сейчас увидим.
Теперь на поверхности земного шара оставалась одна-единственная точка, к которой устремлялись все надежды, все желания полицейского инспектора: Гонконг! Ожидалась еще остановка в Сингапуре, но слишком короткая: там ему не успеть провернуть свою операцию. Стало быть, арест вора должен произойти в Гонконге, ведь в противном случае этот проходимец ускользнет от него, как говорится, безвозвратно.
Гонконг и впрямь, хоть и находился на английской территории, был последним в его маршруте пунктом, где еще действовали британские законы. Дальше – Китай, Япония, Америка – страны, сулящие господину Фоггу более или менее надежный приют. В Гонконге, если ордер на арест, по-видимому, следующий за ним по пятам, наконец догонит Фикса, можно будет преспокойно взять Фогга и предать его в руки местной полиции. Тут затруднений не предвидится. А за пределами Гонконга простого ордера уже недостаточно. Потребуется акт об экстрадиции преступника. Отсюда проволочки, запоздания, всевозможные препоны. Мошенник сумеет ими воспользоваться, чтобы улизнуть окончательно. Если в Гонконге дело сорвется, станет крайне трудно, а то и вовсе невозможно продолжать преследование, сохраняя за собой хоть какие-то шансы на успех.
«Итак, – твердил сам себе Фикс в долгие часы, которые он проводил, запершись в своей каюте, – или я получу ордер в Гонконге и арестую моего клиента, или, если ордер задержится, надо будет любой ценой задержать вора в городе! Я промахнулся в Бомбее, я упустил его в Калькутте, если и в Гонконге все сорвется, пропала моя репутация! Нет, я должен достичь своего, чего бы это ни стоило. Но как это сделать, какой способ найти, чтобы при необходимости отсрочить отъезд этого проклятого Фогга?»
В крайнем случае Фикс решил признаться во всем Паспарту, открыть ему глаза на этого типа, которому он служит, но – тут сомнения нет – отнюдь не является его пособником. Паспарту, пораженный этим разоблачением, испугается, что и сам будет скомпрометирован, и наверняка перейдет на сторону Фикса. Но это средство все же рискованное, его стоит пустить в ход, только если не подвернется чего получше. Ведь если Паспарту проболтается, одного его слова, сказанного хозяину, хватит, чтобы безнадежно испортить все дело.
Вот почему полицейский инспектор впал в крайнее замешательство. Однако присутствие миссис Ауды на борту «Рангуна» в обществе Филеаса Фогга открыло перед ним новые возможности.
Что это за женщина? Какое стечение обстоятельств сделало ее спутницей Филеаса Фогга? Встретились они, судя по всему, где-то между Бомбеем и Калькуттой. Но где именно, в какой части Индостана? Что связывает молодую путешественницу с Фоггом? Случайность? Или, напротив, этот джентльмен затем и пустился в путь через всю страну, чтобы встретиться с этой очаровательной особой? Она и впрямь бесподобна! В зале суда Фикс имел время хорошо ее рассмотреть.
Можно представить, до какой степени сыщик был заинтригован. Он спрашивал себя, не замешано ли в этом деле какое-либо преступное похищение? Да! Наверняка так и есть! Эта мысль накрепко засела у Фикса в мозгу, и он смекнул, какую выгоду можно извлечь из подобных обстоятельств. Была ли та женщина замужем или нет, ее похитили, а если так, в Гонконге на этом основании можно устроить похитителю такие неприятности, что деньгами уже не откупиться.
Да и незачем ждать, когда «Рангун» пристанет в Гонконге. У этого Фогга мерзкая привычка перескакивать с одного судна на другое, так что не успеешь организовать дело, как смотришь, он уже далеко. Поэтому важно заранее, еще до высадки пассажиров «Рангуна», предупредить английские власти. Нет ничего легче, ведь пакетбот делает остановку в Сингапуре, а там есть телеграфная связь с китайским берегом.
Однако, прежде чем принимать меры, Фикс все же решил допросить Паспарту, чтобы действовать наверняка. Он знал, что заставить этого парня разговориться – задача не из трудных, и решил раскрыть свое инкогнито, которое до сих пор так старательно хранил. Дальше тянуть нельзя, времени мало. Сейчас 30 октября, завтра «Рангун» бросит якорь в Сингапуре.
Итак, в тот же день Фикс покинул свою каюту, вышел на палубу и приготовился «первым» заметить Паспарту, чтобы выразить по этому поводу величайшее изумление. Француза он нашел на баке, тот как раз прогуливался по палубе, когда инспектор бросился к нему, восклицая:
– Вы? Здесь, на «Рангуне?!
– Господин Фикс? – Паспарту очень удивился, узнав попутчика, с которым плыл на «Монголии». – Как? Я вас оставил в Бомбее, а встречаю на пути в Гонконг! Уж не хотите ли вы тоже совершить кругосветное путешествие?
– Нет-нет, – ответил Фикс, – я собираюсь задержаться в Гонконге, по крайней мере, на несколько дней.
– А-а, – протянул Паспарту, все еще слегка озадаченный. – Но почему же я не встречал вас за все это время после отплытия из Калькутты?
– Да так, знаете, легкое недомогание… морская болезнь… Я все время находился у себя в каюте, лежал… Бенгальский залив обошелся со мной хуже, чем Индийский океан. А как поживает ваш хозяин, мистер Фогг?
– В полном здравии. И пунктуален, как его записная книжка! Все по расписанию, ни одного дня не потерял! Ах, мсье Фикс, вы же еще не знаете… С нами теперь молодая дама!
– Какая дама? – переспросил сыщик, притворяясь, будто понятия не имеет, о чем говорит его собеседник.
Однако Паспарту быстро ввел его в курс дела. Он рассказал Фиксу об инциденте в бомбейской пагоде, о приобретении слона за две тысячи фунтов, о «сутти» и похищении Ауды, о приговоре суда в Калькутте и освобождении под залог. Фикс, знавший лишь заключительную часть этой истории, делал вид, будто ни о чем не слышал, и Паспарту поддался сладкому соблазну поведать о своих приключениях слушателю, проявлявшему к ним столь живой интерес.
– Но в конечном счете, – спросил Фикс, – ваш хозяин собирается увезти эту молодую женщину в Европу?
– Да нет же, мсье Фикс, вовсе нет! Мы просто сдадим ее на попечение одного ее родственника, богатого коммерсанта из Гонконга.
«Ничего не поделаешь», – подумал детектив, скрывая разочарование. А вслух предложил:
– Стаканчик джина, господин Паспарту?
– С удовольствием, господин Фикс. Как же не выпить за нашу встречу на «Рангуне»?
Глава XVII
где по пути из Сингапура в Гонконг заходит речь о всякой всячине
С того дня Паспарту и детектив встречались часто, но теперь сыщик соблюдал в общении с попутчиком предельную сдержанность. Он больше не пытался расспрашивать его. Мистера Фогга он за это время видел всего раз или два, тот охотно проводил время в большом салоне «Рангуна» в обществе миссис Ауды или за игрой в вист, ибо джентльмен не изменил этой своей привычке. Что до Паспарту, он теперь всерьез призадумался о том, какими судьбами Фикс уже в который раз встает на пути его хозяина. Ведь и впрямь происходило нечто достойное удивления (чтобы не сказать больше). Сначала этот господин, такой любезный, предупредительный, встретился им в Суэце, потом он вместе с ними плыл на «Монголии» и высадился в Бомбее, где, по его словам, должен был задержаться, а вместо этого появляется на борту «Рангуна» и тоже плывет в Гонконг, то есть буквально по пятам следует за мистером Фоггом. Тут было о чем поразмыслить. В подобной цепи совпадений чувствовалось что-то по меньшей мере странное. Что ему нужно, этому Фиксу? Паспарту был готов биться об заклад на свои индийские туфли – а их он трепетно хранил, – что этот субъект и Гонконг покинет одновременно с ними и, вероятно, на том же пароходе.
Однако Паспарту мог бы ломать голову хоть сто лет, все равно бы не догадался, какой миссией озабочен непоседливый детектив. Ему бы и в страшном сне не привиделось, что за Филеасом Фоггом гоняются по всему свету как за вором. Но поскольку человеческой природе свойственно доискиваться до причин всех вещей, Паспарту внезапно осенила идея, объясняющая неотступное преследование со стороны Фикса, причем выглядела эта догадка вполне правдоподобно. Дескать, если Фикс гоняется за ними, он делает это потому и только потому, что его наняли для этой цели собратья мистера Фогга по Реформ-клубу, желающие удостовериться, что кругосветное путешествие действительно осуществилось и соответствовало условленному маршруту.
«Делоясное! Какдваждыдва! – бормотал честный малый, весьма гордясь своей проницательностью. – Эти джентльмены пустили ищейку по нашим следам! Фу, что за недостойная выдумка! Мистер Фогг такой честный, такой почтенный человек! Приставить к нему шпиона?! Ну, господа из Реформ-клуба, вы дорого поплатитесь за это!»
Паспарту был в восторге от своего открытия, однако хозяину решил ничего не говорить, опасаясь, что тот будет глубоко уязвлен таким недоверием со стороны уважаемых противников. Зато он решил при случае хорошенько высмеять Фикса, но сделать это по-хитрому, не выдавая себя.
После полудня в среду, 30 октября, «Рангун» вошел в Малаккский пролив, отделяющий полуостров с тем же названием от острова Суматра, который заслоняла от глаз пассажиров группа очень живописных скалистых островков. А на следующий день, в четыре часа утра, «Рангун», на полдня опередив расписание, бросил якорь в Сингапуре, чтобы пополнить свои запасы угля.
Филеас Фогг вписал данные об этом опережении в графу прибылей и на сей раз решил сойти на берег, чтобы составить компанию миссис Ауде, выразившей желание прогуляться часок-другой.
Детектив, которому любой поступок Фогга казался подозрительным, последовал за ним, оставаясь незамеченным. А Паспарту, исподтишка похихикивая над маневрами Фикса, как обычно, отправился за покупками.
Остров Сингапур не назовешь большим, да и на вид он не особенно внушителен. Ему не хватает гор, можно сказать, что рельеф там плосковат. Тем не менее остров не лишен скромного очарования. Это своего рода парк, прорезанный прекрасными дорогами. Хорошенький экипаж, запряженный парой стройных лошадок, вывезенных из Новой Голландии, вез миссис Ауду и Филеаса Фогга мимо пальмовых рощ, сверкающих яркой зеленью, и гвоздичных деревьев, из чьих полураскрытых бутонов изготовляют известную пряность. Заросли перца заменяли здесь терновые изгороди европейских деревень; купы саговых пальм, высокие древовидные папоротники с пышными кронами разнообразили этот тропический ландшафт; мускатные деревья с их лоснящимися, будто лакированными листьями наполняли воздух пряным ароматом. Орды проворных гримасничающих обезьян сновали в чаще, должно быть, там и тигров хватало. Тем, кто недоумевал, почему на таком сравнительно маленьком острове до сих пор не истреблены эти кровожадные хищники, местные жители объясняли, что тигры добираются сюда вплавь – через пролив – с полуострова Малакка.
После двухчасовой прогулки, во время которой мистер Фогг смотрел вокруг довольно отсутствующим взглядом, они с миссис Аудой вернулись в город, представляющий собой обширное скопление толстостенных приземистых домиков, окруженных чудесными садами, где зреют мангустаны, ананасы и другие вкуснейшие плоды мира.
В десять они снова поднялись на борт пакетбота, не зная, что все это время инспектор неотступно следовал за ними. Ради такого дела ему тоже пришлось нанять экипаж.
Паспарту ждал их на «Рангуне». Славный малый купил несколько десятков мангустанов – плодов размером со среднее яблоко, темно-коричневых снаружи и ярко-красных внутри. Их мякоть тает во рту, доставляя истинному гурману ни с чем не сравнимое наслаждение. Паспарту был счастлив преподнести их миссис Ауде, которая искренне поблагодарила его за это.
Ровно в одиннадцать «Рангун», наполнив углем трюмы, отдал швартовы, и спустя несколько часов с глаз пассажиров окончательно скрылись обрывистые горы Малакки, чьи леса дают приют самым великолепным тиграм планеты.
Расстояние от Сингапура до острова Гонконг, маленького клочка английской территории на китайском берегу, – около тысячи трехсот миль. Филеас Фогг был заинтересован в том, чтобы добраться туда не позже, чем за шесть дней, ведь ему было необходимо сесть в Гонконге на корабль, уходящий 6 ноября в Иокогаму – один из главных портов Японии.
«Рангун» был забит до отказа. В Сингапуре на борт погрузилось много пассажиров: индийцев, жителей Цейлона и Китая, малайцев, португальцев. Большинство из них ехали вторым классом.
Когда луна вступила в последнюю четверть, погода, до сей поры недурная, испортилась. Море вспучилось и потемнело. Порывами задувал крепкий бриз, но, к счастью, попутный, с юго-востока. Всякий раз, когда представлялась возможность его использовать, капитан приказывал ставить паруса. Тогда «Рангун», имевший оснастку брига, плыл под двумя марселями и фоком, и его скорость возрастала благодаря объединенной силе пара и ветра. Так, рассекая невысокую, но плотную и подчас не на шутку изматывающую волну, судно прошло мимо берегов Аннама и Кохинхины.
Впрочем, непогода была не главной причиной столь изнурительной качки, прежде всего, в ней был повинен сам «Рангун», и пассажиры, большинство из которых страдало морской болезнью, имели все основания сетовать именно на пакетбот. В конструкции судов пароходной компании «Пенинсула энд Ориентл», совершающих морские рейсы в Китай, имеется существенный недостаток: соотношение между осадкой груженого судна и высотой надводного борта плохо рассчитано, поэтому кораблям обычно не хватает остойчивости. Они недостаточно массивны и слишком водопроницаемы, плохо защищены от захлестывающих волн. Это, как выражаются моряки, посудины «потопляемые», вот почему от нескольких ударов тяжелых валов их ход теряет равномерность и начинается болтанка. По крайней мере, в этом отношении, если не по мощности паровых машин, они сильно уступают таким судам французской «Национальной почтово-пассажирской компании», как «Императрица» и «Камбоджа». Эти последние, если верить техническим расчетам, могут без осложнений зачерпнуть почти столько тонн воды, сколько весят сами, тогда как суда Индийской компании «Голконда», «Корея» и тот же «Рангун» рискуют пойти ко дну, чуть только вес воды в их трюмах достигнет одной шестой части их собственного.
Следовательно, при плохой погоде на подобном судне надо двигаться вперед с большими предосторожностями. Иногда приходилось сбавлять пары и ложиться в дрейф. Это было чревато проволочками, которые, казалось, нимало не тревожили Филеаса Фогга. Зато Паспарту впадал в крайнее раздражение и бесхитростно его проявлял. Принимался обвинять в задержках капитана, поносить механика, компанию, посылать к дьяволу всех, кто имеет отношение к пассажирским перевозкам. Не исключено, что его нетерпение в немалой степени распалялось также при мысли о газовом рожке на Сэвилл-роу, все еще продолжавшем гореть за его счет. В один прекрасный день детектив спросил:
– Вы так торопитесь прибыть в Гонконг?
– Очень торопимся! – буркнул Паспарту.
– Думаете, мистер Фогг спешит, чтобы не пропустить пакетбот, идущий в Иокогаму?
– Ужасно спешит.
– Значит, вы теперь поверили в это необычайное кругосветное путешествие?
– Вполне. А вы, мсье Фикс?
– Я? Нет, я в него не верю!
– А вы шутник! – и Паспарту подмигнул.
Такое определение заставило полицейского призадуматься. Он и сам толком не понимал, почему, но оно его встревожило. Неужели француз его раскусил? Фикс не знал, что и думать. Здесь ни одна душа, кроме него самого, не догадывалась, что он сыщик, никто другой не мог об этом проведать. И все же Паспарту заговорил с ним в таком тоне наверняка не без задней мысли.
В другой раз славному малому случилось пойти еще дальше. Слишком уж трудно ему давалось решение держать язык за зубами. Это было сильнее его.
– Послушайте, мсье Фикс, – лукаво посмеиваясь, спросил он попутчика, – неужели, как только приплывем в Гонконг, нам, к величайшему прискорбию, придется проститься с вами? И нет никакой надежды, что вы продолжите свой путь?
– Ну, я… не знаю… – пробормотал сыщик в изрядном замешательстве. – Возможно, что…
– Ах! – вскричал Паспарту. – Если бы вы и дальше нас сопровождали, я был бы просто в восторге! Подумайте, пристало ли агенту компании «Пенинсулаэнд Ориентл Стим Навигейшн» останавливаться на полдороге! Вы же сперва ехали всего лишь в Бомбей, а сами вот-вот высадитесь в Китае! Америка уже недалеко, а от Америки и до Европы рукой подать!
Фикс пристально посмотрел в лицо собеседнику, который в ответ озарил его самой дружелюбной в мире улыбкой. Сыщик мигом смекнул, что всего разумнее посмеяться с ним вместе. Однако Паспарту – он был в ударе – не унимался: он спросил детектива, доволен ли тот своей службой, «доходно ли это ремесло».
– Ида, и нет, – ответил Фикс по-светски, не моргнув глазом. – Всякие бывают дела, одни удачны, другие нет. Но, сами понимаете, я путешествую не за свой счет!
– О, в этом-то я уверен! – и Паспарту от души расхохотался.
Закончив этот разговор, Фикс удалился в свою каюту и предался размышлениям. Его разгадали, это ясно. Так или сяк, но француз сообразил, кто он. Но предупредил ли хозяина? Какую роль он играет во всем этом? Является соучастником или нет? Неужели замысел детектива раскрыт и, следовательно, все пропало? Инспектор провел несколько весьма тягостных часов: он то приходил в отчаяние, то снова надеялся, что Фогг ни о чем не догадывается, и, главное, не мог понять, что ему теперь делать.
Однако в конце концов успокоившись, он привел в порядок свои мысли и решил, что с Паспарту надо действовать в открытую. Если ситуация в Гонконге сложится нежелательным образом и Фогг вздумает на сей раз бесповоротно покинуть английскую территорию, он, Фикс, расскажет Паспарту все как есть. Тут одно из двух: если слуга был сообщником своего господина, последний уже осведомлен обо всем и дело окончательно проиграно, но если Паспарту в воровстве не замешан, в его же интересах отмежеваться от преступника.
Вот, стало быть, как воспринимали создавшееся положение – каждый со своей стороны – эти двое, а над ними с величавой невозмутимостью парил Филеас Фогг. Он солидно двигался по своей орбите, огибая земной шар и пренебрегая астероидами, которые вращались вокруг него, послушные законам тяготения.
Однако в близком соседстве с ним находилась, как выразились бы астрономы, возмущающая звезда, которая, судя по всему, должна бы произвести некоторые пертурбации в сердце этого джентльмена. Но нет! Квеличайшему удивлению Паспарту, очарование миссис Ауды на него не действовало, если же пертурбации все же происходили, вычислить их было потруднее, чем те, с Ураном, которые способствовали обнаружению Нептуна.
Да! Паспарту что ни день поражался, читая во взгляде молодой женщины безмерную признательность, обращенную к его хозяину, который оставался бесчувственным! Похоже, сердце, бившееся в груди Филеаса Фогга, для героя еще сгодилось бы, но для влюбленного – нет, никогда! Джентльмен также не проявлял ни тени озабоченности из-за непогоды, а ведь судьба их путешествия оказалась под угрозой, тревожиться было о чем. Сам-то Паспарту только и делал, что изнывал от нескончаемых опасений. В один прекрасный день он, опершись на поручни, ограждающие спуск в машинное отделение, загляделся на мощную машину, которая по временам вся сотрясалась, когда при сильной качке над водой появлялся бешено вращавшийся винт. Тогда из клапанов вырывался пар и наш честный малый негодовал.
– Эти клапаны работают вполсилы! – кричал он. – Мы еле плетемся! А все англичане, они вечно напортачат! Эх! Будь это американский пароход, он, может, тоже прыгал бы, но шел бы скорее!
Глава XVIII
в которой Филеас Фогг, Паспарту, Фикс – каждый хлопочет о своем
В последние дни плавания погода стояла прескверная. Ветер крепчал. Он стойко дул с северо-запада, замедляя ход пакетбота. «Рангун», сверх меры подверженный качке, здорово швыряло, и пассажиры имели все основания проклинать эти огромные тоскливые волны, которые ветер пригонял с морских просторов.
Настоящая буря разбушевалась третьего и продолжалась четвертого ноября. Ураган колотил по морю как бешеный. «Рангуну» пришлось лечь в дрейф на полдня, ограничиваться десятью оборотами винта в минуту, как быувертываясь от волн. Все паруса былиубраны, только оголенные снасти стонали под ударами шквала, но даже они излишне обременяли судно.
Скорость пакетбота, понятное дело, сильно уменьшилась, такчто по всем расчетам он мог прибыть в Гонконг с двадцатичасовым опозданием, а если буря не утихнет, и того позже.
Филеас Фогг, храня обычную невозмутимость, взирал на беснующуюся стихию, которая, казалось, ополчилась лично против него. Его чело ни на миг не омрачилось заботой, а между тем опоздание на двадцать часов угрожало загубить все путешествие, ведь если так, пакетбот на Иокогаму уйдет без него. Но этот человек не испытывал ни тревоги, ни подавленности, он не знал, что такое нервозность. Право же, глядя на него, можно было подумать, что и эта буря тоже была им запланирована, он предвидел ее. Миссис Ауда, выразив своему спутнику сочувствие по поводу такой помехи, убедилась, что он и теперь спокоен, как раньше.
Фикс же смотрел на происходящее совсем другими глазами. Можно сказать, с противоположной позиции. Этот шторм был ему по душе. Он даже был бы безмерно доволен, если бы ураган развернул «Рангун» и поволок в обратном направлении. Любые проволочки были ему желанны, коль скоро могли вынудить господина Фогга на несколько дней задержаться в Гонконге. И вот небеса наконец-то сыграли ему на руку, ниспослав свои бури и шквалы.
Он, правда, из-за них малость занемог, но наплевать! Пускай его одолевала тошнота, да и все тело сводило от морской болезни, зато дух его ликовал.
Что же касается Паспарту, можно представить, какой гнев, постоянно рвущийся наружу, распирал его в эти дни испытания. Ведь до сих пор все шло так славно! Казалось, небо и земля выражали преданность его хозяину. Пароходы и поезда повиновались ему. Силы ветра и пара объединялись, благоприятствуя ему в пути. А теперь, выходит, пробил час обманутых надежд? Паспарту так выходил из себя, будто не чья-нибудь, а его собственная мошна теряла двадцать тысяч фунтов. Буря доводила его до отчаяния, шквалы бесили, он бы охотно выпорол это непокорное море. Бедный малый! Фикс старательно скрывал от француза свое злорадное торжество. И хорошо делал, ведь если бы Паспарту догадался о его потаенном ликовании, сыщику пришлось бы пережить несколько неприятных минут.
Все время, пока бушевала буря, Паспарту провел на палубе «Рангуна». Не желал спускаться вниз. Карабкался на мачту, рвался помогать морякам, удивляя их своей обезьяньей ловкостью. В который раз приставал с расспросами к капитану, офицерам, матросам, хотя они не могли удержаться от смеха, видя, насколько парень выбит из колеи. Паспарту во что бы то ни стало требовалось узнать, сколько продлится буря. В ответ его отсылали к барометру, а тот ни в какую не хотел подниматься. Паспарту немилосердно тряс барометр, но все без толку: не помогали ни тряска, ни проклятия, которыми он осыпал безответственный прибор.
Наконец буря утихла. Днем 4 ноября море сменило гнев на милость. Направление ветра сместилось на два румба к югу, и он снова стал попутным.
Покой, осенивший природу, тотчас снизошел и на душу Паспарту. Как только это стало возможным, снова поставили марсели и нижние паруса, с дивной быстротой «Рангун» понесся вперед.
Но о том, чтобы полностью наверстать потерянное время, речи быть не могло. Следовало смириться с неизбежностью. Земля показалась на горизонте только шестого числа, в пять часов утра. Согласно расписанию и расчетам, вписанным в путевую тетрадь Филеаса Фогга, пакетбот должен был прибыть в порт пятого. Стало быть, он опоздал на целые сутки, следовательно, путешественники не успевали в назначенный срок отплыть в Иокогаму.
В шесть утра на борт «Рангуна» прибыл лоцман, он поднялся на мостик, чтобы, держась фарватера, провести судно в порт Гонконга.
Паспарту умирал от желания спросить лоцмана, отчалил ли уже пакетбот, идущий из Гонконга в Иокогаму. Однако не осмелился, ему хотелось до последней минуты сохранить хоть малую толику надежды. Он поделился своими треволнениями с Фиксом, а тот – хитрая лиса – стал его утешать, мол, мистер Фогг вполне может сесть и на следующий пакетбот, чем довел Паспарту до белого каления.
Но если у Паспарту духу не хватило подступить к лоцману с расспросами, то мистер Фогг, сверившись с путеводителем Брэдсхейма, преспокойно осведомился у вышеупомянутого лоцмана, не знает ли он, когда отходит судно из Гонконга в Иокогаму.
– Завтра, с утренним приливом, – отвечал лоцман.
– А-а, – обронил мистер Фогг, не проявив ни малейшего удивления.
Паспарту, который при этом присутствовал, охотно расцеловал бы лоцмана, зато у Фикса руки чесались свернуть ему шею.
– Как называется этот пароход? – спросил мистер Фогг.
– «Карнатик».
– А разве он не должен был отплыть вчера?
– Так и есть, сударь, но надо было подремонтировать один из его котлов, вот отправление и перенесли на завтра.
– Благодарю вас, – промолвил мистер Фогг и своим размеренным шагом автомата направился в пассажирский салон «Рангуна».
Паспарту же схватил лоцмана за руку и сильно потряс ее, восклицая:
– Вы, лоцман, прекрасный человек, вот что я вам скажу!
Это, несомненно, должно было изрядно озадачить лоцмана, не понимающего, почему его сообщения вызвали такую пылкую реакцию. Тут раздался свисток, он взошел на капитанский мостик, и пакетбот двинулся, лавируя среди джонок, лодок, на которых китайцы живут целыми семьями, рыболовных суденышек и кораблей всех видов, теснившихся на Гонконгском рейде.
В час дня «Рангун» причалил, и пассажиры высыпали на набережную.
В этой ситуации, следует признать, Филеаса Фогга здорово выручила случайность. Если бы «Карнатику» не потребовалось ремонтировать котлы и он отчалил 5 ноября, следующего парохода, идущего в Японию, пришлось бы ждать восемь дней. Правда, и теперь мистер Фогг запаздывал на сутки, но такая задержка еще не грозила его плану непоправимым провалом.
Что же касается даты отправления пакетбота, идущего через Тихий океан из Иокогамы в Сан-Франциско, она напрямую согласуется с приходом пакетбота из Гонконга: первый не отчалит, пока последний не прибудет.
На сей раз судно, по всей видимости, достигнет Иокогамы на сутки позже, чем предусмотрено расписанием, но плавание через Тихий океан рассчитано на двадцать два дня, а за такой срок нетрудно наверстать потерянное время. Таким образом, если не считать этих двадцати четырех часов опоздания, Филеас Фогг на тридцать пятые сутки путешествия держался своей заранее намеченной программы.
«Карнатик» должен был отплыть не раньше, чем в пять часов завтрашнего утра, так что у мистера Фогга оставалось шестнадцать часов, чтобы заняться своими делами, то есть позаботиться о судьбе миссис Ауды. Как только сошли с парохода, он подал молодой женщине руку и повел ее к паланкину. Носильщики, у которых он осведомился, где здесь гостиница, указали ему «Отель дю Клуб». Паланкин тронулся с места, сопровождаемый Паспарту, и спустя двадцать минут они достигли отеля.
Для молодой женщины сняли номер, и Филеас Фогг проследил, чтобы она не испытывала ни в чем недостатка. Потом он сказал миссис Ауде, что незамедлительно отправится на поиски ее родственника, заботам которого он собирался поручить ее в Гонконге. При этом он велел Паспарту побыть в гостинице до его возвращения, чтобы не оставлять молодую женщину одну.
Затем джентльмен распорядился доставить его на биржу. Там он наверняка сможет выяснить, где искать такую заметную персону, как достопочтенный Джиджи, слывший одним из богатейших коммерсантов города.
Маклер, к которому мистер Фогг обратился с этим вопросом, действительно знал парса-негоцианта. Но оказалось, тот уже два года не жил в Китае. Сколотив солидное состояние, он перебрался в Европу – говорят, в Голландию, что объясняется чередой многочисленных торговых предприятий, связавших его с этой страной в ходе коммерческой деятельности.
С тем Филеас Фогг и вернулся в «Отель дю Клуб». Он тотчас попросил миссис Ауду принять его и без долгих предисловий сообщил ей, что достопочтенный Джиджи больше не живет в Гонконге и обосновался, по всей вероятности, в Голландии.
Миссис Ауда сначала ничего не ответила. Провела рукой по лбу, призадумалась на минуту, потом произнесла своим нежным голосом:
– Как же мне поступить, мистер Фогг?
– Очень просто, – отвечал джентльмен. – Отправиться в Европу.
– Но я не могу злоупотреблять…
– Вы ничем не злоупотребляете, ваше присутствие нисколько не нарушает моих планов… Паспарту!
– Мсье? – отозвался тот.
– Ступайте на «Карнатик» и наймите три каюты.
Паспарту покинул «Отель дю Клуб» в восторге от того, что молодая женщина, которая была очень приветлива с ним, будет и дальше сопровождать их.
Глава XIX
в которой Паспарту проявляет слишком живой интерес к делам своего хозяина и это не остается без последствий
Гонконг – это не более чем островок, который после войны 1842 года по условиям подписанного в Нанкине договора стал английским владением. Всего за несколько лет Великобритания со своей колонизаторской энергией основала здесь крупный город. И порт построила тоже: порт Виктория. Остров этот находится в устье реки Кантон, откуда всего шестьдесят миль до португальского города Макао, расположенного на другом берегу реки. А поскольку в коммерческой войне Макао никак не мог тягаться с Гонконгом, ныне большая часть китайского транзита проходит через английский город. Его доки, верфи, пакгаузы, больницы, готический собор, «governement-house»[3], его вымощенные щебнем улицы создают впечатление, будто находишься не в Китае, а в одном из торговых городов графства Кент или Суррей, который, провалившись сквозь толщу земного шара, взял да и вынырнул здесь, почитай что у антиподов.
Итак, Паспарту, засунув руки в карманы, вразвалку двинулся в направлении порта Виктория, разглядывая встречные паланкины, эти крытые носилки, все еще ценимые в Поднебесной Империи, и запрудившую улицы толпу китайцев, японцев и европейцев. Не считая мелких отличий, здесь все было также, как в Бомбее, Калькутте и Сингапуре, которые наш достойный молодой человек повидал за время путешествия. Это выглядело так, будто длинный шлейф английских городов опоясывал весь земной шар.
Но вот перед глазами Паспарту раскинулся порт Виктория. Здесь, в устье реки Кантон, кишели, как в муравейнике, суда из всех стран – английские, французские, американские, голландские. Были там громадные корабли, торговые и военные, и мелкие суденышки – японские, китайские, джонки, сампаны и даже лодки с цветами, ни дать ни взять плавучие клумбы. Прохаживаясь и глазея, Паспарту приметил тут и там немалое число местных уроженцев в желтых одеяниях, причем все они были весьма преклонных лет. Когда же ему вздумалось побриться «по китайской моде» и он зашел к китайскому брадобрею, этот Фигаро здешних мест, вполне сносно владеющий английским, объяснил ему, что все эти старцы, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, наделены полагающейся этому возрасту привилегией носить желтое – императорский цвет. Паспарту это показалось ужасно забавным, а почему, он и сам не знал.
Приведя в должный вид свою бородку, он двинулся к набережной, где стоял «Карнатик». Там онувидел Фикса, который расхаживал взад-вперед. Его появление здесь нисколько не удивило Паспарту, однако он заметил, что физиономия у полицейского инспектора весьма кислая.
«То-то же! – подумал француз. – Плохи дела у джентльменов из Реформ-клуба!»
Он подкатился к Фиксу, сияя улыбкой, будто и не заметил надутой мины попутчика. Ау сыщика имелись веские причины проклинать преследующее его адское невезенье. Ордера на арест все не было! Вожделенная бумага явно шла за ним по пятам, но чтобы она смогла его догнать, следовало подождать ее несколько дней. А поскольку Гонконг был последней английской территорией на пути господина Фогга, он ускользнет окончательно, если не удастся задержать его здесь.
– Что ж, господин Фикс, вы решились прокатиться с нами до Америки? – спросил Паспарту.
– Да, – процедил детектив сквозь зубы.
– В добрый час! – воскликнул Паспарту, хохоча во все горло. – Я так и знал, что вы не сможете расстаться с нами! Ступайте же, наймите себе каюту, не мешкайте!
Оба направились в контору морских сообщений и заказали каюты для четверых персон. Но служащий предупредил их, что ремонтные работы на «Карнатике» завершены, а стало быть, пакетбот отправится нынче же вечером в восемь часов, а не завтра утром, как было объявлено ранее.
– Отлично! – обрадовался Паспарту. – Моему хозяину это на руку. Я ему сообщу.
В этот миг Фикс принял отчаянное решение. Он все расскажет Паспарту! Это, может, единственный шанс удержать Филеаса Фогга на несколько дней в Гонконге.
Итак, выйдя из конторы, Фикс предложил приятелю заглянуть в таверну, промочить горло. Паспарту никуда не спешил: он принял приглашение.
На набережной таверна имелась. И выглядела гостеприимно. Они вошли туда. Это была просторная, со вкусом отделанная зала, в глубине которой раскинулось походное ложе с разбросанными на нем подушками. На нем мирно почивали несколько человек.
За плетеными тростниковыми столиками сидели посетители, человек тридцать. Некоторые кружками пили английское пиво, эль или портер, другие предпочитали что покрепче – ликер, джин или бренди. Кроме того, большинство курили длинные глиняные трубки, набитые шариками опиума, смешанного с розовой эссенцией. Время от времени кто-нибудь из курильщиков, лишившись сил, сползал под стол. Тогда приходил черед официантов позаботиться о нем: его хватали за голову и за ноги и клали на походные циновки, рядышком с собратом. Там уже лежали бок о бок десятка два пьяниц, дошедших до последней стадии отупения.
Фикс и Паспарту поняли, что их занесло в одну из тех курилен, куда сходятся обалдевшие, истощенные и впавшие в слабоумие бедняги, которым корыстолюбивая Англия продает ежегодно на двести шестьдесят миллионов франков губительного наркотика, называемого опиумом! Презренные миллионы, добытые ценой поощрения одного из самых смертоносных человеческих пороков!
Китайское правительство тщетно пыталось пресечь эти злоупотребления, издавая суровые законы. Хотя курение опиума поначалу считалось исключительно забавой обеспеченных слоев общества, со временем этот обычай распространился вплоть до самых низов, и уже не было возможности ограничить его пагубные последствия. Опиум курят повсюду, а в Срединном царстве он стал повседневным явлением. Этой жалкой страсти предаются мужчины и женщины; привыкнув удовлетворять ее, они уже не могут без этого обойтись, при такой попытке их даже в лучшем случае начинают терзать ужасные желудочные спазмы. Заядлый курильщик способен выкуривать за день до восьми трубок, но больше пяти лет ему не прожить.
Итак, задумав пропустить стаканчик, Паспарту с Фиксом попали в одну из подобных курилен, которых пруд пруди даже в Гонконге. У Паспарту денег не было, но он охотно откликнулся на «любезность» попутчика, рассчитывая, что еще найдет время и повод отплатить ему тем же.
Они заказали две бутылки портвейна, который француз оценил должным образом, между тем как Фикс, более сдержанный, чрезвычайно внимательно наблюдал за своим спутником. Болтали о всякой всячине, но в особенности о том, сколь превосходная идея пришла на ум Фиксу – плыть с ними вместе на «Карнатике». Коль скоро бутылки уже опустели, Паспарту при упоминании об этом пароходе, которому предстояло отправиться на несколько часов раньше, встал, решив, что пора вернуться к своему господину и сообщить ему об этом.
Но Фикс удержал его:
– Постойте минуту.
– Что такое, господин Фикс?
– Мне нужно поговорить с вами о серьезном деле.
– Серьезное дело! – вскричал Паспарту, вытрясая себе в рот несколько последних капель со дна стакана. – Что ж, давайте потолкуем о нем завтра. Сегодня мне недосуг.
– Не торопитесь! – настаивал Фикс. – Речь идет о вашем хозяине!
При этих словах Паспарту глянул на собеседника повнимательнее.
И снова сел. Ему показалось, что у Фикса какое-то странное выражение лица.
– Да что же такое вы хотите мне сообщить?
Фикс крепко взял собеседника за локоть и, понизив голос, спросил:
– Вы же догадались, кто я?
– Черт меня возьми! – Паспарту ухмыльнулся.
– Если так, я буду говорить с вами напрямик…
– Теперь, когда я и без того все знаю, дружище? Ах, это уже не Бог весть какая откровенность! Да ладно, выкладывайте. Но сначала позвольте вам заметить, что эти джентльмены потратились впустую.
– Впустую? – возмутился Фикс. – Как вы легкомысленно судите! Сразу видно, что вы понятия не имеете о размерах суммы!
– Ничего подобного, я знаю: двадцать тысяч фунтов, – отвечал Паспарту.
– Пятьдесят пять тысяч! – выдохнул Фикс, стискивая руку француза.
– Как?! – воскликнул Паспарту. – Мистер Фогг осмелился?.. Пятьдесят пять тысяч фунтов?! Что ж, тем важнее не терять ни минуты, – и он опять вскочил со стула.
– Пятьдесят пять тысяч! – повторил Фикс, силком принуждая Паспарту сесть и тут же заказав еще фляжку бренди. – Мне в случае успеха причитается награда в две тысячи. Не хотите получить из них пять сотен (12 500 франков)? При условии, что вы мне поможете, разумеется.
– Помочь вам? – пробормотал Паспарту. Глаза у него от недоумения полезли на лоб.
– Да. Помогите мне задержать господина Фогга на несколько дней в Гонконге!
– Эй, – вырвалось у Паспарту, – что вы несете? Как?! Мало того, что эти джентльмены устроили за моим хозяином слежку, позволили себе усомниться в его честности, они еще хотят чинить ему препятствия?! Мне стыдно за них!
– Ах ты черт! Не пойму, о чем вы? – растерялся Фикс.
– Я о том, что это чистое безобразие. Все равно что обобрать мистера Фогга, просто взять да и вытащить деньги у него из кармана!
– Ну-да, мы рассчитываем добиться именно этого!
– Да ведь это же ловушка! – завопил Паспарту, распаляясь под воздействием бренди, которое Фикс ему подливал, а он знай пил, не отдавая себе в том отчета. – Настоящая западня! Тоже мне джентльмены! Коллеги называется!
Фикс почувствовал, что смысл происходящего все более ускользает от него. А Паспарту продолжал разоряться:
– Коллеги! Члены Реформ-клуба! Знайте же, мсье Фикс, что мой хозяин – порядочный человек! Если он заключил пари, то рассчитывает выиграть его не иначе, как по-честному!
– Так за кого же вы меня принимаете? – спросил Фикс, не сводя с Паспарту проницательного взгляда.
– Черт побери, да за агента, нанятого членами Реформ-клуба, чтобы следить, по какому маршруту мой хозяин путешествует! Все это ужасно оскорбительно! Вот почему я, хоть давно уже вас раскусил, помалкиваю, незачем огорчать мистера Фогга!
– А, так он ничего не знает? – оживился Фикс.
– Ничего, – кивнул Паспарту, в который раз осушая свой стакан.
Полицейский инспектор потер лоб ладонью. Он колебался, еще не решив, как дальше вести разговор. Что ему предпринять? Заблуждение Паспарту выглядело искренним, но это отнюдь не облегчало его задачи, скорее наоборот. Видно, что этот малый абсолютный простофиля, он говорит от чистого сердца, стало быть, он не сообщник своего хозяина, чего можно было опасаться.
«Что ж, – подумал детектив, – если они не подельники, он мне поможет».
Ему снова пришлось принимать решение. Тем более, что для выжидательной тактики времени уже не оставалось. Надо было любой ценой задержать Филеаса Фогга в Гонконге.
– Послушайте, – заговорил Фикс торопливо. – Хорошенько послушайте меня. Я не то, что вы думаете, то есть я вовсе не агент, нанятый членами Реформ-клуба…
– Ба! Неужели? – Паспарту насмешливо ухмыльнулся.
– Я инспектор полиции, посланный сюда с поручением от властей метрополии.
– Вы… полицейский инспектор?
– Да, и готов это доказать, – продолжал Фикс. – Вот приказ, подтверждающий мои полномочия.
Тут сыщик достал из бумажника документ, подписанный начальником лондонской полиции, и показал его Паспарту. Тот ошеломленно пялился на Фикса, не в силах произнести хоть слово.
– Пари господина Фогга, – продолжал детектив, – не более чем хитрость, которой он одурачил и вас, и своих коллег из Реформ-клуба, поскольку был заинтересован в том, чтобы обеспечить себе ваше невольное пособничество.
– Но зачем? – выкрикнул Паспарту.
– Слушайте. Двадцать восьмого сентября сего года в Английском банке были похищены пятьдесят пять тысяч фунтов. Приметы того типа, что совершил эту кражу, удалось установить. Вот его описание, оно точь-в-точь совпадает с приметами господина Фогга.
– Еще чего! – завопил Паспарту, шарахнув по столу своим могучим кулаком. – Мой хозяин – честнейший человек в мире!
– Откуда вы это знаете? – спросил Фикс. – Вы даже не были с ним знакомы! Нанялись к нему на службу в день его отъезда, и он тут же под нелепым предлогом, в спешке, даже багажа не захватив, помчался куда-то с огромной суммой в банкнотах! И вы решаетесь утверждать, что это образ действий честного человека?
– Да! Да! – машинально бормотал бедный малый.
– Стало быть, вы хотите, чтобы вас арестовали как его сообщника?
Паспарту обхватил голову руками. На нем лица не было. Он не смел взглянуть на полицейского инспектора. Филеас Фогг– вор?! Он, спаситель Ауды, такой великодушный и храбрый?! Однако сколько косвенных доказательств выдвинули против него! Паспарту старался отогнать подозрения, что просачивались в его мозг. Он отказывался поверить в виновность своего хозяина.
Гигантским усилием воли овладев собой, он спросил:
– В конце концов, чего вы от меня хотите?
– Дело вот в чем, – сказал Фикс. – Я все это время шел по следу господина Фогга, но не успел получить ордер на его арест, который я запросил у Лондона. Потому и нужно, чтобы вы мне помогли его задержать в Гонконге…
– Я?! Чтобы я…
– А я поделюсь с вами наградой в две тысячи фунтов, обещанной Английским банком.
– Никогда! – воскликнул Паспарту, попытался встать, но снова плюхнулся на сидение, чувствуя, что разум и силы покидают его одновременно. Язык заплетался, и он невнятно забубнил:
– Мсье Фикс, даже если все, что вы тут наговорили, было бы правдой… если бы мой хозяин был вором, которого вы ищете… хотя нет, я это отрицаю… я был… состоял… то есть состою у него на службе… я его видел добрым, великодушным… Предать его… ни за что… нет, даже за все золото мира… В деревне, откуда я родом, так не торгуют… мы честный хлеб едим!
– Вы отказываетесь?
– Отказываюсь.
– Будем считать, что я ничего не говорил, – отвечал Фикс. – Выпьем?
– Да, выпьем!
Паспарту чувствовал, что хмель одолевает его все сильнее. Фикс, понимая, что ни в коем случае нельзя позволять ему встретиться с хозяином, решилдобить его окончательно. На столе лежало несколько трубокс опиумом. Сыщик сунул одну из них в руку Паспарту, тот взял ее, поднес к губам, сделал несколько затяжек и обмяк, уронив на стол отяжелевшую голову.
«Наконец-то! – подумал Фикс, убедившись, что Паспарту выведен из строя. – Теперь «Карнатик» отплывет прежде, чем господин Фогг будет предупрежден об этом. А если он и уедет, то, по крайней мере, без этого проклятого француза!»
С тем он и удалился, предварительно заплатив по счету.
Глава XX
в которой Фикс вступает в непосредственный контакт с Филеасом Фогтом
Пока разыгрывалась эта сцена, которая могла бы столь губительно повлиять на его будущность, мистер Фогг прогуливался с миссис Аудой по улицам в английской части города. С тех пор как он предложил миссис Ауде доставить ее в Европу и она согласилась, перед ним встала необходимость обдумать все детали, с которыми сопряжено такое долгое путешествие. Если англичанин вроде него берется объехать вокруг света с одним саквояжем в руке, это еще куда ни шло, но женщина не может путешествовать в таких условиях.
Следовательно, нужно было купить одежду и другие вещи, которые ей потребуются в дороге. Мистер Фогг занялся этим, причем расплачивался за покупки с присущей ему невозмутимостью, а на возражения и извинения молодой вдовы, смущенной подобной любезностью, неизменно отвечал:
– Это входит в мой план, для моего путешествия это будет полезно.
Разделавшись с покупками, мистер Фогг и молодая женщина вернулись в гостиницу и отужинали за пышно сервированным столом. Потом миссис Ауда, немного утомленная, ушла к себе в номер, на прощание обменявшись со своим невозмутимым спасителем рукопожатием «на английский манер». Что до почтенного джентльмена, он на весь вечер погрузился в чтение «Тайме» и «Иллюстрейтед Лондон ньюс».
Будь он человеком, способным чему-либо удивляться, он испытал бы это чувство, когда настало время ложиться спать, а его слуга отсутствовал. Но зная, что пакетбот, идущий в Иокогаму, должен покинуть Гонконг не раньше завтрашнего утра, о прочем он не беспокоился. Однако иутром Паспарту не явился на звонок мистера Фогга.
Никто не мог бы сказать, что подумал уважаемый джентльмен, обнаружив, что его слуга в гостиницу не вернулся. Мистер Фогг ограничился тем, что взял свой саквояж и распорядился, чтобы предупредили миссис Ауду и подали наемный паланкин.
Часы показывали восемь, а прилив, которым должен был воспользоваться «Карнатик», чтобы благополучно покинуть порт, намечался в половине десятого.
Когда паланкин остановился у дверей гостиницы, мистер Фогг и миссис Ауда уселись в этот комфортабельный вид транспорта, а их багаж везли за ними на тачке.
Спустя полчаса путешественники вышли на пристань, и там мистер Фогг узнал, что «Карнатик» отплыл еще вчера. Таким образом, мистер Фогг, который рассчитывал найти здесь и пакетбот, и слугу, не обнаружил ни того, ни другого. Но даже легкая тень замешательства не мелькнула на его лице, а встретив тревожный взгляд миссис Ауды, он лишь обронил:
– Это случайность, не более.
В этот момент какой-то субъект, до того внимательно наблюдавший за ним со стороны, подошел вплотную. Это был инспектор Фикс. Он поклонился и спросил:
– Вы, как и я, прибыли сюда вчера на «Рангуне», не так ли, сударь?
– Да, сударь, – холодно отвечал мистер Фогг, – но я не имел чести…
– Прошу прощения, но я рассчитывал встретить здесь вашего слугу.
– Вы не знаете, где он, сударь? – с живостью спросила молодая женщина.
– Как? – Фикс разыграл удивление. – Разве он не с вами?
– Нет, – отвечала миссис Ауда. – Он не появлялся со вчерашнего дня. Уж не уплыл ли он на «Карнатике» без нас?
– Без вас, мадам? – насторожился сыщик. – Но, простите мой вопрос, значит, и вы хотели отправиться на этом пароходе?
– Да, сударь.
– И я тоже, мадам, поэтому теперь я в полной растерянности. Ремонтные работы на «Карнатике» закончились раньше срока, и он отплыл из Гонконга на двенадцать часов раньше, никого об этом не предупредив. Теперь придется восемь дней ждать следующего рейса!
Произнося эти слова, Фикс чувствовал, что сердце его так и прыгает от радости. Восемь дней! Фогг застрял в Гонконге на восемь дней! Теперь-то хватит времени, чтобы дождаться ордера на арест. Счастье наконец-то улыбнулось стражу закона.
Поэтому легко представить, каким ударом – будто дубиной по голове – были для него слова Филеаса Фогга, произнесенные самым спокойным голосом:
– Ну, насколько мне известно, в порту Гонконга есть и другие суда, кроме «Карнатака».
И мистер Фогг, поддерживая под руку миссис Ауду, направился к докам – искать судно, готовое к отплытию. Ошеломленный Фикс потащился следом. Казалось, он невидимой цепью прикован к этому человеку.
Тем не менее удача, похоже, и впрямь отвернулась от того, кому до сих пор так верно служила. Филеас Фогг три часа мыкался по порту, исходил его вдоль и поперек, готовый, если потребуется, даже зафрахтовать судно, лишь бы оно доставило его в Иокогаму. Но ему попадались только суда, где происходила погрузка либо разгрузка, стало быть, они для его цели не годились. Фикс взбодрился, надежда в нем ожила.
Однако мистер Фогг не падал духом, казалось, он будет продолжать поиски, даже если придется дойти до самого Макао. И тут во внешней гавани какой-то моряк, почтительно обнажив голову, окликнул его:
– Вашей милости нужен корабль?
– У вас есть судно, готовое отплыть без промедления? – спросил мистер Фогг.
– Да, ваша милость, лоцманский шлюп номер сорок три, лучший во всей флотилии.
– Быстроходный?
– Делает миль восемь-девять, вроде того. Желаете взглянуть?
– Да.
– Ваша милость останется довольна. Речь идет о морской прогулке?
– Нет, о путешествии.
– То есть как? О каком путешествии?
– Возьметесь доставить меня в Иокогаму?
У моряка от такого предложения руки опустились, глаза вылезли из орбит:
– Ваша милость изволит шутить?
– Нет! Я опоздал на «Карнатик», а мне необходимо к 14-му быть в Иокогаме, чтобы успеть на пакетбот до Сан-Франциско.
– Мне очень жаль, – сказал моряк, – но это невозможно.
– Я буду платить вам сто фунтов (2500 франков) в день и обещаю награду в двести фунтов, если прибудем к сроку.
– Вы это серьезно? – пробормотал лоцман.
– Как нельзя более, – кивнул мистер Фогг.
Лоцман отошел в сторонку и задумался, уставясь на море. Было видно, что он колеблется между желанием заработать такую громадную сумму и боязнью, как бы авантюра не оказалась слишком опасной. Фикс умирал от волнения, его аж затрясло.
А мистер Фогг между тем обернулся к миссис Ауде:
– Вас это не пугает, мадам?
– Нет, с вами я ничего не боюсь, мистер Фогг, – отвечала молодая женщина.
Тут моряк снова подошел к джентльмену, комкая в руках свой головной убор.
– Что скажете, лоцман?
– Я, ваша милость, – отвечал ломан, – так скажу: нельзя мне рисковать ни своими людьми, ни собой, ни вами. Это не дело – пускаться в долгое плавание на судне водоизмещением от силы тонн двадцать да еще в эту пору года. Ктомуже вовремя нам все равно не поспеть, ведь от Гонконга до Иокогамы тысяча шестьсот пятьдесят миль.
– Ровно тысяча шестьсот, – поправил мистер Фогг.
– Это ничего не меняет.
Фикс наконец вздохнул полной грудью.
– Но, – прибавил лоцман, – пожалуй, найдется средство все устроить по-другому.
Фикс вовсе перестал дышать.
– Как? – спросил Филеас Фогг.
– Можно доплыть до Нагасаки, к южному берегу Японии, это ближе – тысяча сто миль. Или того лучше – в Шанхай, он в восьмистах милях отсюда. Тогда мы сможем не слишком удаляться от китайских берегов, это нам очень на руку, тем более, что там и морские течения направлены на север.
– Лоцман, – возразил Филеас Фогг, – я должен сесть на американский пароход в Иокогаме, а не в Шанхае или в Нагасаки.
– Почему? – спросил лоцман. – Ведь пакетбот до Сан-Франциско не из Иокогамы идет. У него там остановка и в Нагасаки тоже, а порт его отправления как раз Шанхай.
– Вы уверены в том, что говорите?
– Уверен.
– И когда пакетбот отплывает из Шанхая?
Одиннадцатого, в семь вечера. Так что у нас есть четыре дня. То есть девяносто шесть часов. Если делать в среднем восемь миль в час, если мы будем обеспечены всем, что нужно, и продержится юго-восточный ветер, а море будет спокойно, мы сможем одолеть восемьсот миль до Шанхая.
– И когда вы сможете отплыть?
– Через час. Надо же еще закупить провизию и снарядить судно для плавания.
– Договорились. Вы владелец судна?
– Да, меня зовут Джон Бэнсби, я хозяин «Танкадеры».
– Хотите задаток?
– Если вашу милость не затруднит.
– Вот двести фунтов в счет оплаты… Сударь, – Филеас Фогг повернулся к Фиксу, – если вы хотите воспользоваться…
– Я просил бы вас об этом, сударь, – отвечал Фикс решительно.
– Хорошо. Через полчаса встретимся на борту.
– Но какже этот бедный молодой человек?.. – напомнила Ауда, крайне озабоченная исчезновением Паспарту.
– Я сделаю для него все, что смогу, – сказал Филеас Фогг.
А в то время как Фикс, издерганный, расстроенный, взбешенный, поплелся на лоцманское судно, эти двое поспешили в полицейское управление Гонконга. Там Филеас Фогг сообщил приметы Паспарту и оставил сумму, которой должно хватить для его отправки на родину. Он даже исполнил во французском консульстве необходимые для этого формальности, после чего паланкин доставил путешественников сначала к гостинице, откуда они забрали свой багаж, а потом в гавань.
Было уже три часа. Лоцманское судно номер сорок три приготовилось поднять якорь: экипаж на борту, провизию погрузили.
Эта «Танкадера» оказалась прелестной маленькой шхуной водоизмещением в двадцать тонн, удлиненной, обтекаемой, изящных пропорций. Ее можно было принять за гоночную яхту. Ее медные части блестели, железные – были оцинкованы, палуба сверкала белизной слоновой кости; все указывало на то, что ее хозяин, Джон Бэнсби, привык содержать свое судно в прекрасном состоянии. Обе мачты шхуны слегка отклонялись назад. У нее имелись бизань, фоки (обычные и штормовые), кливера, стаксели и топсели, при попутном ветре она могла развить хорошую скорость. С первого взгляда было видно, что шхуна на диво быстроходная, и точно: она уже выиграла несколько призов на состязаниях лоцманских судов.
Экипаж «Танкадеры» состоял из ее хозяина Джона Бэнсби и четверых матросов. Все они принадлежали к той породе отчаянных моряков, которые в любую погоду отваживаются на поиски пропавших судов и великолепно знают море. Джон Бэнсби, мужчина лет сорока пяти, мускулистый, дочерна загорелый, с волевой физиономией и живыми глазами, весьма самоуверенный и явно сведущий в своем деле, внушил бы доверие даже самым боязливым пассажирам.
Когда Филеас Фогг и миссис Ауда взошли на борт, Фикс уже находился там. Через кормовой люк шхуны путешественники спустились в каюту кубической формы; над скамьей-лежанкой, опоясывающей все помещение, имелись прямоугольные ниши. Посредине стоял стол, освещенный висячей лампой. В каюте было тесно, но чисто.
– Сожалею, но не могу предложить вам ничего получше, – сказал мистер Фогг сыщику. Тот поклонился в ответ, но не проронил ни слова. Он испытывал что-то похожее на унижение, пользуясь в подобных обстоятельствах любезностью господина Фогга. «Конечно, – подбадривал он себя, – это отменно вежливый проходимец, но он проходимец!»
В три часа десять минут шхуна подняла паруса. На гафеле зареял британский флаг. Пассажиры расселись на палубе. Мистер Фогг и миссис Ауда бросили последний взгляд на набережную, все еще надеясь, что там покажется Паспарту.
Фикс косился туда не без тревоги, ведь несчастный парень, с которым он так вероломно обошелся, волей случая вправду мог появиться там, и разразилась бы сцена, которая не сделала бы чести детективу, а пользы и подавно не принесла бы. Но француз так и не показался: наверняка еще не очухался от наркотического дурмана.
Наконец Джон Бэнсби вывел свою шхуну в открытое море, и «Танкадера», развернув паруса, рванулась вперед, приплясывая на волнах.
Глава XXI
где владелец «Танкадеры» рискует упустить награду в двести фунтов
Это было рискованное предприятие – пуститься в плавание на восемьсот миль на судне водоизмещением в двадцать тонн, но главное – в такое время года. Море у берегов Китая, как правило, неспокойно, оно во власти ужасных шквалистых ветров, особенно в пору равноденствий. Ведь дело происходило в первых числах ноября.
Для лоцмана было бы выгоднее, если бы он взялся доставить пассажиров в Иокогаму, ведь он получал такую круглую сумму за каждый день пути. Но и опасность очень возросла бы, вздумай он в подобныхусловиях предпринять столь долгое плавание. Отправиться в Шанхай – даже это было поступком дерзким, чтобы не сказать отчаянным. Но Джон Бэнсби верил в свою «Танкадеру», танцевавшую на волнах легко, словно чайка. И может быть, он в этом не ошибался.
Последние часы этого дня «Танкадера» провела, лавируя по причудливому гонконгскому фарватеру, и великолепно вела себя хоть при бейдевинде, хоть при попутном ветре.
– Нет надобности напоминать вам, лоцман, что от вас требуется максимальная скорость, – сказал Филеас Фогг, когда шхуна вышла в открытое море.
– Ваша милость может на меня положиться, – ответил Джон Бэнсби. – Мы поставили все паруса, какие позволяет ветер. А от топселей сейчас проку не будет, скорее вред: они бы наше судно только тормозили.
– Это не моя специальность, лоцман, а ваша. Я рассчитываю на вас.
Филеас Фогг держался прямо, ноги расставил уверенно, будто заправский моряк, и на бушующие волны взирал невозмутимо. А молодую женщину, сидевшую на корме, это зрелище волновало: перед ней расстилался, уже темнея в час сумерек, океан, которому она бросила вызов, доверившись столь хрупкому суденышку. Оно распростерло над ее головой паруса, несущие его вперед, словно огромные крылья. Шхуна, гонимая ветром, казалось, летела по воздуху, едва касаясь водной поверхности.
Настала ночь. Луна, вошедшая в первую четверть, едва мерцала, и этот слабый свет вскоре должен был погаснуть в тумане на горизонте. С востока ползли тучи, они уже заволокли часть небосвода.
Лоцман зажег сигнальные огни – предосторожность, необходимая здесь, близ побережья, где судоходство было весьма оживленным. Столкновения случались нередко, а при той скорости, какую оно развивало, маленькое судно развалилось бы от малейшего удара.
Фикс в раздумье стоял на носу шхуны. Он держался в стороне от остальных, зная, что Фогг по натуре молчалив. Да ему и самому претило затевать разговоры с этим человеком, чьим одолжением он воспользовался. Сыщик размышлял о том, как все обернется в дальнейшем. Ему казалось несомненным, что в Иокогаме господин Фогг не задержится, тотчас сядет на пакетбот до Сан-Франциско, спеша добраться до Америки, бескрайние пространства которой послужат ему надежной гарантией безнаказанности. Замысел Филеаса Фогга виделся ему как нельзя более простым.
Вместо того чтобы как заурядный мошенник сесть в Англии на судно, идущее в Соединенные Штаты, Фогг сделал громадный крюк, три четверти земной окружности проехал, чтобы вернее достигнуть американского континента, где он, сбив полицию со следа, сможет преспокойно проедать похищенный в банке миллион. Но что предпринять Фиксу, оказавшись на земле Штатов? Отвяжется ли он там от этого человека? Нет, сто раз нет! До той минуты, пока не получит акта об экстрадиции, детектив не отстанет от вора ни на шаг. Таков его долг, и он исполнит его до конца. Как бы там ни было, обстоятельства хоть в одном сложились счастливо: Паспарту больше не будет рядом с хозяином, а после откровенностей, на которые с ним решился Фикс, особенно важно, чтобы господин и слуга никогда более не встретились.
Сам Филеас Фогг тоже отнюдь не забыл о своем слуге, исчезнувшем так странно. Хорошенько все обдумав, он пришел к заключению, что бедный малый, возможно, в последний момент успел на «Карнатик», да так по недоразумению с ним и уплыл. К этой же мысли склонялась миссис Ауда, глубоко опечаленная утратой этого честного слуги, которому она была столь многим обязана. Таким образом, они полагали, что смогут отыскать его в Иокогаме, ведь если «Карнатик» высадит его там, узнать об этом будет нетрудно.
Около десяти вечера ветер стал свежее. Возможно, осторожность требовала взять один риф, но лоцман, вдумчиво посмотрев на небо, оставил паруса как есть.
Впрочем, «Танкадера», имея большую осадку, великолепно шла под развернутыми парусами, к тому же ее оснастка позволяла их быстро убрать, если бы налетел шквал.
Филеас Фогг и миссис Ауда спустились в свою каюту в полночь. Опередивший их Фикс уже улегся там в одной из ниш. Лоцман и его матросы провели на палубе всю ночь.
На следующий день, 8 ноября, на рассвете шхуна уже прошла более сотни миль. Часто бросая лаг, моряки определили, что ее средняя скорость составляла восемь-девять миль в час. «Танкадера» шла на своей максимальной скорости при ровном боковом ветре под всеми парусами. Удача благоприятствовала судну, теперь лишь бы ветер не переменился.
Весь день шхуна продвигалась вперед, не слишком удаляясь от берега: прибрежные течения были для нее благоприятны. Она держалась от земли не дальше, чем милях в пяти, оставляя ее по левому борту, и когда в пелене тумана возникали просветы, можно было разглядеть причудливые очертания берега. Ветер дул с суши, поэтому волнение было не слишком сильным – к счастью для шхуны, ведь суда малого тоннажа больше всего страдают от волн, которые гасят скорость, или, как говорят моряки, «убивают» ее.
К полудню бриз стал чуть слабее и потянул с юго-востока. Лоцман велел поставить топсели, но через два часа пришлось их убрать, так как ветер опять посвежел.
Мистер Фогг и молодая женщина, на свое счастье, не подверженные морской болезни, с аппетитом уплетали консервы и армейские галеты. Фикс, приглашенный разделить их трапезу, был вынужден согласиться, зная, что людские желудки также необходимо загружать, как и трюмы судов. Но это его раздражало! Путешествовать за счет этого человека, питаться из его запасов – он находил, что это не совсем честно. И тем не менее детектив ел – правда, клевал понемножку, как воробей, но никуда не денешься… ел!
Тем не менее, покончив с обедом, он счел необходимым отозвать мистера Фогга в сторонку, чтобы сказать ему:
– Сударь…
Ох, это учтивое обращение чуть не застряло у него в горле, он еле удерживался, чтобы не ухватить «сударя» за шиворот!
– Сударь, вы были очень любезны, предложив мне место на своем судне. Но хотя мои средства не позволяют мне тратиться с таким размахом, как вы, я готов заплатить свою долю…
– Не будем говорить об этом, сударь, – отвечал мистер Фогг.
– Но право же, я хочу…
– Нет, сударь, – отрезал Фогг не допускающим возражений тоном. – Это предусмотрено моей сметой расходов!
Фикс отвесил поклон молча – у него даже дыхание перехватило. Затем он отошел, устроился в гамаке на носу шхуны и за весь день не произнес более ни слова.
Между тем судно быстро неслось вперед. Джон Бэнсби надеялся на лучшее. Он уже несколько раз заверил мистера Фогга, что они успеют в Шанхай к желаемому сроку. Джентльмен отвечал, что он на это и рассчитывает. К тому же экипаж старался, как мог. Обещанная награда воодушевила этих отважных парней. А следовательно, каждый шкот был натянут туже некуда! Ни один парус не болтался оттого, что плохо поставлен! Ни одного резкого заноса по вине рулевого! Даже на регате Королевского яхт-клуба шхуна не могла бы маневрировать изящнее и четче.
Вечером лоцман определил по лагу, что от Гонконга шхуна прошла путь в двести двадцать миль. Теперь Филеас Фогг мог надеяться, что по прибытии в Иокогаму ему не придется записывать в свой путевой дневник ни минуты опоздания. А стало быть, серьезная неудача, постигшая его впервые после отъезда из Лондона, по-видимому, не нанесет ему никакого ущерба.
За ночь и в первые предрассветные часы «Танкадера» миновала пролив Фо-Къен, отделяющий большой остров Формозу от китайского берега, и пересекла тропик Рака. Море в этом проливе очень опасно, там полно водоворотов, образуемых встречными течениями. Шхуну сильно трепало. Короткие беспорядочные волны замедляли ход, сбивая ее с пути. На палубе стало трудно удержаться на ногах.
С восходом солнца ветер задул еще крепче. Небо выглядело тревожно, словно предвещало недоброе. Да и барометр сулил близкую перемену погоды: на протяжении суток ртутный столбик капризно то опускался, то подскакивал. Уже и на взгляд море на юго-востоке вздымалось длинными валами, от них «пахло бурей». А накануне заходящее солнце утонуло в красном мареве, что клубилось на горизонте над фосфоресцирующим океаном.
Лоцман долго всматривался в небо, изучал эти зловещие приметы, что-то невнятно бормоча сквозь зубы. И вот наступила минута, когда он, оказавшись рядом со своим пассажиром, тихо спросил:
– Вашей милости можно говорить все?
– Все, – ответил Филеас Фогг.
– Так вот: надвигается шторм.
– С севера или с юга? – спокойно осведомился мистер Фогг.
– С юга. Вон там, смотрите, тайфун собирается!
– Он идет с юга, значит, нам по пути. В добрый час.
– Если вы так на это смотрите, мне больше нечего сказать! – промолвил лоцман.
Джон Бэнсби не обманулся в своих предчувствиях. В другое, менее суровое время года тайфун, по выражению одного известного метеоролога, разразился бы всего лишь светящимся фейерверком электрических разрядов, но в дни осеннего равноденствия можно было опасаться жестокой бури.
Лоцман принял меры предосторожности заранее. Приказал свернуть и закрепить все паруса и спустить реи на палубу шхуны. Стеньги были также опущены. Люки наглухо задраили. В трюм судна теперь не могла проникнуть ни одна капля воды. На фок-мачте в качестве штормового форстеньга-стакселя остался лишь треугольный парус из толстого полотна, способный удерживать шхуну кормой к ветру.
И они стали ждать.
Джон Бэнсби посоветовал своим пассажирам спуститься в каюту. Но оказаться узниками тесной, сотрясаемой волнами конурки, куда почти не попадает свежий воздух, – приятного мало. Ни мистер Фогг, ни миссис Ауда, ни даже Фикс не согласились уйти с палубы.
Около восьми на шхуну обрушился ливень со шквалистым ветром. «Танкадера», хоть парусом ей служил всего-навсего маленький клочок ткани, понеслась, словно перышко, подхваченное завывающим ураганом, ярость которого не описать. Уподобить стремительность этого взбесившегося ветра учетверенной скорости локомотива, несущегося на всех парах, значило бы лишь отчасти приблизиться к истине.
Весь день судно мчалось на север, влекомое чудовищными волнами, сохраняя, к счастью, ту же скорость, что они. Двадцать раз на него грозили обрушиться горы воды, встававшие за его кормой, но ловкий поворот штурвала, за которым стоял сам лоцман, каждый раз помогал судну увернуться от крушения. Временами пассажиров с ног до головы окатывало брызгами, но они воспринимали это философски. Фикс, тот, конечно, ворчал, но бесстрашная Ауда, не сводившая глаз со своего спутника, чье хладнокровие не могло ее не восхищать, показала себя достойной его: она пренебрегала бурей, свирепствовавшей совсем рядом. Что до Филеаса Фогга, при взгляде на него казалось, что и этот тайфун также предусмотрен программой его вояжа.
До сих пор «Танкадера» продолжала держать путь на север, однако к вечеру, как и следовало опасаться, ветер повернул на три румба и задул с северо-запада. Волны теперь хлестали шхуну в борт, качка началась жуткая. Море сотрясало суденышко так неистово, что впору прийти в ужас, если бы не знать, как надежно все его части пригнаны одна к другой.
С наступлением ночи буря разбушевалась еще пуще. Увидев, что ураган крепчает, а вокруг становится все темнее, Джон Бэнсби забеспокоился не на шутку. Не пора ли пристать к берегу? Он решил посовещаться со своим экипажем.
Поговорив с матросами, Джон Бэнсби обратился к мистеру Фоггу:
– Сдается мне, ваша милость, что нам бы лучше зайти в какой-нибудь из портов этого побережья.
– Я того же мнения, – отвечал Филеас Фогг.
– Вот как! – обронил лоцман. – И куда именно?
– Мне здесь известен только один порт, – спокойно сказал мистер Фогг.
– И это…
– Шанхай.
До лоцмана не сразу дошло, что означает такой ответ, сколько в нем непреклонного упорства. Несколько мгновений он ошарашенно молчал, потом воскликнул:
– Так и быть, идет! Ваша милость правы. В Шанхай!
И «Танкадера» невозмутимо продолжала держать курс к северу.
Ужасная, поистине кошмарная ночь! Чудо, что маленькая шхуна не опрокинулась. Дважды волны захлестывали ее так, что смыли бы с палубы все, если бы не крепкие найтовы. Миссис Ауда чувствовала себя совсем разбитой, но никто не услышал из ее уст ни единой жалобы. Не раз мистер Фогг бросался к ней, чтобы защитить ее от ярости волн.
Рассвет наступил, однако буря не стихала, она даже усилилась: ее бешенство не знало пределов. Но, как бы то ни было, ветер снова задул с юго-запада. Это была благоприятная перемена, и «Танкадера» вновь помчалась по бушующему морю, где волны, поднятые этим переменившимся ветром, сталкивались с теми, что расходились при другом его направлении. Будь судно не так крепко сбито, одного удара таких встречных волн хватило бы, чтобы раздавить его в лепешку.
Время от времени ветер разрывал полог тумана, в прорехах которого виднелся берег, но никто не видел ни единого судна. Одна «Танкадера» боролась с волнами, выдерживая их беснование.
К полудню появились кое-какие признаки, позволившие надеяться, что буря утихнет, когда же солнце стало клониться к горизонту, они проявились уже вполне отчетливо. Само неистовство урагана было залогом его непродолжительности. Пассажиры, вконец разбитые, смогли наконец перекусить и хоть немного отдохнуть.
Ночь прошла относительно мирно. Лоцман приказал вновь поставить паруса, взяв на них два рифа. Судно опять развило значительную скорость. Назавтра, одиннадцатого числа, на рассвете обозрев береговой ландшафт, Джон Бэнсби смог с уверенностью определить, что до Шанхая меньше ста миль.
Сто миль, и чтобы их пройти, остается один этот день! Ведь чтобы не пропустить пакетбот на Иокогаму, мистеру Фоггу необходимо успеть в Шанхай сегодня же вечером. Если бы не эта буря, из-за которой было потеряно несколько часов, шхуне оставалось бы всего тридцать миль до порта.
Ветер ощутимо слабел, и, к счастью, успокаивалось при этом и море. Шхуна оделась парусами. Топсель, кливер, контрфок – все гнало ее вперед, только вода пенилась под форштевнем.
К полудню «Танкадера» была всего в сорока пяти милях от Шанхая. До отправления пакетбота в Иокогаму оставалось шесть часов – время, за которое надо было достигнуть порта.
На борту воцарилось лихорадочное возбуждение пополам со страхом. Успеть любой ценой! Все – разумеется, за исключением Филеаса Фогга – чувствовали, как сердце колотится в груди от нетерпения. Маленькой шхуне было необходимо не сбавлять хода, продержаться на скорости девять миль в час, а ветер-то продолжал слабеть! И дул он теперь неравномерно, его капризные порывы налетали на судно сбоку. А стоило им утихнуть, и море тотчас становилось безмятежно гладким.
Но судно было таким легким, высокие, тонкого полотна паруса ловили шальные ветерки так хорошо, что «Танкадера», вдобавок подгоняемая течением, к шести часам вечера, по прикидкам Джона Бэнсби, находилась всего в десяти милях от устья реки, на которой стоит Шанхай: сам город расположен милях в двенадцати вверх по ее течению.
В семь часов они были все еще в трех милях от Шанхая. Из уст лоцмана вырвалось святотатственное ругательство… Похоже, награда в двести фунтов уплывала у него из-под носа. Он посмотрел на мистера Фогга. Последний сохранял невозмутимость, а между тем на карту было поставлено все его состояние…
И в этот же самый момент на горизонте показалось длинное, веретенообразное черное судно, увенчанное дымным плюмажем. Это был американский пакетбот, отплывавший в установленный час.
– Проклятье! – вскричал Джон Бэнсби, в отчаянии выпуская из рук штурвал.
– Сигналы! – спокойно приказал Филеас Фогг.
На носу «Танкадеры» стояла маленькая бронзовая пушка. Она предназначалась для того, чтобы подавать сигналы в тумане. Ее зарядили по самое жерло, лоцман уже готов был поджечь фитиль, но тут мистер Фогг приказал:
– Спустить флаг!
Его спустили до середины мачты. Это был сигнал бедствия, заметив который, американский пакетбот, может быть, ненадолго изменит курс, чтобы подойти к шхуне.
– Огонь! – скомандовал мистер Фогг.
И грянул выстрел маленькой бронзовой пушки.
Глава XXII
в которой Паспарту убеждается, что, даже угодив к антиподам, разумно иметь в кармане сколько-нибудь деньжат
Седьмого ноября в шесть тридцать вечера «Карнатик» отплыл из Гонконга и на всех парах устремился к берегам Японии. Он шел с полным грузом провизии, и все пассажирские места тоже были заняты. Пустовали только две первоклассные каюты в кормовой части судна. Те самые, которые оплатил мистер Филеас Фогг.
На следующее утро обитатели кают второго класса, расположенных на носу, не без удивления увидели растрепанного пассажира, вышедшего из каюты с полубезумным взглядом, чтобы тут же, шатаясь, плюхнуться на палубную скамью.
Это был Паспарту собственной персоной. С ним произошло следующее.
Через несколько минут после того, как Фикс покинул притон, двое парней подняли Паспарту, спавшего глубоким сном, и перетащили на ложе, предназначенное для курильщиков опиума. Однако спустя три часа Паспарту, которого и в кошмарных сновидениях не отпускала его навязчивая идея, проснулся и вступил в борьбу с одуряющим действием наркотика. Мысль о неисполненном долге заставила его стряхнуть оцепенение. Встав с ложа, где он валялся среди пьяниц, держась за стены, он вышел из притона и поплелся, спотыкаясь, падая и снова вставая, но неуклонно следуя инстинкту, который гнал его вперед. Он шел и кричал, как в бреду:
– «Карнатик»! «Карнатик»!
Пакетбот, готовый к отплытию, стоял, выпуская клубы дыма. Паспарту оставалось сделать всего несколько шагов. Он ринулся к трапу, ступил на борт и рухнул без чувств на баке в ту самую минуту, когда «Карнатик» поднимал якоря.
Несколько матросов, как люди, привыкшие к сценам подобного рода, отнесли бедного малого в одну из кают второго класса, где Паспарту и проснулся, но не раньше, чем на следующее утро, в ста пятидесяти милях от китайского побережья.
Вот почему в то утро Паспарту очутился на борту «Карнатика». Он полной грудью впивал свежесть морского бриза. Чистый воздух отрезвил его. Он начал, хоть и не без труда, собираться с мыслями. И в конце концов вспомнил вчерашние события: откровенности Фикса, притон и прочее.
«По всему видать, я жутко надрался! – подумал он. – Что скажет мистер Фогг? Ну, во всяком случае на судно я не опоздал, а это главное».
Затем, вспомнив о Фиксе, он сказал себе: «Что до этого типа, надеюсь, мы от него отделались. Не посмеет же он притащиться за нами на «Карнатик» после того, что мне предлагал! Инспектор полиции, детектив, идущий по следу моего хозяина, обвиняемого в том, что совершил кражу в Английском банке! Вот еще! Мистер Фогг такой же вор, как я убийца!»
Но должен ли Паспарту рассказать своему хозяину обо всем этом? Следует ли ему знать, какую роль играл Фикс во всем этом деле? Не лучше ли подождать возвращения в Лондон и уже тогда сообщить, что полицейский агент гнался за ним вокруг света, чтобы вместе над этим посмеяться? Да, пожалуй. Во всяком случае, об этом стоит подумать. Сейчас самое неотложное – скорее отправиться к мистеру Фоггу и принести ему свои извинения за свой возмутительный промах.
Паспарту встал с места. Море волновалось, пакетбот сильно качало. Славный малый, еще не вполне твердо держась на ногах, худо-бедно добрел до кормы. Проходя по палубе, он не заметил там никого, похожего на мистера Фогга или миссис Ауду.
«Ладно, – бурчал он себе поднос. – Миссис Ауда в такой час еще спит. А мистер Фогг, небось, нашел здесь какого-нибудь игрока в вист и по своему обыкновению…»
Так бормоча, Паспарту спустился в пассажирский салон. Мистера Фогга он и там не нашел. Оставалось одно: спроситьу судового казначея, какую каюту занимает мистер Фогг. Но тот ответил, что не знает пассажира, которого бы так звали.
– Прошу прощения, – настаивал Паспарту, – я говорю о джентльмене, рослом таком, жестком, необщительном, с ним еще молодая дама…
– У нас на борту нет никакой молодой дамы, – отрезал казначей. – Впрочем, вот вам список пассажиров. Можете сами убедиться.
Паспарту просмотрел список… Имени его господина там не было.
У него потемнело в глазах. Потом в его мозгу промелькнула ужасная мысль, он закричал:
– Ах ты черт! Я на «Карнатике», это точно?
– Да, – подтвердил казначей.
– Мы идем в Иокогаму?
– Вне всякого сомнения.
На мгновение Паспарту испугался, что ошибся судном! Впрочем, если это и не так, совершенно очевидно, что его хозяина на «Карнатике» нет.
Паспарту, словно громом пораженный, бессильно плюхнулся в кресло. И тут его вдруг осенило. Он вспомнил, что отправление «Карнатика» было перенесено на более ранний срок, он должен был предупредить об этом хозяина, но не сделал этого! Значит, если мистер Фогг и миссис Ауда опоздали к отправлению, то по его вине!
Да, всему виной он, но еще больше этот предатель, который его напоил, чтобы разлучить с хозяином и задержать того в Гонконге! Паспарту наконец разгадал маневр полицейского инспектора. А теперь мистер Фогг, конечно, разорен, его пари проиграно, а сам он, чего доброго, арестован, брошен в тюрьму!.. При этой мысли Паспарту стал рвать на себе волосы. Ах! Только попадись ему Фикс, уж он сведет с ним счеты!
Когда первый приступ отчаяния прошел, к Паспарту вернулось самообладание и он смог обдумать ситуацию. Она была незавидной. Что делать ему, французу, плывущему в Японию, когда он, что неизбежно, приплывет туда? Как вернуться домой? Его карманы пусты: ни шиллинга, ни единого пенни! Ну, как бы то ни было, его проезд на пакетботе и стол были оплачены заранее. Следовательно, у него оставалось пять-шесть дней в запасе, за это время ему предстояло решить, что делать. Нет слов, чтобы описать, сколько он съел и выпил, пока плыл на «Карнатике». Паспарту ел и за мистера Фогга, и за миссис Ауду, и за себя самого. Ел так, как если бы Япония, где ему предстояло высадиться, была пустынным краем, где ничего съедобного днем с огнем не сыщешь.
Тринадцатого числа с утренним приливом «Карнатик» достиг Иокогамы.
Этот город – весьма важный тихоокеанский порт, в него заходят все суда, как почтовые, так и пассажирские, курсирующие между Северной Америкой, Китаем, Японией и Малайским архипелагом. Иокогама находится в бухте Иеддо, по соседству со второй столицей японской империи – огромным городом, носящим тоже название. Во времена, когда существовал гражданский правитель – сегун, – здесь была его резиденция. Иеддо и поныне соперничает с Киото, где обитает микадо – божественный император, сын неба.
«Карнатик» причалил к набережной Иокогамы неподалеку от мола и таможенных складов, остановившись среди множества судов, принадлежащих различным государствам.
Без малейшего энтузиазма Паспарту ступил на землю Страны Восходящего Солнца, которую при других обстоятельствах нашел бы очень любопытной. Ему не оставалось ничего иного, какдовериться случаю, и он побрел по улицам города куда глаза глядят.
Сперва он оказался в абсолютно европейском квартале, где невысокие дома, чьи застекленные балконы опираются на изящные колонны, тянулись непрерывной чередой вдоль улиц, площадей, доков, складов до самого берега реки. Здесь также, как в Гонконге и Калькутте, кишела разноплеменная толпа – американцы, англичане, китайцы, голландцы – торговый люд, готовый все продать и все купить. Среди них бедный француз чувствовал себя таким же чужим, как если бы угодил в страну готтентотов.
Один запасной выходу Паспарту был: он мог обратиться во французское либо английское консульство Иокогамы. Но ему претила мысль, что там придется выложить свою историю, столь тесно связанную с историей хозяина. Прежде чем решиться на это, он хотел использовать все другие шансы.
Поэтому, миновав европейскую часть города, где никакой благоприятный случай ему не подвернулся, он вошел в японский квартал, готовясь, если потребуется, дойти до самого Иеддо.
Этот район Иокогамы, заселенный местными уроженцами, носит имя Бентен в честь богини моря, почитаемой на ближних островах. Здесь француз увидел великолепные пихтовые и кедровые аллеи, священные ворота причудливой архитектуры, мосты, тонущие в бамбуковых и тростниковых чащах, храмы под печальной сенью громадных вековых кедров, монастыри, в чьих недрах совместно обитали буддийские жрецы и последователи Конфуция, нескончаемые улицы, кишащие румяными толстощекими ребятишками, словно сошедшими с какой-нибудь японской ширмы, они играли с коротконогими собачками и рыжеватыми бесхвостыми кошками, очень ласковыми и ленивыми.
На улицах, словно в муравейнике, непрестанно туда-сюда сновали люди: буддийские жрецы проходили целыми процессиями, монотонно стуча в тамбурины, «Якунины» – офицеры таможенной или полицейской службы – в остроконечных шапках, украшенных лаковыми инкрустациями, и с двумя саблями за поясом, солдаты в синих с белыми полосами хлопчатобумажных одеждах, вооруженные пистонными ружьями, телохранители микадо в шелковых камзолах и кольчугах и множество других военных различных рангов, ибо в Японии профессию солдата уважают в той же мере, в какой ее презирают в Китае. А еще повсюду шныряли монахи, собирающие пожертвования, паломники в длинных одеяниях и просто прохожие – низкорослые люди с гладкими черными как вороново крыло волосами, большеголовые, с длинным торсом и тощими ногами; их кожа обычно имеет различные оттенки – от темной меди до матовой белизны, но никогда не бывает желтой, каку китайцев, от которых японцы внешне отличаются весьма существенно. И наконец, женщины – они семенили мелкими шажками на своих крошечных ножках, обутых в полотняные туфельки, простенькие соломенные или затейливые деревянные сандалии, мелькая тут и там среди повозок, паланкинов, лошадей, носильщиков, «нормионов», крытых тележек с лаковыми стенками, мягких «кангу» – настоящих бамбуковых носилок… Особенно красивыми этих женщин не назовешь: глаза у них были раскосые, грудь стянута, зубы согласно моде начернены, но они с особой элегантностью носили свои «киримоны», или «кимоно» – нечто вроде халата, перехваченного широким шелковым шарфом, концы которого завязывают сзади причудливым бантом (похоже, нынешние парижские модницы успели позаимствовать у японок некоторые детали своего туалета).
Паспарту потолкался несколько часов среди этой пестрой толпы, поглазел на лавки, полные самыхлюбопытныхтоваров, и базары с грудами всевозможных побрякушек, золотых и серебряных поделок японских ювелиров, видел он и «ресторации», украшенные флажками и лентами, вход в которые ему был заказан, и чайные домики, где посетители чашками пьют горячую ароматизированную воду с «саке» – хмельным напитком, который получают из перебродившего риса. Встречались ему и комфортабельные притоны, но курили в них весьма тонкий табак, а отнюдь не опиум – в Японии его почти не знают.
Затем Паспарту очутился в поле. Вокруг простирались обширные рисовые плантации. Там блистали, расточая все богатства красок и ароматов, последние осенние камелии, расцветающие не на кустах, а на деревьях. За бамбуковыми оградами росли яблони, вишни, сливы – местные жители разводят их скорее ради цветов, чем ради плодов, которые, однако, защищают от полчищ воробьев, ворон, голубей и прочих прожорливых пернатых посредством гримасничающих пугал и трещоток. Встречались ему и величавые кедры, причем на каждом гнездились громадные орлы. Любая плакучая ива скрывала в своей кроне цаплю, печально стоявшую на одной ноге. Ауж вороны, утки, ястребы, дикие гуси и огромное количество журавлей, которых японцы величают «господами» и считают символом счастья и долголетия, попадались на каждом шагу.
Блуждая так, Паспарту приметил среди травы несколько фиалок.
– Славно! – обрадовался он. – Это мне вместо ужина.
Но, понюхав их и обнаружив, что они даже не пахнут, вздохнул: «Не везет!»
Разумеется, наш честный малый, прежде чем покинуть «Карнатик», из предусмотрительности позавтракал как мог обильно, но после прогулки, продолжавшейся целый день, он чувствовал в желудке сосущую пустоту. Он успел заметить, что на прилавках местных мясников нет ни свинины, ни козлятины, ни баранины, а так как он знал, что убой рогатого скота, предназначенного исключительно для полевых работ, считается в Японии святотатством, то заключил, что мясо здесь едят крайне редко. Он не ошибся, однако за неимением говядины его желудок охотно переварил бы хороший кусок кабанятины или лосятины, куропатку или перепелку, не отказался бы и от любой дичины или рыбы – пищи, которой японцы питаются почти всегда, прибавляя к ней гарнир из риса. Но судьба неумолима: пришлось ему скрепя сердце отложить заботу о своем пропитании на завтра.
Настала ночь. Паспарту вернулся в город, в туземный квартал. Бродил по улицам при свете пестрых фанарей, смотрел, как труппы бродячих комедиантов изощряются в своем чарующем искусстве, как то один, то другой уличный астролог собирает под открытым небом зевак, толпящихся вокруг его зрительной трубы. Затем он вновь вышел на набережную, увидел рейд, испещренный огнями: это рыбаки, выходя на лов, приманивали свою добычу светом пылающих смоляных факелов.
Наконец улицы опустели. На смену толпе появились военные дозоры. Офицеры караула, «Якунины», одетые в великолепные костюмы и окруженные толпой солдат, походили на важных дипломатов, и Паспарту, завидев очередной блистательный патруль, всякий раз ухмылялся, бормоча себе под нос:
– Ну-ну! Еще один японский посол собрался в Европу со свитой!
Глава XXIII
в которой нос Паспарту неимоверно удлиняется
Наутро Паспарту, измотанный, оголодавший, сказал себе, что должен перекусить во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше. У него, правда, оставалась одна возможность – продать часы, но он бы скорее с голоду умер, чем расстался с ними. Итак, судьба предоставляла бравому парню повод – сейчас или никогда! – использовать для дела свой если не сладостный, то весьма зычный голос, коим одарила его природа.
Он помнил несколько куплетов из французских и английских песен, с ними и решил попытать счастья. Японцы наверняка должны быть меломанами, недаром же у них все, что ни делается, сопровождается звуками цимбал, тамтамов и барабанов. Как же им после этого не оценить талант европейского виртуоза?
Только устраивать концерт в столь ранний час, пожалуй, не вполне уместно. Профаны, внезапно разбуженные его пением, чего доброго, не заплатят за это удовольствие звонкой монетой с изображением микадо.
Стало быть, Паспарту решил повременить несколько часов. Пока же он, слоняясь по улицам, размышлял о том, что слишком хорошо одет для бродячего певца. Возникла идея: обменять свой костюм на какие-нибудь лохмотья, более соответствующие его нынешнему положению. К тому же такой обмен не обойдется без доплаты, которую он сможет тут же потратить, чтобы заморить червячка.
Коль скоро решение было принято, оставалось только осуществить его. Но лишь ценой долгих поисков Паспарту удалось найти туземца-старьевщика, к которому он и обратился со своим предложением. Европейская одежда старьевщику приглянулась, и вскоре Паспарту вышел от него, обряженный в поношенное японское одеяние. На голове у него красовалось что-то вроде выцветшего от времени, съехавшего на сторону тюрбана. Зато в кармане позвякивало несколько монет.
«Ладно, – думал он, – представлю себе, будто я на маскараде!»
Первое, что сделал Паспарту в своем новом «японизированном» обличье, – зашел в чайный домик скромного вида и там подкрепился порцией дичи с несколькими пригоршнями риса, чувствуя себя человеком, который завтракает, зная, что обед станет для него проблемой, еще ждущей своего разрешения.
«Теперь, – сказал он себе, когда перекусил достаточно плотно, – важно не терять головы. Случая поменять эту рвань на что-нибудь еще более японское в будущем не предвидится. Значит, надо найти способ, как бы поскорее покинуть Страну Восходящего Солнца, о которой я намерен сохранить лишь самые удручающие воспоминания!»
И тут Паспарту пришло в голову попытать счастья на пакетботах, отплывающих в Америку. Он рассчитывал предложить свои услуги в качестве кока или слуги, не прося взамен ничего, кроме еды и права на бесплатный проезд. Ему лишь бы добраться до Сан-Франциско, там он найдет, как выпутаться. Сейчас самое главное – переплыть Тихий океан, эти четыре тысячи семьсот миль, отделяющие Японию от Нового Света.
Паспарту был не из тех, кто, приняв решение, откладывает дело в долгий ящик. Он тут же направился в порт. Но по мере того, как он приближался к докам, план, выглядевший поначалу таким простым, представлялся ему все более невыполнимым. С какой стати на борту американского пакетбота вдруг возникнет нужда в коке или слуге? И может ли он надеяться внушить доверие, заявившись туда в этом карнавальном наряде? Какие рекомендации предъявить? На кого сослаться?
Размышляя подобным образом, он вдруг заметил клоуна, который разгуливал по улицам Иокогамы, демонстрируя прохожим огромную афишу, возвещавшую по-английски:
ТРУППА ЯПОНСКИХ АКРОБАТОВ
ДОСТОПОЧТЕННОГО ВИЛЬЯМА БАТУЛЬКАРА!
ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
перед отъездом в Соединенные Штаты Америки!
АТТРАКЦИОН ДЛИННЫХ НОСОВ!
ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ БОГА ТЕНГУ!
ГВОЗДЬ СЕЗОНА!
– Соединенные Штаты Америки! – завопил Паспарту. – Это как раз для меня!
Онустремился вслед за человеком-афишей и, не отставая от него, вскоре опять оказался в японском квартале Иокогамы. Спустя четверть часа он увидел перед собой просторное строение, на крыше которого торчало несколько пучков пестрых лент, а внешние стены сверкали кричаще яркой росписью, являя взору изображение целой оравы циркачей, впрочем, без соблюдения законов перспективы.
Это было заведение достопочтенного Батулькара, наподобие американского Барнума являвшегося директором труппы скоморохов, жонглеров, клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов, которые, если верить афише, давали последние представления перед отъездом из империи Восходящего Солнца в Штаты.
Паспарту прошел под козырек этого балагана и, войдя, спросил, можно ли потолковать с мистером Батулькаром. Последний тут же появился собственной персоной.
– Чего надо? – спросил он, поначалу приняв визитера за туземца.
– Вам слуга не нужен? – вопросом на вопрос ответил Паспарту.
– Слуга? – вскричал собрат Барнума, поглаживая густейшую седоватую бородку. – У меня их двое, послушных, верных, они ни за что меня не покинут, хотя служат даром, им только и надо, чтобы я их кормил… А вот и они! – пояснил он, показывая собеседнику две мускулистые руки, обвитые жилами, толстыми, как струны контрабаса.
– Выходит, я вам не пригожусь? Никак?
– Никак.
– Черт возьми! А мне было бы так кстати поехать с вами!
– Вон оно что? – достопочтенный Батулькар фыркнул. – Да вы такой же японец, как я обезьяна! Зачем же вы так вырядились?
– Каждый одевается, как может.
– Что ж, верно. А вы француз, да?
– Да, парижанин из Парижа.
– Так вы, небось, умеете рожи корчить?
– Черт побери, – проворчал Паспарту, уязвленный тем, что сообщение о его национальности вызвало подобный вопрос, – мы, французы, и правда умеем гримасничать, но не лучше американцев!
– Это точно. Стало быть, как слуга вы мне не нужны, но я могу взять вас клоуном. Тут вот какое дело, старина: во Франции ценятся шуты-иностранцы, а за ее границами – французские шуты!
– А, понятно.
– Кстати, вы сильный?
– Особенно когда встаю из-за стола.
– А петь умеете?
– Да, – заявил Паспарту, который в свое время поучаствовал в нескольких уличных концертах.
– Но сможете ли вы петь, встав на голову так, чтобы на подошве вашей левой ноги вертелся волчок, а на подошве правой балансировала обнаженная сабля?
– Да запросто, черт возьми! – отвечал Паспарту, вспомнив фокусы, которые он проделывал в юные годы.
– Ну, то-то! Видите ли, тут больше ничего и не требуется, – обрадовался достопочтенный Батулькар.
Договор был заключен hic et nunc[4].
Наконец-то Паспарту нашел себе место! Его наняли в знаменитую японскую труппу с условием, что он будет делать все, что потребуют. Не такуж лестно, зато через неделю он уже будет плыть в Сан-Франциско.
Представление, так широковещательно объявленное достопочтенным Батулькаром, должно было начаться в три часа, и вскоре оглушительные инструменты японского оркестра – барабаны и тамтамы – уже грохотали у дверей балагана. Естественно, что у Паспарту не было времени выучить какую-нибудь роль, но он должен был подпирать своими могучими плечами большую человеческую пирамиду из «Длинных Носов» бога Тенгу. Этот «гвоздь программы» венчал серию номеров представления.
К трем часам зрители до отказа заполнили просторный балаган. Европейцы и местные жители, китайцы и японцы, мужчины, женщины, дети толпой устремились внутрь, занимая узкие скамьи и ложи напротив сцены. Музыканты разместились в глубине помещения, и оркестр в полном составе – гонги, тамтамы, трещотки, флейты, тамбурины и большие барабаны – грянул что было сил.
Само по себе зрелище было в том же роде, как любое другое представление акробатов. Однако надо признать, что японцы – лучшие в мире фокусники. Один из жонглеров, вооружась веером и маленькими клочками бумаги, изобразил – и как изящно! – бабочек, порхающих над цветами. Другой, выпуская из своей трубки струю благовонного дыма, быстро чертил ею в воздухе голубоватые слова, из которых складывалось приветствие в адрес уважаемой публики. Третий жонглировал зажженными свечами, задувал их, когда они пролеталиу его губ, снова зажигал одну о другую, ни на миг не прерывая своих завораживающих упражнений. Еще один проделывал самые невероятные трюки с вертящимися волчками: эти жужжащие игрушки, казалось, оживали в его руках, обретали независимость в своем безостановочном вращении, бегая то по чубуку трубки, то по остриям сабель и по тонким, как волосок, проволокам, протянутым от одного края сцены к другому. Они кружились, взлетая на стенки огромных стеклянныхчаш, скакали по ступенькам бамбуковой лестницы и разбегались во все углы, издавая при этом звуки различного тембра, создающие впечатление странное, но по-своему гармоническое. Фокусники даже жонглировали ими – они и в воздухе продолжали вертеться. Их подбрасывали деревянными ракетками, как воланы, а волчки, знай, вертелись. Их рассовывали по карманам, а когда вынимали оттуда, они все еще вертелись, пока пружинка их завода не обмякала, взметывая над ними под конец целый сноп бенгальских огней!
Бесполезно описывать здесь все увлекательные упражнения акробатов и гимнастов труппы. С изумительной четкостью они проделывали свои номера на лестнице, фокусы с шестом, шаром, бочками и прочие, но все же главным гвоздем программы были «Длинные носы»: такой потрясающе искусной эквилибристики Европа еще не знала.
Эти «Длинные носы» являли собой обособленное сообщество, состоящее под непосредственным покровительством бога Тенгу. Они носили одежду во вкусе средневековых глашатаев и прицепляли на плечи пару великолепных крыльев. Но их главным отличием был длинный приставной нос. Особенно примечательно то, как они им пользовались. Эти носы длиною в пять, шесть и даже десять футов изготавливали не иначе как из бамбука, причем по-разному: среди них встречались прямые и крючковатые, гладкие и пупырчатые. Носы надежно закреплялись на лицах, и все свои акробатические упражнения артисты производили с их помощью. Сейчас около дюжины поклонников бога Тенгу легли на спину, а их товарищи принялись резвиться на их носах, торчавших, словно громоотводы. Они прыгали, перелетали с одного носа на другой и выделывали при этом фокусы самые невероятные.
Как было заранее объявлено, в заключение публике будет продемонстрирована человеческая пирамида: полсотни «Длинных носов» изобразят колесницу Джаггернаута. Но вместо того, чтобы строить пирамиду, опираясь друг другу на плечи, артисты достопочтенного Батулькара должны были для этого пользоваться исключительно своими носами. А поскольку один из тех, кто занимал место в основании колесницы, из труппы ушел, Паспарту, как парню довольно ловкому и крепкому, было поручено заменить его.
Конечно, малый чувствовал, что его достоинство несколько ущемлено: он приуныл, когда пришлось – это так напоминало его бедную юность! – облачиться в украшенный разноцветными крыльями средневековый наряд, а тут ему еще приладили этот шестифутовый нос! Но, в конце концов, раз Паспарту суждено зарабатывать этим носом себе на хлеб, он решил смириться с таким украшением.
И вот он вышел на сцену, улегся рядом с теми из своих собратьев, кому полагалось изображать основание колесницы Джаггернаута. Распростершись навзничь на земле, все они устремили к небу свои носы. Вторая группа эквилибристов пристроилась на их концах, затем взгромоздилась третья, еще выше – четвертая, и скоро живое сооружение, державшееся только на кончиках бамбуковых носов, вознеслось до самого потолка.
Публика возликовала, аплодисменты становились все неистовее, звуки оркестра нарастали подобно грому, как вдруг пирамида зашаталась, теряя равновесие: один из базовых носов сплоховал, подвел, и все сооружение рассыпалось, как карточный домик…
Это случилось по вине Паспарту, который внезапно, оставив свой пост, без помощи крыльев перелетел через рампу и, вскарабкавшись на ту галерею, что справа, бросился к ногам одного из зрителей, крича:
– Ах! Мой хозяин! Хозяин!
– Это вы?
– Я!
– Что ж, мой мальчик, в таком случае пора на пакетбот!
Мистер Фогг, миссис Ауда, которая была с ним, и Паспарту поспешили прочь из цирка. Но в коридоре, ведущем к выходу, их настиг, кипя от гнева, достопочтенный Батулькар. Он кричал о нанесенном ущербе, требовал возмещения убытков. Филеас Фогг умерил его ярость посредством пачки банковых билетов. И в половине седьмого, перед самым отправлением американского пакетбота, мистер Фогг и миссис Ауда вступили на палубу судна, сопровождаемые Паспарту с крыльями за спиной и шестифутовым носом, который он второпях не успел содрать со своей физиономии!
Глава XXIV
где совершается плавание через Тихий океан
О том, что случилось, когда наши путешественники подплывали к Шанхаю, догадаться несложно. Сигналы «Танкадеры» были замечены с пакетбота, идущего в Иокогаму. Увидев, что флаг маленькой шхуны приспущен, капитан направил к ней свое судно. Через несколько минут Филеас Фоггуплатил за свой проезд условленную сумму, вручив Джону Бэнсби пятьсот пятьдесят фунтов стерлингов (13750 франков). Затем достопочтенный джентльмен, миссис Ауда и Фикс взошли на борт парохода, который тотчас же взял курс на Нагасаки и Иокогаму.
Утром 14 ноября, согласно расписанию прибыв в порт, Филеас Фогг, предоставив Фиксу отправиться по своим делам, поспешил на «Карнатик». Там, к великой радости миссис Ауды, а может быть, и своей, хотя он ничем ее не проявил, джентльмен узнал, что француз Паспарту вчера действительно высадился в Иокогаме.
Поскольку он в тот же вечер должен был отправиться в Сан-Франциско, Филеас Фогг незамедлительно пустился на поиски своего слуги. Тщетно обращался в английское и французское консульства, безрезультатно бродил по городским улицам, уже отчаялся найти Паспарту, но тут случай или, возможно, род предчувствия привел его в цирк достопочтенного Батулькара, Разумеется, он не узнал своего слугу в экзотическом обличье средневекового глашатая, но тот, распростертый на сцене навзничь, из этого положения разглядел на галерее своего хозяина. Тут-то он и не смог сохранить должную неподвижность и удержать свой нос в равновесии. Что за сим последовало, нам уже известно.
Все, о чем Паспарту еще не знал, он услышал теперь из уст миссис Ауды. Она рассказала и о том, как проходило плавание из Гонконга в Иокогаму на шхуне «Танкадера», и что с ними там был господин Фикс.
Услышав о Фиксе, Паспарту даже глазом не моргнул. Решил: еще не время рассказывать хозяину, что произошло между ним и полицейским инспектором. Поэтому в повествовании о своих похождениях он всю вину взял на себя и оправдывался только тем, что опиум в китайской курильне неожиданно свалил его с ног.
Холодно и молча выслушав этот рассказ, мистер Фогг открыл своему слуге кредит, достаточный, чтобы тот смог раздобыть себе здесь же, на пароходе, более приличную одежду. И точно: часа не прошло, как честный малый, избавившись от крыльев и носа, более ничем не напоминал циркача-почитателя бога Тенгу.
Пакетбот, направляющийся из Иокогамы в Сан-Франциско, принадлежал Тихоокеанской почтовой компании и назывался «Генерал Грант». Это был вместительный колесный пароход водоизмещением в две тысячи пятьсот тонн, хорошо оснащенный и быстроходный. Над его палубой непрерывно поднимался и опускался громадный балансир, одним концом соединенный со штоком поршня, другим – с кривошипом, который, преобразовывая прямолинейное движение во вращательное, сообщал его непосредственно оси гребных колес. «Генерал Грант» имел три мачты с косыми парусами, достаточно большими, чтобы значительно увеличивать скорость судна. Делая по двенадцати миль в час, пакетбот должен был пересечь Тихий океан за двадцать один день.
Итак, Филеас Фогг мог рассчитывать, что, прибыв в Сан-Франциско второго декабря, он доберется до Нью-Йорка одиннадцатого, а в Лондоне будет двадцатого, то есть на несколько часов раньше роковой даты – 21 декабря.
Пассажиров на пакетботе было довольно много: англичане, немало американцев, а также китайских кули, стремящихся в Америку. Было и несколько офицеров индийской армии, использовавших свой отпуск для того, чтобы совершить кругосветное путешествие.
Это плавание обошлось безо всяких тягостных сюрпризов со стороны океана. Пакетбот с его широкими гребными колесами и крепким, надежным такелажем почти не качало. Тихий океан оправдывал свое название. Мистер Фогг держался так же бесстрастно и столь же мало стремился к общению, как обычно. Его юная спутница чувствовала, что все крепче привязывается к этому человеку, и не только узами благодарности. Своим замкнутым, но таким по сути великодушным характером он производил на нее впечатление, всей силы которого она не сознавала и, почти того не ведая, давала волю своим чувствам, казалось, не имевшим ни малейшей власти над загадочным мистером Фоггом.
К тому же миссис Ауда горячо сочувствовала планам этого джентльмена. Ее тревожили препятствия, способные помешать успеху его путешествия. Она часто заговаривала об этом с Паспарту. Не лишенный прозорливости, он заглянул в сердце миссис Ауды, оно стало для него книгой, где можно порой читать между строк. Этот славный парень проникся теперь пламенной верой в своего хозяина, непрестанно расточал хвалы его честности, верности, благородству. Он также заверял миссис Ауду в благополучном завершении их путешествия, твердил, что самое трудное позади, они уже выбрались из таких фантастических краев, как Китай и Япония, возвращаются в цивилизованный мир. Теперь, чтобы закончить в срок эту немыслимую кругосветную затею, осталось только добраться поездом от Сан-Франциско до Нью-Йорка да проплыть через Атлантику от Нью-Йорка до Лондона.
Спустя девять дней после отплытия из Иокогамы Филеас Фогг объехал ровно половину земного шара.
В самом деле, ведь 23 ноября «Генерал Грант» пересек сто восьмидесятый меридиан – тот самый, который в южном полушарии соответствует расположению Лондона в северном. Правда, из восьмидесяти дней, имевшихся в его распоряжении, мистер Фогг уже истратил пятьдесят два, так что в запасе у него оставалось всего двадцать восемь дней. Но здесь надо заметить, что на полпути он находился лишь в отношении «разности меридианов», а по сути онуже одолел более двух третей намеченного маршрута. Сколько вынужденных зигзагов пришлось ему проделать между Лондоном и Аденом, Аденом и Бомбеем, Калькуттой и Сингапуром, Сингапуром и Иокогамой! Если бы вокруг земли можно было двигаться по пятидесятой параллели, на которой находится Лондон, весь путь составил бы около двенадцати тысяч миль, тогда как Филеасу Фоггу, зависящему от капризов транспорта, предстояло проехать двадцать шесть тысяч миль, из которых к этому дню, 23 ноября, онуже оставил позади примерно семнадцать с половиной тысяч. А теперь впереди у него лежала прямая дорога, и рядом больше не маячил Фикс, никто не чинил путешественникам препятствий!
Тогда же, 23 ноября, на долю Паспарту выпала большая радость. Тут надо вспомнить, как он уперся, отказавшись переставлять свои знаменитые фамильные часы с лондонского времени на время стран, по которым пролегал их путь, и объявив ложными показания всех часов, кроме его собственных. И вот настал день, когда его часы, стрелки которых он никогда не переводил ни вперед, ни назад, показали то же время, что и бортовые хронометры!
Само собой, Паспарту торжествовал. Хотел бы он знать, что теперь сказал бы Фикс, окажись он рядом.
«Вот же мошенник! – ворчал Паспарту себе под нос. – Наплел мне кучу вздора про меридианы, про солнце, про луну! Еще чего! Бывают же люди! Их послушать, так хоть скупай целый часовой магазин! А я так всегда был уверен, что солнце само приладится к моим часам!..»
Но вот о чем Паспарту не знал: будь циферблат его часов разделен на двадцать четыре часа, как на итальянских башенных часах, он не имел бы повода для такого ликования, ибо тогда стрелки его заветного прибора показывали бы девять вечера, то есть двадцать один час пополуночи предыдущего дня, вто время как на судовом хронометре было бы девять утра, то есть разница во времени была бы именно такая, какая существует между Лондоном и сто восьмидесятым меридианом.
Но если бы Фикс и оказался способен объяснить эту чисто физическую закономерность, Паспарту вряд ли был в состоянии это понять, а главное, принять. Да и в любом случае появись сейчас полицейский инспектор внезапно каким-то невозможным образом на палубе, Паспарту, имея все причины для гнева, завел бы с ним беседу о совсем других предметах и в манере далеко не столь академической.
Кстати, куда подевался Фикс, что он поделывал в это время?..
Фикс тоже был в пути, и не где-нибудь, а именно на борту «Генерала Гранта».
Прибыв в Иокогаму, сыщик оставил без присмотра мистера Фогга, которого он в течение дня рассчитывал отыскать снова, и поспешил к английскому консулу. Там ему наконец выдали ордер, который догонял его от самого Бомбея и был отправлен сорока днями раньше. Этот вожделенный ордер отплыл из Гонконга все на том же «Карнатике». Да, он так и думал! Нетрудно вообразить разочарование детектива, ведь ордер стал бесполезным!
Господин Фогг покинул английские владения! Теперь для его ареста нужен акт об экстрадиции!
«Что ж! – сказал себе Фогг, пережив первую вспышку гнева. – Здесь мой ордер бессилен, но в Англии он вновь вступит в действие. Этот мошенник, судя по всему, намерен вернуться на родину, он мнит, что сбил полицию со следа. Отлично. Там я его и накрою. Что до денег, даст Бог, от них еще что-нибудь останется! Правда, мой голубчик уже размотал по дороге больше пяти тысяч фунтов на путевые расходы, награды, суд, штрафы, слона и прочее… Ну, как бы там ни было, Английский банк не беден!»
Приняв решение не упускать злодея, сыщик тотчас погрузился на «Генерала Гранта». Онуже был на борту, когда появились мистер Фогг и миссис Ауда. К своему величайшему изумлению, он узнал и Паспарту, хоть и в костюме глашатая.
Он поспешил укрыться в своей каюте, чтобы избежать объяснения, которое могло все испортить. Сыщик надеялся, что в толпе пассажиров, достаточно многолюдной, он сумеет не попасться на глаза своему врагу, но настал день, когда они столкнулись на палубе нос к носу. Паспарту без долгих объяснений схватил Фикса за горло и, к величайшему удовольствию группы американцев, которые сразу принялись делать на него ставки, задал несчастному инспектору отменную трепку, как нельзя лучше демонстрирующую превосходство французской школы бокса над английской.
Кончив его дубасить, Паспарту почувствовал, что на него снизошло спокойствие и что-то вроде облегчения. Фикс был не в лучшем виде, но встал и, оглядев своего противника, холодно осведомился:
– Все, что ли?
– Пока все.
– Тогда потолкуем.
– Да чтобы я…
– Это в интересах вашего господина.
Такое хладнокровие, казалось, подчинило Паспарту, и они уселись вдвоем там же, где дрались, на носу пакетбота.
– Вы меня побили, – сказал Фикс. – Хорошо. А теперь послушайте. До сих пор я был противником мистера Фогга, но теперь я на его стороне.
– Наконец-то! – закричал Паспарту. – Значит, вы поняли, что он честный человек?
– Нет, – холодно отвечал Фикс. – Я считаю его мошенником… Тихо! Не дергайтесь, дайте мне договорить. Пока мистер Фогг находился на английской территории, я был заинтересован задержать его там до тех пор, пока не получу ордер на арест. Я делал для этого все, что мог. Я натравил на него бомбейских жрецов, напоил вас в Гонконге, разлучив с вашим хозяином и подстроив так, чтобы он пропустил пакетбот на Иокогаму…
Паспарту слушал, сжимая кулаки.
– Теперь, – продолжал Фикс, – мистер Фогг, видимо, возвращается в Англию? Что ж, я последую за ним. Но отныне я приложу столько же забот и стараний, устраняя с его пути все препоны, сколько я ранее прилагал, умножая их. Как видите, я меняю свой образ действий потому, что это в моих интересах. И заметьте: в ваших тоже, ведь только в Англии вы узнаете наверняка, кому служите – преступнику или порядочному человеку!
С величайшим вниманием выслушав речь Фикса, Паспарту пришел к убеждению, что сыщик на этот раз нисколько не лукавил.
– Итак, мы друзья? – спросил Фикс.
– Друзья? Ну уж нет, – отвечал Паспарту. – Союзники – еще куда ни шло, но с одним условием: если я только почую предательство, мигом сверну вам шею.
– Согласен, – инспектор полиции невозмутимо кивнул.
Через одиннадцать дней, 3 декабря, «Генерал Грант» вошел в залив Золотых Ворот. Путешественники сошли на берег в Сан-Франциско.
Мистер Фогг за это время не потерял и не выиграл ни одного дня.
Глава XXV
где дается беглое описание Сан-Франциско в день митинга
Было семь часов утра, когда Филеас Фогг, миссис Ауда и Паспарту ступили на американский континент, если можно так назвать плавучую пристань, на которую они высадились. Поднимаясь и опускаясь в зависимости от прилива и отлива, такая конструкция облегчает погрузку и выгрузку судов. Здесь пристают клиперы всех размеров, пакетботы всех стран, а также многоэтажные пароходы, курсирующие по реке Сакраменто и ее притокам. Тут же сваливают груды всевозможных товаров, отправляемых в Мексику, Перу, Чили, Бразилию, в Европу и Азию, а также на острова Тихого океана.
Паспарту вне себя от радости, что наконец достиг американской земли, счел своим долгом покинуть корабль не просто так, а исполнив по этому случаю сальто-мортале высшего класса. Но когда он с разгону прыгнул на причал, доски которого прогнили, настил не выдержал, и бедный парень едва не провалился. Вконец обескураженный тем, какой неловкостью обернулась его попытка с шиком приземлиться на новом континенте, бедняга испустил оглушительный вопль, заставив взлететь в воздух целую стаю напуганных бакланов и пеликанов – завсегдатаев плавучих пристаней.
Мистер Фогг, едва сойдя с парохода, осведомился, в котором часу отходит ближайший поезд в Нью-Йорк. Оказалось, в шесть вечера. Стало быть, им предстояло провести в столице штата Калифорния целый день. Филеас Фогг нанял экипаж и сел в него вместе с миссис Аудой.
Паспарту вскочил на козлы, и экипаж – три доллара за поездку – покатил к гостинице «Интернациональ».
Со своего высоко расположенного сиденья Паспарту с любопытством озирал большой американский город: широкие улицы, низкие, ровно, как по линеечке, выстроенные дома, церкви и храмы в англосаксонском готическом стиле, гигантские доки, склады, похожие на дворцы, одни деревянные, другие из кирпича. Улицы были заполнены каретами, омнибусами, трамваями экипажами узкоколеек на конной тяге, а тротуары – многолюдной толпой не только американцев и европейцев, но также и китайцев, индейцев – короче, всех тех, из кого состояло двухсоттысячное население разноплеменного города.
Это зрелище в достаточной мере удивило Паспарту. Перед ним был тот легендарный город, где еще в 1849 году хозяйничали бандиты, поджигатели, убийцы. Весь деклассированный сброд стекался сюда, словно в бескрайнюю землю обетованную, на поиски золотых самородков. Здесь они играли в карты на золотой песок, держа в одной руке нож, в другой – револьвер. Но «доброе старое время» прошло. Теперь Сан-Франциско выглядел просто большим торговым городом. Часовые бдительно несли службу на высокой башне ратуши, возвышавшейся над всеми улицами и проспектами, которые пересекались под прямым углом; между ними здесь и там курчавились зеленеющие скверы, а дальше простирался китайский квартал, казалось, перенесенный сюда в игрушечной шкатулке прямо из Небесной Империи. Но ни сомбреро, ни красных рубашек, которые некогда носили золотоискатели, здесь больше не было, так же, как индейцев, украшенных перьями. Всюду – черные фраки и шелковые цилиндры джентльменов, снедаемых жаждой деятельности: такие в этом городе прямо кишели. Некоторые улицы, в том числе Монтгомери-стрит, по значению сопоставимая с лондонской Риджент-стрит, Итальянским бульваром в Париже и нью-йоркским Бродвеем, изобиловали шикарными магазинами, чьи витрины манили покупателя товарами со всех концов света.
Когда Паспарту вошел в «Интернациональ», ему почудилось, будто он и не выезжал из Англии. Нижний этаж гостиницы занимали громадный бар и нечто вроде бесплатного буфета, открытого для всех проходящих мимо. Вяленым мясом, устричным супом, печеньем, сыром-честером клиент мог угоститься, не доставая кошелька. Платили только за напитки – эль, портвейн или херес, если кому-нибудь приходило в голову освежиться. Такой порядок показался Паспарту «очень американским».
Гостиничный ресторан отличался комфортом. Мистер Фогг и миссис Ауда сели к столу, и негры-официанты, с ног до головы в черном, подали им обильное угощение на крошечных лилипутских блюдечках.
После завтрака Филеас Фогг в сопровождении миссис Ауды покинул отель и отправился в контору английского консула, чтобы завизировать свой паспорт. На улице джентльмена ждал его слуга. Он спросил, не надо ли, прежде чем пускаться в путь по Тихоокеанской железной дороге, предусмотрительности ради обзавестись несколькими дюжинами карабинов Энфилда или кольтов: он слышал, что индейцы сиу и пауни, подобно заурядным испанским грабителям, останавливают поезда. Мистер Фогг считал, что это совершенно излишняя предосторожность, но позволил Паспарту действовать, как ему заблагорассудится. Сам же продолжил свой путь к английскому консульству.
Но не успел Филеас Фогг пройти и двух сотен шагов, как «по воле редкостного случая» встретил Фикса. Инспектор выразил по этому поводу чрезвычайное изумление. Как?! Неужели они с мистером Фоггом пересекли Тихий океан на одном судне, так ни разу и не встретившись на борту? Как бы то ни было, Фикс заявил, что для него большая честь снова видеть джентльмена, которому он столь многим обязан. А так как дела призывают его в Европу, он был бы весьма рад продолжить путешествие в таком приятном обществе.
Джентльмен отвечал, что это будет честью для него, и Фикс, который стремился не терять Фогга из виду, попросил разрешения присоединиться к ним, чтобы вместе осмотреть этот любопытный город. Никто ничего не имел против.
И вот миссис Ауда, Филеас Фогг и Фикс принялись блуждать по улицам втроем. Вскоре они забрели на Монтгомери-стрит, где увидели огромное стечение народа. И на тротуарах, и посреди мостовой, хотя движение омнибусов и конок не прекращалось, и на трамвайных рельсах, а также у порога магазинов, в окнах и даже на крышахдомов шевелилась толпа. Среди этого неисчислимого скопления публики сновали люди-афиши. По ветру развевались флажки и знамена. Со всех сторон раздавались крики:
– Да здравствует Кэмерфильд!
– Мэндибою – ура!
Это был митинг. По крайней мере, так подумал Фикс. Этой мыслью он поделился с мистером Фоггом, прибавив:
– Нам, сударь, пожалуй, лучше бы в эту кашу не соваться. Там только и можно, что схлопотать ни за что ни про что удар кулаком.
– Ваша правда, – отвечал Филеас Фогг, – кулачные удары, хотя бы и политизированные, остаются кулачными ударами.
Фикс счел уместным улыбнуться этому замечанию, затем они с миссис Аудой и Филеасом Фоггом, чтобы их не затолкали в толпе, взошли на верхнюю площадку лестницы, которая вела на террасу, расположенную над Монтгомери-стрит. Перед ними, на другой стороне улицы, между складом угольщика и лавкой торговца керосином, под открытым небом возвышалась трибуна, к ней-то, видно, и стекались людские потоки.
Однако в честь чего митинг? По какому поводу его затеяли? Филеас Фогг не имел об этом ни малейшего понятия. Шла ли речь о назначении высокопоставленного военного или гражданского чиновника, о выборах главы штата или члена конгресса? Судя по чрезвычайному возбуждению, охватившему город, можно было предположить все, что угодно.
В этот момент среди толпы возникло заметное оживление. Все руки взметнулись в воздух. Некоторые, крепко сжатые в кулак, похоже, как-то очень быстро поднимались и опускались среди неумолкающих криков – вот уж поистине энергичная манера выражать свои политические симпатии. Толпа бушевала, мечась туда-сюда. Знамена шатались, они то исчезали на мгновение, то появлялись вновь, изодранные в клочья. Волнение толпы докатилось до лестницы, и наши герои могли наблюдать сверху, как вся масса человеческих голов подавалась то вперед, то назад, словно море под внезапно налетающим шквалом. Число черных цилиндров уменьшалось на глазах, а большинство тех, что еще мелькали в людской гуще, похоже, утеряли высоту, свойственную этому головному убору.
– Да, сомнения нет, это митинг, – промолвил Фикс. – И вопрос, который его спровоцировал, наверняка, из самых животрепещущих. Не удивлюсь, если окажется, что здесь замешано Алабамское дело и претензии к Англии, хотя там все уже решено.
– Возможно, – невозмутимо обронил мистер Фогг.
– Как бы то ни было, – продолжал Фикс, – здесь болеют за двух соперников: достопочтенный Кэмерфильд против достопочтенного Мэндибоя.
Миссис Ауда, опираясь на руку Филеаса Фогга, изумленно взирала на эту бурную сцену, между тем как Фикс, обратившись к одному из стоявших рядом, хотел было спросить, что за причина этого народного смятения. Но тут движение в толпе еще усилилось, крики «ура!», сдобренные бранью, грянули с новой силой. Древки флагов превратились в наступательное оружие. Рук не стало видно – всюду мельтешили одни сплошные кулаки. На крышах остановившихся карет и застрявших в пробке омнибусов граждане обменивались нешуточными тумаками. В ход пошло все, что способно послужить метательными снарядами. Сапоги и башмаки описывали в воздухе весьма впечатляющие траектории. Среди воплей толпы, кажется, послышалось даже несколько револьверных выстрелов – как последних аргументов в деле утверждения национальных традиций.
Докатившись до лестницы, драка уже захлестывала ее нижние ступени. Похоже, одна из партий отступала, но неискушенным зрителям было невдомек, кто берет верх: Мэндибой или Кэмерфильд.
– Думаю, нам было бы разумнее убраться отсюда, – сказал Фикс. Сыщику совсем не улыбалось, чтобы «его вора» зашибли случайным ударом или впутали в скверную историю. – Если во всем этом как-нибудь замешана Англия, в нас, чего доброго, узнают англичан и могут здорово помять в этой свалке!
– Английский гражданин… – начал было Филеас Фогг.
Но докончить фразу английскому джентльмену помешали. За его спиной, на площадке перед лестницей, раздались ужасающие вопли:
– Ура! Гип-гип-ура Мэндибою!
Это прибыл на подмогу свежий отряд болельщиков названной персоны, потеснив с фланга сторонников Кэмерфильда.
Мистер Фогг, миссис Ауда и Фикс оказались между двух огней. Уклоняться от боя было поздно. Люди, вооруженные тростями со свинцовыми набалдашниками и кастетами, напирали на них неудержимым потоком. Филеаса Фогга и Фикса, заслонявших молодую женщину, сильно помяли. Флегматичный, как всегда, мистер Фогг пробовал отбиваться посредством того естественного оружия, которым по милости природы владел каждый англичанин. Но тщетно. Субъект самого богатырского сложения с рыжей бородкой и багровым лицом, похоже, предводитель этой банды, занес над мистером Фоггом свой жуткий кулак, и джентльмену бы не поздоровилось, если бы не Фикс, самоотверженно принявший удар вместо него. Огромная шишка тотчас же вскочила у детектива под шелковым цилиндром, а последний превратился в простую шапочку.
– Янки! – обронил мистер, уничтожив своего противника взглядом, исполненным глубочайшего презрения.
– Английский хлюпик! – фыркнул тот.
– Мы еще встретимся!
– Когда вам угодно! Ваше имя?
– Филеас Фогг. А ваше?
– Полковник Стэмп Дабл-ю. Проктор.
Тут накатила очередная волна людского моря, Фикса сбили с ног. Когда же он поднялся, его одежда была изодрана. Дело обошлось без серьезных ранений, но дорожное пальто сыщика распалось на две неравные части, а брюки приобрели сходство с теми штанами, из которых некоторые индейцы, прежде чем их надеть, вырезают все, что меж штанинами, – ничего не поделаешь, это для них вопрос моды. Зато миссис Ауда была по сути избавлена от неприятностей, пострадал один Фикс, получивший удар полновесным полковничьим кулаком.
– Спасибо, – сказал инспектору мистер Фогг, когда они выбрались из толпы.
– Не за что, – отвечал Фикс, – Однако пойдемте.
– Куда?
– В магазин готового платья.
Этот визит действительно был неотложной надобностью. Костюмы Филеаса Фогга и Фикса превратились в такие лохмотья, как будто эти два джентльмена подрались, себя не пощадив, в честь достопочтенных Кэмерфильда и Мэндибоя.
Час спустя оба уже были прилично одеты и обзавелись новыми шляпами. А уж потом вернулись в «Интернациональ».
Там своего хозяина уже ждал Паспарту, вооруженный полудюжиной шестизарядных капсюльных револьверов-кинжалов. Когда рядом с мистером Фоггом он заметил Фикса, лицо его омрачилось. Но миссис Ауда успокоила парня, в двух словах рассказав ему о случившемся. По-видимому, Фикс и вправду больше не был врагом и даже стал союзником. Паспарту убедился, что детектив держит свое слово.
Покончив с обедом, вызвали экипаж, который должен был отвезти на вокзал путешественников и их пожитки. Садясь в него, мистер Фогг спросил Фикса:
– Вы больше не видели этого полковника Проктора?
– Нет.
– Я вернусь в Америку и найду его, – холодно произнес мистер Фогг. – Не подобает, чтобы британский гражданин позволил так с собой обращаться.
Инспектор, усмехнувшись, промолчал. Как видно, мистер Фогг относился к той категории англичан, которые не допускают дуэли у себя на родине, но за границей, если надо защитить свою честь, могут и подраться.
Было без четверти шесть, когда путешественники прибыли на вокзал и застали поезд уже готовым к отправлению. Входя в вагон, мистер Фогг заметил железнодорожного служащего и подозвал его, чтобы спросить:
– Друг мой, сегодня в Сан-Франциско произошли какие-то волнения, не так ли?
– Обычный митинг, сударь, – отвечал железнодорожник.
– Но мне показалось, что на улицах царило чрезвычайное оживление.
– Да нет же, просто митинг. Предвыборный.
– Главнокомандующего выбирали? – спросил мистер Фогг.
– Нет, мирового судью.
Удовлетворившись этим ответом, мистер Фогг вошел в вагон, и поезд помчался на всех парах.
Глава XXVI
где рассказано о путешествии в экспрессе Южной Тихоокеанской железной дороги
«От океана до океана» – так американцы называют великую железную дорогу, пересекающую Соединенные Штаты в самом широком месте их территории.
По сути она разделена надвое: на Южную Тихоокеанскую дорогу между Сан-Франциско и Огденом и Тихоокеанскую – между Огденом и Омахой. Там сходятся пять железнодорожных линий, обеспечивающих регулярную связь Омахи с Нью-Йорком.
Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско теперь соединены непрерывной металлической веткой длиной не менее чем в три тысячи семьсот восемьдесят шесть миль. Между Омахой и Тихим океаном железная дорога пересекает местность, часто еще посещаемую индейцами и дикими зверями, – обширную территорию, которую около 1845 года начали заселять мормоны, изгнанные из Иллинойса.
Некогда даже при самых благоприятных обстоятельствах на путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка тратили шесть месяцев. Теперь для этого требуется семь дней.
В 1862 году наперекор противодействию депутатов южных штатов, которые хотели, чтобы железная дорога проходила южнее, рельсовый путь был намечен между сорок первой и сорок второй параллелями. Доброй памяти президент Линкольн лично заложил его начало в городе Омахе (штат Небраска). Работы были начаты без промедления и велись с чисто американской деловитостью, без бюрократизма и бумажной волокиты. Быстрота строительства ни в коей мере не должна была наносить ущерб прочности и надежности дороги. Ее прокладывали в прерии, ежедневно продвигаясь еще на полторы мили. Локомотив доставлял рельсы, нужные для завтрашних работ, по тем, что были уложены накануне, и двигался таким образом все дальше по мере того, как удлинялся рельсовый путь.
Тихоокеанская железная дорога многократно ветвится: в штатах Айова, Канзас, Колорадо и Орегон. От Омахи она идет вдоль левого берега реки Платт до устья ее северного рукава, затем сворачивает к югу, пересекает горы Ларами, Уосатчский горный хребет, огибает Соленое озеро, ведет к Солт-Лейк-Сити, столице мормонов, затем углубляется в долину Туилла, далее по американской пустыне мимо Кедровой горы и хребтов Гумбольдта достигает Гумбольдт-ривер, Сьерры-Невады, Скалистых гор и по долине Сакраменто следует к Тихому океану. При этом на покатых участках этой трассы, даже там, где она пересекает Скалистые горы, уклон не превышает ста двенадцати футов на милю.
И вот такую долгую транспортную артерию поезда пробегают за семь дней, что и позволит мистеру Фоггу (по крайней мере, он на это надеялся) 11 декабря сесть в Нью-Йорке на пакетбот, идущий в Ливерпуль.
Вагон, где расположился Филеас Фогг, напоминал длинный омнибус на двух четырехколесных платформах, позволяющих свободно миновать некрутые повороты. Купе не было: перпендикулярно центральной оси располагалось по два ряда кресел, между ними оставался проход, ведущий в туалет и к иным подсобным помещениям, имевшимся в каждом вагоне. Между собою вагоны сообщались при помощи площадок, такчто пассажиры могли свободно переходить из одного конца состава в другой. В их распоряжении были вагоны-салоны, вагоны-рестораны, вагоны-террасы, вагоны-кофейни. Только вагонов-театров не хватало. Но, надо полагать, в один прекрасный день появятся и они.
Между вагонами непрестанно сновали газетчики, продавцы книг, разносчики напитков, сигар, продовольственных и прочих товаров. В покупателях недостатка не было.
От Окленда поезд отошел в шесть часов вечера. Уже стемнело – ночь выдалась темная, холодная, небо заволокли тучи, угрожающие снегопадом. Поезд шел не слишком быстро. Если принять в расчет остановки, он делал не больше пяти миль в час. Впрочем, такая скорость должна была позволить ему пересечь Соединенные Штаты за установленное время.
В вагоне путешественники разговаривали мало. К тому же их скоро стало клонить в сон. Паспарту сидел рядом с полицейским инспектором, но не разговаривал с ним. В их отношениях после недавних событий наступило заметное охлаждение. Больше – ни малейшей симпатии, никакой откровенности. Фикс ни в чем не изменил своей манеры общения, но Паспарту, напротив, стал предельно сдержанным и при малейшем подозрении был готов придушить бывшего друга.
Через час после отправления поезда пошел снег – к счастью, мелкий. Такой не мог замедлить ход состава. Но за окнами уже стало невозможно разглядеть что-либо, кроме белой нескончаемой пелены, на фоне которой клубы паровозного дыма казались грязновато-серыми.
В восемь часов проводник, войдя в вагон, объявил пассажирам, что пора спать. Поскольку это был «спальный» вагон, он за несколько минут и впрямь превратился в дортуар. Спинки кресел откинулись, сиденья при помощи целой системы приспособлений преобразились в заботливо оборудованные спальные места, в несколько секунд возникли кабинки, и вскоре каждый пассажир получил в свое распоряжение удобную постель, защищенную от нескромных взглядов плотной занавеской. Простыни были белоснежны, подушки мягкие. Оставалось только лечь спать, все так и сделали, чувствуя себя, словно в каюте комфортабельного пакетбота, а поезд между тем на всех парах мчался по землям штата Калифорния.
Область, простирающаяся между Сан-Франциско и Сакраменто, по преимуществу равнинная. Эта часть железной дороги зовется Центральной Тихоокеанской; она начинается от Сакраменто и ведет на восток, где пересекается с линией, идущей от Омахи. От Сан-Франциско до столицы Калифорнии дорога идет прямиком на северо-восток вдоль реки Америкэн-ривер, впадающей в залив Сан-Пабло. Сто двадцать миль, разделяющих эти большие города, поезд прошел за шесть часов, а к полуночи, когда пассажиры еще видели первый сон, он уже прибыл в Сакраменто. Вот почему этот весьма значительный город, столица штата Калифорния, так и не предстал взору пассажиров: они не увидели ни его прекрасных набережных, ни широких улиц, ни его великолепных отелей, ни скверов, ни церквей.
Отойдя от Сакраменто, поезд миновал станции Джанкшн, Роклин, Оберн, Кдлфакс и углубился в горный массив Сьерра-Невада. Когда он оставил позади станцию Сиско, было уже семь утра. Час спустя спальный вагон вновь превратился в обычный, теперь путешественники могли любоваться из окон живописными ландшафтами этого гористого края. Между тем железная дорога, подчиняясь капризам Сьерры, то ползла вверх по склонам, то словно повисала над пропастью, то прихотливо извивалась, избегая слишком крутых поворотов, то ныряла в узкие ущелья, откуда, казалось, и выхода никакого не было. Паровоз сверкал, словно церковная дароносица, со своим посеребренным колоколом, с большим фонарем, который отбрасывал желтоватый искусственный свет, и предохранительным, так называемым «антикоровьим» выступом, торчащим впереди как огромная шпора. Его свистки и гудки смешивались с ревом потоков и водопадов, а выпускаемые клубы дыма путались в темных еловых кронах.
Туннели на этом участке пути встречались редко, мостов не было. Железная дорога огибала горные склоны, не ища кратчайшего прямого пути между двумя населенными пунктами, не бросая вызов природе.
Около девяти поезд миновал долину Карсон и вошел в пределы штата Невада, неизменно следуя в северо-восточном направлении. В полдень он отошел от Рено, где пассажиры успели позавтракать, воспользовавшись двадцатиминутной остановкой.
После этой станции железная дорога несколько миль идет к северу вдоль берега реки Гумбольдт-ривер. Затем она поворачивает на восток и следует дальше, не удаляясь от речного берега, к горам Гумбольдта, расположенным почти у самой восточной оконечности штата Невада, где река берет свое начало.
После завтрака мистер Фогг, миссис Ауда и их спутники снова заняли свои места в вагоне. Все четверо – молодая женщина, Филеас Фогг, Фикс и Паспарту, – расположившись с удобством, любовались разнообразными ландшафтами, проплывающимиунихпередглазами: обширными прериями, горами, что высились на горизонте, бурными пенистыми ручьями. Порой вдали, словно живая стена, темнело большое стадо бизонов. Это бессчетное воинство жвачных часто становится непреодолимой преградой для поездов. Случается, эти животные тысячами скапливаются там, где проложены железнодорожные пути, и топчутся по ним порой в течение несколькихчасов. Тогда паровозу приходится останавливаться и ждать, когда бизоны освободят ему дорогу.
Именно это произошло и на сей раз. Около трех часов дня путь составу преградило стадо в десять или двенадцать тысяч голов. Локомотив, замедлив движение, попытался было вклиниться в плотную живую стену, раскроить ее своей «шпорой», но в конце концов волей-неволей остановился перед этим массивным препятствием.
Пассажиры смотрели на этих жвачных, которых американцы ошибочно именуют буйволами, а те преспокойно шли себе да шли, лишь издавая порой громоподобное мычание. Они повыше европейских быков, короткохвосты, коротконоги, крутой бизоний загривок образует своего рода мускульный горб, рога широко расставлены, шерсть на голове и шее длинная, она достигает спины, ниспадая, как грива. О том, чтобы остановить их лавину, нечего было и думать. Уж коли бизоны избрали то или иное направление, они так и прут, никакая сила не заставит их свернуть с пути, скорректировать свой маршрут хотя бы отчасти. Нет такой плотины, что способна сдержать этот упрямый и мощный поток.
Столпившись на площадках между вагонами, пассажиры наблюдали это любопытное зрелище. Только Филеас Фогг, которому полагалось бы изнывать от нетерпения более всех, остался на своем месте, с бесстрастием философа ожидая, когда бизонам заблагорассудится убраться с рельсов. Зато Паспарту был не на шутку взбешен задержкой, вызванной нашествием животных. Дай ему волю, так бы и разрядил в них весь боезапас своих револьверов.
– Что за страна! – возмущался он. – Где это видано, чтобы самые обычные быки останавливали поезда? Полюбуйтесь! Нет того, чтобы хоть поспешить, сообразить, что задерживают движение! Этак важно шествуют, тоже мне процессия! Черт побери! Хотел бы я знать, предусмотрел ли мистер Фогг в своих планах эту помеху? А машинист куда смотрит, трус несчастный? Кишка тонка двинуть паровоз прямо на этих наглых тварей!
Однако машинист даже не подумал сокрушить такую преграду силой, что было весьма благоразумно с его стороны. Первых бизонов, в которых бы врезалась «шпора» локомотива, несомненно, раздавило бы, но при всей своей мощи машина вскоре неминуемо застряла бы в месиве их тел и сошла с рельсов – тут уж крушение гарантировано.
Лучше было запастись терпением и ждать, чтобы потом наверстать потерянное время, увеличив скорость. Бизонье шествие заняло три долгих часа, и путь освободился лишь к ночи. В сумерках, когда последние животные все еще брели через рельсы, головная часть текущего на юг громадного стада уже скрылась за горизонтом.
Таким образом, поезд нырнул в ущелье горного массива Гумбольдта только в восемь. В половине десятого он выехал на территорию штата Юта, в районе Большого Соленого озера, туда, где расположена не лишенная интереса страна мормонов.
Глава XXVII
в которой Паспарту со скоростью двадцать миль в час проходит курс истории мормонов
За ночь с пятого на шестое декабря поезд, двигаясь в юго-восточном направлении, прошел около пятидесяти миль, после чего повернул на северо-восток и устремился к Большому Соленому озеру.
Около девяти часов утра Паспарту вышел на площадку вагона подышать свежим воздухом. Было морозно, небо покрывали серые тучи, но снег прекратился. Солнечный диск, восходя в тумане, казался больше обычного. Он смахивал на гигантскую золотую монету, и Паспарту занялся было подсчетом его стоимости в фунтах стерлингов, но тут внезапное появление довольно странной фигуры отвлекло нашего героя от сего глубокомысленного занятия.
Этот тип сел в поезд на станции Элко. Он был долговяз, смугл, с черными усами, в черных чулках, черной шелковой шляпе, черном жилете и черных панталонах, на нем были белый галстук и лайковые перчатки. Похоже, из духовных лиц. Он прошел по вагонам из конца в конец поезда, с помощью облаток для запечатывания писем расклеивая на дверях каждого вагона объявления, писанные от руки.
Паспарту подошел к одному из них и прочел: «Досточтимый «старец» Уильям Хитч, мормон-миссионер, пользуясь тем, что оказался в поезде № 48, между одиннадцатью часами и полуднем прочтет в вагоне № 117 проповедь, посвященную мормонизму. Он приглашает на нее всех джентльменов, испытывающих потребность приобщиться к познанию таинств религии „святых последних дней“».
– Конечно, надо пойти, – сказал себе Паспарту, знавший о мормонах только одно: их общежитие основано на многоженстве.
Новость быстро распространилась по вагонам. Пассажиров в поезде было человек сто. Из них более тридцати, заинтересовавшись обещанной проповедью, к одиннадцати часам собрались в 117-м вагоне и уселись на скамейки. Паспарту расположился в первом ряду прихожан. Что до его хозяина и Фикса, ни тот, ни другой не сочли нужным побеспокоить себя ради такой оказии.
В назначенный час «старец» Уильям Хитч встал и раздраженно, будто ожидая, что ему станут перечить и заранее этим возмущенный, закричал:
– Говорю вам, что Джо Смит – мученик и брат его Хайрем – мученик! А гонения правительства Штатов, которое ополчилось на пророков, сделают мучеником и Бригхэма Янга. Кто осмелится утверждать противное?!
Возразить миссионеру, чья экзальтация странно противоречила невозмутимому от природы выражению его лица, никто не рискнул. Его гнев наверняка объяснялся тем, что община мормонов в настоящее время подвергалась тяжким испытаниям. Власти Соединенных Штатов прилагали немалые усилия, чтобы образумить этих неукротимых фанатиков. Так, Бригхэм Янг был заключен в тюрьму как смутьян и многоженец, а затем штат Юта захватили и подчинили федеральным законам. С этого времени ученики пророка удвоили свои усилия: они готовили мятеж, но пока ограничивались обличительными речами, направленными против конгресса.
Как видим, «старец» Уильям Хитч в своем прозелитизме[5] зашел так далеко, что даже железную дорогу использовал в этих целях.
И вот он принялся, украшая свою речь бурной жестикуляцией и завываниями, повествовать о движении мормонов, начав с библейских времен. Собравшиеся услышали историю о том, «как в Израиле пророк из колена Иосифова провозгласил постулаты новой религии и завещал их проповедь своему сыну Морому, как спустя столетия эту бесценную книгу, начертанную египетскими письменами, перевел Джозеф Смит-младший, фермер из штата Вермонт, явленный миру в 1825 году как пророк, носитель мистического знания, и наконец, как небесный вестник, представший пред ним в светозарном лесу, передал ему повеления Господни».
Когда дело дошло до этих чудес, кое-кто из слушателей покинул вагон, найдя ретроспекции[6] миссионера не слишком интересными, но Уильям Хитч продолжил свой рассказ. Он поведал о том, «как Смит-юниор привлек к исполнению миссии своего отца, братьев и нескольких учеников и вместе с ними основал религию Святых последних дней, признанную затем не только в Америке, но и в Англии, Германии и Скандинавии, которая ныне насчитывает среди своих приверженцев и ремесленников, и многих людей свободных профессий. Они потом организовали колонию в Огайо, воздвигли храм, что обошлось в двести тысяч долларов, и построили в Киркленде свой город, а также Уильям Хитч поведал о том, как Смит стал предприимчивым банкиром и получил от простого человека, чьим занятием была демонстрация мумий, папирус, собственноручно исписанный Авраамом и другими египетскими знаменитостями».
Повествование вышло несколько длинноватым, и ряды слушателей вновь поредели, так что аудиторию миссионера составляли теперь человек двадцать, не более.
Но «старец», презрев это обстоятельство, пустился в детальное описание банкротства, постигшего Джо Смита в 1837 году, когда разоренные акционеры вымазали избранника Господа дегтем и вываляли в перьях, однако тот «спустя несколько лет вновь объявился, как никогда исполненный достоинств и еще более заслуженно почитаемый, чтобы возглавить трехтысячную процветающую общину в Индепенденсе, в штате Миссури, но затем, преследуемый злобой неверных, был вынужден бежать на Дальний Запад».
В вагоне к этому моменту все еще оставался десяток слушателей, в том числе и наш славный Паспарту. Он внимал «старцу», развесив уши, благодаря чему узнал, как «после долгих гонений Смит объявился в Иллинойсе и в 1839 году основал на берегах Миссисипи град Наву-Благолепный с населением до двадцати пяти тысяч душ, сам же стал его мэром, верховным судьей и главнокомандующим, а в 1843-м выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, но в конце концов его заманили в ловушку в Карфагене, он был брошен в темницу и убит бандой неизвестных в масках…». Когда повествователь добрался до трагического финала, ему внимал один-единственный слушатель, и «старец», глядя в лицо Паспарту (ибо это был он), завораживая его пылкой речью, возвестил, что через два года после убийства Смита его преемник, боговдохновленный пророк Бригхэм Янг, покинул град Наву и обосновался на берегах Соленого озера; здесь, на великолепной земле, среди плодородныхдолин Юты, что раскинулись на пути переселенцев, стремящихся в Калифорнию, он основал новую общину, которая благодаря обычаям мормонского многоженства неимоверно разрослась.
– Вот почему, – заявил Уильям Хитч, – конгресс обуяла зависть к нам! Да, именно поэтому войска Соединенных Штатов топчут поля Юты, а нашего вождя, пророка Брайама Юнга, разнузданно поправ справедливость, бросили в тюрьму! Но неужели мы уступим насилию? Никогда! Изгнанные из Вермонта, из Иллинойса и Огайо, вытесненные из Юты и Миссури, мы еще найдем где-нибудь тот вольный край, где раскинем наши шатры! А вы, мой верный ученик? – тут «старец» устремил свирепый взор на своего единственного слушателя. – Увижу ли и ваш шатер под сенью нашего стяга?
– Нет! – вскричал храбрый Паспарту и пустился наутек, предоставив этому одержимому проповедовать в пустыне.
Пока он вещал, поезд шел на хорошей скорости и около половины первого достиг северо-западной оконечности Соленого озера. Отсюда взгляду открывается вид на огромное водное пространство, названное также Мертвым морем, в которое впадает американский Иордан. Озеро бесподобно, его обрамляют живописные дикие утесы, на их широких основаниях поблескивает белый соляной налет, до самой водной глади. Это пространство встарь было еще обширнее, но берега, со временем становясь круче от наносов, наступали на озеро, так что его поверхность несколько сузилась, а глубина возросла.
Соленое озеро имеет около семидесяти миль в длину и тридцать пять в ширину и расположено на высоте трех тысяч восьмисот футов над уровнем моря. Этим оно отличается от Битумного озера, глубина которого больше на тысячу двести футов, к тому же первое – более соленое и содержит в воде до четверти твердых веществ от общей массы. Удельный вес здешней воды – 1170, тогда как для дистиллированной он равен 1000. Поэтому рыба здесь не живет. Если ее и заносит сюда из Иордана, Вебера и других рек, она быстро погибает. Но россказни о том, будто плотность воды в озере такова, что человек не может в него погрузиться, – неправда.
Сельская местность в прибрежных районах великолепно возделана: мормоны знают толк в земледелии. Куда ни глянь – ранчо, загоны для домашнего скота, поля ячменя, кукурузы, сорго, пышные луга, повсюду изгороди из шиповника, зарослей акации и молочая – так выглядел бы этот край через шесть месяцев, но в описываемое время года земля скрывалась под тонким слоем запорошившего ее снега.
В два часа дня поезд остановился на станции Огден, и пассажиры с него сошли. Отправление ожидалось только в четыре часа, так что у мистера Фогга, миссис Ауды и их спутников было время съездить в «Город святых» по коротенькому ответвлению, ведущему туда из Огдена. Двухчасов вполне достаточно для осмотра этого типичного американского города: как таковой он построен по единому стандарту Штатов – в виде гигантской шахматной доски, расчерченной длинными холодными линиями и подавляющей, как выразился Виктор Гюго, «унылой мрачностью прямыхуглов». Основатель «Города святых» не смог преодолеть характерного англо-саксонского стремления к примитивной симметрии. В этой удивительной стране, жители которой явно не доросли до ее установлений, все делается напрямую и «сплеча»: города, дома, глупости.
Итак, в три часа путешественники разгуливали по улицам города, который простирается от берега Иорданадо первых отрогов Уосатчскихгор. Как им показалось, церквей в городе то ли очень мало, то ли нет вовсе. Однако монументальные здания имелись: дом пророка, здание суда и арсенал. Здешние дома были построены из голубоватого кирпича, с верандами и галереями, среди садов, обрамленных пальмами, акациями и цератониями, а весь город обнесен стеной, сложенной в 1853 году из глины и камня. На главной улице, где находился рынок, высилось несколько украшенных флагами гостиниц, в том числе «Отель Соленого озера».
Город не показался мистеру Фоггу и его спутникам особенно людным. Улицы были почти пустынны, впрочем, за исключением той части города, где находился храм. Путешественники попали туда лишь после того, как миновали несколько кварталов, окруженных палисадами. Женщины встречались им довольно часто, их многочисленность объясняется оригинальным составом мормонской семьи. Однако не следует думать, что все мормоны – многоженцы. Они вольны поступать как захотят, но следует отметить, что жительницы штата Юта больше всего на свете стремятся выйти замуж, ибо мормонское небо согласно местным верованиям не дарует загробного блаженства одиноким, если они женского пола. Эти несчастные создания не выглядели ни счастливыми, ни довольными. Некоторые из них – наверняка те, кто побогаче, – носили черные шелковые жакеты, свободные в талии и с капюшонами, или покрывали головы подчеркнуто скромными шалями. На прочих были платья исключительно из ситца.
Паспарту, будучи убежденным холостяком, с некоторым испугом взирал на этих мормонок, призванных совместнымиусилиями группы из нескольких жен ублаготворять одного мормона. Впрочем, здравый смысл подсказывал ему, что их супруг достоин еще большего сожаления. Француза ужасала мысль о такой участи: провести стадо из стольких дам через все превратности земного существования, пригнать их в мормонский рай, но и там на веки вечные остаться в их обществе, отныне пребывая заодно и в компании достославного Смита, чья персона будет украшать своим присутствием это место неземного блаженства. Нет, Паспарту отнюдь не ощущал призвания к подобной миссии, а между тем ему уже казалось – хотя здесь он, быть может, заблуждался, – что во взглядах, которые жительницы Грейт-Лейк-Сити бросали на него, сквозила настораживающая заинтересованность.
К счастью, его пребыванию в «Городе святых» не суждено было слишком затянуться. В четыре часа без нескольких минут путешественники вернулись на вокзал и заняли свои места в вагоне поезда. Раздался свисток, колеса локомотива, чуток пробуксовав, потянули состав по рельсам, поезд начал помаленьку набирать скорость, но тут послышались крики:
– Стойте! Подождите!
Поезд, который тронулся, так не остановишь. Джентльмен, издававший эти вопли, по всей видимости, опоздал. Он мчался со всех ног. На его счастье, бег не замедляли ни двери, ни барьеры – на этом вокзале их не было. Мормон ринулся на пути, успел вскочить на подножку последнего вагона, ввалился внутрь и, задыхаясь, рухнул на одну из скамей.
Паспарту, с волнением наблюдавший за этой погоней, достойной гимнаста, стал приглядываться к опоздавшему пассажиру. Когда же он вдобавок узнал, что к столь поспешному бегству этого гражданина Юты побудила семейная сцена, парня охватило жгучее любопытство. Поэтому, едва мормон отдышался, Паспарту набрался смелости, чтобы учтиво осведомиться, сколько у того жен: дескать, судя по тому, как бедняга удирал, можно предположить, что их как минимум двадцать.
– Одна, сударь! – мормон воздел руки к небу. – Одна, но я сыт по горло!
Глава XXVIII
где Паспарту тщетно взывает к разуму своих спутников
Отъехав от Большого Соленого озера и станции Огден, поезд в течение часа шел на север к Вебер-ривер; с момента отбытия из Сан-Франциско он покрыл уже около девятисот миль. Затем дорога вновь повернула к востоку, и состав двинулся через Уосатчские горы, где опасность крушения заметно возрастала. Проложить железную дорогу между этим горным массивом и собственно Скалистыми горами, вполне заслуживающими такого названия, – задача, стоившая американским инженерам наиболыиихусилий. На этом участке каждая миля железнодорожного пути обошлась правительству Штатов в сорок восемь тысяч долларов – изрядный перерасход, если сравнить с шестнадцатью тысячами, каких требовала прокладка аналогичного рельсового пути в равнинной местности. Но инженеры, как уже было сказано, не боролись с природой – они старались перехитрить ее, обходя препятствия. Поэтому пассажирам на всем пути к побережью встретился всего один туннель длиной четырнадцать тысяч футов.
Именно у Соленого озера железная дорога забирается особенно высоко в горы. Оттуда она, описав сильно вытянутую дугу, спускается в долину Биттер-крик, чтобы затем подняться вновь до водораздела между Атлантическим и Тихим океанами. В этом горном районе протекает очень много речек. Поезд то и дело проезжал по мостам через Мадди, Грин-ривер и другие. Паспарту изнывал от нетерпения, которое лишь усиливалось по мере приближения к цели. Да и Фикс, в свою очередь, хотел, чтобы эта слишком пересеченная местность поскорее осталась позади. Он боялся задержек, несчастных случаев, ему больше, чем самому Филеасу Фогту, не терпелось вступить на землю Британии!
В десять часов вечера поезд остановился было у станции Форт-Бриджер, но почти тотчас покатил снова, чтобы, пройдя еще двадцать миль, оказаться на территории штата Вайоминг – в прошлом Дакоты. Дорога все время шла по долине реки Биттер, одной из тех водных артерий, что образуют бассейн Колорадо.
Назавтра, то есть 7 декабря, была сделана пятнадцатиминутная остановка на станции Грин-ривер. Ночью прошел снег, довольно обильный, но пополам с дождем, такчто он почти тотчас растаял и не мог помешать движению поезда. И все же Паспарту не переставал тревожиться из-за скверной погоды, ведь если колеса завязнут в сугробах, весь замысел путешествия пойдет насмарку.
«И чего ради хозяину вздумалось затеять этот вояж зимой? – роптал он про себя. – Мог бы, кажется, дождаться благоприятного времени года, тогда бы у него и шансов побольше было, разве не так?»
Но между тем как честный малый только и делал, что озабоченно посматривал на небо и тревожился, не холодает ли, миссис Ауда испытывала куда более острый страх совсем подругой причине.
Дело в том, что на остановке у Грин-ривер, когда некоторые пассажиры, выйдя из поезда, прогуливались по платформе в ожидании отправления поезда, молодая женщина, глядя в окно, узнала среди них полковника Стэмпа Дабл-ю Проктора, того самого американца, который на митинге в Сан-Франциско так грубо повел себя по отношению к Филеасу Фоггу. Опасаясь быть узнанной, миссис Ауда, увидев его, откинулась назад, подальше от окна.
Такое стечение обстоятельств поразило молодую женщину не на шутку. Она успела привязаться к тому, кто, как бы холодно ни держался, что ни день давал ей все новые доказательства самой безоглядной преданности. Вне всякого сомнения, она не отдавала себе отчета, насколько глубока ее симпатия к спасителю. Она все еще называла ее благодарностью, не замечая, что это чувство стало чем-то большим. Вот почему у нее сжалось сердце, когда она узнала грубияна, у которого мистер Фогг рано или поздно намеревался потребовать удовлетворения. По всей видимости, полковник Проктор чисто случайно оказался в том же поезде, что и они, но так или иначе, он был здесь. Теперь задача состояла в том, чтобы любой ценой помешать Филеасу Фоггу заметить своего противника.
Но вот поезд тронулся, и миссис Ауда, пользуясь моментом, когда мистер Фогг задремал, сообщила Фиксу и Паспарту о сложившейся ситуации.
– Значит, этот Проктор в поезде! – воскликнул Фикс. – Но успокойтесь, мадам: прежде чем схлестнуться с Фоггом… с мистером Фоггом, он будет иметь дело со мной! Я считаю, что во всей этой истории самое тяжкое оскорбление было нанесено именно мне!
– И к тому же, – вмешался Паспарту, – каким бы там полковником он ни был, я им займусь.
– Господин Фикс, – возразила миссис Ауда, – мистер Фогг никому не позволит сводить счеты вместо него. Как истинный мужчина, он намерен отыскать обидчика, и сам говорил, что готов для этого вернуться в Америку. А значит, если он увидит полковника Проктора, мы не сможем помешать поединку, и тогда возможны печальные последствия. Следовательно, надо сделать так, чтобы он его не заметил.
– Вы правы, мадам, – согласился Фикс. – Поединок может все погубить. Мистер Фогг, будь он хоть победителем, хоть побежденным, задержится, и…
– И, – подхватил Паспарту, – это обеспечит выигрыш джентльменам из Реформ-клуба. Но ведь мы через четыре дня уже будем в Нью-Йорке! Так вот, если мой хозяин не будет выходить из вагона в эти четыре дня, можно надеяться, что он не столкнется с этим проклятым американцем, пропади он пропадом! Ну, да мы сумеем не допустить беды…
На этом разговор оборвался. Мистер Фогг, проснувшись, стал смотреть на проплывающий ландшафт сквозь запорошенное снегом оконное стекло. Но позже, выбрав момент, когда ни его господин, ни миссис Ауда не могли их услышать, Паспарту спросил полицейского инспектора:
– Вы и вправду готовы драться за него?
– Я все сделаю, чтобы доставить его в Европу живым! – сказал Фикс просто. В его голосе слышалась непреклонная решимость.
Паспарту почувствовал какую-то холодную дрожь, пробежавшую по спине, но его доверие к своему хозяину не поколебалось ни на йоту.
Но найдется ли средство, чтобыудержать мистера Фогга в этом купе, предотвратив тем самым его встречу с полковником? Впрочем, особых трудностей здесь быть не должно, учитывая, что этот джентльмен столь малоподвижен и нелюбопытен по натуре. Как бы то ни было, инспектор полиции, похоже, нашел верный способ. Спустя несколько минут он сказал Филеасу Фоггу:
– Как долго тянутся, сударь, эти часы, которые проходят в поездке по железной дороге!
– Ваша правда, – отвечал джентльмен. – Но все же они проходят.
– На борту пакетботов, – продолжал инспектор, – вы обычно коротали время за вистом, не так ли?
– Да, – сказал Филеас Фогг, – но здесь это было бы трудно. У меня нет ни карт, ни партнеров.
– О, мы найдем, где купить карты. В вагонах американских поездов торгуют всем на свете. Что до партнеров, если мадам случайно…
– Разумеется, сударь, – с живостью откликнулась молодая женщина. – Вист мне знаком. Это составная часть английского воспитания.
– Я тоже льщу себя надеждой, что в висте кое-что смыслю, – продолжал Фикс. – Итак, сыграем втроем – с «выходящим».
– Как вам угодно, сударь, – отвечал Филеас Фогг, радуясь, что даже в поезде сможет вернуться к любимой игре.
Паспарту был послан на поиски проводника и вскоре вернулся с двумя полными колодами карт, фишками, жетонами и маленькой столешницей, обтянутой сукном. Оказалось все, что нужно. Игра началась.
В вист миссис Ауда играла недурно, даже заслужила от сурового Филеаса Фогга несколько похвал. Что до инспектора, он оказался первоклассным игроком, достойным противником джентльмена.
«Теперь, – сказал себе Паспарту, – мы его удержим. Никуда он не денется!»
В одиннадцать утра поезд достиг водораздела между бассейнами двух океанов. Он пролегает по Бриджерскому перевалу на высоте семи тысяч пятисот двадцати четырех английских футов над уровнем моря, это одна из самых высоко расположенных точек местности, по которой проходит железная дорога, пересекающая Скалистые горы. Примерно в двух сотнях миль от перевала взгляду путешественников, наконец, открылись бескрайние равнины, что простираются до самого Атлантического океана и словно специально созданы природой для строительства железной дороги.
Теперь пассажиры уже могли видеть первые речки, текущие по горным склонам Атлантического бассейна, впадавшие в Норт-Платт-ривер или в ее притоки. На севере и на востоке весь горизонт заслоняла северная оконечность Скалистых гор – гигантский полукруг, увенчанный пиком Ларами. Между этими горами и железной дорогой расстилались обширные, щедро орошаемые долины. Справа от рельсового пути гряда за грядой громоздились первые отроги горного массива, который, загибаясь к югу, доходил до истоков реки Арканзас – одного из самых многоводных притоков Миссури.
В половине первого перед глазами пассажиров промелькнул форт Халлек, господствующий над этой местностью. Еще несколько часов – и Скалистые горы остались позади. Таким образом, можно было надеяться, что трудный отрезок пути обошелся без крушений и поломок. Да и снегопад прекратился. Погода стала сухой и студеной. Вспархивали, уносясь вдаль, большие птицы, вспугнутые локомотивом. Ни один крупный хищник, медведь или волк, в поле зрения не появлялся. Вокруг простиралась пустыня, нагая, безбрежная.
После завтрака, с удобством сервированного прямо в вагоне, мистер Фогг с партнерами уселись было за свой нескончаемый вист, как вдруг раздалось несколько оглушительных свистков. Поезд остановился.
Открыв дверь вагона, Паспарту высунулся наружу, но не обнаружил ничего, что объясняло бы остановку. Никакой станции в пределах видимости не было.
На мгновение миссис Ауда и Фикс испугались, как бы мистеру Фоггу не вздумалось выйти из вагона. Но джентльмен ограничился тем, что сказал слуге:
– Ступайте же, посмотрите, что там такое.
Паспарту опрометью ринулся исполнять приказание. Между тем человек сорок пассажиров уже покинули свои места и также высыпали из вагона. Среди них был и полковник Стэмп Дабл-ю Проктор.
Красный сигнал семафора – вотчто преграждало путь. Машинист и кондуктор, также сошедшие с поезда, оживленно препирались о чем-то с путевым обходчиком, которого начальник ближней станции Медисин-Боу выслал навстречу. Пассажиры, подойдя к ним, тоже ввязались в спор. В их числе оказался и упомянутый выше полковник Проктор, выделяющийся своим зычным голосом и повелительными жестами.
Приблизившись, Паспарту услышал, как путевой обходчик говорил:
– Нет! Проехать никак невозможно! Мост в Медисин-Боу расшатан, он не выдержит тяжести поезда.
Висячий мост, о котором шла речь, был перекинут через поток в одной миле от того места, где остановился поезд. По словам путевого обходчика, мост грозил рухнуть: некоторые из тросов, поддерживавших полотно, порвались, выехать на него сейчас было бы немыслимым риском. Итак, обходчик не преувеличивал, утверждая, что проезда нет. К тому же надо заметить, американцы обычно беспечны. Там, где даже они вспоминают об осторожности, не последовать их примеру – чистое безумие.
Паспарту, не смея отправиться к мистеру Фоггу с таким сообщением, продолжал слушать спорщиков, стиснув зубы, окаменев, как статуя.
– Ах, черт побери! – кричал полковник Проктор. – Уж не следует ли нам зазимовать здесь, пустить корни в снегу? Воображаю!
– Полковник, – обратился к нему кондуктор, – на станцию Омаха отправлена телеграмма с просьбой выслать встречный поезд. Но маловероятно, что он придет в Медисин-Боу раньше шести.
– В шесть часов! – простонал Паспарту.
– Само собой, – подтвердил кондуктор. – Впрочем, нам и самим потребуется столько же времени, чтобы добраться до станции пешком.
– Пешком?! – в один голос закричали пассажиры.
– Это сколько же надо пройти? – спросил кто-то.
– До реки миль двенадцать, – сказал кондуктор. – А станция на том берегу.
– Двенадцать миль топать по снегу! – взревел Стэмп Дабл-ю Проктор.
Тут он обрушил лавину проклятий на железнодорожную компанию, лично на кондуктора, и взбешенный Паспарту был уже готов присоединить свой голос к этому монологу, составив с полковником дуэт. Вот оно, непреодолимое материальное препятствие, и на сей раз все банкноты его господина бессильны!
Вдобавок и остальные пассажиры были весьма раздосадованы непредвиденной задержкой, а еще больше тем, что их вынуждают миль пятнадцать тащиться пешком по заснеженной равнине. Поднялся всеобщий галдеж, столь громкие выкрики и ругань наверняка привлекли бы внимание Филеаса Фогга, не будь джентльмен поглощен игрой.
Тем не менее Паспарту осознал, что должен известить хозяина о случившемся, и, повесив нос, уже направился к вагону, когда машинист поезда, истый янки по фамилии Форстер, вдруг возвысил голос:
– Господа! Может, у нас и есть способ проехать!
– По мосту? – переспросил какой-то пассажир.
– По мосту.
– На нашем поезде? – оживился полковник.
– На нашем поезде.
Паспарту замер на месте, ловя каждое слово машиниста.
– Да ведь мост того гляди рухнет! – опять завел свое кондуктор.
– Неважно, – отвечал Форстер. – Мне сдается, что, если разогнать поезд до предельной скорости, есть шанс проскочить.
– А, дьявол! – пробормотал Паспарту.
Однако некоторой части пассажиров это предложение понравилось, особенно полковнику Проктору. Он, горячая голова, счел подобный замысел абсолютно выполнимым. И даже напомнил, что у некоторых инженеров возникала идея «безмостовой» переправы через реки: пускать прочно подогнанные негнущиеся поезда на максимальной скорости и так далее… В конечном счете дело обернулось так, что все заинтересованные лица встали на сторону машиниста.
– У нас пятьдесят шансов из ста, что прорвемся, – сказал один.
– Шестьдесят, – заявил второй.
– Восемьдесят, нет, девяносто!
Паспарту, хоть и готовый на все, только бы скорее переправиться через Медисин-крик, был ошеломлен. Затея казалась ему все-таки слишком «американской».
«Ктому же, – сообразил он вдруг, – можно сделать куда проще, а этим людям даже невдомек!..»
– Сударь, – он обратился к одному из собравшихся, – способ, предлагаемый машинистом, кажется мне немного рискованным, а между тем…
– Восемьдесят шансов! – оборвал пассажир и повернулся к нему спиной.
– Я знаю, – продолжал Паспарту, обращаясь к другому джентльмену, – но если поразмыслить…
– Не о чем тут размышлять! – закричал и этот американец, пожимая плечами. – Что болтать без пользы? Машинист ясно сказал: прорвемся!
– Конечно, – не унимался Паспарту, – прорвемся, но, может, благоразумнее было бы…
– Что? Благоразумнее?! – завопил полковник Проктор, которого это слово, случайно коснувшись его слуха, заставило подскочить. – На предельной скорости, вам говорят! На предельной скорости!
– Я знаю… Я понимаю… – бормотал Паспарту, которому никак не давали договорить. – Однако было бы если не благоразумнее, раз это слово вас так раздражает, то, по крайней мере, естественнее…
– А? Что? Вот пристал! Да чего ему надо с этим его «естественнее»? – заорали со всех сторон.
Бедный малый уж и не знал, выслушает ли его наконец хоть кто-нибудь.
– А вы часом не трусите? – рявкнул полковник Проктор.
– Я трушу? – закричал Паспарту. – Что ж, ладно! Я вам всем покажу, что француз может быть не трусливее такого американца, как вы!
– В вагоны! В вагоны! – надрывался кондуктор.
– Да! В вагоны! – подхватил Паспарту. – И немедленно! Но никто не помешает мне считать, что было бы естественнее, если бы мы, пассажиры, сперва пешком перешли через мост, а уж потом – поезд!
Но этого разумного замечания никто не услышал, ни одна душа не пожелала признать его правоту.
Путешественники снова разошлись по вагонам. Паспарту уселся на свое место, ни слова не проронив о том, что только что произошло. Игроки же были всецело поглощены вистом.
Локомотив издал пронзительный свисток. Машинист дал задний ход, отведя состав на добрую милю, подобно спортсмену, который хочет получше разогнаться перед прыжком.
Раздался новый свисток, и поезд опять двинулся вперед, мчась все быстрее; скорость стала чудовищной, теперь слышался только надсадный вой локомотива, поршни которого делали двадцать ходов в секунду, колесные оси дымились, несмотря на обильную смазку. Громоздкий состав, несущийся со скоростью ста миль в час, можно сказать, летел, едва касаясь рельс. Его тяжесть, пожираемая скоростью, как бы таяла.
И он таки перемахнул через реку! Промелькнул, точно молния. Смотрящие из окон никакого моста даже не увидели. Состав будто перепрыгнул с одного берега на другой, и машинисту удалось остановить разогнавшийся паровоз только в пяти милях за станцией.
Но едва поезд оставил реку позади, как мост, вконец разболтанный, с грохотом обрушился в быстрые воды Медисин.
Глава XXIX
где рассказывается о происшествиях, возможных только на железных дорогах Америки
В тот же вечер состав, беспрепятственно продолжая следование, миновал форт Соудерс, потом Чайеннский перевал, а там и перевал Эванс. В этом месте железная дорога достигает наивысшей точки – восьми тысяч девяноста одного фута над уровнем океана. Отсюда поезду оставался лишь путь вниз, к берегам Атлантики, по бескрайним, сглаженным самой природой равнинам.
Здесь от главной магистрали отходит железнодорожная ветка на Денвер – столицу Колорадо. На этих землях, богатых залежами золота и серебра, тогда уже насчитывалось более пятидесяти тысяч жителей.
К этому моменту наших путников отделяли от Сан-Франциско одна тысяча триста восемьдесят две мили – расстояние, которое они проехали за три дня и три ночи. Еще четырех ночей и стольких же дней, согласно всем прикидкам, должно было хватить, чтобы достигнуть Нью-Йорка. Итак, Филеас Фогг держался в пределах своих предварительных расчетов.
За ночь они миновали лагерь Уолбах, оставшийся слева по ходу поезда. Железная дорога пролегала вдоль берега реки Лоджпол, которая служит границей между штатами Вайоминг и Колорадо. В одиннадцать часов поезд въехал на территорию Небраски, прошел неподалеку от Седгвика и приближался к Джулсбергу, расположенному в южной части устья Платт-ривер.
Именно здесь 23 октября 1867 года состоялось открытие Тихоокеанской железной дороги, которая строилась под руководством генерала Дж. М. Доджа. Именно сюда два мощных локомотива доставили состав из девяти вагонов с почетными гостями, в числе которых был вице-президент, мистер Томас К. Дюрант. Здесь раздавались приветственные клики, здесь воины племен сиу и пауни изобразили перед собравшимися маленькую индейскую битву, здесь сверкали огни фейерверка. Наконец, здесь походная типография напечатала первый номер газеты «Пионер рельсовых путей». Так Америка отпраздновала открытие этой громадной железной дороги, во имя прогресса и цивилизации, проложенной через пустыню, чтобы связать между собой селения и города, в ту пору еще не существовавшие. Свисток паровоза, более могущественный, чем лира Амфиона, должен был вскоре вызвать их к жизни из недр американской земли.
В восемьутра позади остался форт Мак-Ферсон. От Омахи его отделяли триста пятьдесят семь миль. Железнодорожная колея тянулась по левому берегу южного рукава Платт-ривер, следуя причудливым извивам его течения. К девяти часам прибыли в крупный город Норт-Платт, построенный между двумя рукавами большой реки, которые затем сливаются в единую водную артерию, впадающую в Миссури немного выше Омахи.
Сто первый меридиан был пройден.
Мистер Фогг и его партнеры вновь приступили к игре. Никто из них, включая даже «выходящего», не сетовал на долгую дорогу. Фикс, поначалу выигравший несколько гиней, теперь понемногу их проигрывал, но, казалось, был охвачен азартом не меньше Филеаса Фогга. А этому джентльмену в то утро удача особенно благоприятствовала. Козыри и онеры так и сыпались ему в руки. И вот когда он, задумав дерзкую комбинацию, собрался пойти с пик, за его спиной вдруг раздался голос:
– А я пошел бы с бубен!..
Мистер Фогг, миссис Ауда и Фикс подняли головы. Перед ними стоял полковник Проктор.
Стэмп Дабл-ю Проктор и Филеас Фогг мгновенно узнали друг друга.
– А! Это вы, мистер англичанин! – вскричал полковник. – Так это вы вздумали пойти с пик!
– И я с них пойду, – холодно отвечал Филеас Фогг, выбрасывая пиковую десятку.
– Ну, а по мне, надо идти с бубен! – сердито буркнул полковник.
Он сделал движение, будто хотел схватить разыгранную карту, и добавил:
– Вы ничего не смыслите в этой игре!
– Быть может, я окажусь искуснее в другой, – произнес Филеас Фогг, вставая.
– Попробуйте, наследник Джона Буля! – отвечал грубиян. – За мной дело не станет!
Миссис Ауда побледнела. Вся кровь, отхлынув от ее лица, прилила к сердцу. Она схватила Филеаса Фогга за руку, но тот мягко отстранил ее. Паспарту готов был броситься на американца, который взирал на своего противника с самым оскорбительным видом. Но тут встал Фикс и, шагнув к полковнику Проктору, обратился к нему:
– Вы забываете, сударь, что вам надлежит иметь дело не с кем иным, как со мной. Ведь это меня вы не только оскорбили, но и ударили!
– Господин Фикс, – возразил мистер Фогг, – прошу прощения, но это касается только меня одного. Утверждая, будто я должен был пойти с пик, полковник только что нанес мне новое оскорбление, и он за это ответит.
– Когда вам угодно и где пожелаете, – заявил американец. – И любым оружием, на ваш вкус!
Миссис Ауда тщетно пыталась удержать мистера Фогга. Инспектор столь же напрасно пытался взять поединок на себя. Паспарту совсем было примерился выкинуть полковника из поезда, но его хозяин жестом остановил этот порыв. Затем Филеас Фогг вышел из вагона на площадку, и американец последовал за ним.
– Сударь, – обратился к нему мистер Фогг, – я очень спешу в Европу, малейшее опоздание чрезвычайно повредит моим интересам.
– Вот еще! А мне что за дело? – фыркнул полковник Проктор.
– Сударь, – как нельзя более вежливо продолжал мистер Фогг, – после нашей встречи в Сан-Франциско я предполагал вернуться в Америку и разыскать вас, как только покончу с делами, призывающими меня в Старый Свет.
– Да неужели!
– Не угодно ли вам встретиться со мной через шесть месяцев?
– Почему не через шесть лет?
– Я сказал: шесть месяцев, – отвечал мистер Фогг. – Назначим встречу. Я прибуду без опоздания.
– Все это увертки! – заорал Стэмп Дабл-ю Проктор. – Сейчас или никогда!
– Идет, – согласился джентльмен. – Вы направляетесь в Нью-Йорк?
– Нет.
– В Чикаго?
– Нет.
– В Омаху?
– Не ваше дело! Знаете Плам-Крик?
– Нет, – сказал мистер Фогг.
– Это ближайшая станция. Поезд там будет через час. Остановка десятиминутная. Десяти минут хватит, чтобы обменяться несколькими револьверными выстрелами.
– Договорились, – отвечал мистер Фогг. – Я сойду с поезда в Плам-Крик.
– А я так даже полагаю, что вы там останетесь! – с беспримерной наглостью ухмыльнулся американец.
– Кто знает, сударь… – обронил мистер Фогг и, как всегда, невозмутимый, отправился в свой вагон.
Там джентльмен начал с того, что попытался успокоить миссис Ауду уверениями, что фанфароны не опасны, их никогда не следует бояться.
Затем он попросил Фикса быть его секундантом на предстоящей дуэли. Отказаться Фикс не мог, и Филеас Фогг преспокойно продолжил прерванную игру, причем как нельзя более безмятежно пошел с пик.
В одиннадцать свисток локомотива возвестил, что поезд прибывает в Плам-Крик. Мистер Фогг встал и, сопровождаемый Фиксом, проследовал на площадку. Паспарту шел за ними, неся пару револьверов. Миссис Ауда, бледная, словно покойница, осталась в вагоне.
Дверь другого вагона без промедления распахнулась, и появился полковник Проктор, тоже с секундантом, янки того же пошиба. Но в тот момент, когда противники собрались сойти с поезда, примчался кондуктор с криком:
– Не выходите, господа!
– Это еще почему? – удивился полковник.
– Мы опаздываем на двадцать минут! Поезд стоять не будет.
– Но я должен драться с этим господином!
– Весьма сожалею, господа, – ответил железнодорожник. – При других обстоятельствах я бы охотно оказал вам любезность. Но, в конце-то концов, если вы не успеваете свести ваши счеты здесь, что вам мешает подраться в пути?
– Это едва ли устроит моего противника, – полковник издевательски осклабился.
– Меня это вполне устраивает, – возразил Филеас Фогг.
«Положительно Америку ни с чем не спутаешь! – подумал Паспарту. – Нас занесло туда, где даже кондуктор в поезде – великосветский джентльмен!»
И он, бормоча себе под нос, последовал за своим хозяином.
Предводительствуемые кондуктором, оба противника с секундантами, переходя из вагона в вагон, прошли через весь состав. В хвостовом вагоне пассажиров было мало, всего человек двенадцать. Кондуктор спросил, не соблаговолят ли они всего на несколько минут освободить место для этих двух джентльменов, которым необходимо разрешить вопрос чести.
Возможно ли? Пассажиры пришли в восторг от того, что могут оказать джентльменам эту приятную услугу, и мигом ретировались, разойдясь по площадкам.
Этот вагон длиной в полсотни футов как нельзя лучше подходил для такой оказии. Противники могли сходиться, шагая между скамьями, и палить в свое удовольствие. Никогда еще организация дуэли не была столь легкой задачей. Мистер Фогг и полковник Проктор, вооружившись каждый своим шестизарядным револьвером, вошли в вагон. Их секунданты, оставшись снаружи, закрыли за ними двери.
Открыть огонь они должны были при первом паровозном свистке… Затем, переждав две минуты, секунданты войдут в вагон и вытащат оттуда то, что останется от двух джентльменов.
И правда, нет ничего проще. Это даже было до такой степени просто, что сердца у Паспарту и Фикса заколотились, будто вот-вот разорвутся.
Все ждали условленного свистка, когда вдруг раздались дикие крики, затем выстрелы, но доносились они вроде бы не из вагона, предоставленного дуэлянтам. Эта стрельба, напротив, началась где-то в начале состава и, продолжаясь, приближалась к хвостовому вагону. Крики ужаса слышались теперь и в самом поезде.
Полковники мистер Фоггс револьверами в руках торопливо выскочили из вагона и бросились вперед, туда, где были слышны самые истошные вопли и частые выстрелы.
Они поняли, что на состав напали индейцы из племени сиу.
Этим дерзким бандитам такие атаки были не внове, они уже не раз проделывали нечто подобное. По своему обыкновению, не дожидаясь остановки поезда, они налетали на ходу, вскакивали на подножки, их было человек сто, они ловко карабкались на вагоны, словно цирковые наездники, запрыгивающие на спину скачущей галопом лошади.
У этих сиу имелись ружья. Отсюда выстрелы, на которые пассажиры, почти сплошь вооруженные, отвечали стрельбой из револьверов. Прежде всего индейцы захватили паровоз. Машиниста и кочегара до полусмерти оглушили ударами кастетов. Вождь сиу, желая остановить поезд, но не умея управлять им, повернул рукоятку реверса в обратную сторону и вместо того, чтобы сбросить пар, сильно его подбавил, отчего локомотив понесся вперед с ужасающей скоростью.
Тем временем сиу наводнили вагоны. Словно разъяренные обезьяны, они бегали по крышам, вламывались в двери, врукопашную дрались с пассажирами. Бандиты не только взломали и разграбили багажный вагон, ища поживу, они вытряхивали на скамьи пожитки пассажиров, а опустошенные сумки и сундуки без жалости выбрасывали на дорогу. Крики и стрельба не затихали ни на минуту.
Путешественники мужественно оборонялись. В некоторых вагонах они успели забаррикадироваться, такие вагоны выдерживали осаду, будто настоящие форты на колесах, несущиеся со скоростью сто миль в час.
Миссис Ауда с самого начала нападения держалась храбро. С револьвером в руках она геройски отстреливалась через разбитые окна, стоило тому или иному из дикарей сунуться к ней туда. Десятка два сиу, сраженные насмерть, уже валялись на железнодорожном полотне, колеса давили, словно червей, тех из них, кто срывался на рельсы с вагонных площадок.
Несколько пассажиров, получивших серьезные пулевые ранения или удары кастетами, лежали на скамейках.
С этим как-то надо было кончать. Сражение длилось уже десять минут и, если не остановить поезд, могло завершиться победой индейцев. Ведь до станции Форт Керней оставалось меньше двух миль. Там находился американский военный пост, но если миновать его, сиу вплоть до следующей станции смогут беспрепятственно хозяйничать в поезде.
Кондуктор и мистер Фогг отстреливались, стоя рядом, когда первого настигла пуля. Падая, он крикнул:
– Если в ближайшие пять минут поезд не остановится, нам крышка!
– Он остановится! – сказал Филеас Фогг, уже готовый выскочить из вагона.
– Останьтесь, сударь! – закричал Паспарту. – Это дело по мне!
Мистер Фогг не успел удержать храброго парня: тот приоткрыл дверь и успел, не замеченный индейцами, проскользнуть под вагон. А там уж, пока над его головой продолжалась схватка и свистели пули, он вспомнил былые навыки циркача и, пользуясь своей акробатической ловкостью и гибкостью, пополз от вагона к вагону, цепляясь за цепи, буфера и тормозные рычаги. Таким способом он наконец добрался до головы поезда, никем не замеченный, да и заметить его было бы невозможно.
И тут, повиснув на одной руке между багажным вагоном и тендером, он другой рукой сбросил цепи безопасности. Ему бы ни за что не хватило сил вывернуть соединительный крюк, но его выручил толчок паровоза, при котором сцепка на миг дала слабину. Тут же состав начал мало-помалу замедлять ход, между тем как отцепленный от него локомотив помчался вперед еще стремительней.
Поезд, увлекаемый силой инерции, еще несколько минут продолжал движение, но пассажирам наконец удалось при помощи вагонных тормозов остановить его без малого в ста шагах от станции Керней.
Солдаты форта, услышав перестрелку, тут же бросились к поезду со всех ног. Индейцы не ожидали такого поворота событий, и вся банда улепетнула еще прежде, чем состав полностью остановился.
Однако, когда пассажиры, высыпав на станционную платформу, устроили перекличку, прозвучало несколько имен, на которые никто не отозвался. Среди прочих они недосчитались француза, который только что спас их.
Глава XXX
в которой Филеас Фогг просто исполняет свой долг
Из пассажиров бесследно исчезли трое, в том числе Паспарту. Что с ними случилось? Погибли в схватке? Попали в плен к сиу? Узнать это пока не представлялось возможным.
Пострадали в схватке многие, но, как вскоре выяснилось, никто не был ранен смертельно. Одним из тех, кого задело особенно серьезно, оказался полковник Проктор, который храбро бился, но получил пулю, угодившую в пах. Его вместе с другими пассажирами, чье состояние требовало немедленного медицинского вмешательства, перенесли в здание вокзала.
Миссис Ауда не пострадала. Филеас Фогг не получил ни царапины, хотя от боя отнюдь не уклонялся. Фикс отделался пустяковым ранением в руку. Но Паспарту пропал, и слезы катились из глаз молодой женщины.
Все пассажиры между тем покинули вагоны. Колеса поезда были забрызганы кровью, на их спицах и ободьях болтались бесформенные клочья человеческой плоти. Белизну снежной равнины, насколько хватало глаз, пятнали кровавые следы. Последние индейцы исчезали вдали, они бежали к югу, к берегу Репабликэн-ривер.
Мистер Фогг, скрестив руки, застыл в неподвижности. Ему предстояло тяжелое решение. Рядом стояла миссис Ауда, не произнося ни слова, она смотрела на него… Он понял этот взгляд. Если индейцы захватили его слугу, разве он не должен любой ценой вырвать пленника из их лап?..
– Я его найду, живого или мертвого, – просто сказал он, повернувшись к миссис Ауде.
– Ах! Господин… Господин Фогг! – воскликнула молодая женщина, схватив своего спутника за руки и орошая их слезами.
– Живого! – уточнил Филеас Фогг. – При условии, что мы не будем терять ни минуты!
Давая такое обещание, он знал, что жертвует всем. Он только что обрек себя на полное разорение. Задержавшись хоть на один день, он пропустит пакетбот, идущий из Нью-Йорка. Его пари будет безвозвратно проиграно. Но мысль «Это мой долг!», едва возникнув, решила все. Он не колебался.
Капитан, командующий форта Керней, находился тут же. Его солдаты, их было около сотни, приготовились к обороне на случай, если сиу вздумают перейти в наступление и напрямую атаковать вокзал.
– Сударь, – сказал капитану мистер Фогг, – трое пассажиров исчезли.
– Мертвы? – уточнил капитан.
– Убиты или взяты в плен. Это надо выяснить. Вы собираетесь снарядить погоню за сиу?
– Головоломное это предприятие, сударь, – сказал капитан. – Эти индейцы способны улепетывать хоть до самого Арканзаса! Я не вправе оставить доверенный мне форт.
– Сударь, – напомнил Филеас Фогг, – речь идет о жизни трехчеловек.
– Да, разумеется… но могу ли я рисковать пятьюдесятью жизнями ради спасения троих?
– Не знаю, можете ли вы, сударь, но должны.
– Сударь, – нахмурился капитан, – здесь никто не уполномочен указывать мне, в чем состоит мой долг.
– Что ж, – холодно отозвался Филеас Фогг. – Я отправлюсь один.
– Вы, сударь?! – закричал Фикс, подвигаясь поближе. – Вы собираетесь в одиночку гоняться за индейцами?
– Стало быть, вы хотите, чтобы я бросил на верную гибель этого несчастного, которому обязаны жизнью все, кто сейчас находятся здесь? Я иду!
– Нет уж, вы пойдете не один! – вскричал капитан, поневоле тронутый этим заявлением. – Нет! А вы храбрец, ничего не скажешь!.. Нужны три десятка добровольцев! – прибавил он, обращаясь к своим солдатам.
Все они шагнули вперед как один. Капитану оставалось лишь выбирать среди этих отважных парней. Он отобрал тридцать солдат, возглавить которых вызвался старый сержант.
– Спасибо, капитан! – сказал мистер Фогг.
– Вы позволите мне вас сопровождать? – спросил джентльмена Фикс.
– Поступайте, как вам будетугодно, сударь, – отвечал Филеас Фогг. – Но коль хотите оказать мне услугу, лучше останьтесь с миссис Аудой. Если со мной случится несчастье…
Лицо инспектора полиции покрыла внезапная бледность. Расстаться счеловеком, за которым он следовал попятам стакимупорством! Отпустить его в этой пустынной и опасной местности! Фикс пристально вгляделся в лицо джентльмена, и какое бы предубеждение он к нему ни питал, наперекор всем своим тайным сомнениям невольно потупился, встретив его прямой, спокойный взгляд.
– Я остаюсь, – произнес он.
Минуты не прошло, как мистер Фогг уже пожимал руку молодой женщине. Затем, вручив ей свой драгоценный саквояж, он отбыл в сопровождении сержанта и его маленького войска.
Но прежде чем отправиться, он сказал солдатам:
– Друзья, если мы спасем пленников, вам причитается тысяча фунтов! Это было в полдень с минутами.
Уединившись в одной из пустых вокзальных комнат, миссис Ауда стала ждать. Она думала о Филеасе Фогге, о его высоком и простом великодушии, об этой спокойной отваге. Мистер Фогг только что пожертвовал своим состоянием, а теперь и жизнь свою поставил на карту, и все это без колебаний, без пышных фраз, во имя долга. В ее глазах Филеас Фогг стал героем.
Что касается инспектора Фикса, его томили помыслы иного порядка, он не мог унять грызущее его лихорадочное возбуждение. Он нервно мерил шагами вокзальный перрон. Справившись с минутной слабостью, он вновь стал самим собой, сыщиком до мозга костей. Едва Фогг скрылся из виду, он понял, какая это была глупость – позволить емууйти. Как он могдопустить, чтобы этот человек, преследуя которого, он уже объехал почти вокруг света, от него улизнул? Теперь его натура взяла верх: он обвинял себя, бранил, презирал, как начальник столичной полиции распекал бы агента, уличенного в таком профессиональном преступлении, как легковерие.
«Какой же я дурак! – думал он. – Тот, другой, уже наверняка расскажет ему теперь, кто я! Он сбежал, он не вернется! Как теперь снова найти его? Но как я-то мог, я, Фикс, позволить ему так заморочить мне голову притом, что в кармане у меня ордер на его арест! Я сущий кретин и ничего больше!» Так размышлял полицейский инспектор, а часы между тем текли своим чередом. Он не знал, что ему теперь делать. Иногда его так и подмывало все рассказать миссис Ауде. Однако он понимал, как молодая женщина отнесется к его откровениям. На что решиться? Он испытывал искушение пуститься вдогонку за Фоггом, бежать за ним по этой заснеженной бесконечной равнине! Настигнуть его, казалось, не такуж и трудно. Там, где прошел отряд, следы на снегу еще видны!.. Но вскоре и они исчезли, скрывшись под свежей порошей.
Теперь Фиксом овладело отчаяние. Он чувствовал непреодолимое желание махнуть на все рукой. Что ж, вскоре ему впрямь представился случай покинуть станцию Керней и продолжить путешествие, столь обильное разочарованиями.
Около двух часов пополудни, когда снег уже валил с неба крупными хлопьями, с востока послышались приближающиеся длинные паровозные свистки. Огромная тень, предшествуемая снопом рыжеватого света, медленно надвигалась сквозь туман, который, изрядно увеличивая, придавал ей фантастические очертания.
А между тем никакой поезд с востока здесь пока не ожидался. Не могла же помощь, которую запросили по телеграфу, подоспеть так сразу; а поезд, идущий из Омахи в Сан-Франциско, должен проходить здесь только через сутки.
Вскоре загадка разъяснилась. Этот локомотив, идущий на всех парах, издавая оглушительные свистки, оказался тем самым отцепленным от состава, который на чудовищной скорости продолжил свой путь, унося вдаль бесчувственных машиниста и кочегара. Проехав несколько миль, он мало-помалу стал замедлять свой бег по рельсам, поскольку горючее иссякло, огонь погас, давление пара ослабело, и спустя час локомотив наконец остановился в двадцати милях от станции Керней.
И машинист, и кочегар были живы: пролежав в обмороке достаточно долго, оба пришли в себя. Локомотив к тому времени уже остановился. Обнаружив, что он стоит посреди пустыни один, без вагонов, машинист сообразил, что произошло. Каким образом состав мог отцепиться от паровоза, он не додумался, но для него было очевидно, что поезд остался позади и терпит бедствие.
У машиниста не возникло никаких сомнений насчет того, что ему надлежит теперь делать. Конечно, разумнее было бы продолжить путь в сторону Омахи. Возвращаться к поезду, который, может быть, до сих пор грабят индейцы, довольно опасно… Наплевать! Полные лопаты угля полетели в топку, туда же подбросили дров, снова запылал огонь, повысилось давление пара, и локомотив задним ходом покатил к станции Керней, куда и прибыл около двух часов дня. Он-то и свистел в тумане.
Пассажиры обрадованно наблюдали, как паровоз вновь пристраивается к головному вагону состава. Значит, они смогут продолжить путешествие, прерванное столь прискорбным образом.
Когда локомотив подошел к станции, миссис Ауда, выйдя на платформу, спросила кондуктора:
– Вы отправитесь немедленно?
– Сию же минуту, мадам.
– Но, позвольте… Мои несчастные спутники, они в плену…
– Я не могу нарушать распорядок движения, – отвечал кондуктор. – Мы и такуже опаздываем на три часа.
– А когда подойдет следующий поезд из Сан-Франциско?
– Завтра вечером.
– Завтра вечером! – повторила она в смятении. – Нет, это слишком поздно. Надо подождать…
– Исключено, – отрезал кондуктор. – Если вы намерены ехать, прошу в вагон.
– Я не поеду, – сказала молодая женщина.
Фикс слышал этот разговор. Несколько минут назад, лишенный каких-либо средств передвижения, он решил покинуть Керней при первой возможности, но сейчас, когда перед ним был поезд, готовый отправиться, и оставалось лишь занять свое место в вагоне, неодолимая сила сковала его движения. Его ступни будто приросли к этому вокзальному перрону, обжигавшему их: и терпеть невозможно, и не оторваться. Внутренняя борьба опять вспыхнула в нем. Гнев душил сыщика, не позволяя смириться с поражением. Нет, он будет бороться до конца!
Тем временем пассажиры и кое-кто из раненых, в том числе полковник Проктор, чье состояние оставалось тяжелым, погрузились в вагоны. Послышалось гудение огня, разгоревшегося в топке, из клапанов вырывался пар. Машинист дал свисток, паровоз тронулся, облака белого дыма смешались с клубами взвихренной снежной пыли, и вот уже поезд скрылся из виду.
Инспектор Фикс стоял на платформе. Он остался.
Час проходил за часом. Погода была хуже некуда, резкий холод пронизывал насквозь. Фикс неподвижно сидел на вокзальной скамейке. Можно было подумать, что он уснул. Между тем разыгрался буран, но миссис Ауда, хоть ей и предоставили отдельную комнату, снова и снова выходила, бродила по платформе, останавливаясь у ее края, и вглядывалась вдаль сквозь снежную круговерть, заволакивающую горизонт, напрягала слух в надежде различить среди завываний ветра другой звук. Напрасно! Продрогнув до костей, она уходила, но лишь затем, чтобы вернуться через минуту-другую, и снова тщетно.
Наступил вечер. Маленький отряд не появлялся. Где он сейчас? Удалось ли им настигнуть индейцев? Сошлись ли они в боевой схватке, или солдаты, сбившись со следа в тумане, блуждают где-то наугад? Капитан форта Керней был весьма обеспокоен, хотя всеми силами старался никому не показывать снедавшей его тревоги.
Вот и ночь настала, снег валил теперь не так густо, но мороз все крепчал. Самый отважный, и тот не мог без страха всматриваться в безбрежный мрак, обступивший форт. Мертвая тишина воцарилась над равниной. Ни птица не вспорхнет, ни зверь не пробежит – ничто не нарушало этот огромный безжизненный покой.
Миссис Ауда, чей разум терзали мрачные предчувствия, а сердце изнывало от тревоги, всю ночь металась по затерянной в прериях пустынной платформе. Воображение увлекало ее все дальше, рисовало перед ней тысячу самых зловещих картин. Того, что она выстрадала за эти долгие часы, словами не передать.
Фикс оставался на прежнем месте, все такой же неподвижный, но и он не спал. Один раз какой-то человек подошел к нему, даже попробовал заговорить, но детектив отверг эту попытку, покачав головой и безмолвным жестом дав понять, что незнакомцу лучше удалиться.
Так миновала ночь. Пришел час рассвета, из-за подернутого мглой горизонта показался тусклый солнечный диск, утративший добрую половину своего блеска, но все-таки позволивший обозревать окрестность на расстоянии двух миль. Филеас Фогг с отрядом ушли в южном направлении… Там, на юге, расстилалась абсолютно пустынная равнина. Было семь часов утра.
Капитан, до крайности озабоченный, ломал голову над тем, что предпринять. Должен ли он послать второй отряд на помощь первому? Следует ли снова рисковать людьми ради столь малого шанса спасти тех, кем он уже рискнул вначале? Однако колебался он недолго: жестом подозвал одного из своих лейтенантов, приказал послать в южном направлении разведчиков, но тут вдали затрещали выстрелы. Что это, сигнал? Солдаты гурьбой выскочили из форта и в полумиле заметили маленький отряд. Он возвращался, причем в полном порядке.
Мистер Фогг шагал впереди, рядом Паспарту и два других пассажира, вырванные из рук сиу.
Бой состоялся в десяти милях от форта Керней. За несколько мгновений до прибытия отряда Паспарту и два его товарища уже схватились со своими стражами, француз ударами кулака уложил троих, когда его хозяин с солдатами подоспел на помощь.
Их всех, спасителей и спасенных, встретили радостными криками, потом Филеас Фогг разделил между солдатами обещанную награду, в то время как Паспарту не без некоторых оснований бубнил:
– Хочешь не хочешь, а надо признать, что я дороговато обошелся своему господину!
Фикс молча смотрел на мистера Фогга, и кто знает, какие побуждения боролись в нем в эти минуты. Что касается миссис Ауды, она сжимала обеими руками руку джентльмена, но не могла вымолвить ни единого слова!
Между тем Паспарту, как только подошли к станции, стал искать глазами поезд. Он полагал, что состав ждет их здесь, готовый отбыть в Омаху, и надеялся, что еще удастся наверстать потерянное время.
– Поезд! Где же поезд? – закричал он.
– Уехал, – отвечал Фикс.
– Когда прибудет следующий? – осведомился Филеас Фогг.
– Сегодня вечером, не раньше.
– Вот как, – бесстрастно обронил непробиваемый джентльмен.
Глава XXXI
в которой инспектор Фикс принимает близко к сердцу интересы Филеаса Фогга
Итак, Филеас Фогг потерял двадцать часов. Паспарту, невольный виновник этого опоздания, был в отчаянии. Он положительно разорил своего хозяина!
Тут полицейский инспектор подошел к мистеру Фоггу и, глядя ему прямо в лицо, спросил:
– Сударь, вы действительно так спешите? Это очень серьезно?
– Очень, – отвечал Филеас Фогг.
– Уточним, прошу вас, – настаивал Фикс. – Вы в самом деле заинтересованы в том, чтобы 11-го быть в Нью-Йорке до девяти вечера – часа отправления ливерпульского пакетбота?
– В высшей степени заинтересован.
– А если бы ваша поездка не была прервана этим индейским нападением, вы бы добрались до Нью-Йорка 11-го утром?
– Да, на двенадцать часов раньше отплытия пакетбота.
– Ясно. Стало быть, вы опаздываете на двадцать часов. Между двадцатью и двенадцатью часами разница в восемьчасов. Их-то и надо наверстать. Не хотите попробовать?
– Пешком? – усмехнулся мистер Фогг.
– Нет, в санях, – сказал Фикс. – В санях с парусом. Один человек предлагал мне такое транспортное средство.
Речь шла о том неизвестном, который заговорил с полицейским инспектором ночью. Тогда Фикс отказался от его предложения.
Филеас Фогг сначала ничего не ответил Фиксу, но когда тот указал ему на человека, о котором шла речь (он как раз прохаживался перед зданием вокзала), джентльмен подошел к нему. Не прошло и минуты, как он вместе с этим американцем – его звали Мадж – вошел в лачугу, что прилепилась под стеной форта Керней.
Там мистер Фогг внимательно осмотрел довольно своеобразное устройство, нечто вроде платформы на двух длинных бревнах, наподобие санных полозьев, слегка закругленных спереди. На нем могли поместиться человек пять или шесть. На платформе, не посередине, а ближе к передней ее части, была установлена высокая мачта с прикрепленным к ней огромным косым парусом. В основание мачты, прочно закрепленной металлическими вантами, упирался железный бушприт, предназначенный для большого кливера. В задней части саней имелось нечто вроде штурвала, позволявшего управлять этим диковинным устройством.
Как видим, это были сани с оснасткой парусника. В зимнюю пору на выстуженной равнине, где поезда застревают из-за снежных заносов, такие сани дают возможность быстро преодолевать расстояние от одной станции до другой. К тому же они весьма щедро оснащены парусами – даже лучше, чем гоночные яхты, ведь им не угрожает опасность опрокинуться. При попутном ветре сани эти скользят по снежным просторам, словно курьерский поезд, а то и быстрее.
Торг между мистером Фоггом и владельцем этого сухопутного корабля не занял и минуты. Довольно сильный западный ветер благоприятствовал их затее. Снежный наст затвердел, и Мадж брался доставить мистера Фогга на станцию Омаха за несколько часов. Оттуда поезда отходили часто, и было много железнодорожных веток, ведущих в Чикаго и Нью-Йорк.
Появлялась возможность наверстать потерянное время. Так что колебаться не стоило, оставалось только решиться на это.
Не желая подвергать миссис Ауду такому мучительному испытанию, как поездка на открытом воздухе в стужу, которая при быстром движении станет еще нестерпимее, мистер Фогг предложил ей остаться на станции Керней под охраной Паспарту. Он собрался поручить этому честному малому доставить молодую женщину в Европу в более приемлемых условиях и по самой лучшей дороге.
Однако миссис Ауда не пожелала расстаться с мистером Фоггом, и Паспарту пришел в восторг от ее решения. Ему ни за что на свете не хотелось покидать своего хозяина, тем более, что сопровождать его должен был не кто иной, как Фикс.
Что думал при этом сам инспектор полиции, трудно сказать. Была ли его убежденность поколеблена возвращением Филеаса Фогга, или детектив считал его неимоверно ловким мошенником, который, объехав вокруг света, возомнил, что теперь в Англии ему абсолютно ничто не угрожает? Может быть, Фикс действительно изменил свое мнение о Филеасе Фогге? Но поскольку он, тем не менее, решил исполнить свой долг, ему больше всех не терпелось вернуться в Англию, вот он и прилагал все силы, чтобы ускорить возвращение.
В восемь часов сани были готовы отправиться в дорогу. Путешественники – есть соблазн по-прежнему называть их пассажирами – уселись на свои места, плотно закутавшись в дорожные одеяла. Два огромных паруса были подняты, и сани, гонимые ветром, заскользили по снежному насту со скоростью сорок миль в час.
От форта Керней до Омахи, если спрямить путь «по полету пчелы», как выражаются американцы, – не больше двухсот миль. Только бы продержался попутный ветер, тогда это расстояние можно одолеть за пять часов. Если обойдется без происшествий, к часу дня сани должны достичь Омахи.
Ну и поездка! Путники зябко жались друг к другу. Разговаривать было невозможно. От стужи, которая на такой скорости стала еще нестерпимей, захватывало дух. Но сани скользили по равнине так же легко, как корабль по лону вод, – качка, по крайней мере, была не слабее морской. Когда, взметая поземку, налетали порывы ветра, казалось, будто сани взмывают над землей на своих парусах, подобных широким крыльям, размах которых огромен. Мадж твердо держал курс, посредством штурвала заставляя сани двигаться по прямой. Правда, они так и норовили отклониться от курса, но он ловко выправлял их ход, орудуя чем-то вроде кормового весла. Все паруса были в действии. Переставили кливер, подняли стеньгу и поставили топсель; все они вместе увеличивали скорость движения саней. Определить ее математически точно было невозможно, но что она была не меньше сорока миль в час, уж это наверняка.
– Если ничто не сломается, успеем! – сказал Мадж.
Он был живо заинтересован в том, чтобы уложиться в назначенный срок, ведь мистер Фогг, верный своим принципам, посулил ему щедрую награду.
Равнина, которую сани пересекали по прямой, была плоской, словно морская гладь. Можно было принять ее за огромный замерзший пруд. Рельсовый путь, что обслуживает эту территорию, пролегает с юго-запада на северо-западчерез Гранд-Айленд, Кдлумбус(крупный город штата Небраска), Скайлер и Фримонт, потом ведет в Омаху, но все время тянется правым берегом Платт-ривер. Сани сокращали этот путь, проходя по хорде дуги, которую описывает железная дорога. Мадж мог не опасаться, что их остановит небольшая излучина, которую Платт-ривер образует перед Фримонтом: мороз накрепко сковал реку. Итак, на всем протяжении пути не ожидалось никаких препятствий. Теперь Филеасу Фоггу угрожали только два обстоятельства: поломка саней и перемена ветра (или наступление штиля).
Однако ветер не слабел. Напротив. Он так бесился, что мачта гнулась, хотя ее надежно удерживали крепкие ванты. Эти металлические тросы, похожие на струны какого-то огромного музыкального инструмента, гудели от ветра, словно дрожа от прикосновений незримого смычка. Сани неслись под жалобную мелодию, пронзительную и на редкость истошную.
– Эти тросы звенят на все лады, – заметил Филеас Фогг.
Больше он за всю дорогу не произнес ни слова. Миссис Ауда, тщательно закутанная в меха и дорожные одеяла, была защищена от пронизывающего холода – настолько, насколько возможно. Что до Паспарту, его физиономия была красна, как солнечный диск, на закате ныряющий в туман, но он с удовольствием вдыхал колючий ледяной воздух. Наделенный несокрушимой верой в лучшее, он уже снова тешил себя воскресшими надеждами. Вместо того, чтобы прибыть в Нью-Иоркутром, они туда доберутся к вечеру, но беда невелика: еще есть шанс, что это случится до отправления ливерпульского пакетбота!
Паспарту даже почувствовал острое желание пожать руку своему «союзнику» Фиксу. Он сознавал, что именно детектив раздобыл для них такие сани, а ведь это – единственное средство прибыть в Омаху вовремя. Но Бог весь какое предчувствие охладило его порыв, и он сохранил обычную сдержанность в отношении этого человека.
По крайней мере, одну вещь Паспарту знал точно: пока жив, он будет помнить, какую жертву принес мистер Фогг, без колебаний решив вырвать его из рук индейцев сиу. Он же рисковал и своим состоянием, и жизнью… Нет, его слуга никогда этого не забудет!
Пока каждый предавался своим размышлениям, столь между собой несходным, сани летели по нескончаемому снежному ковру. Если им и случалось пересекать мелкие речки, притоки Литл-Блу-ривер или ее притоков, путешественники этого не замечали. Ведь на полях и воде лежал один и тот же белоснежный покров. Вокруг ни души. Расположенная между Тихоокеанской железной дорогой и ее ответвлением, идущим от форта Керней на Сент-Джозеф, эта пустынная равнина напоминала большой необитаемый остров. Нигде ни селения, ни станции, ни хотя бы форта. Время от времени мимо с быстротой молнии проносилось какое-нибудь дерево, искривленное, словно гримасничающий скелет, чьи белые обледенелые сучья корчились под ударами пурги. Иногда стаи диких птиц разом, словно по команде, взлетали над равниной. Порой еще и голодные, тощие койоты, похожие на стаю теней, бросались вслед за санями, гонимые своей свирепой нуждой. Тогда Паспарту, сжимая в руке револьвер, готовился открыть огонь по тем из преследователей, кто окажется слишком близко. Случись что-нибудь с санями, путешественникам при любой вынужденной остановке грозило нападение этих злобных хищников, и тут уж дело могло кончиться хуже некуда. Но сани держались крепко и так быстро мчались вперед, что скоро воющая стая оставалась далеко позади.
В полдень Мадж по каким-то своим приметам определил, что застывшую подснежным покровом Плат-ривер они уже миновали. Он помалкивал, но больше не сомневался, что до станции Омаха остается всего миль двадцать.
Так и оказалось: часа не прошло, как этот искусный кормчий, оставив штурвал, торопливо бросился убирать паруса, скатывая их в рулоны, между тем как сани, влекомые силой инерции, прокатились безо всяких парусов еще полмили.
Наконец они остановились, и Мадж, указывая на скопление крыш, белых от снега, сказал:
– Приехали.
Да, приехали! Они и вправду достигли Омахи, станции, от которой на восток Соединенных Штатов ежедневно идет множество поездов!
Спрыгнув на землю, Паспарту и Фикс стали разминать свои затекшие конечности. Потом они помогли сойти с саней мистеру Фоггу и молодой женщине. Филеас Фогг щедро расплатился с Маджем, Паспарту дружески пожал ему руку, и все поспешили к городскому вокзалу.
Омаха для штата Небраска – важный город: здесь заканчивается Тихоокеанская железная дорога, соединяющая бассейн Миссисипи с Тихим океаном. Из Омахи прямо на восток, в Чикаго, ведет другая линия, так называемая Чикаго-Рок-Айлендская дорога, обслуживающая пятьдесят промежуточных станций.
Поезд прямого сообщения уже стоял у платформы. Филеас Фогг и его спутники бросились к нему. Едва успели к отходу. В Омахе они так ничего и не видели, но даже Паспарту сказал себе, что сожалеть об этом не подобает: сейчас не время заботиться об удовлетворении своего любопытства.
На полной скорости поезд промахнул штат Айова, города Каунсил-Блафс, Де-Мойн, Айова-Сити. Ночью он пересек Миссисипи близ Давен-порта и через Рок-Айленд вошел в пределы штата Иллинойс. На следующий день, 10 декабря, в четыре часа вечера, поезд прибыл в Чикаго – город, уже восставший из руин. Ныне он горделивее, чем когда-либо, раскинулся на берегах прекрасного озера Мичиган.
Чикаго отделяют от Нью-Йорка девять тысяч миль. Поезда здесь ходят часто, и мистер Фогг без промедления пересел на один из них. Быстроходный локомотив линии Питтсбург-Форт-Уэйн-Чикаго помчался вперед на такой скорости, словно понимал, что достопочтенному джентльмену нельзя терять времени. Он молнией пронесся по штатам Индиана, Огайо, Пенсильвания, Нью-Джерси, миновал несколько городов с античными названиями; в некоторых из них уже были проложены улицы, по рельсам двигались вагончики конки, но домов еще не выстроили. Наконец показался Гудзон, и 11 декабря, в четверть двенадцатого ночи, поезд остановился у вокзала, расположенного на правом берегу реки, напротив пароходного причала компании «Кунард-лайн», иначе «Британского и Североамериканского королевского почтово-грузового пароходства».
Но «Китай», пароход, идущий в Ливерпуль, отчалил сорок пять минут назад!
Глава XXXII
в которой Филеас Фогг бросает вызов злой судьбе
Вместе суплывшим «Китаем» за горизонтом, казалось, скрылась последняя надежда Филеаса Фогга.
Ведь в самом деле из пакетботов, курсирующих между Европой и Америкой, будь то суда французской Трансатлантической компании или «Уайт-стар-лайн», пароходы компании «Иммэн», Гамбургской линии или какие-либо еще, ни один не годился для успешного завершения пари упрямого джентльмена.
Скажем, французский пароход «Перейр» Трансатлантической компании, чьи великолепные корабли по быстроходности равны судам других линий, а по удобствам превосходят любое из них, отплывал лишь послезавтра – 14 декабря. К тому же он, как и корабли Гамбургской компании, шел не прямо в Ливерпуль или Лондон, а заходил в Гавр, а такой лишний крюк – от Гавра до Саутгемптона – задержал бы Филеаса Фогга и окончательно свел на нет его последние усилия.
Что касается пакетботов Иммэн, один из которых, «Город Париж», должен был выйти в море уже завтра, о них и думать не стоило. Эти суда предназначены в основном для перевозки эмигрантов. Их машины слабы, они ходят как под паром, так и под парусами, но с довольно незавидной скоростью. На рейс из Нью-Йорка в Англию у них уходит времени больше, чем оставалось у мистера Фогга на то, чтобы выиграть свое пари.
Джентльмен в полной мере оценил эту ситуацию, почерпнув все необходимые сведения из путеводителя Бредшоу, где содержится подробнейшее расписание трансокеанских рейсов.
Паспарту был в отчаянии. Его убивала мысль, что они упустили пакетбот из-за каких-то сорока пяти минут опоздания. И ведь это он всему виной! Вместо того чтобы помогать своему хозяину, он только и делал, что сеял препятствия на его пути! Перебирая в памяти все дорожные невзгоды, подсчитывая суммы, истраченные впустую, притом исключительно в его интересах, думая о громадном пари, не говоря уж об основательных тратах на путешествие, отныне ставшее бесполезным и вконец разорившее мистера Фогга, он клял себя на чем свет стоит.
А между тем сам мистер Фогг ни единым словом не упрекнул его. Покидая пристань, откуда пароходы уходили в трансатлантические рейсы, он только обронил:
– Завтра решим. Идемте.
Переправившись через Гудзон на катерке Джерсийской городской пароходной компании, Филеас Фогг, миссис Ауда, Фикс и Паспарту уселись в фиакр, доставивший их на Бродвей, к отелю «Святой Николай». В их распоряжение были предоставлены номера, где они и провели ночь, короткую для Филеаса Фогга, который спал как убитый, но долгую для миссис Ауды и их спутников, от волнения так и не уснувших.
И вот наступил следующий день, 12 декабря. От шести часов утра 12-го до назначенного срока, то есть восьми часов сорока пяти минут вечера 21-го, оставалось девять дней, тринадцать часов и сорок пять минут. Так что если бы Филеас Фогг отплыл вчера на «Китае», одном из самых быстроходных судов компании «Кунард-лайн», он вовремя прибыл бы в Ливерпуль, а потом – ив Лондон!
Уходя утром один из отеля, мистер Фогг поручил слуге ждать его и предупредить миссис Ауду, чтобы она была готова выехать в любую минуту.
Мистер Фогг направился к берегам Гудзона и среди кораблей, стоявших у причала или посреди реки на якоре, стал зорко высматривать те, что собирались отчаливать. Некоторые из них уже подняли флаг и готовились выйти в море с утренним приливом, так как из огромного великолепного Нью-Йоркского порта ежедневно во все концы света уходят сто кораблей. Увы, по большей части это были парусные суда, они Филеасу Фоггу не подходили.
Казалось, последняя попытка этого джентльмена обречена на провал, но тут он приметил менее чем в одном кабельтове от берега судно, оно стояло на якоре перед Бэтери. Это был торговый винтовой пароход изящных пропорций, дым из его трубы валил густыми клубами – верный признак, что судно готовится к отплытию.
Филеас Фогг окликнул лодочника, сел в лодку, несколько весельных взмахов – и он был уже у трапа «Генриетты», парохода с металлическим корпусом, но деревянным такелажем.
Капитан судна находился на борту. Филеас Фогг поднялся на палубу и попросил позвать его. Тот появился незамедлительно. Это был человек лет пятидесяти из породы морских волков, похоже, изрядный ворчун, субъект с тяжелым характером. Зеленоватые выпученные глаза, физиономия цвета окисленной меди, рыжие волосы, мощная шея – вот уж кого никто бы не принял за светского денди!
– Вы капитан? – спросил мистер Фогг.
– Он самый.
– Я Филеас Фогг из Лондона.
– А я Эндрю Спиди из Кардифа.
– Когда вы отплываете?
– Через час.
– Пункт назначения?
– Бордо.
– Что за груз?
– Никакого груза. Камни в трюме. Иду с балластом.
– У вас есть пассажиры?
– Нет. И никогда не будет. Обременительный товар. Кочевряжится, рассуждает…
– У вашего судна хороший ход?
– Узлов одиннадцать-двенадцать. «Генриетту» все знают!
– Возьметесь отвезти меня в Ливерпуль? И еще трех человек?
– В Ливерпуль? Почему бы не в Китай?
– Я сказал «в Ливерпуль».
– Нет!
– Нет?
– Нет. Я собрался в Бордо, в Бордо и отправлюсь.
– Так вы не перемените решение? Ни за какие деньги?
– Ни за какие деньги.
Тон капитана явно давал понять, что разговор окончен.
– Однако владельцы «Генриетты»… – начал было Филеас Фогг.
– Владельцы – это я, – отрезал капитан. – Судно принадлежит мне.
– Я его зафрахтую.
– Нет.
– Я куплю его у вас.
– Нет.
Филеас Фогг и бровью не повел. А ведь положение складывалось отчаянное. Нью-Йорк не Гонконг, где было так просто все уладить, и капитан «Генриетты» не чета сговорчивому хозяину «Танкадеры». До сих пор джентльмен устранял все препятствия при помощи денег. На сей раз деньги не помогли.
Между тем ему было необходимо так или иначе найти способ пересечь Атлантику на корабле, не на воздушном же шаре лететь, это уж слишком рискованно. Да к тому же и невыполнимо.
Похоже, однако, что Филеаса Фогга посетила некая идея. Он сказал капитану:
– Ладно, а в Бордо вы согласитесь меня доставить?
– Нет. Разве что вы мне заплатите двести долларов!
– Предлагаю вам две тысячи (10 000 франков).
– На человека?
– На человека.
– При том, что вас четверо?
– Да.
Капитан Спиди так энергично потер себя по лбу, словно пытался содрать кожу. Заработать восемь тысяч долларов, даже не изменив маршрута, – такое предложение стоило того, чтобы пересилить, как ни трудно, свою ярко выраженную неприязнь к пассажирам, кем бы они ни были. К тому же пассажир за две тысячи долларов – это уже не пассажир, а драгоценный товар.
– Я отплываю в девять, – коротко сказал капитан Спиди. – А вы-то с вашимиуспеете?..
– В девять мы будем на борту! – также коротко отвечал мистер Фогг.
Часы показывали половину девятого. Сойти с «Генриетты», сесть в экипаж, доехать до гостиницы «Святой Николай», захватить с собой миссис Ауду, Паспарту и даже неразлучного Фикса, чей проезд он так щедро взялся оплатить, – все это джентльмен проделал, ни на миг не утратив спокойствия, присущего ему в любых обстоятельствах.
Когда «Генриетта» отчалила, на борту были все четверо.
Узнав, в какую сумму обойдется это последнее плавание, Паспарту издал одно из своих протяжных «0-о-о!», проходящих по всем ступеням нисходящей хроматической гаммы!
Инспектор Фикс подумал про себя, что эта авантюра влетит таки в копеечку Английскому банку. По прибытии в Лондон, даже если господин Фогг не выбросит в море еще несколько пачек банкнот, его саквояж наверняка полегчает более чем на семь тысяч фунтов стерлингов (175 000 франков)!
Глава XXXIII
в которой Филеас Фогг остается на высоте положения
Час спустя пароход «Генриетта» миновал плавучий маяк, отмечающий вход в Гудзон, и, обогнув мыс Санди-Хук, вышел в открытое море. Днем он прошел мимо Лонг-Айленда в виду маяка Файр-Айленд и понесся на восток.
Назавтра, то есть 13 декабря, в полдень на мостик взошел человек, чтобы определить координаты судна. Разумеется, надо полагать, что это капитан Спиди. Ничуть не бывало! Это был Филеас Фогг, эсквайр.
Что касается Спиди, он был просто-напросто заперт в своей каюте на ключ и там бесновался, испуская злобные вопли, впрочем, хоть ярость капитана и доходила до пароксизма, такие чувства с его стороны следовало признать простительными.
Как это случилось? Да очень просто! Филеас Фогг стремился в Ливерпуль. Капитан не пожелал доставить его туда. Тогда наш джентльмен согласился следовать в Бордо, но за тридцать часов, проведенных на борту, так удачно манипулировал банкнотами, что всех, от матросов до кочегаров, привлек на свою сторону, благо экипаж состоял из довольно темных личностей да и капитан Спиди со своими людьми не ладил. Вот почему теперь его командирское место занял Филеас Фогг, капитан сидел взаперти в каюте, а «Генриетта» шла в Ливерпуль.
Однако стоило посмотреть, как мистер Фогг управляет судном, и становилось более чем ясно, что этот джентльмен некогда был моряком.
Чем кончится подобная авантюра, никто пока знать не мог. Как бы там ни было, миссис Ауду неотступно терзало беспокойство, но об этом она и словом не обмолвилась. Фикс же поначалу был ошарашен. А вот Паспарту находил, что дело оборачивается просто восхитительно.
Капитан Спиди не зря говорил, что его судно дает «одиннадцать-двенадцать узлов»: скорость «Генриетты» действительно держалась в этих пределах.
Если – сколько их, этих «если»! – итак, если море не разбушуется сверх меры, если не задует восточный ветер, если судно не постигнет какая-нибудь авария и в машинном отделении не будет поломок, «Генриетта» сможет за оставшиеся девять дней пройти три тысячи миль, отделяющих Нью-Йорк от Ливерпуля. Однако верно и то, что история с захватом «Генриетты» вместе с делом «о краже из банка» грозила завести джентльмена несколько дальше, чем он бы того желал.
Рейс проходил поначалу в самых благоприятных условиях. Море волновалось, но не слишком, день за днем дул юго-западный ветер, казалось, очень стойкий, «Генриетта» развернула паруса и мчалась вперед не хуже настоящего трансатлантического судна.
Паспарту был в восторге. Француза восхищал последний подвиг его хозяина, о возможных последствиях которого он не желал думать. Никогда еще экипаж судна не видел такого веселого, ловкого парня. Его приветливость не знала границ, он изумлял матросов своими цирковыми трюками, расточал им любезности и угощал самыми зажигательными напитками. В угоду ему матросы несли службу, как джентльмены, а кочегары раздували в топках огонь, как герои. Его лучезарное настроение, такое заразительное, передалось всем. Он забыл обо всем – о перенесенных тяготах, о невзгодах. Думал лишь о той цели, что казалась совсем близкой, и подчас так сгорал от нетерпения, как будто его самого поджаривали в топках «Генриетты». Честный малый также частенько вертелся возле Фикса, поглядывал на него так красноречиво, будто говорил: «То-то же, – однако ни слова не произносил, ведь к прежней дружбе возврата не было.
К тому же теперь Фикс, следует признать, больше ничего не понимал! Захват «Генриетты», подкуп ее экипажа и то, что этот Фоггуправлял судном, будто заправский моряк, – это стечение обстоятельств совершенно сбило его с толку. Он не знал что и думать! Хотя, в конечном счете, джентльмен, начавший с кражи пятидесяти пяти тысяч фунтов, вполне мог кончить похищением судна. Так Фикс, естественно, пришел к мысли, что «Генриетта» под управлением Фогга ни в коем случае не придет в Ливерпуль, а направится в какое-нибудь такое место, где вор, ставший пиратом, окажется в полной безопасности! Такая гипотеза, надо признать, выглядела как нельзя более убедительной, и детектив стал очень серьезно раскаиваться, что ввязался в это дело.
Что касается капитана Спиди, он продолжал драть глотку у себя в каюте, и Паспарту, которому было поручено заботиться о его пропитании, как ни был силен, эту обязанность исполнял с величайшими предосторожностями. Сам же мистер Фогг держался так, будто и понятия не имел, что на корабле имеется другой капитан.
Тринадцатого декабря «Генриетта» оставила позади Большую Ньюфаундлендскую банку. Этот прибрежный район очень труден для судоходства. Здесь, особенно зимой, часты туманы и ужасные шквалы. Барометр еще накануне резко упал, предвещая близкую перемену погоды. И действительно, за ночь сильно похолодало, к тому же ветер неожиданно переменил направление и задул с юго-востока.
Это было серьезной помехой. Мистер Фогг, чтобы не сбиться с курса, приказал убрать паруса и поддать пару. И все же движение судна замедлилось, теперь крутые морские валы разбивались о его форштевень. Сильная килевая качка также уменьшала скорость. Ветер, непрестанно крепчая, мало-помалу превращался в ураганный, и создавалось впечатление, что вскоре «Генриетта» не сможет выдерживать напор волн. А если бы пришлось отдаться на волю шторма, это было бы бегство в неизвестность, чреватое всеми мыслимыми опасностями.
По мере того как темнело небо над океаном, мрачнела и физиономия Паспарту. Целых двое суток этот честный малый был во власти смертельного ужаса.
Зато мистер Фогг показал себя отважным моряком, умеющим противостоять стихии. Он упорно держался избранного курса, даже не сбавляя пара. Когда «Генриетте» не удавалось взлететь на гребне волны, она проходила водяной вал насквозь: с палубы смывало все начисто, но судно продолжало путь. Подчас бывало и так, что под напором волн корма задиралась, винт оказывался над водой, его лопасти бешено вращались вхолостую. А «Генриетта» по-прежнему не сдавалась.
Все-таки ветер, хоть и усилился, но не настолько, чтобы можно было опасаться. Это не был один из тех ураганов, когда скорость ветра достигает девяноста миль в час. Тем не менее он оставался очень свежим и, к несчастью, упорно дул с юго-востока, не позволяя развернуть паруса. А между тем (мы это вскоре увидим) было бы куда как кстати, если бы они пришли на помощь пару!
Наступило 16 декабря, то есть прошло семьдесят пять суток со дня отъезда из Лондона. В целом «Генриетта» шла недурно, пугающего опоздания пока не наблюдалось. Она уже прошла около половины пути, и самые опасные его участки остались позади. Если бы дело происходило летом, можно было бы ручаться за успех, но зимой мореплаватели всецело зависели от прихотей этого сурового сезона. Теперь Паспарту больше помалкивал. В глубине души он лелеял надежду, что ежели ветер и подведет, на пар можно положиться.
Но в тот день механик, взойдя на палубу, подошел к мистеру Фоггу и о чем-то очень оживленно заговорил с ним.
Сам не зная, почему, – должно быть, это было предчувствие, – Паспарту ощутил смутную тревогу. Он отдал бы одно из своих ушей, только бы другим услышать, о чем они там толкуют. Все же ему удалось уловить несколько слов, в том числе такую фразу, произнесенную его господином:
– Вы уверены в том, что говорите?
– Уверен, сударь, – отвечал механик. – Не забывайте, что мы с первого дня рейса поддерживаем огонь во всех котлах. Наших запасов угля хватило бы, чтобы дойти из Нью-Йорка под малыми парами в Бордо, но до Ливерпуля и на всех парах – это нереально!
– Я подумаю, – отвечал мистер Фогг.
Теперь Паспарту понял все. Его охватила смертельная тревога.
Значит, топлива не хватит!
«Ну, если мой господин и тут справится, поистине это будет значить, что он великий человек!» – подумалось ему.
Тут ему повстречался Фикс, и Паспарту, не выдержав, ввел его в курс дела.
– Стало быть, – процедил сыщик, стиснув зубы, – вы верите, что мы направляемся в Ливерпуль?
– Черт возьми, куда же еще?
– Дурак! – буркнул полицейский инспектор и, пожав плечами, удалился.
Паспарту собрался было самым решительным манером расквитаться за такое определение, подлинного смысла которого он, собственно, не смог понять, но решил, что бедняга Фикс, должно быть, ужасно обескуражен, его самолюбие уязвлено тем, что он, как последний недотепа, объехал вокруг света по ложному следу. Подумав так, парень махнул на обиду рукой.
Но какое решение примет теперь Филеас Фогг? Даже вообразить мудрено… А между тем, похоже, флегматичный джентльмен таки решился на что-то. В тот же вечер он вызвал к себе механика и сказал ему:
– Разведите огни вовсю. Пока полностью не израсходуем топливо, будем идти на всех парах.
Скоро огонь в топках «Генриетты» загудел, из труб стали вырываться очень густые клубы дыма.
Итак, судно продолжало мчаться на всех парах. Но двадня спустя, 18 декабря, случилось то, о чем предупреждал механик: он объявил, что топливо закончится еще до наступления ночи.
– Не сбавляйте огня! – отвечал мистер Фогг. – Напротив, повышайте давление до предела.
В тот день, определив широту и долготу, на которых находилось судно, Филеас Фогг вызвал к себе Паспарту и велел привести к нему капитана Спиди. Это было все равно, как если бы ему предложили выпустить на волю тигра! Спускаясь с мостика, славный малый бормотал про себя:
– То-то он взбесится!
Действительно, спустя несколько минут, изрыгая брань и проклятья, в рубку влетела бомба. Этой бомбой являлся капитан Спиди, и было очевидно, что она сейчас взорвется.
Первыми словами, которые он насилу смог произнести, задыхаясь от гнева, были:
– Где мы?
Казалось, еще чуть-чуть, и этого достойного человека хватит апоплексический удар, тут уж ему никогда не оклематься.
– Где мы? – повторил он с искаженным от бешенства лицом.
– За семьсот семьдесят миль (300 лье) от Ливерпуля, – с невозмутимым спокойствием отвечал мистер Фогг.
– Пират! – завопил Эндрю Спиди.
– Я пригласил вас, сударь…
– Морской разбойник!
– …сударь, – продолжал Филеас Фогг, – чтобы просить вас продать мне это судно…
– Нет! Всеми чертями клянусь, нет!
– …поскольку мне придется его сжечь.
– Сжечь мое судно?!
– Да, по крайней мере его надводную часть. Нам не хватает топлива.
– Сжечь! – кричал капитан Спиди, потерявший теперь даже способность внятно выговаривать слова. – Судно стоимостью пятьдесят тысяч долларов! (250 000 франков).
– Вот вам за него шестьдесят тысяч (300 000 франков)! – отвечал Филеас Фогг, протягивая капитану пачку банкнот.
Это произвело магическое действие на Эндрю Спиди. Нет такого американца, который не испытал бы приятного волнения при виде шестидесяти тысяч долларов. В одно мгновение капитан забыл и праведный гнев, и то, что его держали в плену, – забыл все, что имел против своего пассажира. Его судну было двадцать лет. Такая сделка – это же золотой шанс! Бомба больше не угрожала взрывом. Мистер Фогг вырвал ее запал.
– А металлический корпус останется мне, – сказал капитан, значительно смягчая тон.
– И корпус, и машина ваши, сударь. По рукам?
– По рукам.
Эндрю Спиди схватил пачку, пересчитал купюры, и они тотчас скрылись в его кармане.
Паспарту при этом зрелище побелел как полотно. С Фиксом едва не сделался удар. Потрачено более двадцати тысяч фунтов, а этот Фогг еще и оставляет владельцу корпус и машину – именно то, в чем состоит основная ценность судна! Впрочем, почему бы и нет, ведь украденная сумма равнялась пятидесяти пяти тысячам фунтов!
Когда Эндрю Спиди положил в карман денежки, мистер Фогг сказал ему:
– Сударь, пусть все это вас не удивляет. Знайте, что если я не вернусь в Лондон 21 декабря к восьми сорока пяти вечера, я потеряю двадцать тысяч фунтов. Ну вот, поскольку я не успел на пакетбот в Нью-Йорке, а вы отказались доставить меня в Ливерпуль…
– И хорошо сделал, пятьдесят тысяч адскихчертей! – закричал Эндрю Спиди. – Ведь на этом я выгадал не меньше сорока тысяч долларов!
Затем прибавил, уже не без некоторой степенности:
– Скажу вам одну вещь, капитан… э?
– Фогг.
– Так вот, капитан Фогг, в вас есть что-то от янки.
Одарив своего пассажира этим замечанием, которое он считал весьма лестным, он собрался удалиться, но Филеас Фогг остановил его.
– Итак, теперь корабль принадлежит мне?
– Само собой, все дерево от киля до клотиков ваше, как договорились!
– Хорошо. Прикажите разобрать внутренние переборки, они пойдут в топку.
Легко представить, сколько понадобилось сухого дерева, чтобы поддерживать достаточное давление пара. В первый же день сожгли полуют, рубку, каюты, отсеки, настил нижней палубы.
Назавтра, 19 декабря, в топку отправились ростры и рангоут с его запасными частями. Мачты срубили и топорами раскрошили на дрова. Экипаж трудился с неимоверным рвением. Паспарту рубил, резал, пилил за десятерых. Азарт разрушения обуял всех.
На следующий день, 20 декабря, огонь пожрал леера, ящики для коек, фальшборт, – все, что еще можно было снять выше ватерлинии, а также большую часть палубы. «Генриетта» смахивала теперь на плавучий док – так ее обкорнали.
И тут на горизонте проступил ирландский берег, замигал маяк Фастенет-Рок.
Тем не менее к десяти вечера судно все еще было на траверзе Квинстауна. У Филеаса Фогга оставалось меньше суток на то, чтобы добраться до Лондона! За такой срок «Генриетта» с трудом могла бы дотащиться до Ливерпуля, даже на всех парах. А отважному джентльмену уже нечего было подбросить в топку!
– Мне вас вправду жаль, сударь, – сказал капитан Спиди, под конец заинтересовавшийся планами мистера Фогга. – Все против вас! Мы еще только у Квинстауна.
– А! – отозвался мистер Фогг. – Так это его огни?
– Да.
– Мы можем войти в гавань?
– Не раньше трех часов. Только во время прилива.
– Подождем! – спокойно отвечал Филеас Фогг. Ничто в его чертах не выдавало того высочайшего душевного подъема, с каким он готовился еще раз вступить в схватку с враждебной судьбой!
А он действительно задумал эту попытку. Ведь Квинстаун – ирландский портовый город, где трансатлантические пакетботы, прибывающие из Соединенных Штатов, мимоходом выгружают мешки с почтой. Их оттуда доставляют в Дублин курьерские поезда, всегда готовые к отправлению. Из Дублина почта на скоростных судах перевозится в Ливерпуль, опережая таким образом на двенадцать часов самые быстроходные пакетботы океанских компаний.
Эти двенадцать часов, которые выгадывает американская почта, рассчитывал тем же способом выиграть и Филеас Фогг. Вместо того, чтобы прибыть к завтрашнему вечеру на «Генриетте» в Ливерпуль, он намеревался попасть туда в полдень. Следовательно, у него останется время, чтобы успеть в Лондон до восьми часов сорока пяти минут вечера.
К часу ночи, пользуясь приливом, «Генриетта» вошла в порт Квинстауна, и Филеас Фогг, обменявшись крепким рукопожатием с капитаном Спиди, оставил последнего на общипанном остове его судна, все еще стоившем половину той цены, за которую оно было продано!
Пассажиры сошли на берег. В это мгновение Фикс испытывал неистовое хищное желание немедленно схватить господина Фогга. Однако он этого не сделал!
Но почему? Происходила ли в нем какая-то тайная борьба? Или он наконец осознал, что ошибся? Как бы то ни было, Фикс ни на шаг не отходил от мистера Фогга. Вместе с ним, миссис Аудой и Паспарту, не успевшими даже дух перевести, Фикс сел в поезд, отходивший из Квинстауна в половине второго ночи, на раннем рассвете все они прибыли в Дублин и тотчас пересели на один из почтовых пароходов. Это было не судно, а настоящий стальной таран с мощным двигателем, дающим возможность, пренебрегая надобностью подниматься и опускаться заодно с волнами, беспрепятственно проходить сквозь них.
Двадцать первого декабря за двадцать минут до полудня Филеас Фогг наконец ступил на ливерпульскую набережную. До Лондона ему оставалось всего шесть часов пути.
Но в этот момент к нему приблизился Фикс, опустил руку на его плечо и, достав из кармана свой ордер, спросил:
– Вы господин Филеас Фогг?
– Да, сударь.
– Именем королевы вы арестованы!
Глава XXXIV
где Паспарту получает повод для игры слов, жесткой и, возможно, непригодной для печати
Итак, Филеас Фогг оказался в тюрьме. Его заперли в полицейском участке при ливерпульской таможне, где он должен был провести ночь в ожидании перевода в Лондон.
В момент ареста Паспарту хотел броситься на сыщика, но полисмены удержали его. Миссис Ауда, подавленная грубостью всего случившегося и ни о чем не знавшая, ничего не могла понять. Паспарту объяснил ей, в чем дело. Мистер Фогг, этот честный и храбрый джентльмен, которому она обязана жизнью, арестован как вор! Молодая женщина протестовала против подобного предположения, возмущалась, плакала, видя, что ничего не может сделать, ничего не может предпринять для спасения своего спасителя.
Фикс же арестовал джентльмена, поскольку этого требовал его долг. А уж решать, виновен он или нет, – дело суда.
И тут Паспарту настигла ужасная мысль, от которой решительно нечем было защититься. Кто, какие он, повинен в этой беде? В самом деле, с какой стати он скрывал от мистера Фогга подоплеку всей авантюры? Когда Фикс открыл ему, кто он таков и что у него за миссия, почему он, Паспарту, вздумал оставить это при себе, не предупредил своего хозяина?
Вовремя осведомленный, тот наверняка сумел бы доказать Фиксу свою невиновность, растолковал бы ему, что тот заблуждается, и уж, по крайней мере, не возил бы за собой на свои же средства эту бестолковую ищейку, чьей первой заботой было задержать его, как только они ступят на землю Соединенного Королевства. Думая о допущенных оплошностях, перебирая в памяти примеры своей неосмотрительности, бедный малый терзался отчаянными угрызениями. Он плакал, на него было больно смотреть. Ему хотелось разбить себе голову!
Несмотря на пронизывающий холод, он и миссис Ауда остались у ворот таможни. Ни тот, ни другая не пожелали уйти. Они хотели еще раз увидеть мистера Фогга.
Что касается самого джентльмена, теперь он был целиком и полностью разорен, и это в момент, когда цель была так близка! Арест безвозвратно погубил его. Прибыв в Ливерпуль 21 декабря в двенадцать без двадцати, он имел в запасе верных восемь часов сорок пять минут, точнее, даже девять пятнадцать, чтобы вовремя явиться в Реформ-клуб, а чтобы добраться до Лондона, ему хватило бы шести часов.
Тот, кто проник бы сейчас в помещение полицейского таможенного поста, застал бы мистера Фогга невозмутимо спокойным, без малейших признаков гнева. Он сидел на деревянной скамье, совершенно неподвижный. Смирившийся? Этого мы не стали бы утверждать. Но, так или иначе, последний удар не лишил его самообладания, по крайней мере с виду. Копилась ли в нем потаенная ярость – страсть того сорта, что чем сдержаннее, тем страшнее, когда она в последний момент вдруг вырвется наружу? Это никому не ведомо. Однако мистер Фогг был здесь, спокойный, ожидающий… Но чего?
Сохранял ли он какую-то надежду? Верил ли еще в успех теперь, когда тюремная дверь захлопнулась за ним?
Так или иначе, но мистер Фогг аккуратно выложил на стол свои часы и смотрел, как движутся стрелки на циферблате. Его губы не произносили ни единого слова, но взгляд был чрезвычайно сосредоточенным.
Ситуация, что ни говори, складывалась ужасная, и хотя проникнуть в сознание Филеаса Фогга не смог бы ни один смертный, зато всякий сумел бы подвести здесь следующий простой итог: если это человек честный, он разорен, если преступник, он пойман.
Обдумывал ли он пути спасения? Проверял, не найдется ли из этой тюрьмы какой-нибудь выход, которым можно воспользоваться? Замышлял ли побег? Надо полагать, его посещало и такое искушение: был момент, когда он обошел камеру, внимательно все осмотрев. Однако массивная дверь была крепко заперта, на окне – железная решетка… Итак, он сел на прежнее место, вынул из кармана свою походную тетрадь и к строчке «21 декабря, суббота, Ливерпуль» приписал: «День 80-й, 11 часов 40 минут утра». И погрузился в ожидание.
Раздался бой часов на здании таможни. Мистер Фогг глянул на свои часы и отметил, что, по сравнению с теми, они спешат на две минуты. Итак, час дня.
А вот уже и два! Если бы сейчас он садился в экспресс, еще оставался бы шанс успеть в Лондон вовремя и прибыть в Реформ-клуб к восьми сорока пяти вечера. На лбу арестованного проступила морщинка. Чуть заметная…
В два часа тридцать три минуты снаружи послышался шум, лязг отпираемых дверей. Раздались голоса Паспарту, потом Фикса.
Глаза Филеаса Фогга сверкнули.
Дверь распахнулась, он увидел миссис Ауду, Паспарту и Фикса. Последний бросился к нему. Его волосы были растрепаны, он так запыхался, что едва мог говорить.
– Сударь, – пролепетал он, – сударь… простите… злосчастное сходство… Вор уже три дня как арестован… вы… свободны!
Филеас Фогг был свободен. Он шагнул кдетективу. Уставился ему прямо в лицо и одним стремительным движением, какого сроду не делал, благо никогда не видел в том нужды, отвел обе руки назад, замахнулся и с точностью автомата ударил злополучного инспектора обоими кулаками сразу.
– Славный удар! – закричал Паспарту и, позволяя себе злую игру слов, достойную француза, добавил: – Черт возьми! Фасон личика изменился: вот что я назвал бы кружевной работой английской выделки, когда шитье и битье отлично рифмуются!
Фикс, сбитый с ног, не произнес ни слова. Он получил то, чего заслуживал. А мистер Фогг, миссис Ауда и Паспарту тотчас устремились прочь от таможни, сели в экипаж и за несколько минут домчались до ливерпульского вокзала.
Мистер Фогг осведомился, нет ли экспресса, готового отбыть в Лондон.
Часы показывали два сорок… Лондонский экспресс тридцать пять минут как отошел.
Тогда Филеас Фогг заказал частный поезд.
На вокзале стояло подпарами несколько быстроходных локомотивов, но согласно правилам железнодорожного движения заказной поезд не мог отойти раньше чем через три часа.
К этому времени Филеас Фогг перебросился с машинистом парой слов относительно некой суммы, которую тот мог заработать, если доставит джентльмена в Лондон вместе с молодой дамой и верным слугой.
Ему надо было за пять с половиной часов покрыть расстояние между Ливерпулем и Лондоном – задача выполнимая, если путь на всем протяжении свободен. Но там случались вынужденные задержки, и когда джентльмен прибыл на вокзал, все лондонские часы били восемь пятьдесят.
Объехав вокруг света, Филеас Фогг вернулся с опозданием на пять минут!..
Итак, он проиграл.
Глава XXXV
в которой Паспарту не вынуждает своего хозяина повторять свое приказание дважды
На следующий день обитатели Сэвилл-роу очень удивились бы, если бы кто-то вздумал утверждать, что мистер Фоггвновь обосновалсяу себя дома. Двери и окна были по-прежнему заперты. При взгляде извне казалось, будто там ничто не изменилось.
Однако в действительности Филеас Фогг, выходя из вокзала, велел Паспарту купить кое-что из съестного, а сам возвратился домой.
Удар, что обрушился на этого джентльмена, он воспринял со своим обычным спокойствием. Разорен! Да еще по вине бестолкового полицейского! Твердыми шагами пройдя такой долгий путь, преодолев столько препятствий, бросив вызов стольким опасностям, выкроив время, чтобы совершить попутно несколько добрых дел, на пороге своего торжества пасть жертвой дурацкого недоразумения, против которого ты бессилен, поскольку не мог его предвидеть: это было ужасно! От крупной суммы, которую он взял с собой в дорогу, остались жалкие гроши. Все его состояние сводилось теперь к двадцати тысячам фунтов, что хранятся в банке братьев Бэринг, но эти двадцать тысяч он должен теперь своим коллегам из Реформ-клуба. После всех трат, которых потребовало путешествие, выигранное пари, разумеется, не обогатило бы его, да он, по всей вероятности, на это и не рассчитывал – он был из тех, кто заключает пари ради чести. Но, будучи проиграно, это пари разорило его вконец. К тому же джентльмен принял решение: он знал теперь, что ему остается сделать.
Одну из комнат в доме на Сэвилл-роу предоставили миссис Ауде. Молодая женщина была страшно подавлена. По некоторым фразам мистера Фогга она догадывалась, что у него зреет какой-то мрачный замысел.
Ведь и вправду известно, до каких прискорбных крайностей подчас доводит этих мономанов-англичан какая-нибудь навязчивая идея. Паспарту тоже, хоть виду не подавал, беспокоился и приглядывал за своим господином.
Но, прежде всего, честный малый поспешил в свою комнату и погасил газовый рожок, горевший восемьдесят дней. В почтовом ящике он нашел счет газовой компании и решил, что остановить эту утечку средств, отвечать за которую ему, более чем своевременно.
Ночь миновала. Мистер Фогг улегся спать, но спал ли он? Что касается миссис Ауды, она ни на миг глаз не сомкнула, не смогла передохнуть. А Паспарту, тот и подавно был начеку, словно пес, стерегущий у хозяйской двери.
Назавтра мистер Фогг позвал его и очень кратко, отрывисто распорядился позаботиться о завтраке для миссис Ауды. Он же ограничится чашкой чая и ломтиком поджаренного хлеба. Пусть миссис Ауда соблаговолит его извинить за то, что он не составит ей компанию ни за завтраком, ни за обедом, поскольку должен привести в порядок свои дела. Это займет все его время, такчто к столу он не спустится. Только вечером он намерен просить миссис Ауду уделить ему несколько минут для разговора.
Паспарту, ознакомленному таким образом с дневной программой, оставалось только приступить к выполнению предписанного. Но он смотрел на своего как всегда невозмутимого господина и все не мог решиться выйти из комнаты. Сердце у него разрывалось, его терзали угрызения совести: он горше, чем когда-либо, винил себя в случившейся непоправимой беде. Да, если бы он предупредил мистера Фогга, если бы вовремя разоблачил планы Фикса, мистер Фогг, конечно, не потащил бы за собой полицейского агента в Ливерпуль и тогда…
Бедняга не мог больше выдержать эту муку.
– Хозяин, господин Фогг, прокляните меня! – вскричал он. – Это моя вина, что…
– Я никого не обвиняю, – отвечал Филеас Фогг очень спокойно. – Ступайте!
И Паспарту волей-неволей пошел докладывать молодой женщине о намерениях своего хозяина. Исполнив это, он от себя добавил:
– Мадам, сам я больше ничего не могу поделать, ровным счетом ничего! У меня нет никакого влияния на хозяина. Может быть, вы…
– Да у меня-то какое может быть влияние? – ответила миссис Ауда. – Мистер Фогг ничьим влияниям не поддается! Разве он когда-нибудь понимал, насколько безгранична моя благодарность, как она переполняет мое сердце? Пожелал ли он хоть раз заглянуть ко мне в душу? Друг мой, его нельзя оставлять одного. Даже на мгновение! Вы говорите, он выражал желание побеседовать со мной сегодня вечером?
– Да, мадам. Речь наверняка пойдет о том, как упрочить ваше положение здесь, в Англии.
– Что ж, подождем, – отвечала молодая женщина в глубокой задумчивости.
Так и вышло, что в этот воскресный день дом на Сэвилл-роу все еще выглядел необитаемым. Впервые с тех пор, как Филеас Фогг в нем поселился, он не пошел в Реформ-клуб, когда башенные часы на здании Парламента пробили одиннадцать.
Да и зачем бы ему показываться в клубе? Коллеги больше не ждали его там. Коль скоро вчера вечером, в ту роковую субботу 21 декабря, Филеас Фогг не появился в клубной гостиной до восьми часов сорока пяти минут, его пари проиграно. У него даже не было надобности обращаться к своему банкиру, чтобы взять у него двадцать тысяч фунтов и передать эту сумму выигравшим. У них на рукахчек с его подписью, им оставалось лишь подписать его и предъявить, чтобы двадцать тысяч были переведены на их счет.
Короче, у мистера Фогга не было нужды выходить из дому, вот он и не выходил. Остался у себя в комнате, наводил порядок в своих бумагах. А Паспарту без конца метался вверх-вниз по лестнице дома на Сэвилл-роу.
Для бедного парня время словно бы остановилось. Он замирал у двери комнаты хозяина, прислушивался и, поступая так, даже мысли не допускал, что проявляет хоть малую нескромность! Он заглядывал в замочную скважину и воображал, что имеет на это полное право! Паспарту ежеминутно опасался какой-нибудь катастрофы. Иногда он вспоминал о Фиксе, но в его душе совершился переворот: злость на полицейского инспектора прошла. Фикс, как и все прочие, не понимал Филеаса Фогга, ошибался на его счет. Выслеживая его и арестовав, сыщик лишь выполнял свой долг, тогда как он, Паспарту… Эта мысль изводила его, он чувствовал себя последним ничтожеством.
В конце концов, когда Паспарту становилось до того тоскливо, что он не мог дальше маяться в одиночестве, он стучался к миссис Ауде, входил в ее комнату, не говоря ни слова, пристраивался в уголке и смотрел на молодую женщину, все еще погруженную в свои мысли.
Вечером, около половины восьмого, мистер Фогг поручил слуге спросить у миссис Ауды, сможет ли она принять его. Через минуту эти двое остались в комнате с глазу на глаз.
Придвинув стул к камину, он сел напротив молодой женщины. На его лице никто не заметил бы и тени волнения. Фогг, объехавший вокруг света, нимало не изменился: он в точности походил на Фогга, который в это путешествие отправился. То же спокойствие, та же невозмутимость.
Минут пять они просидели молча. Затем, подняв глаза на миссис Ауду, он спросил:
– Сударыня, вы мне простите, что я привез вас в Англию?
– Я, господин Фогг?! – воскликнула миссис Ауда, пытаясь унять сердцебиение. – Мне… прощать вас?
– Прошу, позвольте мне договорить, – продолжал мистер Фогг. – Когда я задумал увезти вас подальше от тех мест, где вам грозило столько опасностей, я был богат и рассчитывал передать в ваше распоряжение часть того, чем владел. Ваша жизнь стала бы свободной и счастливой. Но теперь я разорен.
– Мне это известно, мистер Фогг, – отвечала молодая женщина, – и я, в свою очередь, прошу вас простить мне, что последовала за вами и, может быть, – как знать? – тем самым способствовала вашему разорению, задержав вас в пути.
– Сударыня, вам нельзя было оставаться в Индии. Ваше спасение не могло быть гарантировано, пока вы не оказались достаточно далеко от этих фанатиков, чтобы они не могли захватить вас снова.
– Значит, господин Фогг, вы, не ограничиваясь тем, что вырвали меня из рук страшных убийц, вменяли себе в обязанность еще и обеспечить мне достойное положение на чужбине? – уточнила миссис Ауда.
– Именно так, сударыня, – отвечал Фогг, – но обстоятельства повернулись против меня. Тем не менее я прошу у вас позволения использовать для вашего блага то немногое, что у меня осталось.
– Но как же вы, господин Фогг? – пролепетала миссис Ауда. – Что будет с вами?
– Со мной? Мне ничего не нужно, сударыня, – холодно отвечал джентльмен.
– Однако, сударь, как вы намерены распорядиться своим будущим?
– Как подобает, – обронил мистер Фогг.
– В любом случае, – продолжала миссис Ауда, – такому человеку, как вы, бедность не грозит. Ваши друзья…
– У меня нет друзей, сударыня.
– Ваши родные…
– У меня и родных не осталось.
– В таком случае я вам очень сочувствую, господин Фогг. Одиночество – грустная штука. Как, неужели нет ни одной близкой души, которая разделила бы ваши невзгоды? А ведь говорят, что даже нищету легче сносить вдвоем!
– Говорят, сударыня.
Тогда миссис Ауда встала и протянула джентльмену руку со словами:
– Господин Фогг, предлагаю вам родственницу и друга в одном лице. Хотите взять меня в жены?
Услышав это, мистер Фогг, в свою очередь, поднялся с места. Непривычный, словно бы отраженный свет мелькнул в его глазах, губы его почти незаметно дрогнули. Миссис Ауда смотрела на него. Сначала он был поражен искренностью, прямотой, твердостью и нежностью этого чарующего взгляда благородной женщины, которая отважилась на все, лишь бы спасти того, кому сама была обязана всем, потом ее взгляд пронзил его сердце. Он даже зажмурился на миг, словно хотел не дать ему проникнуть еще глубже. Но вот он снова открыл глаза, и тогда…
– Я люблю вас! – сказал он просто. – Да, правда, клянусь всем самым святым, что ни есть на свете, я вас люблю, я весь ваш!
– Ах! – воскликнула миссис Ауда, прижимая руку к сердцу.
Паспартууслышал звонок: его вызывали. Он тотчас же примчался. Мистер Фогг все еще не отпускал руки миссис Ауды. Паспарту понял, и его широкая физиономия засияла, словно тропическое солнце в зените.
Мистер Фогг спросил его, нельзя ли прямо сейчас известить преподобного Сэмюэля Уилсона из Мэрилбоунского прихода, или уже слишком поздно.
В ответ Паспарту одарил его лучшей из своих улыбок:
– Никогда не поздно!
Да и на часах было всего лишь пять минут девятого.
– Стало быть, завтра, в понедельник! – сказал он.
– Завтра, в понедельник? – спросил мистер Фогг, глядя на молодую женщину.
– Завтра, в понедельник! – повторила миссис Ауда.
А Паспарту вышел. Умчался со всех ног.
Глава XXXVI
в которой Филеас Фогг вновь приобретает биржевую ценность
Здесь пришло время рассказать о том, какой переворот в общественном мнении Соединенного Королевства произошел, когда стало известно, что арестован некто Джеймс Стрэнд – подлинный вор, обокравший Английский банк. Его взяли 17 декабря в Эдинбурге.
Еще три дня назад Филеас Фогг считался преступником, которого беспощадно преследовала полиция, ныне же он стал честнейшим из джентльменов, совершающим свое оригинально задуманное кругосветное путешествие с самым скрупулезным соблюдением правил игры. Какой эффект, сколько газетной шумихи! Все те, кто заключали пари за него или против, казалось, думать об этом забыли, а теперь оживились, словно по волшебству. Прежние договоры вновь стали действительными, ставки возобновлялись, и даже, надо отметить, дело приобрело новый размах. Имя Филеаса Фогга теперь снова котировалось на бирже.
Пятеро завсегдатаев Реформ-клуба, коллеги джентльмена, провели эти три дня в некотором беспокойстве. Этот почти забытый Филеас Фогг вновь заставил их вспомнить о себе! Где-то он сейчас? Когда арестовали Джеймса Стрэнда, шел семьдесят седьмой день со дня отъезда Филеаса Фогга, а от него до сих пор ни одной весточки! Уж не погиб ли он? А может, отказался от борьбы? Или продолжает свой путь по намеченному маршруту? И в субботу, 21 декабря, в восемь сорок пять вечера, явится на пороге гостиной Реформ-клуба, словно некое воплощение сверхчеловеческой точности?
Лучше нам отказаться от тщетных попыток описать возбуждение, воцарившееся в различных сферах английского общества за эти три дня. Жаждущие новостей о Филеасе Фогге слали депеши в Азию и Америку, сутра до вечера следили за домом на Сэвилл-роу… Ничего! Полиция, и та уже не понимала, что стряслось с детективом Фиксом, так некстати посланным по ложному следу. Но все это не мешало заключать новые пари, биться об заклад, непрестанно повышая ставки. Филеас Фогг, подобно скаковой лошади, вышел на последний круг. Против него ставили уже не по сто, а по двадцати, по десяти, по пяти против одного, один старый паралитик лорд Олбермейл держал за него пари один к одному.
Вот почему в субботу вечером на Пэлл-Мэлл и соседних улицах собралась толпа. Казалось, громадное скопище маклеров надолго раскинуло свой лагерь вокруг здания Реформ-клуба. Уличное движение было затруднено. Всюду спорили, препирались, орали, объявляли курс «Филеаса Фогга», как на бирже объявляют курс английской валюты. Полисмены сбивались с ног, с трудом сдерживая взбудораженную толпу, и, по мере того как близился условленный час возвращения путешественника, страсти достигали все более немыслимого накала.
Пятеро коллегджентльмена в этот вечер собрались в большой гостиной Реформ-клуба за девять часов до назначенного часа. Банкиры Джон Сэлливен и Сэмюэль Фаллентэн, инженер Эндрю Стюарт, администратор Английского банка Готье Ральф и пивовар Томас Флэнеган – все томились в тревожном ожидании.
В то мгновение, когда часы на стене большой гостиной показали двадцать пять минут девятого, Эндрю Стюарт сказал, вставая с места:
– Господа, срок, о котором мы условились с мистером Фоггом, истекает через двадцать минут.
– В котором часу пришел последний поезд из Ливерпуля? – осведомился Томас Флэнеган.
– В семь двадцать три, – отозвался Готье Ральф, – а следующий придет только в двенадцать десять.
– Что ж, господа, – продолжал Эндрю Стюарт, – если бы Филеас Фогг сошел с поезда в семь двадцать три, он уже был бы здесь. Следовательно, мы можем считать пари выигранным.
– Подождем, – возразил Сэмюэль Фаллентэн. – Не спешите торжествовать. Вы же знаете, наш коллега всем оригиналам оригинал. Недаром он прославился своей точностью во всем. Он никогда не приходит ни слишком рано, ни слишком поздно. Если он и здесь появится в последнюю минуту, это меня не удивит.
– А я, – буркнул Эндрю Стюарт, который, как всегда, походил на комок нервов, – если и увижу его сейчас, все равно не поверю!
– Затея Филеаса Фогга действительно безумна, – согласился Томас Флэнеган. – Как бы он ни был точен, не в его силах предотвратить неизбежные путевые задержки, а тут достаточно потерять два-три дня, чтобы все путешествие пошло насмарку.
– К тому же заметьте, – подхватил Джон Сэлливен, – что мы не получали от нашего коллеги никаких вестей, а между тем на его пути телеграф встречается неоднократно.
– Он проиграл, господа! – не унимался Эндрю Стюарт. – Сто раз проиграл! И учтите еще, что «Китай» – единственный пакетбот из Нью-Йорка, на котором он мог в нужное время добраться до Ливерпуля. Он прибыл вчера. Так вот, «Шиппинг-газет» опубликовала список пассажиров. Имени Филеаса Фогга там нет. Даже если допустить, что в пути ему необычайно везло, сейчас он едва успел добраться до Америки! По мне, он явится не раньше, чем дней через двадцать, так что пора лорду Олбермейлу забыть о своих пяти тысячах фунтов!
– Это совершенно очевидно, – подтвердил Готье Ральф. – Завтра нам останется только предъявить братьям Бэринг чек мистера Фогга.
В это мгновение часы в гостиной пробили восемь сорок.
– Осталось пять минут, – сказал Эндрю Стюарт.
Пятеро коллег переглянулись. Можно допустить, что сердца у них забились чуть быстрее обычного, ведь в конечном счете ставки были исключительно высоки даже для бывалых игроков! Но они не желали ничем выдать свое волнение. И потому согласились, когда Сэмюэль Фаллентэн предложил занять места за карточным столом.
– Я бы не уступил своей доли в пари, – заявил Эндрю Стюарт, садясь, – даже если бы за четыре тысячи фунтов мне предложили три тысячи девятьсот девяносто девять!
В это мгновение часы показывали восемь сорокдве.
Игроки взяли в руки карты, но их взгляд каждое мгновение обращался к циферблату. Как ни велика была их уверенность в победе, можно смело утверждать, что время еще никогда не тянулось для них так долго!
– Восемь часов сорок три минуты, – сказал Томас Флэнеган, снимая колоду, которую протянул ему Готье Ральф.
Затем наступило молчание. В просторной гостиной клуба царил покой. Но снаружи донесся гомон толпы, сквозь который прорывались порой особенно пронзительные крики. Часовой маятник с безукоризненной точностью отбивал секунды. Каждый игрок мог сосчитать этиудары: все они, шестьдесят в минуту, четко отдавались в ушах.
– Восемь сорок четыре! – провозгласил Джон Сэлливен. Он пытался скрыть волнение, но звучание голоса выдало его.
Еще минута – и пари будет выиграно. Эндрю Стюарту и его коллегам стало не до карт. Они их отложили! Теперь они считали секунды!
На сороковой секунде ничего не произошло. На пятидесятой – все еще ничего!
На пятьдесят пятой снаружи донесся гром, словно гроза разразилась: аплодисменты, крики «Ура!», даже проклятия, – и все это сливалось в долгий, не прекращающийся гул.
Игроки встали со своих мест.
На пятьдесят седьмой секунде дверь гостиной распахнулась. Маятник не успел отсчитать шестидесятую секунду, когда на пороге возник Филеас Фогг, а следом за ним, снеся с петель двери клуба, валом валила разгоряченная толпа.
Раздался спокойный голос:
– Вот и я, господа.
Глава XXXVII
где доказывается, что Филеас Фогг, объехав вокруг света, не выиграл ничего, кроме счастья
Да! Это был Филеас Фогг собственной персоной.
Как мы помним, в восемь часов пять минут вечера, примерно через двадцать пять часов после прибытия путешественников в Лондон, хозяин поручил Паспарту сообщить преподобному Сэмюэлю Уилсону о некоем бракосочетании, которое должно совершиться завтра же.
Паспарту, окрыленный этой новостью, не медлил. Он быстро зашагал к дому преподобного Сэмюэля Уилсона, но не застал его. Конечно, Паспарту решил подождать. И прождал добрых минут двадцать, если не больше.
Короче, было уже восемь тридцать пять, когда он вышел от преподобного. Но в каком состоянии! Без шляпы, растрепанный, он бежал, он мчался по тротуару, расталкивая прохожих, не так, как бежит человек, а как несется ураган!
Всего за три минуты он достиг Сэвилл-роу, ворвался в дом и рухнул, задыхаясь, на пороге комнаты Филеаса Фогга.
Но в первое мгновение не смог выговорить ни слова.
– Что случилось? – осведомился мистер Фогг.
– Хозяин… – пролепетал Паспарту, – свадьба… не состоится!
– Не состоится?
– Завтра… невозможно!
– Почему?
– Воскресенье… Завтра воскресенье!
– Понедельник, – сказал мистер Фогг.
– Нет… сегодня… суббота!
– Суббота? Не может быть!
– Да, да, да, да! – завопил Паспарту. – Вы ошиблись на сутки! Мы приехали на двадцать четыре часа раньше… Но теперь осталось всего десять минут!
Тут Паспарту схватил своего господина за ворот и с неудержимой силой потащил за собой!
Увлекаемый подобным манером, Филеас Фогг покинул свою комнату, дом, не успев опомниться, вскочил в кэб, посулил вознице сто фунтов и примчался к Реформ-клубу, раздавив по дороге двух собак и поцарапав пять экипажей.
Когда он входил в большую гостиную, часы показывали восемь сорок пять…
Филеас Фогг исполнил свой замысел – объехал вокруг света за восемьдесят дней!
Он выиграл пари на двадцать тысяч фунтов!
Но теперь возникает вопрос: как мог этот скрупулезно точный, педантичный человек допустить такой просчет? Ошибиться на сутки! Почему, сойдя с поезда в Лондоне, он думал, что дело происходит в субботу 21-го, хотя это была еще только пятница 20 декабря, семьдесят девятый день его путешествия?
Тому была причина. И очень простая.
Сам того не ведая, Филеас Фогг выиграл в дороге целые сутки исключительно потому, что, огибая земной шар, двигался в восточном направлении. Если бы он ехал в противоположную сторону, то есть на запад, он потерял бы целые сутки.
В самом деле, из-за того, что наш путешественник держал путь на восток, навстречу солнцу, день для него сокращался на четыре минуты столько раз, сколько градусов он проезжал в этом направлении. Окружность земного шара делится на триста шестьдесят градусов; если умножить четыре минуты на это число, получится ровно двадцать четыре часа, те самые сутки, что выиграл Филеас Фогг. Иначе говоря, в то время как Филеас Фогг, двигаясь на восток, восемьдесят раз наблюдал прохождение солнца через меридиан, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, видели это только семьдесят девять раз. Вот почему именно в тот день – в субботу, а не в воскресенье, как полагал Филеас Фогг, – они ожидали его в гостиной Реформ-клуба.
Вот если бы знаменитые часы Паспарту, которые он с начала до конца путешествия так упорно отказывался переводить, помимо лондонских часов и минут, показывали дни, по ним можно было бы это узнать!
Итак, Филеас Фогг выиграл двадцать тысяч фунтов. Но поскольку он потратил в дороге около девятнадцати тысяч, в денежном выражении прибыль оказалась ничтожной. Впрочем, как мы уже говорили, эксцентричный джентльмен, затевая это пари, искал борьбы, а не выгоды. Более того: оставшуюся тысячу фунтов он разделил между честным Паспарту и злополучным Фиксом, на которого не мог долго сердиться. Но, заботясь о порядке, удержал все-таки из денег своего слуги сумму, что по его оплошности нагорела за тысячу девятьсот двадцать часов: он ведь забыл потушить газовый рожок!
В тот же вечер мистер Фогг, неизменно бесстрастный, несокрушимо флегматичный, сказал миссис Ауде:
– Этот брак вам по-прежнему подходит, сударыня?
– Господин Фогг, – отвечала миссис Ауда, – это я должна задать вам такой вопрос. Тогда вы были разорены, теперь богаты…
– Прошу прощения, сударыня, но это состояние принадлежит вам. Если бы вы не заговорили об этом браке, мой слуга не пошел бы к преподобному Сэмюэлю Уилсону, я бы не узнал о своей ошибке, и тогда…
– Дорогой господин Фогг… – вздохнула молодая женщина.
– Дорогая Ауда… – произнес мистер Фогг.
Само собой разумеется, что сорок восемь часов спустя состоялось их бракосочетание, и расфуфыренный Паспарту, величавый и ослепительный, фигурировал там как свидетель со стороны невесты. Разве не он ее спас, и не ему ли эти двое были обязаны своим счастьем?
Но назавтра, чуть рассвело, Паспарту громко забарабанил в дверь спальни своего господина.
Она отворилась, и невозмутимый джентльмен предстал на пороге:
– Что такое, Паспарту?
– А то, сударь, что я только сейчас одну вещь смекнул…
– И какую же?
– Что мы могли бы и за семьдесят восемь дней вокруг света объехать!
– Несомненно, – отвечал мистер Фогг, – но только минуя Индию. А если бы мы не пересекали Индию, я не спас бы миссис Ауду, она не стала бы моей женой, и…
И мистер Фогг спокойно закрыл дверь.
Стало быть, так Филеас Фогг выиграл свое пари. За восемьдесят дней совершил кругосветное путешествие! Для этого он использовал все средства передвижения: пароходы, поезда, экипажи, яхты, торговые суда, сани, наконец слона. В этом приключении эксцентричный джентльмен в полной мере проявил свои бесподобные достоинства – хладнокровие и четкость.
Ну, и что? Что он выиграл ценой стольких усилий? Что принес ему этот вояж?
Скажете, ничего? Ладно, ничего, если не считать очаровательной жены, которая – сколь бы невероятным это ни казалось – сделала его счастливейшим из смертных!
По правде говоря, разве это не стоит того, чтобы объехать вокруг света?
Михаил Строгов, или Путешествие из Москвы в Иркутск
Часть первая
Глава I. Бал в Кремле
– Ваше императорское величество, прибыла новая депеша.
– Откуда?
– Из Томска.
– Телеграфная линия прерывается за Томском?
– Связь прервана со вчерашнего дня.
– Прикажите слать телеграммы в Томск каждый час, генерал. И пусть меня держат в курсе.
– Да, государь, – ответил генерал Кусов.
Этот разговор происходил в два часа ночи, когда великолепный бал, который давали в Новом дворце, был в полном разгаре.
Оркестры Преображенского и Павловского полков не переставая играли свои польки, мазурки, экосезы и вальсы, причем только избранные, лучшие из лучших в их репертуаре. Танцующие пары множились, заполняя бесконечные анфилады залов этого дворца, на несколько футов превосходящего высотой старинный Теремной дворец, свидетель стольких ужасных драм старины, разбуженное эхо которых в ту ночь подпевало мелодиям кадрилей.
Впрочем, у фельдмаршала двора нашлось немало помощников, разделяющих с ним его многочисленные обязанности. Великие князья со своими адъютантами, дежурные камергеры, офицеры дворцовой охраны надзирали за порядком танцевальных фигур. Великие княгини, все в бриллиантах, и пышно разодетые придворные дамы доблестно подавали пример женам высших военных и гражданских чинов древней «белокаменной столицы». Вот почему взгляду наблюдателя представилось неописуемое зрелище, когда зазвучал полонез и приглашенные всех рангов попарно заняли свои места в этой размеренным шагом шествующей веренице – действе, на торжествах подобного рода обретающем значение официального, державного танца. Тесное множество длинных платьев с кружевными оборками и обвешанных орденами мундиров при свете доброй сотни люстр, усиленном отражениями от неисчислимых зеркал, – это было ослепительно.
К тому же Георгиевский зал, один из красивейших в Новом дворце, служил достойным фоном для такого впечатляющего шествия высокопоставленных господ и разряженных дам. Свод этого зала, богатая золоченая лепнина которого была уже тронута патиной времени, мягко сиял сверкающими разводами позолоты. Парчовые занавеси на окнах и дверных проемах, ниспадая пышными складками, алели, играли переливами жарких оттенков. На краях тяжелой ткани они дробились и отдавали фиолетовым.
Свет, пронизывающий залы, пробивался сквозь проемы окон, увенчанные полукруглыми арками. Его приглушали слегка запотевшие стекла; при взгляде извне он походил на отблески пожара, своими резкими всполохами разрывающие ночную темень, которая уже несколько часов окутывала весь мерцающий дворец. Неудивительно, что такой контраст привлекал внимание тех гостей, кого танцы не манили. Остановившись у оконных амбразур, они вглядывались во мрак, но не могли различить ничего, кроме нескольких церковных куполов, проступающих там и сям огромными силуэтами, странными среди окружающей тьмы. Внизу, под фигурными балконами, они различали также многочисленных безмолвных часовых, которые бродили там с ружьями, горизонтально лежащими на плече, в островерхих касках, увенчанных языками пламени, – так прихотливо отражался свет, падающий сверху, из дворцовых окон. Еще они слышали шаги патрулей, отбивающие такт на каменных плитах мостовой, может быть, четче, чем ноги танцующих на салонном паркете. Время от времени к ним долетал и крик часового, повторяясь от поста к посту, а порой голос трубы, не вторившей аккордам оркестра, нарушающий общую гармонию своими пронзительно ясными звуками.
Еще ниже, перед фасадом, громоздились бесформенной массой, темнея в широких конусообразных пучках света, падающего из окон Нового дворца, суда, что спускались вниз по течению реки, воды которой, пестрые от бликов мигающего света нескольких маяков, лизали основания каменных набережных.
Главное действующее лицо на этом празднестве, тот, кто, собственно, и устроил его, к кому генерал Кусов обращался, как обращаются только к монархам, был в простом мундире офицера егерского гвардейского полка. С его стороны это было не позерством, а привычкой человека, равнодушного к изысканной роскоши. Его одежда создавала контраст с великолепными костюмами, изобилующими вокруг. Он почти всегда показывался именно в таком виде, окруженный эскортом грузин, казаков, лезгин в сверкающих мундирах кавказских эскадронов.
Этот высокий мужчина со спокойным приветливым лицом, сейчас отуманенным заботой, переходил от одной группы приглашенных к другой, но говорил мало идаже, казалось, не обращал внимания ни на остроты молодых гостей, ни на более серьезные речи высокопоставленных сановников и членов дипломатического корпуса, представителей великих европейских держав. Среди этих проницательных политиков нашлось двое или трое профессиональных физиономистов, убежденных, что заметили на лице хозяина бала признаки беспокойства, причина которого от них ускользала, однако ни один не позволил себе спросить, что его тревожит. Во всяком случае, сам офицер егерской гвардии явно не хотел, чтобы его тайные заботы хоть сколько-нибудь омрачили празднество, а коль скоро он являлся одним из тех редких монархов, которым почти все вокруг привыкли повиноваться даже в мыслях, в веселье бала не возникло даже мимолетной заминки.
Между тем генерал Кусов ожидал, что офицер, которому он только что вручил депешу из Томска, прикажет ему удалиться. Но тот хранил молчание. Он взял телеграмму, прочел ее, и лицо потемнело еще заметнее. Его рука даже потянулась невольно к эфесу шпаги, потом к глазам, он на мгновение прикрыл их ладонью. Казалось, яркий свет тяготил его, он словно бы искал темноты, которая помогла бы без помех заглянуть в себя.
– Таким образом, – заговорил он наконец, увлекая генерала Кусова в оконную нишу, – со вчерашнего дня у нас нет сообщения с великим князем, моим братом?
– Связь потеряна, государь, и есть основания опасаться, что скоро телеграммы из Сибири больше не смогут приходить.
– Однако войска Амурского, Якутского, а также и Забайкальского округов получили приказ немедленно двинуться к Иркутску?
– Этот приказ содержался в той последней телеграмме, которую нам удалось отослать за Байкал.
– После вторжения у нас все еще сохраняется связь с Енисейской, Омской, Семипалатинской и Тобольской губерниями?
– Да, государь, наши депеши туда доходят, и доподлинно известно, что в настоящее время кочевники бухарцы еще не перешли за Иртыш и за Обь.
– А об Иване Огарове, этом изменнике, никаких вестей?
– Никаких, – ответил генерал Кусов. – Начальник полиции не берется утверждать суверенностью, перешел он границу или нет.
– Пусть его приметы немедленно разошлют в Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Колывань, Томск и во все телеграфные пункты, сообщение с которыми еще не прервано!
– Приказания вашего величества будут исполнены незамедлительно, – ответил генерал Кусов.
– Но все это должно оставаться тайной!
С тем генерал, выразив собеседнику почтительную преданность, откланялся, смешался с толпой и вскоре покинул салон, стараясь, чтобы его уход никем не был замечен. Офицер же, с минуту постояв в задумчивости, вновь очутился в окружении военных и политиков, которые, образуя всевозможные группы, толпились в салонах. На лице его снова появилось безмятежное выражение, утраченное так ненадолго.
Впрочем, обстоятельства, которых касался недавний торопливый обмен репликами, не являлись таким секретом, как были склонны полагать офицер егерской гвардии и генерал Кусов. Правда, открыто, в официальной обстановке, о них не говорили – такая словоохотливость «наверху» не поощрялась, – однако кое-кто из высокопоставленных персон был более или менее точно информирован о событиях на границах. Однако, как бы то ни было, об этих предметах, известных им, возможно, лишь приблизительно и не о осуждаемых даже среди членов дипломатического корпуса, беседовали, понизив голос, два человека, чье особое положение на этом приеме в Большом Кремлевском дворце не подчеркивалось ни мундирами, ни орденами. И похоже, они-то располагали довольно точными сведениями.
Как, каким путем, благодаря какой житейской ловкости эти двое простых смертных могли проведать то, о чем столько других лиц, включая самых важных персон, разве что догадывались? Загадка! Уж не одарены ли они пророческим даром или мистической способностью ясновидения? Не обладают ли эти люди особым чутьем, позволяющим рассмотреть то, что совершается за пределами, коими ограничено обычное человеческое восприятие? Или настолько обостренным нюхом, что мгновенно нападают на след самых секретных новостей? Чего доброго, благодаря такой привычке, ставшей второй натурой, эти двое регулярно подпитываются самой свежей информацией, потому-то все их существо трансформировалось, обретя столь неслыханные свойства? Заманчиво допустить, что такое возможно!
То были двое мужчин, один англичанин, другой француз, оба сухощавые, рослые, но один черноволос, как свойственно южанам, обитателям Прованса, другой рыж– сразу видно, джентльмен из Ланкастера. Этот последний, классический англо-нормандский тип, чопорный, холодный флегматик, скупой на слова, сдержанный в движениях, казалось, мог сделать жест или проронить фразу лишь тогда, когда в нем слабела некая пружина, действующая с механической регулярностью. Его партнер, тип галло-романский, напротив, живой, стремительный, высказывал свои мысли не только словами: в его речах, помимо уст, участвовали глаза и руки. Он выражал себя множеством различных способов, тогда как его визави располагал лишь одним, впечатанным в его мозг и отныне неизменным.
Столь очевидное несходство легко заметил бы даже самый поверхностный наблюдатель, но истинный физиономист, присмотревшись к этой парочке иностранцев поближе, не пропустил бы и более глубокий, можно сказать, физиологический контраст. Он мог бы сказать, что там, где француз «смотрит во все глаза», англичанин «обращается в слух».
И в самом деле, оптический прибор первого был чрезвычайно изощрен в процессе использования. Чувствительность его роговицы, по-видимому, не уступала мгновенной реакции тех ловкачей, что узнают карту, едва мелькнувшую перед их глазами при снятии колоды, или примечают крап, для всех прочих невидимый. Короче, этот француз был в высочайшей степени одарен тем, что называют «зрительной памятью».
Англичанина же, по всей видимости, отличала особенная тяга к тому, чтобы слышать и понимать. Стоило звуку чьего-либо голоса коснуться его барабанной перепонки, и он запоминал его на веки вечные, могузнать из тысячи, хоть десять лет пройдет, хоть все двадцать. Разумеется, его уши были лишены возможности двигаться, как у животных, чьи ушные раковины приспособлены для прослушивания обширных пространств. Но поскольку ученые отмечают, что человеческие уши не совсем, а только «почти» неподвижны, мы вправе утверждать, что вышеназванный англичанин умел их и торчком ставить, и прижимать, и поворачивать в разные стороны в своем стремлении улавливать звуки, действуя способом, хоть самую малость, но доступным наблюдению натуралиста.
Здесь уместно добавить, что подобная безукоризненность зрения и слуха служила этим двоим бесценным подспорьем в их профессиональной деятельности, поскольку англичанин служил корреспондентом «Дейли телеграф», а француз… Впрочем, он предпочитал умалчивать о том, с какой газетой или газетами сотрудничает. Когда его об этом спрашивали, он отделывался шуткой, что-де является корреспондентом своей кузины Мадлен. По существу этот француз при всем своем бросающемся в глаза легкомыслии был в высшей степени проницательным человеком и большим хитрецом. Все время болтая о чем придется, порой немного глуповато, невпопад, он, тем не менее, никогда не выбалтывал лишнего, да, может, затем и тарахтел, чтобы надежнее скрыть свое стремление выведать побольше. Сама его словоохотливость служила своеобразной формой молчания, так что он, чего доброго, был еще более замкнутым, чем его собрат из «Дейли телеграф».
И если они оба присутствовали в Кремлевском дворце на балу в ночь с 15 на 16-го июля, то именно в качестве журналистов, призванных расширить кругозор своих читателей посредством описания сего торжества.
Само собой разумеется, что обоих весьма воодушевляла их миссия. Этот мир был им по вкусу, им нравилось с хищным проворством хорьков устремляться по следу самых невероятных новостей, ничто не могло ни устрашить их, ни обескуражить, они обладали несокрушимым хладнокровием и подлинной отвагой профессионалов. Истинные жокеи в этой гонке с препятствиями, неутомимые охотники за информацией, они перемахивали через изгороди, переплывали реки, перепрыгивали через скамейки на стадионе либо в театре с бесподобным азартом чистокровных скакунов, которые жаждут прийти к финишу первыми или умереть!
К тому же их газеты не скупились при оплате – это по сей день вернейший залог быстрого получения самой надежной и проверенной информации. Следует еще прибавить к чести этих двоих, что ни тот, ни другой сроду не подглядывали и не подслушивали секретов личной жизни. Свои способности они пускали в ход лишь тогда, когда на карту были поставлены политические или социальные интересы. Короче, они занимались тем, что с некоторых пор зовется «развернутым репортажем на политическую или военную тему».
Однако, познакомившись с ними ближе, мы убедимся, что оба имели свою, по большей части весьма оригинальную манеру – оценивать события и особенно их последствия. Каждый из них демонстрировал «собственный взгляд на вещи». Но в конечном счете, коль скоро они не руководствовались принципом «за что платят, то и благо» и ни в коем случае себя не щадили, осуждать их за это было бы дурным тоном.
Французского журналиста звали Альсид Жоливе, английского – Гарри Блаунт. Они впервые встретились только что, на этом празднестве в Новом дворце, которое обоим поручили описать для их газет. Несходство характеров да вдобавок профессиональное соперничество отнюдь не должны были способствовать их взаимной симпатии. И все же они не избегали общения, скорее даже стремились взаимно прощупать друг друга на предмет последних новостей. Помимо всего прочего, это были охотники, промышляющие на одной территории, пользуясь одними и теми же средствами. То, чего не хватало одному, мог удачно раздобыть другой, так что даже их интересы требовали, чтобы они ладили между собой и не упускали друг друга из виду.
Итак, в тот вечер оба были начеку: в воздухе носилось что-то настораживающее.
«Будь это лишь стая уток, стрельнуть все-таки стоит!» – сказал себе Альсид Жоливе.
Таковы были причины, внушившие двум журналистам намерение потолковать между собой во время бала, и они, двигаясь к цели отчасти на ощупь, приблизились друг к другу вскоре после того, как генерал Кусов удалился.
– Какой очаровательный маленький праздник, не правда ли, сударь? – с любезной улыбкой заметил Альсид Жоливе, полагая, что уместно начать беседу с этой в высшей степени французской фразы.
– Я уже телеграфировал, что он блистателен! – холодно ответил Гарри Блаунт, используя это слово, существующее специально для того, чтобы выражать восхищение гражданина Соединенного Королевства.
– Тем не менее, – продолжал Альсид Жоливе, – я был вынужден заметить моей кузине…
– Вашей кузине? – удивленно пробормотал Гарри Блаунт, перебивая своего коллегу.
– Да, – усмехнулся Альсид Жоливе, – моей кузине Мадлен. Это с ней я обмениваюсь корреспонденцией! Она так любит быстро получать доброкачественную информацию, моя кузина!.. Вот я и счел себя обязанным сообщить ей, что во время этого торжества некое облако, казалось, омрачало чело монарха.
– Ну, а по-моему, его чело сияет, – возразил Гарри Блаунт, желая, по-видимому, скрыть свои соображения на этот счет.
– И вы, разумеется, заставите его «сиять» на страницах «Дейли телеграф».
– Несомненно.
– А помните, господин Блаунт, что случилось в 1812 году в поместье Закрет?
– Помню, сударь, посколькуятам был, – ответил английский репортер.
– В таком случае, – продолжал Альсид Жоливе, – вы не забыли, как в разгаре торжества, устроенного в его честь, императору Александру сообщили, что Наполеон с французским авангардом форсировал Неман. Однако император не ушел с праздника и, несмотря на крайнюю серьезность известия, которое могло стоить ему империи, ничем не выдал своей обеспокоенности…
– Так же только что поступил наш радушный хозяин, когда генерал Кусов доложил ему, что оборвана телеграфная связь на границе с Иркутской губернией.
– Ах, значит, вам известна такая подробность?
– Да, я осведомлен.
– Что до меня, мне ли об этом не знать! Ко мне последняя депеша дошла только из Нижнеудинска, – сказал Альсид Жоливе таким тоном, будто это обстоятельство вызывало у него чувство странного удовлетворения.
– А мои добираются только до Красноярска, – откликнулся Гарри Блаунт с тем же выражением.
– Выходит, вы знаете и о том, что в Николаевск посланы приказы войскам?
– Да, сударь, как и то, что казачьим частям в Тобольской губернии отправлено по телеграфу распоряжение сосредоточиться.
– Совершенно верно, господин Блаунт, я также осведомлен об этих мерах. И можете не сомневаться: моя любезная кузина завтра же узнает на сей счет кое-что любопытное!
– Могу сказать то же о читателях «Дейли телеграф», господин Жоливе.
– То-то же! Как посмотришь, что происходит вокруг…
– И как послушаешь, что говорят…
– Интересная кампания предстоит, господин Блаунт!
– Не премину последить за ней, господин Жоливе.
– В таком случае нам еще, может быть, предстоит столкнуться на почве куда менее надежной, чем паркет этого салона.
– Менее надежной – да, но…
– Но и менее скользкой! – откликнулся Альсид Жоливе, подхватывая своего коллегу в момент, когда тот сделал было шаг в сторону, но потерял равновесие.
На том журналисты и расстались, в общем довольные, поскольку каждый выяснил, что другой его не обскакал. В этой игре они действительно пока оставались на равных.
В этот момент двери, ведущие в большой салон, распахнулись и открыли взглядам несколько широких, дивно сервированных столов, в изобилии уставленных посудой из золота и дорогого фарфора. На столе, установленном в центре зала и предназначенном для членов царской семьи и дипломатического корпуса, красовался невообразимо драгоценный дорман – центральное блюдо великолепного сервиза на сотни кувертов, изготовленного на лондонской фабрике. Сей шедевр ювелирного искусства весь блистал и искрился в свете люстр – мануфактуры Севра никогда еще не выпускали ничего, равного ему.
Теперь гости Нового дворца начали стекаться в пиршественные залы.
А генерал Кусов, только что вновь появившийся здесь, тем временем торопливо подошел к офицеру егерской гвардии.
– Ну, что? – с живостью, как и в прошлый раз, обернулся к нему последний.
– Депеши достигают Томска, государь. Далее связь обрывается.
– Курьера ко мне! Немедленно!
Покинув большой салон, офицер направился в соседние, угловые покои дворца. Там находился рабочий кабинет, очень скромно обставленный мебелью из мореного дуба. На стенах висели картины, в том числе несколько полотен Ораса Берне.
Резким движением, будто ему не хватало воздуха, офицер распахнул окно, потом вышел на широкий балкон подышать свежим воздухом прекрасной июльской ночи.
Перед его взором, омытая потоком лунного сияния, круглилась мощная крепостная стена, окружая два собора, три дворца и арсенал. Крепость обступали три огромных квартала, каждый из которых можно было бы считать отдельным городом, да они так и назывались: Белый город, Красный город и Китай-город. Эти были европейский, татарский и китайский кварталы, над которыми высились башни, колокольни, минареты, три сотни церквей с зелеными куполами, увенчанными серебряным крестом. На поверхности неширокой извилистой реки тут и там сверкали блики – отражение лучей луны. Все это вместе взятое складывалось в живописную мозаику разнообразно окрашенных домов – гигантскую, в десять лье шириной.
Это была река Москва, называемая, как и сам город, крепость звалась Кремлем, а офицер в мундире егерской гвардии, который, скрестив руки на груди и задумчиво хмурясь, рассеянно внимал шуму, разносившемуся над центром старого города из Нового дворца, был не кто иной, как царь.
Глава II. Нашествие
Если царь так внезапно покинул залы Нового дворца в момент, когда празднество, которое он давал высшим гражданским и военным чинам и самым важным сановникам Москвы, было в самом разгаре, причиной тому были весьма тревожные события, происходящие в это время за Уральской грядой. Сомнений больше не было: свирепое нашествие грозило упразднить русскую автономию на территории сибирских губерний.
Азиатская часть России, она же Сибирь, занимает пространство в пятьсот шестьдесят тысяч лье и насчитывает около двух миллионов жителей. Она простирается от Уральских гор, отделяющих ее от русской части Европы, до побережья Тихого океана. С юга она граничит с Туркестаном и Китайской империей, но это не слишком четкая граница. На севере Сибирь омывается Ледовитым океаном от Карского моря до Берингова пролива. Она делится на губернии и округа: Тобольскую, Енисейскую губернию, Сибирскую губернию с центром в Иркутске и отдельным якутским округом, Степной край с центром в Омске, Якутский, – имеет крупные порты Охотский и Камчатский и недавно подчиненные московским властям земли в Киргизии и на Чукотке.
Этот гигантский степной край на географической карте простирается на сто десять градусов вширь, он служит местом изгнания тех, кого обрекают на ссылку царские указы, и сюда же депортируют преступников.
Наместниками верховной власти царя в этом обширном крае являются два главных губернатора. Резиденция одного находится в Иркутске, другого – в Тобольске: первый из названных городов – столица восточной Сибири, второй – западной. Эти две Сибири разделяет приток Енисея – река Чуна.
Ни одна железная дорога еще не бороздит эти бескрайние равнины, среди которых попадаются в высшей степени плодородные участки. И бесценные копи, благодаря которым сибирская земля в глубине еще богаче, чем на поверхности, не обслуживаются никаким рельсовым путем. Здесь путешествуют в тарантасе или в телеге летом, а зимой – на санях.
Единственная связь между пределами восточной и западной Сибири – электрическая – это проводдлиной восемь тысяч верст (8,536 километров: верста составляет 1,067 километров). За Уральским хребтом эта линия проходит через Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Колывань, Томск, Красноярск, Нижний Удинск, Иркутск, Нерчинск, Албазин, Благовещенск, Орловское, Александровское, Николаевск. За одно слово, пересылаемое по телеграфу в самый отдаленный пункт его досягаемости, платят шесть рублей девятнадцать копеек, что составляет около 27 франков: рубль (серебряный) стоит 3 франка 75 сантимов, а копейка (медная) – 4 сантима. От Иркутска, как предполагается, протянется боковая линия до Кяхты, расположенной на границе с монгольскими землями, а оттуда можно будет за две недели по цене 30 копеек за слово посылать депеши в Пекин.
И этот самый провод, связывающий Екатеринбург с Николаевском, был перерезан, сначала перед Томском, а спустя несколько часов – между Томском и Колыванью. Вот почему царь ответил на сообщение, вторично переданное ему генералом Кусовым, лишь только этими четырьмя словами: «Курьера ко мне! Немедленно!»
Несколько минут царь простоял неподвижно у окна своего кабинета. Но вот секретари снова распахнули двери, и на пороге возник обер-полицмейстер.
– Входи, генерал, – произнес царь отрывисто, – и расскажи мне все, что тебе известно об Иване Огарове.
– Это крайне опасный человек, государь, – ответил обер-полицмейстер.
– Он в чине полковника?
– Да, ваше величество.
– Толковый офицер?
– Чрезвычайно умный, но с неукротимым нравом. В своем безумном честолюбии он не останавливается ни переднем. Дослужившись до полковника, очертя голову ввязался в тайный заговор, был разжалован его высочеством великим князем и сослан в Сибирь.
– Когда?
– Два года тому назад. После полугодового изгнания помилован вашим величеством и возвращен из Сибири.
– Но разве он туда не вернулся?
– Да, государь, вернулся, на сей раз добровольно, – докладывал оберполицмейстер. И добавил, слегка понизив голос: – Были же времена, государь, когда, попав в Сибирь, оттуда не возвращались!
– Пока я жив, Сибирь будет местом, откуда можно вернуться!
Царь имел право произнести эти слова с подлинной гордостью, ибо благодаря своему великодушию не раз доказывал, что русское правосудие умеет прощать.
Обер-полицмейстер промолчал, но было очевидно, что он не сторонник такихполумер. По его мнению, если уж человек, кем бы он ни был, однажды перешел Уральский хребет в сопровождении жандармов, ему больше никогда не следует переходить через него назад. А коль скоро при новом царствовании все стало по-другому, обер-полицмейстер от всей души об этом сожалел! Как можно? Больше не приговаривать к пожизненным срокам ни за какие преступления, кроме тех, что относятся к ведению обычного права! Допускать, чтобы политические ссыльные возвращались из Тобольска, Якутска, Иркутска?! Сказать по правде, обер-полицмейстер, привыкший к суровости самодержавных указов, встарь не предполагавших никаких послаблений, не мог смириться с новой манерой правления! Но он помалкивал, полагая, что царь снова начнет расспрашивать его.
Вопросы и вправду не заставили себя ждать.
– Перед своим возвращением из Сибири Иван Огаров объехал несколько сибирских губерний, не так ли? – спросил царь. – Истинная цель этого вояжа остается неизвестной?
– Но, так или иначе, он вернулся.
– И с этого момента полиция потеряла его след?
– Увы, государь. Ведь приговоренный только тогда и становится по-настоящему опасным, когда его помилуют.
Царь нахмурился. Пожалуй, обер-полицмейстер мог опасаться, что зашел слишком далеко, хотя его упрямство в приверженности своим идеям по меньшей мере не уступало безграничной преданности монарху. Но царь, пренебрегая такими косвенными упреками в адрес своей внутренней политики, продолжал задавать один за другим лаконичные вопросы:
– Где Иван Огаров появлялся в последнее время?
– В Пермской губернии.
– В каком городе?
– В самой Перми.
– Что он там делал?
– По видимости, бездельничал. В его поведении не замечено ничего подозрительного.
– Он не находился под особым полицейским надзором?
– Нет, государь.
– Когда он уехал из Перми?
– В начале марта.
– И куда направился?
– Неизвестно.
– Значит, о том, что с ним происходит, с тех самых пор нет никаких сведений?
– Никто этого не знает, увы.
– Увы, это я знаю! – отвечал царь. – Есть анонимные осведомители, чьи донесения доставляются мне, не проходя через полицейское ведомство. А если к тому же принять во внимание события, ныне происходящие за Уралом, есть все причины полагать, что эти донесения точны!
– Вы хотите сказать, государь, что Иван Огаров приложил руку к подготовке набега азиатов?
– Да, генерал, я сообщу тебе то, чего ты не знаешь. Покинув Пермскую губернию, Иван Огаров перешел через Уральский хребет. Он устремился в Сибирь, в киргизские степи, и там попытался, притом не без успеха, взбунтовать местные кочевые племена. Затем он направился на юг, достигнув независимого Туркестана. Там, в Бухарском, Кокандском и Кундузском ханствах, он нашел вождей, готовых двинуть свои орды на сибирские земли. Его цель – спровоцировать захват азиатами владений российской империи за Уралом. Движение, подстрекаемое им, готовилось тайно, теперь же оно обрушилось на нас, как удар молнии. Сообщение между западной и восточной Сибирью прервано! К тому же Иван Огаров, побуждаемый жаждой мести, намерен покуситься на жизнь моего брата!
При этих словах царь взволновался, быстрыми шагами заходил по комнате. Обер-полицмейстер ничего не ответил, однако про себя подумал, что во времена правления тех российских императоров, которые никогда не миловали ссыльных, Иван Огаров не смог бы осуществить подобный план.
Мгновения текли, а они все хранили молчание. Затем, когда царь рухнул в кресло, обер-полицмейстер приблизился к нему и спросил:
– Ваше величество, приказы как можно скорее отразить это нашествие, разумеется, уже отданы?
– Да, – отвечал царь. – Последняя депеша, посланная в Нижнеудинск, должна привести в движение войска Енисейской, Иркутской, Якутской губерний, Амурского и Байкальского округов. В то же время полки Перми и Нижнего Новгорода и пограничные казачьи части форсированным маршем двигаются к Уральским горам. Но, кнесчастью, пройдет несколько недель, прежде чем они окажутся лицом к лицу с колоннами азиатов!
– И его высочество великий князь, брат вашего величества, находясь в Иркутской губернии, больше не имеет прямой связи с Москвой?
– Да.
– Но он должен знать из последних депеш, какие меры принимает ваше величество, он предупрежден, что следует ждать подкрепления из ближайшей губернии, из Иркутска?
– Это ему известно, – вздохнул царь, – но он не знает, что Иван Огаров одновременно с ролью бунтовщика вздумал сыграть роль предателя, и этот предатель – его жестокий личный враг. Ведь именно великому князю Огаров обязан тем, что впервые попал в немилость. И что хуже всего, мой брат не знает его в лицо. Так вот: план Ивана Огарова состоит в том, чтобы, пробравшись в Иркутск под чужим именем, предложить великому князю свои услуги. Он вотрется к нему в доверие, азиаты тем временем осадят Иркутск, и тогда Огаров сдаст им город вместе с моим братом. Следовательно, его жизнь под прямой угрозой. Вот о чем я узнал из донесений, вот чего не знает великий князь. Надо, чтобы он это узнал!
– Что ж, государь, здесь нужен курьер. Сметливый, отважный…
– Я жду его.
– И пусть он поспешит, – прибавил обер-полицмейстер, – ибо, государь, позвольте заметить, что земля сибирская более любой другой подвержена опасности мятежа!
– Не хочешь ли ты сказать, генерал, что изгнанники способны примкнуть к завоевателям? – вскричал царь, выведенный из себя подобным наветом со стороны обер-полицмейстера.
– Пусть ваше величество меня извинит! – пролепетал тот. Весьма вероятно, что именно эта мысль точила его беспокойный, подозрительный ум.
– Я верю, что у изгнанников больше патриотизма! – заявил царь.
– В Сибири есть и другие приговоренные, не только политические, – напомнил обер-полицмейстер.
– Уголовные преступники? О генерал, этих я предоставляю тебе! Это отбросы человечества. Они не принадлежат ни одной стране. Но восстание, вернее нашествие, направлено не против императора, а против России, против той отчизны, которую изгнанники еще надеются увидеть снова… и они увидят ее!.. Нет, русский никогда не объединится с азиатом, чтобы ослабить мощь Москвы хотя бы на один час!
Царь имел основания верить в патриотизм тех, кого он из политических соображений держал во временной ссылке. Милосердие, составлявшее основу его правосудия всюду, где он имел возможность самолично его творить, и существенные послабления, которые он ввел в практику исполнения указов, некогда столь ужасающую, сами по себе служили гарантией того, что он не ошибается. Но даже без такого существенного подспорья, каким стало бы для захватчиков содействие ссыльных, угроза оставалась весьма серьезной, так как можно было опасаться, что к нападающим примкнет большая часть киргизского населения.
Оно разделялось на три орды – большую, малую и среднюю – и насчитывало четыреста тысяч «шатров», то есть около двух миллионов душ. Туда входили различные племена: одни считались независимыми, другие признавали над собой власть – кто России, кто Хивинского, Кокандского или Бухарского ханства, иначе говоря, самых свирепых из правителей Туркестана. Средняя, самая богатая, орда была вместе с тем и самой терпимой, ее стоянки занимали все пространство между Сары-Су, Иртышом и верхним течением Ишима, озерами Якши-Янгис и Аксакалбарби. Большая орда занимала область, расположенную к востоку от той, где хозяйничала средняя, и простиралась до пределов Омской и Тобольской губерний. Так что в случае, если поднимутся киргизы, это и было бы захватом азиатской России, что чревато незамедлительным отделением Сибири, по крайней мере, ее территорий к востоку от Енисея.
Сказать по правде, эти киргизы – новички в военном деле: им привычнее ночные грабежи да нападения на караваны, чем солдатская служба. Недаром господин Левчин говорит, что «сомкнутым строем или каре из обученной пехоты можно противостоять десятикратно превосходящей массе киргизов, а одной пушки хватит, чтобы разметать их неисчислимое множество».
Оно бы и так, да надо ведь еще, чтобы это самое каре обученной пехоты вовремя поспело в мятежный край и чтобы орудия покинули артиллерийские парки русских губерний, до которых две-три тысячи верст… К тому же, помимо прямого тракта, соединяющего Екатеринбург и Иркутск, надо двигаться степями, нередко заболоченными. Дороги там трудно проходимы, уж наверняка не одну неделю пришлось бы ждать, пока русские войска смогут оттеснить азиатские орды.
Омск – организационный военный центр западной Сибири, призванный удерживать киргизское население на почтительном расстоянии. Там проходит граница обитания этих кочевников, покоренных лишь отчасти, и эта граница не раз нарушалась. В военном министерстве полагали, и весьма резонно, что ныне Омск находится под большой угрозой. Рубежи военных поселений, то есть казачьи посты, расставленные от Омска до Семипалатинска, наверняка уже подвергались атакам то здесь, то там. Можно было опасаться, что «властительные ханы», управители киргизских уездов, добровольно или под давлением примут сторону восставших, таких же мусульман, как они, и к ненависти, рожденной порабощением, прибавится давняя рознь между греческой и магометанской религией.
Ведь и впрямь властители Туркестана, особенно Бухарского, Кокандского и Кундузского ханств, давно стремились силой или убеждением освободить киргизские орды от московского гнета.
Тут следует сказать несколько слов об этих самых азиатах.
В основном они принадлежат к двум различным расам – кавказской и татаро-монгольской. Первая, по определению Абеля де Ремюза, «отвечает европейским представлениям о человеческой красоте, поскольку все народности той части земного шара имеют единое происхождение», в обиходе всех азиатов этой расы называют турками, а корни у них персидские.
Чисто монгольским типом внешности отличаются собственно монголы, а также маньчжуры и тибетцы.
Азиаты, в ту пору представлявшие угрозу для российской империи, принадлежали к кавказской расе, обитали же преимущественно в пределах Туркестана. Это обширная страна, разделенная на несколько государств, управляемых ханами (отсюда и название «ханства»). Наиболее значительные из ханств – Бухарское, Хивинское, Кокандское, Кундузское, но есть и другие, помельче.
В эпоху, о которой идет речь, самым грозным и влиятельным из них было Бухарское ханство. У России уже несколько раз случались столкновения с его правителями, которые, исходя из личных интересов и желая заманить киргизов под свое ярмо, поддерживали их стремление избавиться от гнета Москвы. Нынешний правитель Феофар-хан в этом отношении следовал по стопам предшественников.
Бухарское ханство расположено между тридцать седьмой и сорок первой параллелью, а если считать с востока на запад – между шестьдесят первым и шестьдесят седьмым градусом долготы, таким образом, его площадь – около десяти тысяч квадратных лье.
На этих землях обитает два миллиона пятьсот тысяч жителей, имеется шестидесятитысячная армия, которая в военное время увеличивается втрое, и тридцатитысячная кавалерия. Недра той страны богаты, она славится разнообразием продуктов растительного и животного происхождения, к тому же ее территория увеличилась благодаря присоединению земель Балха, Андхоя и Меймане. В ее пределах девятнадцать больших городов. Столица, Бухара, опоясана стеной, у которой более восьми тысяч углов и по бокам башни. Этот город знаменит, прославлен Авиценной и другими учеными X века, он считается научным центром мусульманского мира и входит в десятку самых почитаемых городов Средней Азии. Самарканд защищен чрезвычайно мощной цитаделью, в этом городе находятся гробница Тамерлана и знаменитый дворец, где хранится тот голубой камень, к которому должен приходить каждый новый хан, чтобы сесть на него, знаменуя этим свое восшествие на трон. Карши со своей тройной линией укреплений построен в оазисе среди болота, кишащего ящерицами и черепахами, этот город почитай что неприступен. Чарджоу может выставить на свою защиту около двадцати тысяч человек. Наконец, Ката-Курган, Нурата, Джизах, Пайкенд, Каракул и прочие составляют крепкий ансамбль городов, который трудно уничтожить. Это Бухарское ханство, защищаемое своими горами, отделенное от прочего мира степями, поистине грозный противник, и России придется противопоставить его натиску весьма значительные силы.
В этой части Азии тогда все решал честолюбивый и свирепый Феофар. Поддерживаемый другими ханами, особенно Кокандским и Кундузским, тиранами воинственными, жестокими и большими любителями грабежа, весьма расположенными потешить свои варварские инстинкты участием в этом предприятии, он заручился также помощью племенных вождей центральной Азии и сам встал во главе нашествия, душой которого был Иван Огаров. Побуждаемый своим неистовым честолюбием и мстительной злобой, этот изменник взял на себя задачу – придать наступлению вполне осмысленный вид и, в частности, перекрыть главный сибирский тракт. Сказать по правде, он был настоящим безумцем, если верил, что в самом деле сможет отхватить кусок владений Москвы! И вот эмир (такой титул присвоили себе бухарские ханы), подстрекаемый таким человеком, двинул свои орды в пределы Российской империи. Они наводнили Семипалатинскую губернию – казакам, оборонявшим ее малым числом, пришлось отступить. Двигаясь дальше, захватчики миновали озеро Балхаш, по пути увлекая за собой местное киргизское население. Грабя, опустошая жилища, вербуя в свои ряды тех, кто покорялся им, иуводя как пленников тех, кто сопротивлялся, азиатское воинство двигалось от селения к селению, сопровождаемое громоздким обозом восточного властителя, который можно назвать передвижным домом: хан вез с собой своихжен и рабов – бесстыдная дерзость современного Чингисхана.
Где-то он находится в настоящий момент? Куда успели дойти его воины в час, когда весть о вторжении достигла Москвы? А русские войска, в какой из уголков Сибири их завело отступление? Ни малейшей возможности выяснить это. Сообщение прервано. Перерезан ли провод между Томском и Колыванью кем-то из вражеских разведчиков, или эмир добрался до окрестностей Енисейска? Может быть, вся южная часть западной Сибири уже в огне? Или вспыхнувший мятеж перекинулся и в восточную часть? На эти вопросы никто не мог ответить. Электрический ток – единственный посланец, которому нипочем ни суровая зима, ни жаркое лето, ни стужи не боящийся, ни зноя, несущийся к цели неудержимо, как молния, – больше не мог распространяться по сибирской степи, и невозможно было предупредить великого князя, запертого в Иркутске, об опасности, которой грозило ему предательство Ивана Огарова.
Теперь заменить телеграф мог только курьер. Этому человеку потребуется некоторое время, чтобы одолеть пять тысяч двести верст, отделяющие Москву от Иркутска. Ачтобы прорваться сквозь ряды бунтовщиков и захватчиков, ему еще придется проявить отвагу и ум, можно сказать, сверхчеловеческие. Но у кого есть голова и сердце, тот многое может!
«Найду ли я такую голову и такое сердце?» – спрашивал себя царь.
Глава III. Михаил Строгов
Дверь императорского кабинета вскоре открылась, секретарь доложил о прибытии генерала Кусова. Едва увидев его, царь с живостью спросил:
– А курьер?
– Он здесь, государь, – отвечал генерал.
– Ты нашел такого, какой нам нужен?
– Осмелюсь сказать вашему величеству, что я за него отвечаю.
– Он нес службу при дворе?
– Да, государь.
– Ты его знаешь?
– Мы лично знакомы, он не раз успешно выполнял труднейшие поручения.
– За границей?
– Именно в Сибири.
– А сам он откуда?
– Из Омска. Сибиряк.
– У него достаточно хладнокровия, ума, храбрости?
– Да, государь, у него есть все, что нужно, чтобы преуспеть там, где другие, вероятно, потерпели бы неудачу.
– Сколько ему лет?
– Тридцать.
– Это крепкий мужчина?
– Государь, он способен выносить холод, голод, жажду, изнеможение в самых крайних пределах, доступных человеку.
– Значит, у него тело из стали?
– Да, государь.
– А сердце?
– Сердце золотое.
– Его имя?
– Михаил Строгов.
– Он готов отправиться в дорогу?
– Да. Он в караульной зале, ждет приказаний вашего величества.
– Позовите его, – сказал царь.
Не прошло и минуты, как фельдъегерь Михаил Строгов вошел в кабинет императора.
Михаил Строгов был высок ростом, мускулист, широкоплеч, с мощной грудью. Его волевое лицо могло служить воплощением лучшихчерт центральноевропейской расы.
Все мышцы его тела, хорошо вылепленные, пружинистые, как нельзя более подходили для силовых упражнений. Этого пригожего, уверенного и статного малого, крепко стоящего на ногах, не легко было бы сдвинуть с места помимо его воли: казалось, подошвы обеих его ног срослись с почвой, будто корни пустили. Его крупную, почти квадратную широколобую голову венчала густейшая кудрявая шевелюра; когда он надевал излюбленный русскими головной убор – папаху, – пряди волос кольцами выбивались из-под нее. Обычно бледное лицо его менялось только при учащенном сердцебиении: тогда кровь, быстрее бегущая по жилам, приливала к щекам. Взор его синих глаз был прям, чистосердечен и невозмутим, они ясно блестели под крутыми дугами слегка нахмуренных бровей, рисунок которых говорил о высокой отваге, той, которую физиолог назвал бы «безгневной отвагой героев». У него был крепкий нос с широкими ноздрями и правильно очерченный рот, только губы чуть выдавались, что свойственно натурам добросердечным и великодушным.
По своей природе Михаил Строгов был человеком энергичным, из тех, кто быстро принимает решения, не грызет ногти, мучаясь колебаниями, не чешет затылок, предаваясь сомнению, и вообще на месте топтаться не склонен. Сдержанный в речах и движениях, он умел, как солдат, замирать навытяжку перед вышестоящим, но когда он шагал, его походка, редкостная четкость каждого жеста свидетельствовали о том, как ему вольготно, сколько в нем уверенности, живой силы духа и воли. О таком человеке пословица говорит, что он умеет «поймать удачу за хвост» – грубоватое выражение, зато в немногих словах схвачена самая суть.
На Строгове был элегантный мундир, похожий на полевую униформу офицера конных егерей: сапоги со шпорами, панталоны в обтяжку, но не так туго, как лосины, гусарская венгерка, отороченная мехом и украшенная по темному фону желтыми сутажами. Георгиевский крест и несколько медалей сверкали на его широкой груди.
Михаил Строгов принадлежал к особому корпусу царских курьеров – элитному подразделению, в котором имел чин офицера. По его манере держаться, по лицу, по общему впечатлению от его персоны очень ясно чувствовалось (и царь не преминул это заметить), что это бравый служака, созданный, чтобы исполнять приказы. Таким образом, он был в избытке наделен одним из особенно ценимых на Руси достоинств, которое, по замечанию знаменитого романиста Тургенева, может возвести своего обладателя на самые высокие ступени имперской карьерной лестницы.
И действительно, ежели смертный способен довести до успешного конца путешествие из Москвы в Иркутск через бескрайние пространства, наводненные захватчиками, преодолеть все мыслимые препятствия, вынести все испытания, подстерегающие его, этот смертный не кто иной, как Михаил Строгов.
Ктому же было одно обстоятельство, весьма благоприятное для победного завершения его планов: Михаил Строгов великолепно знал край, который должен был пересечь, владел местными наречиями – не только потому, что уже бывал там, но и потому, что родился в Сибири.
Его отец, Петр Строгов, старик, умерший десять лет назад, некогда жил в Омске – городе, давшем название целой губернии, а Марфа Строгова, мать Михаила, обитала в их родовом доме и поныне. Там, среди диких степей Омской и Тобольской губерний, грозный сибирский охотник воспитал своего сына Михаила, держа его, по народному выражению, «в ежовых рукавицах». По основному роду своих занятий Петр Строгов был именно охотником. Зимой и летом, в палящий зной и стужу, подчас доходившую более чем до минус пятидесяти, он бродил по негостеприимных равнинным тропам, продирался сквозь заросли лиственниц и берез, рыскал по хвойным лесам, расставляя капканы, подстерегая с ружьем мелкую живность, а с крупной дичью расправляясь посредством рогатины и ножа. С этим последним оружием он ходил ни больше ни меньше как на сибирского медведя, опасного хищного зверя, по размерам не уступающего своим собратьям с полярных морей. Петр Строгов добыл более тридцати девяти медведей, так можно сказать, коль скоро и сороковой пал от его руки, а ведь известно, что, если верить русским охотничьим байкам, многим звероловам удача сопутствовала вплоть до тридцать девятого медведя, но сороковой оказывался для них роковым!
Так вот, Петр Строгов преодолел зловещий рубеж, даже царапины от сорокового не получил. С того дня его одиннадцатилетний сын Михаил неизменно сопровождал родителя, носил за ним рогатину, при необходимости бросался ему на помощь, вооруженный лишь ножом. В четырнадцать лет Михаил Строгов уложил своего первого медведя – сам, один, и это бы еще ничего, но потом, содрав с гигантского зверя шкуру, мальчик вынужден был протащить ее несколько верст до отчего дома, что говорит о незаурядной силе ребенка-богатыря.
Такая жизнь пошла ему впрок: достигнув зрелости, он обрел способность выносить все: холод, жару, голод, жажду, усталость. Своей железной закалкой он сравнялся с якутами, жителями заполярных равнин. Он мог не есть целые сутки, не спать по десять ночей подряд, находить укрытие среди бескрайней степи, где другие коченеют на ветру. Одаренный чрезвычайно тонким чутьем, особым инстинктом, что позволяет индейцу-делавару не сбиться с пути на занесенной снегом равнине, когда непроглядный туман скрывает горизонт, он умудрялся не заблудиться даже в тех краях, где на многие сутки воцаряется полярная ночь. Он находил дорогу в случаях, когда другие теряются и понятия не имеют, куда направить свои стопы. Михаил овладел всеми секретами своего отца. Научился руководствоваться почти неразличимыми приметами: расположением ледяных сосулек и тоненьких древесных побегов, свечением, чуть брезжащим вдали за горизонтом, звериными следами, едва примявшими лесную траву, невнятными звуками, долетающими по воздуху невесть откуда, дальними зарницами, полетом птиц в тумане – множеством деталей, которые оборачиваются тысячей путеводных вех для того, кто умеет распознавать их. В снегах севера он закалился не хуже, чем сирийцы закаляют в воде дамасскую сталь. Генерал Кусов сказал о нем, что здоровье у него железное, а сердце золотое, и обе эти характеристики были одинаково справедливы.
Единственной страстной привязанностью Михаила Строгова была любовь к матери, старой Марфе, которая ни за что не желала покинуть родной дом Строговыхв Омске, на берегу Иртыша, где она столько лет прожила со своим мужем-охотником. Когда сын расставался с ней, у него сердце разрывалось, но он дал слово возвращаться всякий раз, как только представится возможность, и всегда свято соблюдал это обещание.
Было решено, что когда Михаилу Строгову исполнится двадцать лет, он поступит на службу в корпус царских курьеров, находящийся в личном распоряжении императора всея Руси. Молодой сибиряк, храбрый, сообразительный, рьяный, образцового поведения, сначала воспользовался поводом особо выделиться при поездке на Кавказ, в этот опасный край, взбаламученный несколькими повторными восстаниями Шамиля, затем, позже, проявил себя при исполнении важной миссии, ради которой его занесло в Петропавловск-Камчатский, на восточную оконечность азиатских владений России. Во время этих продолжительных поездок он проявил свои великолепные достоинства – самообладание, осмотрительность, отвагу, которые принесли ему одобрение и покровительство его начальников, и он быстро пошел в гору.
Что касается отпусков, какими его награждали по праву после тех многотрудных поручений и путешествий в дальние края, он никогда не упускал случая посвятить их своей престарелой матушке, даже если от родного дома его отделяли тысячи верст, а зимняя погода делала дороги непроезжими. Но теперь в первый раз все складывалось так, что Михаилу Строгову, вернувшемуся с юга империи, где он немало потрудился, уже три года – три столетия! – не удавалось повидать старую Марфу! Через несколько дней ему должны были предоставить положенный по регламенту отпуск, он уже готовился отбыть в Омск, когда грянули события, о которых шла речь. Тут-то Михаила Строгова и привели в царские покои, а он и понятия не имел, чего ждет от него император.
Не произнося ни слова, не обращаясь к нему, царь некоторое время рассматривал своего фельдъегеря, устремив на него проницательный взор, между тем как Михаил Строгов хранил абсолютную неподвижность.
Потом царь, удовлетворенный этим осмотром, повернулся к письменному столу и, знаком приказав обер-полицмейстеру сесть, вполголоса стал диктовать ему письмо, содержавшее всего несколько строк.
Когда письмо было закончено, царь чрезвычайно внимательно перечитал его, затем расписался, причем вставил перед подписью слова «Быть по сему» – своего рода священную формулу, традиционно завершающую послания российских императоров.
Письмо было вложено в конверт и скреплено печатью с имперским гербом.
Затем царь встал и приказал Михаилу Строгову подойти.
Тот приблизился на несколько шагов и опять застыл, готовый отвечать.
Самодержец снова пристально, глаза в глаза, посмотрел на него. Спросил отрывисто:
– Как тебя зовут?
– Михаил Строгов, государь.
– В каком ты чине?
– Капитан фельдъегерей вашего величества.
– Ты хорошо знаешь Сибирь?
– Я сибиряк.
– Где родился?
– В Омске.
– У тебя есть там родные?
– Да, государь.
– Кто именно?
– Моя престарелая мать.
Царь на мгновение прервал расспросы, затем, показывая на конверт, который держал в руке, сказал:
– Вот письмо, которое я поручаю тебе, Михаил Строгов. Ты передашь его великому князю, моему брату, в собственные руки. Только ему – никому другому.
– Я передам его, государь.
– Великий князь в Иркутске.
– Я отправлюсь в Иркутск.
– Но тебе придется пересечь страну, объятую мятежом, подвергшуюся нашествию азиатов. Захватчики заинтересованы в том, чтобы перехватить это письмо.
– Я сумею этого избежать.
– Особенно берегись изменника Ивана Огарова. Он может встретиться на твоем пути.
– Я буду остерегаться его.
– Твой путь пролегает через Омск?
– Да, ваше величество.
– Если навестишь свою мать, есть риск, что будешь узнан. Ты не должен видеться с ней!
Михаил на миг заколебался, но тут же овладел собой:
– Я не увижусь с ней.
– Поклянись, что никакая сила не вынудит тебя признаться, кто ты таков и куда направляешься!
– Клянусь!
– Михаил Строгов, – произнес тогда царь, протягивая молодому посланцу конверт, – возьми же это письмо, от которого зависит спасение всей Сибири и, быть может, жизнь великого князя, моего брата.
– Письмо будет вручено его высочеству великому князю.
– Стало быть, ты проберешься в Иркутск наперекор всему?
– Проберусь, если меня не убьют.
– Мне нужно, чтобы ты выжил!
– Я выживу и доставлю письмо, – отвечал Михаил Строгов. Казалось, царю пришлась по душе спокойная, скромная уверенность, с какой держался молодой фельдъегерь.
– Ступай же, Михаил Строгов, – произнес он, – во имя Бога, во имя России, ради моего брата и ради меня – иди!
И посланец, по-военному отдав честь, покинул кабинет императора. Еще несколько мгновений, и он вышел из Нового дворца.
– Что ж, генерал, думаю, ты сделал удачный выбор, – сказал царь.
– Полагаю, что так, государь, – отвечал генерал Кусов. – Ваше величество может не сомневаться: Михаил Строгов сделает все, что в человеческих силах.
– Да, верно: это тот человек, которого мы искали! – промолвил император.
Глава IV. Из Москвы в Нижний Новгород
Расстояние от Москвы до Иркутска, которое должен был одолеть Михаил Строгов, составляло пять тысяч двести верст. Когда между Уралом и восточной Сибирью еще не установилась телеграфная связь, депеши из столицы доставляли курьеры. Даже самым проворным из них для того, чтобы из Москвы добраться до Иркутска, требовалось восемнадцать дней. Но такие случаи были исключением, обычно же путь через азиатские владения России занимал от месяца до пяти недель, притом что в распоряжение царских посланцев предоставлялись все возможные транспортные средства.
Как человек, не боящийся мороза и снега, Михаил Строгов предпочел бы совершить такую поездку в суровую зимнюю пору, тогда можно было бы устроить так, чтобы весь путь проделать на санях. При этом препятствия, неизбежные при всех прочих способах передвижения по этим бескрайним степям, были бы в значительной степени сглажены снежными заносами. Не было бы нужды переправляться через ручьи, болота, реки. Повсюду простиралась бы заледеневшая равнина, снежная скатерть, по которой сани могли бы скользить легко и быстро. Разумеется, кое-какие природные явления и в эту пору опасны, такие, к примеру, как вечный непроглядный туман, трескучий мороз, нескончаемые жестокие метели, чьи вихри порой заносят и погребают под снегом целые караваны. Случается также, что волки, гонимые голодом, тысячными стаями высыпают на равнину. Но все же лучше бы подвергнуться таким опасностям, зато уж быть уверенным, что захватчики-азиаты предпочитают отсиживаться в городах, их грабители не рыщут по заснеженной степи, да и передвижение их войск невозможно. Да, зимой Михаилу Строгову было бы легче исполнить задуманное. Но ему не дано было выбирать ни дня, ни часа. Как бы ни складывались обстоятельства, он должен принять их как данность и отправляться в дорогу.
Стало быть, такова ситуация. Ясно понимая это, Михаил Строгов готовился встретить испытания лицом к лицу.
Прежде всего, он более не мог рассчитывать на преимущества, обычно предоставляемые царским курьерам. Напротив, никто не должен был даже заподозрить, что он путешествует в этом качестве. Край захвачен неприятелем, там кишат шпионы. Если его узнают, миссия сорвется. Поэтому генерал Кусов, хоть и вручил ему изрядную сумму денег, которой должно хватить, чтобы хоть отчасти облегчить поездку, но не дал письменного приказа с волшебной, как «Сезам, откройся!», пометкой, что податель сего состоит на императорской службе. На сей раз на руках у него лишь заурядная подорожная.
Этот документ был выправлен на имя Николая Корпанова, купца, жителя Иркутска. Он давал купцу Корпанову возможность в случае необходимости обзавестись одним или двумя спутниками и сверх того содержал особую пометку, позволяющую продолжить путь, даже если московское правительство запретит прочим своим подданным выезжать из европейской России в Сибирь.
По сути подорожная – не что иное, как разрешение менять лошадей на почтовых станциях, однако Михаил Строгов имел право пользоваться ею лишь в той мере, в какой это не было сопряжено с риском выдать себя, иначе говоря, его подорожная действовала только до Урала. Из этого следовало, что как только он оставит позади горную область и окажется в Сибири, больше не должен вести себя на почтовых станциях, как власть имущий: претендовать на то, чтобы лошадей ему давали незамедлительно, в обход всех прочих, а также реквизировать транспортные средства для личного пользования. Михаил Строгов не вправе забывать: отныне он не курьер, а просто торговец Николай Корпанов и как таковой обязан безропотно подвергаться всем случайным невзгодам, характерным для обычной поездки.
Двигаться к цели, оставаясь незамеченным, более или менее быстро, но двигаться – такими должны быть его действия.
Тридцать лет назад сановного вояжера должны были сопровождать не менее двух сотен верховых казаков, столько же пехотинцев, двадцать пять всадников-башкир, триста верблюдов, четыреста лошадей, двадцать пять повозок, два небольших челна и две пушки. Такой эскорт считался необходимым для путешествия по Сибири.
А он, Михаил Строгов, не имел в своем распоряжении ни пушек, ни всадников, ни пехотинцев, ни запасных скакунов. Он поедет в повозке или верхом, если будет возможность, а потребуется идти пешком – что ж, пойдет на своих двоих.
Первые тысяча четыреста верст (1493 километра), отделяющих Москву от Урала, не сулили особых трудностей. Царский посланец мог смело рассчитывать на железную дорогу, почтовые кареты, пароходы, перекладных лошадей, доступных каждому путешественнику.
Итак, в то же утро 16 июля, лишенный своего мундира и всех аксессуаров, надев простой русский наряд – приталенный, по мужицкому обычаю подпоясанный кафтан, просторные штаны, сапоги, прихваченные под коленом ремешками, – Строгов отправился на вокзал с намерением уехать первым же поездом. Оружия при нем не было, по крайней мере, на первый взгляд, однако за поясом он прятал револьвер, а в кармане – широкий тесак, напоминающий одновременно кинжал и ятаган: именно таким сибирский охотник вспарывает брюхо медведю, не испортив его ценную шкуру.
На московском вокзале толпилось довольно много пассажиров. Железнодорожные вокзалы России – в высшей степени людные места, там много и тех, кто собирается уезжать, и провожающих, и просто зевак. Это своего рода рассадник новостей и слухов.
Поезд, в который сел Михаил Строгов, должен был доставить его в Нижний Новгород. В ту эпоху там заканчивался рельсовый путь, который, как предполагалось, соединит Москву и Санкт-Петербург и продолжится на восток до самой границы. Пока же это была дорога длиной примерно в четыреста верст (426 километров), которые поезд проходил часов за десять. Михаилу, как только он прибудет в Нижний Новгород, предстояло в зависимости от обстоятельств выбрать либо путь по суше, либо пароходом по Волге, чтобы как можно скорее достигнуть Уральского хребта.
Итак, он пристроился в уголке, как солидный торговец, в меру озабоченный своими делами, который намерен скоротать время, малость вздремнув. Тем не менее, поскольку Михаил находился в вагоне не один, спал он разве что вполглаза, а слушал в оба уха.
Слухи о киргизском мятеже и бухарском нашествии и вправду уже начали просачиваться, не без того. Пассажиры, его случайные соседи по вагону, толковали об этом, но с оглядкой.
Как и большинство тех, кто ехал этим поездом, они были купцами, направлялись на знаменитую нижегородскую ярмарку. Естественно, что здесь собралась самая смешанная публика: евреи, турки, казаки, русские, грузины, калмыки и прочие, но почти все говорили по-русски.
Итак, завязался спор о тревожных событиях, происходящих по ту сторону Уральского хребта. Торговцы, похоже, опасались, как бы русское правительство не ввело ограничительные меры, от которых наверняка пострадает коммерция, особенно в областях, граничащих с Сибирью.
Следует отметить, что эти эгоисты рассматривали войну, то есть подавление бунта и борьбу с нашествием, не иначе как с точки зрения своих интересов, оказавшихся под угрозой. Случись здесь самый обычный солдат в мундире – ведь известно, как велико значение мундира на Руси, – одного этого наверняка хватило бы, чтобы заставить купцов придержать языки. Но в вагоне, который занимал Михаил Строгов, ничто не указывало на присутствие военного, царского фельдъегеря, и он, обязанный сохранять инкогнито, ничем себя не выдал.
Таким образом, он просто слушал.
– Говорят, чая могут не подвезти, ведь его доставляют караванным путем, – вздохнул торговец, в котором по широкому, несколько потертому коричневому балахону и шапке, отделанной каракулем, можно было узнать перса.
– О, насчет чая бояться нечего, тут спада не будет, – отозвался щуплый хмурый пожилой еврей. – Те запасы, что везут на нижегородскую ярмарку, легко переправить кружным путем, через запад. К несчастью, о бухарских коврах этого не скажешь!
– Как? Вы, значит, ожидаете транспорта из Бухары? – спросил перс.
– Нет, из Самарканда, это еще рискованней! Посудите сами, можно ли рассчитывать на благополучный провоз товара по стране, которую ханы взбаламутили от Хивы до самой китайской границы?
– Что ж! – отозвался перс. – Если ковры не прибудут, полагаю, вам и пошлины не платить!
– А прибыль?! – вскричал еврей. – Ее вы ни во что не ставите?
– Вы правы, – заметил третий пассажир, – риск, что товары из центральной Азии не попадут на ярмарку, очень велик, это касается и ковров из Самарканда, и шерсти, и жиров, и восточных шалей.
– Э, папаша, вы бы поосторожнее! – насмешливо фыркнул русский пассажир. – Ваши шали жутко засалятся, если смешать их с жирами!
– Вам бы только зубы скалить! – сердито буркнул торговец, отнюдь не склонный шутить подобными вещами.
– Бросьте! Если рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, разве это поможет делу? – отозвался тот. – Нет, таким манером не изменить ни порядка вещей, ни спроса на товары!
– Сразу видно, что вы не торгуете! – проворчал щуплый еврей.
– Ваша правда, почтенный потомок Авраама! Я не торгую ни хмелем, ни гагачьим пухом, ни медом, ни воском, ни конопляным семенем, ни солониной, ни икрой, ни древесиной, ни шерстью, ни лентами, ни пенькой, ни льном, ни сафьяном, ни пушниной…
– Однако вы все это покупаете? – спросил перс, прерывая этот бесконечный перечень.
– Как можно меньше и только для собственного употребления, – отвечал тот, подмигивая.
– Шутник! – сказал персу еврей.
– Или соглядатай! – понизив голос, добавил перс. – Будем осторожны, лучше не болтать лишнего. В такие времена с полицией шутки плохи, а в дороге никогда не знаешь, с кем едешь!
В другом углу вагона о меркантильных предметах говорили несколько меньше, а о нашествии и его прискорбных последствиях – чуть больше.
– Сибирских лошадей реквизируют, – сказал один пассажир, – и сообщение между различными среднеазиатскими областями будет очень затруднено.
– А правда, – спросил его сосед, – что киргизы «средней орды» примкнули к нашествию?
– Так говорят, – ответил собеседник шепотом, – но кто в этой стране может похвастаться, будто знает что-либо наверняка?
– Я слышал, что войска группируются на границе с Сибирью. Донские казаки уже собрались на Волге, их пошлют против мятежных киргизов.
– Если киргизы спустились по течению Иртыша, дорога на Иркутск, должно быть, стала опасной! – вздохнул сосед. – К тому же вчера я хотел было послать телеграмму в Красноярск, так она не дошла. Скоро азиатское войско, чего доброго, отсечет от России всю восточную Сибирь!
– В общем, дорогой мой, – продолжал первый собеседник, – эти купцы правы, что опасаются за свои товары и сделки. За реквизицией лошадей последуют реквизиции судов, экипажей, всех средств передвижения. Доведут до того, что на всем пространстве империи нельзя будет шагу ступить.
– Боюсь, нижегородская ярмарка нынче завершится не с таким блеском, как начиналась! – заметил его сосед, качая головой. – Однако безопасность и неделимость имперских владений превыше всего, а торговля – не более чем торговля!
Итак, в этом вагоне все частные разговоры вертелись вокруг одной темы. Да и в других вагонах поезда происходило то же самое. Но внимательный наблюдатель заметил бы, что собеседники проявляли крайнюю осторожность, выбирая выражения. Если они порой и отваживались сослаться на какие-то факты, то никогда не заходили так далеко, чтобы предрекать либо оценивать намерения московских властей.
Столь любопытное обстоятельство со всей определенностью отметил один из пассажиров головного вагона поезда. Этот человек – по-видимому, иностранец – во все глаза смотрел вокруг, задавал попутчикам уйму вопросов, хотя ответы получал весьма уклончивые. Он поминутно высовывался в окно, стекло которого держал опущенным, к вящему неудовольствию других пассажиров, и не упускал из виду ни одной мелочи в пейзаже, проплывающем справой стороны по ходу поезда. Спрашивало названияхдаже самых незначительных населенных пунктов, выяснял, каковы интересы тамошних жителей, чем они торгуют, что производят, сколько их, какова там средняя смертность в зависимости от пола и тому подобное. Все эти сведения он записывал в тетрадку, уже полную всевозможных заметок.
Это был не кто иной, как журналист Альсид Жоливе, задававший столько несущественных вопросов в надежде, что среди ответов на них мелькнет что-нибудь, способное заинтересовать «кузину». Но поскольку его, само собой, принимали за соглядатая, никто при нем не проронил ни слова, имеющего отношение к злободневным событиям.
Поэтому, убедившись в невозможности выведать что-либо о нашествии, он записал в тетрадку: «Попутчики абсолютно замкнуты. Чрезвычайно скупы на высказывания о вопросах политики».
В то время как Альсид Жоливе дотошно запечатлевал на бумаге свои путевые впечатления, его собрат, с той же целью занявший место в том же поезде, предавался аналогичным трудам, наблюдая за происходящим в другом вагоне. Явившись поутру на московский вокзал, они там не встретились, следовательно, ни один из них не ведал, что другой тоже отправился в путь с намерением посетить театр военныхдействий.
Разница ихположения была только в одном: немногословный, но держащий ухо востро Гарри Блаунт не вызывал у своих попутчиков такого недоверия, как Альсид Жоливе. Никто не принимал его за глаз и ухо полиции, соседи без стеснения болтали при нем, позволяя себе заходить в этих речах дальше, чем должна была бы позволять их естественная осторожность. Таким образом, корреспондент «Дейли телеграф» уже отдавал себе отчет, до какой степени происходящие события тревожат этих купцов, спешащих на нижегородскую ярмарку, и насколько пострадает торговля со Средней Азией из-за трудностей с доставкой товаров.
Поэтому он без колебаний внес в свою тетрадку следующее как нельзя более справедливое наблюдение: «Пассажиры крайне обеспокоены. Война наустаху всех, и рассуждают они так вольно, что остается лишь удивляться подобной свободе здесь, между Волгой и Вислой!»
Читатели «Дейли телеграф» будут проинформированы не хуже, чем «кузина» Альсида Жоливе!
Ктомуже, поскольку Гарри Блаунт сидел слева походу поезда и созерцал довольно пересеченный рельеф местности через левое окно, не потрудившись взглянуть в правое, откуда открывается равнина, он не преминул добавить с чисто британской самоуверенностью: «Между Москвой и Владимиром простирается холмистая местность».
Вместе с тем было очевидно, что русское правительство в предвидении серьезных потрясений принимало кое-какие суровые меры даже в центральных областях империи. Хотя мятеж не достигал Урала, но в той части волжского побережья, которая соседствовала с землями киргизов, можно было опасаться нежелательных влияний.
Ведь полиция и в самом деле все никак не могла напасть на след Ивана Огарова. Где он, этот предатель, призвавший в страну чужеземцев, чтобы расквитаться за личные обиды? Присоединился к Феофар-хану? Или пытается спровоцировать волнения в Нижегородской губернии, где в это время года сосредоточено столько самой разношерстной публики? Может, он шныряет среди всех этих персов, армян, калмыков, наводнивших ярмарку, снюхался со шпионами, которым поручено разжечь мятеж? Все предположения выглядели одинаково возможными, особенно в такой стране, как Россия.
Ведь эта обширная империя площадью в двенадцать миллионов квадратных километров не может быть такой этнически однородной, как государства Западной Европы. Между различными народностями, населяющими ее, волей-неволей возникают, мягко говоря, недоразумения. Русская территория в Европе, Азии, Америке простирается от пятнадцатого градуса восточной долготы до сто тридцать третьего западной, то есть охватывает около двухсот градусов (это примерно 2500 лье), и от тридцать восьмой параллели на юге до восемьдесят первой на севере, что составляет сорок три градуса (1000 лье). В государстве насчитывается более семидесяти миллионов жителей, здесь говорят натрехдесяткахязыков. Славянская раса, несомненно, доминирует, но она, помимо русских, включает поляков, литовцев, курляндцев. Если прибавить сюда финнов, эстонцев, лапландцев, марийцев, чувашей, пермяков, немцев, греков, татар, кавказские племена, монгольские орды, калмыков, самоедов, камчадалов, алеутов, станет понятно, насколько трудно сохранять единство такого огромного государства. Это может быть не иначе как делом времени, плодом долгих усилий разумного правления.
Как бы то ни было, Ивану Огарову до сей поры удавалось успешно ускользать от розыска, и весьма вероятно, что он уже присоединился к воинству захватчиков. Но на каждой станции, где останавливался поезд, появлялись полицейские, инспектировали вагоны, вынуждали пассажиров подвергаться самому тщательному досмотру, поскольку они согласно распоряжению обер-полицмейстера разыскивали Ивана Огарова. Власти всерьез полагали, будто им известно, что сей изменник еще не мог покинуть пределы европейской России. Если проезжий человек показался подозрительным, его тащили объясняться в полицейский участок, поезд же тем временем уходил, причем судьба опоздавшего никого не заботила.
Русская полиция весьма категорична, возражать ей, что-то доказывать абсолютно бесполезно. Ее сотрудники носят воинские чины, вот они и действуют по-военному. К тому же попробуй не подчинись безропотно приказам, что даются от имени монарха, облеченного правом ставить во главе своих указов следующую формулу: «Божиею милостию, Мы, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая». Воистину могущественный правитель, тот, чья эмблема – двуглавый орел со скипетром и державой, обвитые орденской цепью Святого Андрея Первозванного и увенчанные царской короной, – окружена гербами Новгорода, Владимира, Киева, Казани, Астрахани и Сибири!
Что касается Михаила Строгова, он, будучи под непосредственным управлением верховной власти, тем самым был избавлен от каких бы то ни было полицейских мероприятий.
На станции города Владимир поезд постоял несколько минут, которых корреспонденту «Дейли телеграф», по всей видимости, хватило, чтобы создать об этой столице старой Руси исчерпывающее впечатление, как с духовной, так и с материальной точки зрения.
В поезд на владимирском вокзале вошли еще несколько пассажиров. Среди прочих в дверях вагона, где ехал Строгов, появилась юная девушка.
Место напротив царского фельдъегеря оставалось свободным. Девушка села, поставив рядом с собой скромный саквояж, красный, кожаный. По-видимому, он составлял весь ее багаж. Затем, опустив глаза, даже не взглянув на случайных попутчиков, она приготовилась вытерпеть поездку, которая займет еще несколько часов.
Михаил не мог отказать себе в удовольствии рассмотреть новую соседку повнимательней. Поскольку ее место располагалось так, что она ехала спиной кдвижению поезда, ондаже предложил уступить ей свое (возможно, она предпочтет его), но незнакомка лишь поблагодарила его легким поклоном, означавшим молчаливый отказ.
Девушке было лет шестнадцать-семнадцать. Ее лицо, поистине очаровательное, представляло собой славянский тип во всей его немного суровой чистоте, обещавший, что в будущем, когда годы придадут этим чертам зрелую законченность, она станет скорее прекрасной, нежели хорошенькой. На голове у нее было что-то вроде косынки, из-под которой выбивались, пленяя своим изобилием, светлые золотистые волосы. Бархатный взор ее карих глаз поражал бесконечной нежностью. Щеки у нее были бледные, чуть впалые, нос прямой, очертания рта изящные; но хотя было заметно, что это лицо не лишено подвижности, казалось, девушка давно разучилась улыбаться.
Юная путешественница была высока ростом и, насколько можно судить о фигуре, скрываемой широкой, очень простой накидкой, стройна. Хотя это была пока еще «совсем юная барышня» в полном смысле слова, ее высокий, отменно развитый лоб и четкие линии подбородка говорили о большой внутренней силе – подробность, которая отнюдь не укрылась от Строгова. Похоже, эта девушка много выстрадала, да и будущее явно не рисовалось ей в радужных красках. Тем не менее было заметно: она уже знает, что такое борьба, и полна решимости не склоняться перед житейскими невзгодами. Должно быть, ее воля упорна и жизнестойка, а спокойствие таково, что не подведет, пожалуй, и там, где мужчине впору потерять самообладание и заколебаться.
Таково было впечатление, с первого взгляда производимое этой девушкой. Михаил Строгов, сам наделенный сильным, энергичным характером, не мог не заинтересоваться при виде такого лица. Стараясь не докучать незнакомке слишком назойливым вниманием, он принялся украдкой присматриваться к ней.
Наряд юной путешественницы был хоть и прост, но безукоризненно чист. Легко можно было догадаться, что она не богата, но найти в ее одежде приметы хотя бы малейшей небрежности не удавалось. Весь ее багаж состоял из запертого на замок кожаного саквояжа, который она, не найдя для него места, держала на коленях.
На ее плечах была длинная темная накидка без рукавов, стянутая у горла голубой тесьмой. Под ней виднелись короткая юбка тоже темного цвета и подол платья, достающего до щиколоток, с едва заметным узором понизу. Маленькие ножки были обуты в полуботинки из хорошо выделанной кожи на довольно толстой подошве – по-видимому, она выбрала такие в расчете на долгое путешествие.
По некоторым деталям костюма Михаил Строгов определил, что он сшит на ливонский манер, и решил, что его попутчица, должно быть, родом с берегов Балтики.
Куда может направляться одна-одинешенька девушка ее лет? Ведь в ее возрасте покровительство отца или матери, защита брата, можно сказать, не только желательны, но и необходимы. Она, верно, уже проделала долгий путь, если и вправду прибыла из западных областей страны? Какова ее цель – всего лишь Нижний Новгород, или ее путь лежит дальше на восток, как знать, может быть, и за Урал? Встретит ли ее на вокзале какой-нибудь родственник либо друг? Или, что кажется более вероятным, выйдя из поезда, она и в городе окажется такой же одинокой, как здесь, в вагоне, где никому, по всей видимости, нет до нее дела? Похоже на то.
В самом деле, манера держаться, присущая юной путешественнице, весьма наглядно выдавала навыки, какие складываются у человека в одиночестве. То, как она вошла в вагон и расположилась там, готовясь кдолгой дороге, без суеты, стараясь никого не потревожить, никому не помешать, говорило о привычке быть одной и полагаться лишь на себя.
Михаил с интересом разглядывал незнакомку, но, сам будучи человеком замкнутым, не пытался найти повод, чтобы заговорить с ней, хотя до прибытия в Нижний Новгород оставалось еще несколько часов.
Только один раз, когда сосед девушки, тот самый торговец, что так неосторожно смешал жиры и шали, задремав, стал покачивать своей большой головой, клонясь то вправо, то влево и угрожая навалиться ей на плечо, Строгов разбудил его и довольно резко дал понять, что надлежит держать себя более подобающим образом.
Будучи по натуре грубияном, торговец было заворчал что-то про «всяких, которые лезут, куда не просят», но Михаил посмотрел на него так выразительно, что у того пропала охота протестовать: он свесился на противоположную сторону и снова заснул, более не докучая юной путешественнице своим обременительным качанием.
Она на мгновение вскинула глаза на молодого человека, и в этом взгляде он прочел скромную, молчаливую благодарность.
Вскоре Михаилу Строгову представился повод более определенно оценить характер этой девушки. Верст за двенадцать до Нижнего Новгорода на крутом повороте рельсового пути вагон вдруг очень резко тряхнуло, потом он покатился дальше уже по инерции и ехал так с минуту.
Пассажиры, многие из которых попадали при этом толчке на пол или даже покатились кубарем, подняли крик, в вагоне воцарилась отчаянная суматоха – таково было первое следствие происшествия. Можно было опасаться серьезной катастрофы. Поэтому еще прежде, чем поезд остановился, двери вагона распахнулись, перепуганные пассажиры стали выпрыгивать наружу, в панике ища спасения.
Михаил Строгов прежде всего подумал о соседке, но в то время как прочие пассажиры ринулись к выходу, вопя и толкаясь, девушка преспокойно осталась на своем месте, разве что слегка побледнела.
Незнакомка ждала, что будет дальше. Михаил тоже ждал.
Она и не подумала бежать из вагона. Даже пальцем не шевельнула.
Итак, оба сохранили полнейшую невозмутимость.
«Вот это характер!» – втайне подивился Строгов.
Между тем вскоре выяснилось, что опасности и в помине нет. Оказалось, произошел обрыв бандажа багажного вагона, что и вызвало сначала сильный толчок, а затем остановку поезда. Но еще немного, и он мог сойти с рельсов, рухнуть в овраг с высокой насыпи. Происшествие это стало причиной часовой задержки. Наконец путь расчистили, поезд тронулся и в половине девятого вечера прибыл на нижегородский вокзал.
Прежде, чем кто-либо успел выйти из вагона, в дверях появились полицейские и принялись проверять пассажиров.
Михаил Строгов предъявил им свою подорожную на имя Николая Корпанова и, следовательно, не ожидал никаких осложнений.
Что касается остальных пассажиров, все они ехали в Нижний Новгород и тоже, на свое счастье, не вызвали у инспекторов никаких подозрений.
Девушка же предъявила не паспорт, коль скоро паспорта в России больше не обязательны, а особое разрешение на проезд, причем в таком конверте, вид которого наводил на мысль, что это документ специального назначения.
Инспектор прочитал его очень внимательно. Затем, пристально оглядев ту, чьи приметы там содержались, спросил:
– Ты из Риги?
– Да, – отвечала девушка.
– И едешь в Иркутск?
– Да.
– По какой дороге?
– Через Пермь.
– Хорошо, – сказал инспектор. – Не забудь завизировать свое разрешение в полицейской управе Нижнего Новгорода.
Девушка утвердительно кивнула.
Слушая эти вопросы и ее ответы, Строгов испытывал жалость пополам с изумлением. Как? Такая юная девушка одна отправляется в далекую Сибирь, и это теперь, когда к обычным опасностям подобного путешествия присоединились все невзгоды, какие только может сулить край, охваченный восстанием и занятый неприятелем! Как она туда доберется? Что с ней будет?..
Когда инспектор покончил с проверкой, двери вагона распахнулись. Однако прежде чем Михаил успел сделать хоть шаг в ее сторону, юная ливонка, сойдя с поезда первой, исчезла в толпе, наводнившей вокзальный перрон.
Глава V. Распоряжение из двух пунктов
Нижний Новгород расположен на слиянии Волги и Оки и является центром одноименной губернии. Здесь Михаил должен был расстаться с железной дорогой, которая в ту эпоху не шла дальше этого города. Таким образом, по мере того как наш герой продолжал свой путь, транспортные средства, коими он мог воспользоваться, становились все менее быстрыми и надежными.
В обычное время Нижний Новгород насчитывал не более тридцати пяти тысяч жителей, но тогда он вмещал более трехсот тысяч, то есть численность его обитателей возросла вдесятеро. Таким приростом населения город был обязан знаменитой ярмарке, которая в течение трех недель в нем разворачивалась. Прежде местом таких состязаний торгового люда служил Макарьев, но начиная с 1817 года ярмарку перенесли в Нижний.
Итак, город, обычно довольно унылый, в эти недели оживлялся неимоверно. Коммерсанты около десятка различных национальностей Европы и Азии братались здесь, сплоченные узами деловых сношений.
Михаил Строгов вышел из вокзала, когда час был уже довольно поздний, но в обеих частях города, разделенных руслом Волги, все еще было довольно людно. На том берегу, что повыше, на обрывистой скале высилась одна из тех крепостей, которые на Руси зовутся «кремлями»: она была призвана оборонять город от неприятеля.
Если бы у Михаила Строгова возникла нужда задержаться в Нижнем Новгороде, ему не так легко было бы отыскать гостиницу или хотя бы мало-мальски сносный постоялый двор. Нигде не осталось свободных мест, все забито. Между тем ему не представлялось возможности продолжить путь немедленно, сначала следовало найти подходящий волжский пароход. Волей-неволей надо было расспросить местных жителей, не найдется ли хоть какой-нибудь ночлег. Но поскольку Строгов хотел перво-наперво выяснить точное время отправления, он обратился в контору компании, чьи пароходы курсировали между Нижним Новгородом и Пермью. Там он, к немалой своей досаде, узнал, что «Кавказ» – так назывался пароход – отплывает в Пермь лишь завтра в полдень. Семнадцать часов ожидания! Для человека, который должен спешить, это несносно. Тем не менее оставалось только смириться. Что он и сделал, ибо никогда не выходил из себя попусту.
К тому же при создавшихся обстоятельствах никакая карета, телега или тарантас, берлина или почтовый возок, равно как и скакун, не доставили бы его скорее нив Пермь, нив Казань. А значит, разумнее подождать парохода: коль скоро это самое быстрое средство передвижения, оно должно помочь царскому посланцу наверстать потерянное время.
Итак, Михаил Строгов отправился бродить по городу, без особой спешки ища какой ни на есть постоялый двор, где бы можно было переночевать. Но эта надобность была не столь насущной, и если бы не голод, начавший его донимать, он, вероятно, так и проблуждал бы по улицам до утра. Ему требовалась не столько постель, где бы соснуть, сколько возможность перекусить. Что ж, он обрел и то, и другое под вывеской «Град Константинополь».
Хозяин этого постоялого двора выделил ему довольно сносную комнату, правда, меблированную скудно, однако в ее убранстве не были забыты икона Пречистой Девы и портреты каких-то святых, обрамленные раззолоченной тканью. Строгову тотчас подали утку, фаршированную рубленым мясом с острыми пряностями и вязнущую в густой сметане, ячменный хлеб, простоквашу, сахарную пудру, смешанную с корицей, и жбан кваса (разновидность пива, весьма ценимая в России). Этого было более чем достаточно, чтобы восстановить силы. Итак, он их восстановил, тем более, что сосед по столу, будучи раскольником из секты «староверов», дал обет воздержания: он отверг картошку, сбросив ее со своей тарелки, и даже сахара в чай не положил.
Покончив с ужином, Строгов, вместо того чтобы отправиться в свою комнату, вышел, сам не зная зачем, и снова принялся бродить по городу. Однако, хотя долгие июльские сумерки еще не сменились полной темнотой, улицы мало-помалу опустели: все спешили вернуться к себе домой.
Отчего же Михаил не лег просто-напросто спать, как пристало бы после целого дня, проведенного в дороге? Уж не помышлял ли он о той молоденькой ливонке, которая несколько часов была его попутчицей? Да, не имея более разумного занятия, он думал о ней. Может быть, его тревожила мысль, что она, затерянная в этом шумном городе, рискует, что ее кто-нибудь оскорбит? Да, он опасался этого. И не без причин. Так что же, он надеялся встретить ее и, если потребуется, защитить? Нет… Подобная встреча была маловероятна, что до роли защитника… по какому, собственно, праву?
«Одна, – говорил он себе, – одна среди этого кочевого народца! И ведь нынешние опасности – ничто в сравнении с теми, что подстерегают ее в будущем! Только подумать: Сибирь! Иркутск! Туже попытку, на которую я иду во имя России и царя, она намерена предпринять ради… Ради кого? Или чего? Ей выдано разрешение на эту поездку! В край, охваченный восстанием! Что она будет делать среди степей, где рыщут азиатские банды?»
На миг приостановившись посреди дороги, Михаил принялся размышлять: «Замысел этой поездки наверняка вознику нее еще до нашествия! Она даже, может быть, понятия не имеет, что там сейчас творится!.. Хотя нет, эти купцы при ней толковали о волнениях в Сибири… и не похоже, чтобы она удивилась… Даже не спрашивала ни о чем, не просила объяснений… Стало быть, она все знала! И, зная, шла на это… Бедная девочка!.. Значит, побуждения, толкающие ее на такой шаг, поистине могущественны! Но, как бы она ни была отважна, – а что она именно такова, нет сомнения, – дорога истощит ее силы и, даже не говоря о риске и препятствиях, ей этого путешествия просто не выдержать!.. Она ни за что не доберется до Иркутска!»
Между тем Строгов продолжал брести наудачу, куда глаза глядят. Впрочем, он прекрасно знал город, так что заблудиться не мог.
Прошагав так около часа, он присел на скамейку, стоявшую под стеной большого невзрачного деревянного строения, которое возвышалось среди многих подобных по краям весьма обширной площади. Минут пять он сидел там, когда внезапно чья-то крепкая рука опустилась ему на плечо.
– Что ты здесь делаешь? – грубо спросил рослый субъект, подошедший незаметно.
– Отдыхаю, – сказал Михаил.
– Уж не думаешь ли ты провести всю ночь на этой скамейке? – не отставал тот.
– Если пожелаю, то да, – ответил Строгов тоном несколько более вызывающим, нежели пристало бы простому торговцу, каким ему надлежало быть.
– Ну-ка дай посмотреть на тебя! – сказал неизвестный.
Строгов вспомнил, что, прежде всего, надо быть осторожным, и инстинктивно отскочил в сторону, буркнув:
– Нечего на меня смотреть!
Хладнокровие тотчас вернулось к нему, ион прикинул, что лучше держать собеседника на расстоянии шагов в десять.
Теперь, приглядевшись, он подумал, что, скорее всего, имеет дело с одним из тех цыган, каких встречаешь на любой ярмарке, но ни физический, ни духовный контакт с ними особых приятностей не сулит. Внимательнее всмотрелся в темноту, которая уже порядком сгустилась, и действительно заметил возле дома просторную повозку, передвижное жилище, обычное для этого кочевого племени. Цыгане в России кишат повсюду, где можно раздобыть хоть несколько копеек.
Мужчина тем временем сделал два-три шага вперед, готовясь приняться за Михаила Строгова вплотную, но тут дверь дома отворилась. Женщина, почти неразличимая в потемках, проворно выскочила оттуда и окликнула цыгана. По ее наречию, довольно грубому, в ней угадывалась сибирячка отчасти монгольского происхождения.
– Еще одна ищейка! – сказала она. – Шныряют, вынюхивают… Брось его, пошли ужинать. Плюшка[7] готова!
Строгов не сдержал улыбки, услышав, каким определением она его наградила – это его-то, на дух не переносившего полицейских соглядатаев!
Однако цыган на том же языке, каким пользовалась женщина, хотя акцент у него был совсем другой, произнес фразу, означавшую примерно следующее:
– Твоя правда, Сангарра! К тому же завтра нас здесь не будет!
– Завтра? – переспросила женщина вполголоса с некоторым удивлением.
– Да, Сангарра, завтра, – ответил цыган. – Царь-батюшка сам пошлет нас туда… туда, куда нам надо!
И оба вошли в дом, тщательно заперев за собой дверь.
«Ладно! – сказал себе Михаил Строгов. – Но если эти цыгане хотят, чтобы их речей никто не понимал, я бы им посоветовал при мне объясняться на каком-нибудь другом языке!»
Будучи уроженцем Сибири и проведя детство среди ее просторов, он, о чем уже упоминалось, понимал почти все наречия, на каких говорили от Северного Ледовитого океана до знойных туркестанских степей. Впрочем, он не потрудился вдуматься в точный смысл слов, которыми обменялись цыган и его подруга. С какой стати это могло его интересовать?
Время было уже очень позднее, и он решил вернуться на постоялый двор, чтобы немного отдохнуть. На обратном пути он все время шел берегом Волги, следуя за течением реки, воды которой были не видны за темной массой бесчисленных судов. По расположению речного русла Строгов определил место, куда только что забрел. Это скопление повозок и наскоро сколоченных дощатых строений заполоняло ту самую громадную площадь, где, что ни год, разворачивался главный нижегородский рынок. Это объясняло, почему именно туда стекаются ярмарочные фигляры и цыгане со всех концов света.
Спустя час Михаил Строгов уже забылся сном, хотя и несколько беспокойным, на одной из тех русских постелей, которые кажутся иностранцам такими жесткими, и на следующий день, 17 июля, проснулся, только когда совсем рассвело.
Пять часов, которые еще предстояло провести в Нижнем, казались ему вечностью. Чем занять себя это время, если не блуждать, как накануне, по улицам города? Как только он покончит с завтраком, упакует свои пожитки и завизирует подорожную в полицейском участке, у него останется лишь одно дело – уехать. Но как человек, привыкший вставать вместе с солнцем, он все же вылез из кровати, оделся, тщательно упрятал конверт с имперским гербом поглубже в потайной карман, который имелся на талии за подкладкой кафтана, поверху плотно перехваченного поясом, потом завязал свой дорожный мешок и укрепил его у себя за спиной. Проделав все это и не собираясь больше возвращаться в «Град Константинополь», он расплатился и покинул постоялый двор, а позавтракать решил на берегу Волги, возле пристани.
Во избежание каких-либо неожиданностей Строгов сначала отправился в контору пароходной компании, чтобы удостовериться, что «Кавказ» не преминет отплыть в назначенный срок. Тогда же ему впервые пришло на ум, что коль скоро юная ливонка, видимо, направляется в Пермь, весьма возможно, она тоже намерена взойти на борт «Кавказа». В этом случае они с Михаилом вновь окажутся попутчиками.
Верхняя часть города, расположенная на холме, со своим кремлем, имеющим две версты в окружности и похожим на московский, в те годы так опустела, что казалась покинутой. Даже губернатор больше не жил там. Но насколько безжизненным выглядел город на холме, настолько же кипуч был тот, что в низине.
Перейдя реку по понтонному мосту, охраняемому конными казаками, Строгов попал на то самое место, где накануне наткнулся на что-то вроде цыганского табора. Вся огромная Нижегородская ярмарка, с которой не могла бы соперничать даже Лейпцигская, раскинулась не в самом городе, а чуть в сторонке, у окраины. На широкой равнине за Волгой высился временный дворец генерал-губернатора: именно здесь, согласно установленному порядку, сей властительный сановник обитал все время, пока не заканчивалась ярмарка, за которой в силу разнородности собравшейся там публики был необходим неусыпный ежеминутный надзор.
Равнина эта была сплошь в дощатых строениях, расположенных аккуратными рядами таким образом, чтобы между ними оставалось достаточно пространства и толпа могла циркулировать, не создавая заторов. Отдельные скопления этих временных построек всевозможных размеров и форм образовывали торговые ряды, где покупателям предлагались те или иные разновидности товара. Здесь были ряды металлических, деревянных, шерстяных изделий, ряды пушнины, тканей, сушеной рыбы и пр. Некоторые сооружения потребовали немалой фантазии по части выбора строительных материалов: одни были сложены, к примеру, из чайных брикетов, другие – из кусков солонины, то есть из образцов товара, который предлагали покупателям его владельцы. Оригинальный рекламный прием, даром что не американский!
Солнце стояло уже очень высоко над торговыми рядами, этими импровизированными аллеями. Ведь оно в то утро взошло из-за горизонта еще до четырех часов, поэтому публики успело набраться много. Русские, сибиряки, немцы, казаки, тюрки всякого рода, персы, грузины, греки, подданные Оттоманской империи, индусы, китайцы, невероятная смесь европейцев и азиатов – все болтали, спорили, ораторствовали, жульничали. Казалось, на этой площади сосредоточилось все, что продается и покупается. Носильщики, лошади, верблюды, ослы, лодки, коляски – все, что может послужить для перевозки товаров, было собрано на этой ярмарочной площади. Пушнина, драгоценные камни, индийский кашемир, турецкие ковры, оружие с Кавказа, ткани из Исфагана и Смирны, броня из Тифлиса, чаи, доставленные сюда караванами, бронзовые изделия из Европы, швейцарские часы, лионские шелка и бархат, английский хлопок, детали для изготовления карет, фрукты, овощи, минералы с Уральских гор, малахит, ляпис-лазурь, духи и благовония, лекарственные растения, древесина, смолы, корабельные снасти, рога, тыквы, арбузы и многое еще – все, что производится в Европе и Америке, в Индии, Китае, Персии, на побережьях Каспийского и Черного морей, сосредоточилось в этой точке земного шара.
Здесь царило возбуждение, все двигалось, производя такую сутолоку и гам, которые не описать. Простолюдины из местных вели себя весьма вызывающе, но и чужестранцы им не уступали. Среди них встречались купцы из Средней Азии, потратившие год, чтобы перевезти свой товар через бескрайние равнины иуберечь его в пути, а теперь вынужденные еще год возвращаться, прежде чем смогут вновь увидеть родную лавку. В конечном счете, эта нижегородская ярмарка – настолько важное событие, что общая стоимость заключаемых на ней сделок – не менее ста миллионов рублей (то есть около трехсот девяноста трех миллионов франков).
Стоит отметить и еще одно: на площадях этого импровизированного города, в проходах между его кварталами (торговыми рядами) собираются шуты всех мастей: фокусники, бродячие акробаты, способные оглушить грохотом своих оркестров и воплями, какими они сзывают публику поглазеть на их балаганные трюки. Цыгане из разных краев, с гор и равнин, гадают прохожим простофилям, поток которых не иссякает, суля им всякие блага и удачи. На Руси цыганами зовут потомков древних коптов, они распевают самые колоритные песни, привлекая зевак необыкновенно своеобразными танцами. Здесь же комедианты из бродячих трупп разыгрывают драмы Шекспира, приспособленные к запросам зрителей, которые толпами сбегаются на их представления. По длинным проходам между рядами разгуливают ходебщики с медведями, их четвероногие эквилибристы ведут себя очень вольно. Попадаются и целые зверинцы, сотрясаемые резкими криками их обитателей, которых дрессировщики подстегивают ударами кнута или заостренными палками. Наконец, в самом центре громадной площади, окруженный толпой в четыре ряда наивных почитателей, горланит «хор волжских речников»: рассевшись на земле, словно на скамьях своего баркаса, они делают вид, будто гребут, а их дирижер, истинный рулевой этого воображаемого судна, знай размахивает палочкой!
А вот еще обычай, диковинный и милый: над всей этой толпой взмывает стая птиц, выпущенных из клеток, в которых их сюда привезли! Следуя традиции, на Нижегородской ярмарке, соблюдаемой очень ревностно, их тюремщики всего за несколько копеек выкупа, внесенного чьей-нибудь милосердной рукой, открывали дверцы узилищ, и пленницы сотнями выпархивали на свободу, радостно щебеча…
Так выглядела эта равнина, такой она должна была оставаться в течение полутора месяцев – прославленная Нижегородская ярмарка обычно длится именно столько. По окончании этого оглушительного периода великий гомон вдруг затихает, словно по мановению волшебной палочки: верхний город вновь обретает свое значение административного центра, нижний впадает в будничную монотонную спячку, и от этого гигантского наплыва торгового люда со всей Европы и Средней Азии не остается ни единого продавца, еще готового предложить какой ни на есть товар, и ни единого покупателя, склонного что-либо приобрести.
Здесь следует заметить, что на сей раз Франция и Англия доставили на большую Нижегородскую ярмарку два достойнейших образца современной цивилизации. То были мсье Альсид Жоливе и мистер Гарри Блаунт.
В самом деле, оба корреспондента в угоду своим читателям прибыли сюда за новыми впечатлениями и сумели наилучшим образом использовать те несколько часов, которые им пришлось здесь потратить, поскольку в дальнейшем им тоже предстояло продолжить свое путешествие на борту «Кавказа».
Они встретились на ярмарке, причем ни тот, ни другой особенно не удивился, ведь обоими владел охотничий инстинкт, вот они и взяли один и тот же след. Однако разговаривать они на сей раз не стали, только поздоровались, причем довольно холодно.
К тому же Альсид Жоливе, оптимист по натуре, видимо, нашел, что все идет достаточно сносно, а поскольку счастливый случай послал ему ужин и ночлег, он внес в свою тетрадку несколько благосклонных и предельно честных замечаний относительно Нижнего Новгорода.
Гарри Блаунт, напротив, тщетно искал, где бы перекусить, и спать ему пришлось под открытым небом. Поэтому он взирал на вещи под другим углом зрения и замышлял статью, призванную испепелить, подобно удару молнии, этот город, где хозяева постоялых дворов не пускают на порог путешественников, хотя эти несчастные готовы позволить содрать с себя три шкуры «как морально, так и материально»!
Михаил Строгов, засунув одну руку в карман, а в другой держа длинную трубку с черешневым мундштуком, выглядел как нельзя более равнодушным, но то была лишь поза. Внимательный физиономист заметил бы, как напряжены мышцы его надбровий, и мигом бы догадался, что этот человек, можно сказать, грызет удила от нетерпения.
Около двух часов он бродил по городу, и все улицы неизменно приводили его на рыночную площадь. Прохаживаясь там, прислушиваясь к разговорам, он замечал немалую обеспокоенность среди купцов, прибывших сюда из пограничных с Азией областей. Было очевидно, что их коммерческие операции изрядно страдали от происходящего. Пускай фигляры, акробаты и эквилибристы все также поднимали ужасный шум перед своими палатками, это было в порядке вещей, ведь им, беднягам, терять нечего, они в торговых предприятиях не участвуют. А вот купцы колебались, не зная, стоит ли связываться с перевозкой товаров по Средней Азии, взбудораженной военной экспедицией ханов.
Был и другой признак неблагополучия, который трудно не заметить. В России, куда ни глянь, вечно попадаются на глаза военные мундиры. Солдаты охотно смешиваются с толпой, тем паче в Нижнем Новгороде в дни ярмарки, где многочисленные казаки с пиками на плечах обычно помогают полицейским агентам поддерживать порядок в этом трехтысячном скопище иноземцев.
Так вот, в этот день на ярмарке не было видно военных – ни казаков, ни прочих. Судя по всему, им было приказано не покидать казарм в предвидении приказа о немедленном выступлении.
Между тем, если солдаты в городе не показывались, об офицерах этого не скажешь. Еще со вчерашнего дня из дворца генерал-губернатора то идело выскакивали адъютанты, разбегаясь во всех направлениях. Таким образом, возникло необычное оживление, которое можно было объяснить только важностью происходящих событий. По дорогам губернии, ведущим как во Владимир, так и в сторону Уральских гор, сновали нарочные. Между Москвой и Санкт-Петербургом шел непрерывный обмен телеграфными депешами. Очевидно, положение Нижнего Новгорода, находящегося недалеко от сибирской границы, требовало серьезных мер предосторожности. Нельзя же забывать, что в XIV веке город был дважды захвачен предками тех самых азиатов, которых безрассудное властолюбие Феофар-хана завело в киргизские степи.
Другой высокопоставленный сановник, обер-полицмейстер, был озабочен не менее генерал-губернатора. Его подчиненные и он сам буквально с ног сбивались, стараясь поддержать порядок, рассматривая получаемые жалобы, следя за исполнением правил и начальственных предписаний. Конторы государственного ведомства, открытые денно и нощно, без конца осаждали просители, как из числа горожан, так и иностранцы, гости из Азии и Европы.
Случилось так, что Михаил Строгов находился именно на центральной площади, когда распространился слух, будто обер-полицмейстера только что через курьера вызвали во дворец генерал-губернатора. Говорили, что причиной такого срочного приглашения являлась важная депеша, прибывшая из Москвы.
Итак, обер-полицмейстер отправился в губернаторский дворец, и тотчас, словно по какому-то общему наитию, молва разнесла новое известие: мол, будут приниматься строжайшие меры, выходящие за все мыслимые пределы, абсолютно непредвиденные.
Строгов прислушивался к этим разговорам, чтобы при необходимости воспользоваться полученными сведениями.
– Ярмарку закроют! – крикнул кто-то.
– Нижегородский полк только что получил приказ выступить! – откликнулся другой.
– Говорят, неприятель угрожает Томску!
– Вон идет начальник полиции! – вдруг раздалось отовсюду.
Оглушительный гомон разом поднялся со всех сторон, потом он мало-помалу стих и наступила абсолютная тишина. Всеми овладело предчувствие, что сейчас от властей последует какое-то важное сообщение.
Начальник полиции с группой своих сослуживцев только что вышел из дворца генерал-губернатора. Его сопровождал отряд казаков, они расчищали себе дорогу в толпе, щедро раздавая мощные тумаки, принимаемые со смирением.
Выйдя на середину площади, где его мог видеть каждый, с депешей в руках, начальник полиции громким голосом прочел следующую декларацию:
– Распоряжение губернатора Нижнего Новгорода. Пункт первый: всем русским подданным запрещается покидать губернию с какой бы то ни было целью. Пункт второй: всем инородцам азиатского происхождения покинуть губернию в двадцать четыре часа.
Глава VI. Брат и сестра
Эти меры, крайне неприятные с точки зрения многих частных интересов, учитывая сложившееся положение, были абсолютно оправданы.
«Всем русским подданным запрещается покидать губернию» – итак, если Иван Огаров еще здесь, это помешает ему присоединиться к Феофархану или, по крайней мере, создаст для него большие затруднения: стало быть, есть надежда, что предводитель азиатского воинства лишится столь грозного помощника.
«Всем инородцам азиатского происхождения покинуть губернию в двадцать четыре часа» – значит, можно одновременно избавиться от торговцев, нахлынувших сюда из Средней Азии, а заодно от разношерстных цыган, также привлеченных ярмаркой и находящихся в более или менее тесной связи с азиатскими и монгольскими народностями. Здесь что ни человек, то шпион, так что их выдворение при сложившейся ситуации, разумеется, необходимо.
Однако нетрудно представить, что такие два пункта обрушились на Нижний, неизбежно оказавшийся под ударом больше, нежели любой другой город, подобно двум молниям.
Выходило так, что русские подданные, приехавшие сюда по торговым делам из Сибири, лишались, по крайней мере, на время, возможности вернуться домой. Запрет, сформулированный в первом пункте распоряжения, был категоричен, он не допускал исключений. Всякие частные интересы должны были отступить перед государственными соображениями.
Что до второго пункта, приказ о выдворении звучал столь же безапелляционно. Он, правда, касался не всех иностранцев, а лишь уроженцев Азии, но последним не оставалось иного выхода, как упаковать свои едва распакованные товары и пуститься в дальнюю дорогу, которую они только что прошли. А всем этим бродячим гимнастам, которых собралось множество, чтобы добраться до ближайшей границы, предстояло одолеть около тысячи верст. Краткий срок, для этого назначенный, сущая беда в их положении!
Поэтому такая необычная мера сперва вызвала ропот протеста и крики отчаяния, но присутствие казаков и полицейских агентов мигом усмирило страсти. И почти мгновенно на этой огромной равнине началось то, что можно назвать предотъездными хлопотами. Тенты, натянутые перед лавками, свертывались, бродячие труппы разбредались кто куда, танцы и пение прекратились, крики продавцов, выхваляющих свой товар, умолкли, костры погасли, исчезли натянутые канаты, по которым разгуливали эквилибристы, и старые одышливые клячи, выведенные из стойла, впрягались в оглобли. Полицейские и солдаты с нагайками и дубинками поторапливали тех, кто медлил, безо всякого стеснения валили наземь цыганские шатры, не дожидаясь, пока их бедные обитатели выберутся наружу. Надо полагать, именно под воздействием столь решительных мер нижегородская ярмарочная площадь опустела еще до наступления вечера, и взамен гомона огромного рынка здесь воцарилось безмолвие пустыни.
И надо еще вспомнить, коль скоро такое ужесточение мер было вызвано необходимостью, что всем этим кочевникам, первым, самым непосредственным жертвам приказа о выдворении, даже в сибирские степи не разрешалось уйти, им надо было со всехногулепетывать на южное побережье Каспийского моря, куда-нибудь в Персию, в Турцию или в степи Туркестана. Мимо постов, расставленных на реке Урал, им не пройти, как и через горы, служащие продолжением границы с Сибирью, которой является эта река. Следовательно, они были вынуждены пройти тысячи верст, прежде чем смогут ступить на свободную землю.
В тот самый момент, когда начальник полиции дочитал приказ, в памяти Михаила Строгова само собой всплыло совпадение, теперь поразившее его.
«Экая странность! – подумал он. – Нет ли связи между этим распоряжением о выдворении всех чужеземцев родом из Азии и тем, о чем нынче ночью перемолвились цыган с цыганкой? Царь-батюшка сам пошлет нас туда, куда нам надо!» – так сказал тот старик. Но «Царь-батюшка» – это ведь император! В народе его иначе и не называют! Как эти цыгане могли предугадать распоряжение, направленное против них, откуда они узнали о нем заранее? И куда это им надо? Подозрительная публика! А между тем мне кажется, губернаторский приказ им скорее на руку, чем во вред!»
Но это рассуждение, бесспорно справедливое, было тут же вытеснено другой мыслью, появление которой изгнало из сознания Михаила все прочие. Он позабыл и цыган, и их подозрительные речи, и странное совпадение их смысла с прочитанным только что приказом. Внезапно его настигло воспоминание о юной ливонке, и у него вырвалось словно бы против воли:
– Бедное дитя! Теперь ей до Сибири уж никак не добраться!
И верно, ведь девушка приехала из Риги, она была ливонкой, следовательно, русской, и значит, ей теперь запрещено покидать территорию губернии. Это разрешение на проезд, которое ей выдали до введения новых чрезвычайных мер, теперь, судя по всему, недействительно. Перед ней только что безжалостно закрыли все пути в Сибирь, и каковы бы ни были побуждения, заставившие ее стремиться в Иркутск, отныне ей запрещен туда доступ.
Эта мысль живо овладела Михаилом. Ему пришло на ум, сперва туманно, вскользь, что он, пожалуй, мог бы, ничем не повредив своей важной миссии, предложить храброй девушке помощь. Такая идея ему понравилась. Сознавая, скольким опасностям он бросает вызов, – он, сильный, предприимчивый мужчина, – Михаил не мог не понимать, что для юной девушки риск еще гораздо больше. Коль скоро она направляется в Иркутск той же дорогой, что и он, ей, как и ему, придется прокладывать путь сквозь орды захватчиков. А если к тому же, что весьма вероятно, у нее при себе лишь та сумма денег, что необходима для такого путешествия в обычных условиях, как она сможет достичь своей цели в обстоятельствах, когда это станет не только еще опаснее, но и много дороже?
«Что ж! – сказал он себе. – Раз она едет в Пермь, мы почти наверняка еще встретимся. Тогда я в пути смогу приглядывать за ней так, чтобы она этого не заметила, а поскольку она, видимо, спешит в Иркутск не меньше моего, это меня нисколько не задержит».
Однако этот замысел привел его к другим соображениям. До сих пор Строгов думал лишь о том, что, пожалуй, есть шанс оказать услугу, сделать доброе дело. Теперь же в его мозгу зародилась новая идея, и вопрос представился ему под иным углом зрения.
«По существу, – размышлял он, – я, чего доброго, нуждаюсь в ней даже больше, чем она во мне. Ее присутствие могло бы оказаться для меня небесполезным, развеять всякие подозрения на мой счет. В мужчине, скачущем в одиночку по степи, легче угадать царева посланца. Если же, напротив, со мной была бы молодая девушка, я в глазах каждого куда больше походил бы на Николая Корпанова из моей подорожной. Значит, надо устроить так, чтобы она меня сопровождала! Выходит, я должен отыскать ее любой ценой! Трудно поверить, что со вчерашнего дня она успела раздобыть экипаж и выехать из Нижнего. Итак, поищем ее, и да поможет мне Бог!»
Когда Михаил Строгов покидал ярмарочную площадь, суматоха, воцарившаяся там из-за торопливого исполнения предписанных мер, дошла до предела. Жалобы и протесты изгоняемых чужеземцев, крики полицейских агентов и казаков, которые грубо их подгоняли, – все это сливалось в неописуемый шум. Девушка, которую искал Михаил, не могла здесь находиться.
Было девять часов утра. Пароход же отправлялся только в полдень. Следовательно, у Строгова оставалось около двух часов на поиски той, кого он хотел сделать своей спутницей в этой поездке.
Он вновь переправился через Волгу, обошел кварталы другого берега, где толпа была не такой густой. Можно сказать, он прочесывал улицы одну задругой, и на холме, ив низине. Он заходил в церкви – естественное прибежище всех страждущих. Но нигде он не встречал юной ливонки.
«Все равно! – твердил он про себя. – Она не могла так быстро уехать из города. Продолжим поиски!»
Так Михаил Строгов пробродил два часа. Шагал не останавливаясь, не чувствуя усталости, повинуясь властному чувству, более не позволявшему тратить время на раздумья. Однако все было напрасно.
Внезапно ему пришло в голову, что девушка, может быть, и не знает о губернаторском распоряжении – маловероятное обстоятельство, ведь это было подобно удару молнии: когда такое случается, слышат все вокруг. Как незнакомка, по-видимому, заинтересованная в том, чтобы не упускать малейших известий, приходящих из Сибири, могла не знать о мерах, принятых губернатором и наносящих такой удар по ее планам?
Но, в конце концов, если девушка ничего не знает, она через несколько часов придет на пристань. Тут-то какие-нибудь жестокосердные полицейские и объявят ей, что проезд запрещен! Михаилу надо было любой ценой увидеться с ней раньше, тогда благодаря ему она избежит этого тягостного положения.
Однако поиски по-прежнему оставались тщетными, и вскоре он потерял всякую надежду отыскать ливонку.
Было уже одиннадцать часов. Строгов подумал, что надо предъявить свою подорожную в полицейском участке. При любыхдругих обстоятельствах это было бы ни к чему, да и теперь запреты не могли распространяться на него, на то в его подорожной была предусмотрена особая отметка, но он хотел полностью увериться, что его выезду из города не грозят никакие помехи. Значит, Михаилу Строгову надо было снова переправиться на другой берег Волги, туда, где находился полицейский участок.
Там он увидел большое стечение народа, ведь иноземцы, хоть и получили приказ срочно покинуть город, тем не менее, были обязаны подвергнуться некоторым предварительным формальностям. Без подобной предосторожности какой-нибудь русский, более или менее запятнавший себя содействием захватчикам-азиатам, мог бы, переодевшись, скрыть свое истинное лицо и пересечь границу, а приказ губернатора был призван помешать этому. Так что, хоть вас и высылали, вам при этом еще требовалось получить позволение уехать.
Итак, во дворе перед полицейским участком толпились фокусники, цыгане, купцы из Персии, Турции, Индии, Китая, Туркестана.
При этом все спешили, ведь в этой толпе высылаемых каждому требовалось какое-то транспортное средство, но кто опоздает, тот очень рискует, что ему не хватит места, тогда он лишится возможности покинуть город до истечения указанного срока, а это было чревато жестокими гонениями со стороны губернской полиции.
Благодаря крепости своих локтей Строгов смог пробиться сквозь толпу. Однако войти в контору и протолкаться к окошечку служащего оказалось гораздо труднее. Но все же пара нужных слов, сказанных на ухо полицейскому инспектору, и несколько вовремя сунутых ему рублей оказались достаточно могущественным средством, чтобы расчистить дорогу к цели.
Служитель провел его в зал ожидания и отправился на поиски более высокого чина, которому полагалось разрешать такие вопросы. Таким образом, Михаил смог бы незамедлительно урегулировать свои отношения с полицией и быть свободным в дальнейших передвижениях.
В ожидании этого Строгов оглянулся вокруг. И что же он увидел?
Невдалеке, уже не столько сидя, сколько упав на скамейку, в состоянии немого отчаяния застыла девушка. Он с трудом смог разглядеть ее лицо, только профиль вырисовывался на фоне стены.
Михаил не ошибся, это была она. Та самая юная ливонка. Он ее сразу узнал.
Понятия не имея о распоряжении губернатора, она явилась в полицейский участок, чтобы завизировать свое разрешение на проезд!.. И ей отказали! Раньше она, несомненно, заручилась бы правом поехать в Иркутск, но распоряжение было категорическим, оно аннулировало все прежние разрешения. Теперь дорога в Сибирь была для нее закрыта.
Михаил Строгов подошел к незнакомке. Он был в восторге от того, что наконец нашел ее.
Она мельком взглянула на него, узнала недавнего попутчика, и слабая мимолетная улыбка осветила ее лицо. Девушка встала и подобно утопающему, инстинктивно цепляющемуся за обломок кораблекрушения, шагнула ему навстречу, словно прося участия…
В этот момент полицейский, подойдя, тронул Строгова за плечо.
– Начальник полиции ждет вас, – сказал он.
– Хорошо, – ответил тот.
И, не сказав ни слова той, кого так искал еще со вчерашнего дня, не успокоив незнакомку даже жестом, который мог бы скомпрометировать и его, и ее, он последовал за служителем, проталкиваясь сквозь густое скопление народа.
Когда единственный человек, на чью помощь она могла надеяться, исчез из виду, юная ливонка снова без сил опустилась на скамью. Не прошло и трех минут, как Михаил Строгов, сопровождаемый все тем же полицейским, снова появился в зале. Он держал в руке подорожную, открывавшую ему путь в Сибирь.
Подойдя кдевушке, он протянул ей руку, тихонько окликнув:
– Сестрица…
Она поняла! Быстро встала, будто охваченная внезапным воодушевлением, не позволяющим колебаться.
– Сестрица, – повторил Строгов, – нам разрешили продолжить путь в Иркутск. Ты идешь?
– Пойдем, братец, – отвечала девушка, беря его за руку.
Из полицейского участка они вышли вдвоем.
Глава VII. Вниз по Волге
Незадолго до полудня звон пароходного колокола привлек на волжскую пристань толпу народа – и тех, кто уезжал, итех, кто хотел уехать. Давление в котлах «Кавказа» уже было достаточно высоким. Над судовой трубой вился теперь лишь легкий дымок, зато из выхлопных клапанов и трубок вырывались белоснежные клубы пара.
Полиция, само собой, зорко наблюдала за отправлением «Кавказа», проявляя беспощадность к пассажирам, не имеющим права покинуть город.
Многочисленные группы казаков расхаживали по пристани взад-вперед, готовые оказать вооруженную поддержку полицейским агентам, но необходимости в их вмешательстве не возникало, сопротивления никто не оказывал.
В назначенный час судовой колокол в последний раз подал голос, отдали швартовы, мощные колеса парохода забарабанили по воде своими широкими лопастями, и «Кавказ» быстрым ходом двинулся вперед между двумя городами, вкупе образующими Нижний Новгород.
Михаил Строгов с юной ливонкой отчалили на борту «Кавказа». Погрузиться на пароход им никто не мешал. Как мы помним, подорожная на имя Николая Корпанова была оформлена так, что давала этому купцу возможность отправиться в Сибирь с сопровождающими. Итак, брат и сестра путешествовали под покровительством имперской полиции.
Усевшись на корме, оба смотрели, как удаляется город, столь глубоко потрясенный губернаторским приказом.
Михаил не сказал девушке ничего. И ни о чем ее не расспрашивал. Ждал, что она заговорит сама, если сочтет нужным. Она так спешила покинуть город, пленницей которого ей пришлось бы остаться, если в ее судьбу не вмешался бы нежданный покровитель. Она молчала, но ее взгляд красноречиво выражал признательность.
Волга («Ра» у античных авторов) считается самой большой из европейских рек, ее длина – не менее четырех тысяч верст (4300 километров). Ее воды, в верхнем течении довольно мутные, становятся особенно обильными у Нижнего Новгорода, где сливаются с быстрыми водами Оки – притока, берущего начало в центральных областях России.
Всю совокупность рек и каналов этой страны не без оснований сравнивали с гигантским деревом, ветви которого дотягиваются до самых отдаленных частей империи. Волга же служит стволом этой ветвистой кроны, а корни – те семь десятков рукавов, на которые река делится перед впадением в Каспийское море. Река пригодна для навигации начиная со Ржева, города в Тверской губернии, то есть судоходна на большей части своего течения.
Суда пароходной компании, курсирующие между Пермью и Нижним Новгородом, довольно быстро проходят расстояние в триста пятьдесят верст (373 километра) от Нижнего до Казани. Правда, на этом отрезке пути они идут вниз по течению Волги, что прибавляет к их собственной скорости около двух миль в час. Однако когда пароходы доходят до устья Камы, расположенного чуть дальше Казани, им приходится продолжать путь до Перми уже не вниз по великой реке, а вверх против течения ее притока. Таким образом, наступает расплата, и какова бы ни была мощность «Кавказа», ему не сделать больше шестнадцати верст в час. С учетом часовой стоянки в Казани путь из Нижнего Новгорода в Пермь должен занять примерно шестьдесят – шестьдесят два часа.
Впрочем, этот пароход был очень хорошо оборудован, его пассажирам в зависимости от их ранга и средств предоставлялись на выбор три разграниченных между собой класса. Михаил Строгов снял две отдельные каюты первого класса, чтобы его юная спутница, когда пожелает, могла уединиться, отправившись к себе в каюту.
Пароход был до отказа заполнен пассажирами всех сословий. Кое-кто из купцов-азиатов счел за благо покинуть Нижний как можно скорее. В той части «Кавказа», что предназначалась для пассажиров первого класса, можно было встретить армян в длиннополых одеяниях с головами, увенчанными чем-то вроде митры, евреев, узнаваемых по коническим шапочкам, богатых китайцев в традиционных синих, черных и фиолетовых широченных балахонах с разрезами спереди и сзади, поверх которых надевались вторые, с широкими рукавами, напоминавшие поповские рясы. Были там и турки, до сих пор носящие свои национальные тюрбаны, индусы в квадратных колпаках, перепоясанные простой веревкой, хотя некоторые из них, те, что зовутся «шикарпури», держат в своих руках всю караванную торговлю Средней Азии, и наконец, торговцы из Туркестана в расшитых нагрудниках и сапогах, украшенных многоцветным сутажем. Товарами всех этих купцов были забиты трюм и палуба; им, должно быть, пришлось изрядно потратиться на транспортировку, так как по правилам на каждого полагалось не более двадцати фунтов багажа.
На носу «Кавказа» пассажиров собралось особенно много, не только чужеземцев, но и тех русских, кому не запрещалось вернуться в свои родные города, находящиеся в пределах губернии.
Там были мужики с картузами и шапками на голове, в рубахах в мелкую клетку и широких кафтанах. Встречались и местные поволжские простолюдины, их легко было отличить по синим штанам, заправленным в сапоги, льняным розовым рубашкам, перепоясанным веревкой, плоским картузам или фетровым кепкам. Женщины, носившие хлопчатобумажные платья в цветочек, яркие переднички и косынки с алым узором, попадались, как правило, среди пассажиров третьего класса: этим, едущим домой, к счастью, можно было не беспокоиться о том, что предстоит долгий обратный путь. Та часть палубы, где они ютились, была до отказа забита народом. Поэтому пассажиры с кормовой части судна избегали соваться туда, в разношерстную толкучку тех, кому полагалось тесниться у палубных люков.
Тем временем «Кавказ», во всю мочь работая лопастями, двигался меж двух волжских берегов. Навстречу ползло множество судов, груженных всевозможными товарами: буксиры тащили их вверх по течению – в Нижний Новгород. Затем потянулись плоты из бревен, длинные, словно бесконечные пряди водорослей Саргассова моря в Атлантическом океане, а также баржи, утопленные в воду по самый планшир, перегруженные настолько, что впору пойти ко дну. А ведь все это теперь стало бесполезным, коль скоро ярмарку, едва успевшую открыться, только что грубо разогнали.
Над берегами Волги, о которые билась волна, поднимаемая проходящим пароходом, взлетали, испуская оглушительные крики, целые тучидикихуток. Чуть дальше, на иссохших равнинах, местами поросших ольхой, ивами и осинами, там и сям паслись темно-рыжие коровы, темнели коричневые стада баранов или многочисленные скопища свиней с их белыми и черными поросятами. Иногда появлялись и поля, засеянные худосочной рожью или гречихой, они тянулись вдаль чуть не до горизонта – прибрежные земли были частично возделаны, но, в конечном счете, никаких примечательных ландшафтов не наблюдалось. Если бы какому-нибудь рисовальщику вздумалось искать среди этих однообразных пейзажей живописное местечко, его карандаш остался бы без дела, так и не обнаружив ничего, что достойно запечатления.
Прошло уже два часа с момента отплытия «Кавказа», когда юная ливонка обратилась к Михаилу Строгову:
– Ты едешь в Иркутск, братец?
– Да, сестрица, – отвечал молодой человек. – У нас обоих одна дорога. Стало быть, где я пройду, пройдешь и ты.
– Завтра я тебе расскажу, братец, почему я с берегов Балтики отправилась аж за Уральские горы.
– Я тебя ни о чем не спрашиваю, сестра.
– Ты все узнаешь, – сказала девушка, и горькая усмешка тронула ее губы. – Не пристало сестре что-либо скрывать от брата. Но сегодня не смогу… Я вконец разбита от усталости и отчаяния!
– Хочешь пойти к себе в каюту и отдохнуть? – спросил Михаил Строгов.
– Да, да… а завтра…
– Ступай же…
Он не закончил фразу, вдруг заколебавшись, словно хотел назвать свою спутницу по имени, которого еще не знал.
– Надя, – произнесла она, протягивая ему руку.
– Иди, Надя, – отвечал Михаил, – и без всяких церемоний располагай своим братом – Николаем Корпановым.
С тем и проводил девушку в расположенную на корме каюту, снятую специально для нее.
Вернувшись на палубу, Михаил Строгов стал жадно прислушиваться к разговорам, ведь иная новость могла бы внезапно изменить его планы. Он смешался с толпой, переходил от одной группы пассажиров к другой, держал ухо востро, но сам в беседах не участвовал. Впрочем, если бы кто-то случайно обратился к нему с расспросами и пришлось бы отвечать, он выдал бы себя за купца Николая Корпанова, который рассчитывает на борту «Кавказа» достигнуть Уральских гор. Ведь было отнюдь не желательно, чтобы кто-нибудь догадался о его особом разрешении, позволяющем отправиться в Сибирь.
Естественно, что чужестранцы, пассажиры парохода, ни о чем другом не говорили, как только о событиях дня, губернаторском приказе и его последствиях. Эти бедняги, едва пережившие тяготы пути из Средней Азии, а теперь вынужденные туда вернуться, если не выражали во весь голос свой гнев и отчаяние, то исключительно потому, что опасались. Их удерживал страх перед русскими властями, смешанный с почтением. Ведь, чего доброго, вдруг на борт «Кавказа» тайком проник какой-нибудь полицейский инспектор, которому поручено надзирать за пассажирами. Так что лучше держать язык за зубами: выдворение все же предпочтительнее, чем заключение в крепость. Поэтому торговцы, собираясь группами, либо помалкивали, либо обменивались столь осторожными замечаниями, из которых не вытянешь каких-либо полезных сведений.
Да, здесь Строгову не перепало ничего интересного. Он даже не раз замечал, что говорящие замолкают при его приближении, ведь никто его не знал. Зато вскоре до его слуха донесся громкий голос: видно, его обладатель мало заботился о том, услышит его кто или нет. Говорил он весело, по-русски, но с иностранным акцентом. Его более сдержанный собеседник отвечал на том же языке, но и для него русский явно не был родным.
– Как?! – воскликнул первый. – Неужели я встречаю на этой посудине вас, любезный мой собрат, вас, с кем я беседовал на имперском празднестве в Москве, кого мельком видел в Нижнем Новгороде?
– Да, это я, – сухо обронил второй.
– По правде сказать, не ожидал, что вы так сразу устремитесь по моим следам, наступая на пятки!
– Я не следую за вами, сударь. Я вам предшествую!
– Предшествуете? Вот еще! Сойдемся на том, что мы шагаем в ряд, единым фронтом, как солдаты на параде, и, если вам угодно, могли бы, по крайности, пока согласиться, что ни один не обскакал другого!
– Совсем напротив. Я обгоню вас.
– Это мы еще посмотрим, когда окажемся на театре военныхдействий. Но до тех пор – какого черта? Давайте останемся просто попутчиками. У нас еще будет время стать соперниками!
– Врагами.
– Врагами, идет! Вы, дорогой собрат, чрезвычайно точно выражаетесь, это меня восхищает. С вами, по крайней мере, знаешь, что к чему.
– А корень зла в чем?
– Ни в чем, все в порядке. Я лишь просил бы у вас позволения, в свою очередь, уточнить наши взаимоотношения.
– Уточняйте.
– Вы направляетесь в Пермь, как и я?
– Как и вы.
– А из Перми, по всей вероятности, в Екатеринбург, поскольку это лучший, самый надежный путь, чтобы перейти через Уральские горы?
– Возможно.
– Как только перейдем хребет, мы окажемся в Сибири, то есть в краю, который подвергся нашествию.
– Мы там будем!
– И тогда, но только тогда, настанет момент сказать: «Каждый за себя, и Бог за…»
– Бог за меня!
– За вас одного? Прекрасно! Но поскольку впереди у нас неделя нейтралитета, а новости наверняка не посыплются на нас по дороге, будем друзьями до того момента, когда снова станем соперниками.
– Врагами.
– Да! Врагами, это точно! Но до тех пор давайте действовать заодно, незачем грызть друг друга! Впрочем, я вам гарантирую, что оставлю при себе все то, что смогу увидеть…
– А я – все то, что смогу услышать.
– Так договорились?
– Договорились.
– Вашу руку!
– Вот она.
И растопыренная пятерня первого собеседника ухватила, сжала и крепко потрясла два пальца, флегматично протянутые вторым.
– Кстати, – продолжал первый, – мне сегодня утром, в десять часов семнадцать минут, удалось передать моей кузине по телеграфу текст распоряжения новгородского губернатора.
– А я отправил его в «Дейли телеграф» в десять тринадцать.
– Браво, господин Блаунт.
– Более чем превосходно, господин Жоливе.
– Долг платежом красен!
– Единоборство предстоит трудное.
– Однако мы попытаем счастья!
Произнеся эти слова, французский корреспондент дружески раскланялся с английским, который ответил ему коротким кивком, вложив в это приветствие всю британскую чопорность.
Губернаторское распоряжение не коснулось этих охотников за новостями, ведь они не были ни русскими, ни иностранцами азиатского происхождения. Поэтому они уехали из Нижнего Новгорода, причем одновременно: обоих гнал вперед один и тот же инстинкт. А значит, естественно и то, что они воспользовались одним средством транспорта и, направляясь в сибирские степи, избрали один и тот же путь. Кем бы они друг друга ни считали – друзьями, врагами или просто попутчиками, им оставалась еще неделя до того дня, когда «начнется охота». И тогда верх возьмет тот, кто ловчее! Альсид Жоливе первым бросил противнику вызов, и Гарри Блаунт, каким бы он ни был хладнокровным, принял его.
Между тем в тот день, за ужином, француз, неизменно открытый и даже немного болтливый, и англичанин, вечно замкнутый, надутый, выпивающий всегда за одним и тем же столиком настоящее «Клико» (по шести рублей за бутылку!), усердно и со свежими силами исполняли роль добрых соседей.
Послушав, как Альсид Жоливе и Гарри Блаунт беседуют друг с другом, Михаил Строгов сказал себе: «Вот два любопытных и нескромных субъекта, с которыми мне, по всей вероятности, еще придется встречаться в дороге. Похоже, осторожность велит держать их на расстоянии».
Юная ливонка к ужину не вышла. Она спала у себя в каюте, и Михаил не хотел, чтобы ее будили. Итак, наступил вечер, а она так и не появилась на палубе «Кавказа».
Долгие летние сумерки принесли прохладу, о которой пассажиры, истомленные знойным днем, так тосковали. Время шло, а большинству не хотелось расходиться по салонам и каютам. Раскинувшись на скамейках, они понемножку с наслаждением впивали свежий ветерок, создаваемый движением парохода. Небо, в это время года и на этой широте едва успевающее потемнеть за краткий промежуток между вечерней и утренней зарей, оставляло земле достаточно света, чтобы рулевой мог преспокойно лавировать среди множества судов, идущих вниз и вверх по Волге.
Тем не менее месяц, показавшийся на небосклоне между одиннадцатью и двумя часами ночи, едва успел народиться, сияние его тоненького серпа не могло разогнать ночную тьму. Почти все пассажиры к тому времени спали, и тишину нарушал только шум лопастей, с равномерными интервалами бьющихся о воду.
Непонятное беспокойство мешало Строгову заснуть. Он бродил взад-вперед по палубе, но в основном держался кормы. Правда, один раз ему случилось пройти мимо машинного отделения и оказаться таким образом в той части судна, что предназначалась для пассажиров второго и третьего класса.
Они спали там не только на скамьях, но и на кипах товара, на тюках, а то и просто на дощатом настиле палубы, вповалку. Стояли только вахтенные матросы на полубаке. Два сильных фонаря, зеленый и красный, отбрасывали справа и слева косые лучи на борта судна.
Требовалась известная осторожность, чтобы не наступать на спящих, привольно развалившихся то здесь, то там. По большей части это были мужики, привычные спать на жестком – палуба, должно быть, вполне заменяла им ложе. Однако нет сомнения, что, разбуженные толчком сапога, они весьма неодобрительно восприняли бы подобную неуклюжесть.
Сознавая это, Михаил Строгов был внимателен, старался никого не потревожить. Прохаживаясь по палубе, он не имел иной цели, кроме как прогнать сонливость, он и в носовую часть парохода забрел только затем, чтобы хоть немного продлить прогулку.
Так он и оказался на носу, уже и на полубак поднялся по трапу, как вдруг совсем рядом услышал голоса. И тотчас замер. Похоже, переговаривались в группе пассажиров, укутанных шалями и одеялами, – в потемках было невозможно различить их лица. Только когда из трубы парохода порой вместо клубов дыма вырывались языки красноватого пламени, сгрудившихся пассажиров, казалось, окатывало каскадом искр, словно тысячи блесток вспыхивали разом, попав в луч света.
Строгов побрел дальше, но внезапно до его слуха более отчетливо донеслись несколько слов на том же странном наречии, которое ему довелось слышать ночью на ярмарочной площади.
Михаил инстинктивно прислушался. Он стоял в тени полубака, его не могли заметить. Но и он не мог увидеть тех, кто говорил. Приходилось полагаться только на слух, и он навострил уши.
Первые фразы, которыми обменивались те двое, были незначительными – по крайней мере, такими они показались ему. Но они дали возможность Строгову безошибочно узнать их – то были голоса женщины и мужчины, которые он слышал тогда в Нижнем. Убедившись в этом, он еще больше насторожился. Ведь и впрямь эти цыгане, обрывок разговора которых он тогда уловил, ныне выдворены также, как и все их соплеменники. Если после этого они оказались на борту «Кавказа», здесь нет ничего удивительного.
Что ж, теперь он их дослушает. Это решение окрепло, когда он явственно расслышал вопрос и ответ, прозвучавшие на том же варварском наречии:
– Говорят, из Москвы в Иркутск послали курьера?
– Говорить-то говорят, Сангарра, да только прибудет он или слишком поздно, или никогда!
При этих словах, столь очевидно касавшихся его, Михаил невольно содрогнулся. Он попытался выяснить, точно ли мужчина и женщина, которых он только что слышал, были теми, кого он подозревал, но это ему не удалось, было слишком темно.
Минуты не прошло, как Михаил Строгов, никем не замеченный, проскользнул на корму и там сел в сторонке, обхватив голову руками. Глядя на него, можно было подумать, что он задремал.
Но он не спал. Даже и не думал. Он напряженно и с немалой тревогой размышлял:
– Кто мог проведать о моей поездке? И кто заинтересован в том, чтобы это знать?
Глава VIII. Вверх по Каме
На следующий день, 18 июля, в шесть часов сорок минут утра, «Кавказ» причалил к Казанской пристани, расположенной в семи верстах (7,5 км) от города.
Казань расположена на слиянии двух рек – Волги и Казанки. Это большой город, главный в губернии, здесь находятся одновременно резиденция православного архиепископа и университет. Население этой губернии разнородно: здесь обитают черемисы, мордва, чуваши, вогулы, башкиры, татары – последние в наибольшей степени сохраняют характерные азиатские черты.
Хотя от пристани до города далековато, на ней все же собралась изрядная толпа. Люди пришли сюда за новостями. Поскольку здешний губернатор издал распоряжение, идентичное нижегородскому, на пристани было много татар в кафтанах с коротким рукавом и остроконечных шапках с широкими полями, напоминающими традиционный головной убор балаганного Пьеро. Другие кутались в просторные плащи, а на головах носили маленькие круглые шапочки, делавшие их похожими на польских евреев. Женщины щеголяли в нарядах, расшитых на груди поддельными драгоценными камнями, их головы были увенчаны диадемами в форме полумесяца. Вся эта публика сбивалась в группы и оживленно переговаривалась.
Среди толпы мелькали полицейские офицеры и несколько казаков с пиками, они поддерживали порядок и одинаково энергично помыкали как пассажирами, покидающими «Кавказ», так и теми, кто всходил на борт, но перво-наперво тщательно осматривали путешественников обеих категорий. Это были, с одной стороны, азиаты, настигнутые распоряжением о высылке, с другой – несколько мужицких семейств, которые высаживались в Казани.
Михаил Строгов довольно равнодушно наблюдал за этой суетой, характерной для любой пристани, к которой только что причалил пароход. «Кавказ» должен был сделать в Казани часовую остановку – это время требовалось, чтобы пополнить запасы горючего.
О том, чтобы сойти на берег, Строгов ни минуты не помышлял. Ему не хотелось оставлять юную ливонку на судне одну, а она между тем все еще не показывалась на палубе.
Что касается обоих журналистов, эти поднялись с рассветом, как и положено любому рьяному охотнику. Они, напротив, спустились на берег и смешались с толпой, каждый особняком. Михаил приметил с одной стороны Гарри Блаунта с тетрадкой в руках: он то ли срисовывал каких-то типов, то ли записывал свои наблюдения, между тем как с другой стороны шнырял Альсид Жоливе, ограничиваясь разговорами, полностью доверившись своей памяти, не способной ничего забыть.
Вдоль всей восточной границы европейской России ходили слухи, что восстание, как и вторжение, приобретает внушительный размах. Сношения между Сибирью и центром империи уже были крайне затруднены. Об этом Михаил Строгов, не покидая «Кавказа», смог узнать из разговоров новоприбывших пассажиров.
Особого беспокойства эти толки у негоне вызвали, он только почувствовал острую потребность скорее оказаться по ту сторону Уральского хребта, чтобы самому судить о том, насколько положение серьезно, и получить возможность подготовиться ко всяким случайностям. Возможно, он даже попросил бы какого-нибудь пассажира из местных, казанских, растолковать ему, что, собственно, происходит. Но тут ему внезапно пришлось отвлечься на другое.
Именно сейчас среди путников, что сошли с «Кавказа», Строгов узнал тех самых, кого накануне встретил на ярмарочной площади Нижнего. Там, на борту парохода, были и старый цыган, и женщина, принявшая Михаила за ищейку. С ними и, несомненно, под их предводительством на берег сошли десятка два танцовщиц и певиц лет пятнадцати – двадцати в нищенских покрывалах, наброшенных поверх юбок с блестками.
Эти ткани, переливающиеся в первых лучах рассвета, напомнили Михаилу о том диковинном эффекте, который он наблюдал ночью. Вот, оказывается, что так сверкало в темноте, когда пароходная труба извергала пламя, – эти самые цыганские блестки.
«По-видимому, – сказал он себе, – их табор днем теснился под палубой, а ночью забивался под полубак. Выходит, они стремились как можно меньше быть на людях? А ведь это совсем не в обычае их племени!»
Теперь Михаил больше не сомневался, что слова, непосредственно касавшиеся его, раздались оттуда, из этой группы, черневшей в темноте, но сверкавшей при свете бортовых огней, и говорили о нем именно этот старый цыган и женщина, которую он звал азиатским именем Сангарра.
В момент, когда цыганский табор покидал судно, чтобы более не возвращаться, Строгов невольно посторонился, отошел подальше, к своей каюте. Старый цыган был там, держался смирно, что не слишком вязалось с природной дерзостью, свойственной его сородичам. Казалось, он старается не столько привлечь к себе внимание, сколько, напротив, не попадаться никому на глаза. Его убогая шляпа, выцветшая от солнца всех широт, была так низко надвинута, что почти скрывала морщинистое лицо. Сутулая спина горбилась под ветхим рубищем, в которое он плотно закутался, несмотря на летний зной. Под этим жалким одеянием было мудрено разобрать, какого он роста и телосложения.
Среди юных танцовщиц попадались замечательные красотки, и все они были ярко выраженными представительницами своего племени. Цыганки, как правило, обольстительны, недаром многие знатные русские баре, по части эксцентричности всегда готовые потягаться с англичанами, без колебания выбирали себе в жены этих бродяжек.
Одна из них мурлыкала песенку со странным ритмом, ее начало можно перевести так:
Смешливая девчонка, наверное, допела песню до конца, но Михаил больше не слушал.
Дело в том, что ему почудилось, будто цыганка Сангарра разглядывает его как-то особенно пристально, будто хочет неизгладимо запечатлеть в памяти его черты.
Затем, помедлив несколько секунд, Сангарра сошла на берег последней, между тем как старик и его табор уже покинули «Кавказ».
«Какая наглая! – подумал Строгов. – Уж не узнала ли она во мне прохожего, которого в Нижнем приняла за соглядатая? У этих чертовых цыган зрение, каку кошек! Они и в темноте видят, как днем, а эта ктомуже могла бы смекнуть…»
Он едва не бросился вдогонку за Сангаррой и ее табором, но сдержал себя, подумав: «Нет, только без необдуманных выходок! Задержав этого старого предсказателя удач и его банду, я рискую тем самым раскрыть свое инкогнито. Ктомуже с парохода они сошли, такчто границу Сибири перейдут тогда, когда я буду уже далеко от Урала. Они, понятное дело, могут двинуться из Казани в Ишим, но эта дорога добра не сулит, к тому же тарантас, запряженный славными сибирскими лошадками, всегда обгонит цыганскую колымагу! Ну же, брат Корпанов, уймись, хватит кипятиться!»
Впрочем, старый цыган и Сангарра уже скрылись в толпе.
Казань по праву слывет «вратами Азии»: этот город признан средоточием торговых путей, ведущих в Сибирь и Бухару, а все потому, что отсюда начинаются две дороги, ведущие за Урал. Но Строгов выбрал, не без серьезных оснований, одну – ту, что проходит через Пермь, Екатеринбург и Тюмень. Этот большой почтовый тракт, хорошо обеспеченный станциями, существующими на государственные средства, тянется и далее через Ишим до самого Иркутска.
Правда, вторая дорога – та, о которой Михаил только что вспоминал, – не поворачивает к Перми, хоть это и небольшой крюк, а ведет из Казани в Ишим прямиком, проходя через Елабугу, Мензелинск, Бирск, Златоуст, которые еще на европейской территории, затем, уже в Сибири, – через Челябинск, Шадринск и Курган. Может быть, она немного короче другой, но это преимущество сводится на нет из-за отсутствия почтовых станций, скверного состояния дороги, а также потому, что деревни там встречаются редко. Поэтому Михаила Строгова можно было бы только похвалить за сделанный им разумный выбор, и если бы, что весьма вероятно, эти цыгане отправились второй дорогой, у него были все шансы добраться до Ишима раньше них.
Час спустя колокол на носу «Кавказа» зазвонил, созывая пассажиров, прежних и вновь прибывших. Было семь часов утра. Погрузка горючего завершилась. Металлические крышки пароходных котлов содрогались под напором пара. Судно готовилось отчалить.
Путешественники, ехавшие из Казани в Пермь, уже заняли свои места на борту.
Тут Михаил Строгов заметил, что из двух иностранных журналистов на пароход вернулся лишь один – Гарри Блаунт.
Похоже, Альсид Жоливе не успеет к отплытию?
Однако в ту секунду, когда отдали швартовы, француз все-таки появился. Он мчался со всех ног. Пароход был переполнен, и даже сходни уже лежали, убранные, на пристани, но Альсида Жоливе такой малостью не смутишь: с ловкостью циркача он перепрыгнул с причала на борт «Кавказа», чуть ли не в объятия собрата по перу.
– Яуждумал, судно уйдет без вас, – с кисло-сладкой миной промолвил последний.
– Ба! – вскричал Альсид Жоливе. – Я бы вас настиг, даже если бы для этого пришлось нанять судно на средства моей кузины или гнать на почтовых, платя за лошадь и за каждую версту двадцать копеек. Что вы хотите? От пристани до телеграфа далеченько!
– Вы успели побывать на телеграфе? – Гарри Блаунт поджал губы, отчего они стали еще тоньше.
– Я был там! – ответил Альсид Жоливе, сияя самой любезной улыбкой.
– Связь все еще достигает Колывани?
– Об этом я ничего не знаю, но могу вас уверить, что, к примеру, между Казанью и Парижем связь есть!
– Вы отправили депешу… вашей кузине?
– Притом вдохновенную!
– Значит, вы что-то узнали?..
– Ну, папочка, как выражаются русские, я же хороший мальчик, – отвечал Альсид Жоливе. – Я ничего не могу от вас скрывать. Азиаты во главе с Феофар-ханом прошли Семипалатинск и двигаются вниз по течению Иртыша. Можете извлечь из этого пользу для себя!
Как? Столь важная новость, и Гарри Блаунт ее не знал, а его соперник, по всей видимости, вытянул ее из какого-нибудь казанского жителя, чтобы тотчас передать в Париж! Английскую газету обогнали! Что ж, Гарри Блаунт, не прибавив ни слова, заложил руки за спину, удалился на корму и там сел.
Около десяти часов утра юнаяливонка вышла из своей каюты на палубу. Михаил Строгов шагнул навстречу, протянул ей руку и повел девушку в носовую часть палубы «Кавказа».
– Гляди, сестра, – сказал он.
Действительно, ландшафт заслуживал, чтобы его рассмотрели повнимательней.
«Кавказ» в этот момент приближался к месту слияния Волги и Камы. Здесь пароходу предстояло покинуть русло великой реки, по течению которой было пройдено более четырехсот верст, чтобы продолжать путь теперь уже вверх, на четыреста шестьдесят верст (490 километров) по другой, тоже не маленькой реке.
В этом месте воды двух рек, несколько различные по цвету, смешивались, и Кама оказывала левому берегу примерно туже услугу, какую Ока оказывает правому, протекая через Нижний Новгород, иначе говоря, несколько очищала его своими прозрачными водами.
Кама здесь разливается во всю ширь, и ее лесистые берега очаровательны. Несколько парусов, оживляя картину, белели на фоне ее прекрасных вод, испещренных солнечными бликами. Берега поросли осинами, ольхой, а кое-где и высокими дубами, вершины которых вдали на горизонте образовывали плавную линию, несколько размытую в ослепительном сиянии полудня, так что очертания дальнего леса порой сливались с небесной синевой.
Но юная ливонка, казалось, не замечала этих красот природы, не способных даже на краткий миг отвлечь девушку от ее мыслей. Она не видела перед собой ничего, кроме цели, к которой стремилась. Кама была для нее лишь дорогой, по которой проще до этой цели добраться. Глядя на восток, она словно бы старалась пронзить взглядом неподатливое пространство, лежащее за горизонтом, и глаза ее в эти мгновения загорались странным огнем.
Когда спутник взял ее за руку, Надя помолчала, не отнимая руки, потом повернулась к нему и спросила:
– Сколько верст отсюда до Москвы?
– Девятьсот!
– Девятьсот из семи тысяч! – прошептала девушка.
Как раз наступило время завтрака: судовой колокол забренчал, возвещая об этом. Надя последовала за Строговым в ресторан, но не притронулась к закускам, которые подавались там как отдельное блюдо – икра, селедка, порезанная мелкими ломтиками, ржаная водка с анисом, призванная подстегивать аппетит, как принято во всех странах Севера, хоть в России, хоть в Швеции или Норвегии. Надя вообще ела мало, возможно, по привычке бедной девушки, чьи средства весьма ограничены. Поэтому Михаил Строгов счел своим долгом удовлетвориться тем же меню, каким ограничивается его спутница, то есть небольшим куском так называемой кулебяки – это нечто вроде пирога с яичными желтками, рисом и мясным фаршем, с красной капустой, фаршированной икрой («икра» – это русское кушанье, состоящее из соленых яиц рыбы осетра). Он также решил ограничиться чаем в качестве единственного напитка.
Таким образом, трапеза не была ни продолжительной, ни дорогой. Не прошло и двадцати минут с тех пор, как Михаил и Надя сели за стол, а оба уже встали и снова вышли на палубу «Кавказа».
Они уселись на корме, и девушка, понизив голос, как человек, желающий, чтобы никто, кроме собеседника, его не услышал, без дальнейших предисловий заговорила:
– Брат, – сказала она, – я дочь ссыльного. Меня зовут Надя Федорова. Моя мать умерла в Риге, еще и месяца не прошло, и я еду в Иркутск, чтобы разделить с отцом его изгнание.
– Я и сам еду в Иркутск, – отвечал Михаил Строгов, – и считаю для себя честью, ниспосланной свыше, вручить Надю Федорову, целую и невредимую, ее отцу.
– Спасибо, брат! – отвечала Надя.
Тогда Михаил добавил, что выправил себе специальную подорожную для проезда по Сибири, а потому со стороны русских властей в этой поездке можно не бояться никаких препон.
Лишних вопросов Надя не задавала. В самой судьбой посланной встрече с этим простым и добрым молодым человеком она видела только одно: средство, помогающее осилить путь, ведущий ее к отцу.
– У меня было разрешение, дающее право уехать в Иркутск, но губернатор Нижнего Новгорода отменил его своим распоряжением. Без тебя, брат, мне бы не выбраться из Нижнего, где ты меня нашел. А там я бы наверняка умерла!
– Но ты же одна, Надя! – не выдержал Михаил. – Как ты решилась одна скитаться по степям Сибири?
– Брат, это мой долг.
– Разве ты не знала, что край охвачен восстанием и подвергся нашествию? Ведь это сделало его дороги почти непроходимыми!
– Уезжая из Риги, я еще не знала о нашествии азиатов, – отвечала юнаяливонка. – Эта весть дошла до меня только в Москве!
– И ты наперекор всему продолжила путь?
– Это мой долг.
В этих словах сосредоточилась вся суть характера отважной девушки. Надя никогда не колебалась, совершая то, что считала своим долгом.
Потом она рассказала о своем отце, Василии Федорове. Он был известным врачом, уважаемым в Риге. С успехом занимался своей профессией, был счастлив ив кругу семьи. Но было установлено, что он имеет сношения с заграничным тайным обществом, и он получил приказ отправиться в изгнание в Иркутск. Жандармы, вручив ему этот приказ, тотчас же увели его и, не дав отсрочки, препроводили в Сибирь.
Василий Федоров успел только обнять жену, уже тогда тяжело больную, и дочь, которой, возможно, предстояло вскоре остаться без всякой поддержки. С тем он и уехал, проливая слезы об этих двух созданиях, которых любил.
Вот уже два года как он живет в столице восточной Сибири, где может продолжать, правда, почти бесплатно, медицинскую практику. Тем не менее он, пожалуй, был бы счастлив настолько, насколько это возможно для изгнанника, если бы жена и дочь были рядом. Но госпожа Федорова была уже слишком слаба, чтобы покинуть Ригу. Через двадцать месяцев после мужнина отъезда она скончалась на руках у дочери, оставив ее на свете одну и почти без средств. Тогда-то Надя Федорова испросила у русского правительства разрешения уехать к отцу в Иркутск и легко получила его. Она ему написала, что выезжает. Ей с трудом удалось наскрести денег на такое долгое путешествие, и все же она решилась на него без колебаний. Она сделает все, что в ее силах!.. Господь довершит остальное.
А «Кавказ» тем временем шел вверх по течению реки. Настала ночь, и воздух наполнился сладостной прохладой. Из пароходной трубы вырывались тысячи мерцающих искр от жарко пылавших в топке сосновых поленьев, и к плеску воды, рассекаемой форштевнем судна, примешивался вой волков, рыщущих во мраке по правому берегу Камы.
Глава IX. День и ночь в тарантасе
На следующий день, 18 июля, «Кавказ» остановился у причала в Перми – это был последний пункт, до которого доходили по Каме подобные суда.
Губерния, главным городом которой является Пермь, – одна из обширнейших в русской империи, притом она не только простирается до Уральского хребта, но и захватывает часть территории Сибири. Мраморные и соляные копи, залежи золота и платины, угольные шахты – все это разрабатывается здесь с большим размахом. Можно было бы ожидать, что благодаря стольким преимуществам Пермь станет первоклассным городом, ан нет: она весьма непрезентабельна. Очень грязна, дороги там ужасно вязкие, и никаких заманчивых возможностей. Тем, кто приезжает в Сибирь из России, такое отсутствие комфорта довольно безразлично, они привозят с собой из центральных губерний все, что им нужно. А вот те, кто после длинного изнурительного пути добираются сюда из Средней Азии, не возражали бы, если бы первый европейский город империи, расположенный на азиатской границе, снабжался получше.
Здесь, в Перми, путешественники перепродают свои экипажи, повозки и телеги, более или менее пострадавшие от долгой езды по сибирским равнинам. Те же, кто из Европы направляется в Азию, покупают здесь коляски летом, сани зимой, чтобы на долгие месяцы двинуться в путь по бескрайним степям.
Михаил Строгов уже составил четкий план своего путешествия, теперь оставалось только осуществить его.
Всего удобнее было бы воспользоваться почтовой каретой, так они скорее бы преодолели Уральские горы, но эта служба при сложившихся обстоятельствах не могла надежно работать. Вот почему Строгов, желая двигаться как можно быстрее и ни от кого не зависеть, не стал нанимать почтовую карету. Он благоразумно предпочел купить экипаж и ехать от станции к станции, пуская в ход добавочные взносы «на водку», весьма ободряющие почтовых кучеров, которых в этой стране именуют ямщиками.
К несчастью, вследствие мер, принятых против иноземцев азиатского происхождения, многие путешественники второпях выехали из Перми, а следовательно, раздобыть здесь какое-либо средство передвижения стало чрезвычайно трудно. Поэтому Михаилу Строгову придется довольствоваться хламом, от которого другие отказались. Что до прочего, царский посланец, коль скоро он пока еще находился не в Сибири, мог без опасений предъявлять свою подорожную, чтобы станционные смотрители запрягали лошадей в его колымагу без очереди. Но позже, как только они окажутся за пределами европейской России, фельдъегерь сможет рассчитывать лишь на власть рубля.
Но в какого рода транспортное средство впрягать коней? В телегу или в тарантас?
Телегой называется не что иное, как обыкновенная открытая повозка на четырех колесах, изготовляемая целиком из дерева. Колеса, оси, гвозди, кузов, оглобли – на все это идет древесина пород, произрастающих по соседству, а скрепляются разные части, из которых состоит телега, просто при помощи грубых веревок. Невозможно представить ничего более примитивного и менее комфортабельного, однако в случае нежелательного дорожного происшествия и починить телегу легче всего. Коль скоро на границе европейской и азиатской России дубы не редкость, тележные оси запросто растут в лесу. Именно телега служит для той необычной разновидности почтовых перевозок, что называется «на перекладных» – для такой езды любая дорога хороша. Подчас, надо признать, веревки, скрепляющие это устройство, лопаются, тогда задняя часть телеги увязает в какой-нибудь колее, между тем как передняя подкатывает к очередной станции на паре оставшихся колес, но и такой исход принято считать удовлетворительным.
Михаилу Строгову волей-неволей пришлось бы воспользоваться телегой, если бы не редкая удача – он раздобыл тарантас.
Сказать, что это последнее достижение прогресса в области конструирования экипажей, трудно. Рессор у тарантаса нет, как и у телеги, и за недостатком металла дерева в нем тоже предостаточно, но насаженные на концы осей четыре колеса, расстояние между которыми восемь – девять футов, обеспечивают ему некоторую устойчивость на тряских, зачастую ухабистыхдорогах. Брызговик защищает пассажиров тарантаса от дорожной грязи, а плотный кожаный чехол, способный и откидываться, и закрываться почти герметично, делает поездку не столь нестерпимой в пору сильной жары и бешеных летних шквалов. К тому же тарантас довольно прочен, чинить его так же легко, как телегу, и, с другой стороны, он менее подвержен опасности бросить свою заднюю часть в беде посреди большой дороги.
Впрочем, только ценой упорнейших изысканий Михаилу Строгову удалось найти этот тарантас, и очень вероятно, что второго он бы не нашел, даже обшарив всю Пермь. Тем не менее он для проформы оспаривал цену, торговался отчаянно, чтобы не выйти из роли Николая Корпанова, обыкновенного иркутского купца.
Надя следовала за своим спутником все то время, пока он метался по городу в поисках транспортного средства. При всей разности их целей обоим одинаково не терпелось добиться своего, а для этого надо было отправиться как можно скорее. Такчто они, можно сказать, были воодушевлены единым волевым порывом.
– Сестрица, – сказал Михаил, – я бы желал найти для тебя более удобный экипаж.
– И ты говоришь это мне, братец? Мне, которая, если потребуется, и пешком бы пошла, только бы увидеть отца?!
– Я не сомневаюсь в твоей храбрости, Надя. Но есть же такие неудобства, каких женщине не выдержать.
– Я выдержу их, каковы бы они ни были, – возразила девушка. – Если услышишь жалобу из моих уст, брось меня на дороге и продолжай свой путь один!
Спустя полчаса благодаря предъявлению подорожной в тарантас были впряжены три невзрачные лошадки. Эти животные, покрытые длинной шерстью, смахивают на медведей, разве что лапы подлиннее. Они малорослы, но горячи, это особая сибирская порода.
Возница, то есть ямщик, запряг их так: одну, самую крупную, поставил между двумя длинными оглоблями, на передних концах которых имелся некий обруч, по-здешнему «дуга», обвешанный кисточками и колокольчиками, а двухдругих просто-напросто привязал к подножкам тарантаса веревками. Сверх того никакой иной сбруи, и вместо поводьев – простые веревки.
Багажа не было ни у Михаила Строгова, ни у юной ливонки. Срочность миссии одного, требующая предельной спешки, и более чем скромные средства другой не позволили им обременять себя пожитками. При подобных обстоятельствах это было их счастьем, поскольку тарантас мог вместить одно из двух – либо багаж, либо пассажиров. Он был рассчитан строго на двух персон, не считая ямщика, да и тому требовались чудеса эквилибристики, чтобы удержаться на своем узеньком сидении.
Ямщики, впрочем, сменяются на каждой станции. Тот, которому довелось управлять тарантасом на первом этапе, был сибиряк, подобно своим лошадкам, такой же лохматый, как они, но над лбом его длинные волосы были обрезаны покороче, отчего физиономия казалась квадратной. На нем была шапка с заломленными «ушами», перепоясанная красным поясом накидка с капюшоном и расшитыми отворотами, вдобавок плотно застегнутая на пуговицы с имперскими гербами.
Явившись со своей упряжкой, он перво-наперво устремил инквизиторский взгляд на путников и их тарантас. И никакого багажа? Куда к черту они его подевали? Сразу видать: голодранцы. Ямщик скорчил весьма красноречивую мину и пробормотал, мало заботясь о том, услышат его или нет:
– Вороны, ясное дело: шесть копеек верста!
– Ну уж нет, орлы! – откликнулся Михаил Строгов, прекрасно понимающий ямщицкий жаргон. – Орлы, понял? За версту девять копеек, а на водку – сверх того!
Ответом ему было веселое щелканье кнута. На языке русских почтовых кучеров «вороной» называется путешественник, который или скуп, или из местных, тех, кто ездит на деревенских сменных лошадях, платя не более двух-трех копеек за версту. «Орел» же, напротив, пассажир, который не жмется, платит щедро да еще и на водку дает. Поэтому ворона не может претендовать на то, чтобы ее прокатили с таким ветерком, как царственную птицу.
Надя и Михаил незамедлительно уселись в тарантас. Они захватили с собой и упрятали про запас в ящик немного провизии, так, чтобы было не громоздко, но позволяло в случае задержки дотянуть до очередной почтовой станции. Этидомики обставлены с большим удобством, государство послеживает за их пристойным содержанием.
Жара стояла нестерпимая, поэтому кожаный навес тарантаса был откинут. В полдень три лошадки рванули с места, и путешественники в облаке пыли покатили прочь из Перми.
Способ, каким ямщик поддерживал в своей тройке должную резвость, наверняка поразил бы любого путешественника при условии, что тот, не будучи ни русским, ни сибиряком, к подобному образу действий не приучен. В самом деле, коренник, задававший темп езды, будучи лишь немного крупнее своих собратьев, держался непреклонно: сколько бы дорога ни менялась, а она то шла под откос, то забирала в горку, он шел все тем же размашистым равномерным аллюром, безупречно сохраняя изначальную скорость. Две другие лошади, казалось, не знали иного хода, кроме галопа, бесились и выделывали множество забавных фортелей. Впрочем, ямщик их не бил. В крайнем случае, пытался припугнуть, очень громко щелкая кнутом. Зато когда они вели себя как кроткие, сознательные животные, сколько умилительных слов он им расточал, даже имена святых шли в ход! Веревочки, служившие поводьями, не производили на этих животных, почитай что закусивших удила, ни малейшего впечатления, зато слова «Направо!» и «Налево!», выкрикиваемые особым гортанным голосом, действовали лучше, чем любая уздечка. Зато какими любезными определениями ямщик награждал их за это!
– Н-но, мои горлинки! – покрикивал он. – Н-но, милашки, ласточки мои! Летите, голубятки! Смелей, братишка-левый! Тяни, папуля-правый!
Но если ход замедлялся, также щедро сыпались оскорбительные выражения, и чувствительные животные, казалось, угадывали их смысл!
– Да пошевеливайся, чертова улитка! Ну погоди, слизняк! Я тебя живо выпотрошу, черепаха, чтоб тебе в аду гореть!
Что бы ни говорить о такой манере управления лошадьми, требующей от ямщика не столько крепких рук, сколько луженой глотки, тарантас бойко катил по дороге, пожирая от двенадцати до четырнадцати верст в час.
Михаил Строгов привык к такого рода поездкам и к подобному транспорту. Ни тряска, ни колдобины его не тяготили. Он знал, что русская упряжка все одолеет – камни, рытвины, болотины, поваленные деревья, овражки, бороздящие тракт. Но его спутница без привычки рисковала пораниться, так сильно швыряло тарантас. Однако она не жаловалась.
В первые минуты поездки Надя, мчась с такой скоростью по колдобинам, молчала. Потом, одержимая одной неотступной мыслью, сказала:
– Я посчитала, брат: от Перми до Екатеринбурга триста верст. Я не ошиблась?
– Ты права, Надя, – ответил Михаил, – а когда мы доберемся до Екатеринбурга, мы окажемся у подножия Уральских гор, причем по ту сторону их.
– А сколько нужно времени, чтобы проехать через горы?
– Двое суток, раз мы едем день и ночь. Надя, я так говорю потому, – добавил он, – что не должен останавливаться ни на минуту. Я спешу в Иркутск, мне нельзя отдыхать.
– Я не задержу тебя, брат, нет, ни на час. Мы будем ехать день и ночь.
– Что ж, Надя, в таком случае, если азиатское нашествие не преградит нам дорогу, мы доберемся за двадцать дней, не больше!
– Ты уже проделывал этот путь?
– Несколько раз.
– Зимой это было бы быстрее и легче, правда?
– Да. Главное, что быстрее. Ноты бы очень страдала от холода и снежных заносов!
– Какая разница? Зима – подруга русского человека.
– Да, Надя, но какой стойкий темперамент нужен, чтобы выстоять в такой дружбе! Я часто видел, как в сибирских степях температура опускалась ниже минус сорока! Несмотря на то, что на мне была одежда из шкуры северного оленя (ее называют «дохой», она очень легкая и в то же время совсем не пропускает холода), я чувствовал, что у меня стынет кровь, все члены коченеют, ноги в тройных шерстяных носках отмерзают! Я видел, как кони, впряженные в мои сани, покрывались ледяной коркой, у них ноздри так леденели, что дыхание спирало! Я видел, как водка в моей дорожной фляге превращалась в камень, такой твердый, что ножом не отколупнуть! Но мои сани неслись как ураган! На занесенной снегом равнине, сколько хватало глаз, все гладко, бело и ни единого препятствия! Больше никаких рек, нет нужды искать переправу! Никаких озер, через которые не перебраться без какого ни на есть судна! Повсюду твердый лед, дорога свободна, быстрота обеспечена! Но ценой каких мучений, Надя! Об этом знают лишь те, кто не вернулся, и метель быстро накрыла снежной пеленой их трупы!
– Но ты-то все же вернулся, брат, – сказала Надя.
– Да, но я сибиряк по рождению, я привык к этим жестоким испытаниям с детских лет, когда ходил с отцом на охоту. Но когда ты, Надя, говоришь мне, что зима тебя не остановила бы, ты отправилась бы одна и готова бороться со всеми ужасами сибирского ненастья, я так и вижу тебя заплутавшей в снежной круговерти, падающей, чтобы больше не встать!
– Сколько раз ты пересекал сибирские степи в зимнюю пору? – спросила юная ливонка.
– Три раза, Надя. По дороге в Омск.
– А что тебе было нужно в Омске?
– Увидеть мою мать, она ждала меня!
– Ну, а я спешу в Иркутск, где меня ждет отец! Моя мать умерла, ядолжна передать ему ее последнее «прости!». Ты сам видишь, брат: ничто не могло бы помешать мне поехать!
– Ты смелое дитя, Надя, – сказал Михаил Строгов, – и сам Господь ведет тебя к цели!
Весь день тарантас мчался вперед под водительством ямщиков, сменявшихся на каждой станции. Горные орлы могли не опасаться, что эти «орлы» с большой дороги посрамят их царственное имя. Высокая цена, которую путники платили за каждую лошадь, и щедро раздаваемые чаевые производили особенное впечатление. Вероятно, станционные смотрители находили странным, что после публикации чрезвычайного распоряжения властей этим брату и сестре разрешается свободно колесить по Сибири, хотя оба, по-видимому, русские, а всем их соотечественникам въезд за Урал закрыт. Но их документы были в порядке и давали им право ехать дальше. Поэтому верстовые столбы быстро мелькали перед глазами пассажиров тарантаса, а он несся вперед, оставляя их позади.
Впрочем, Михаил Строгов и Надя были не единственными путниками, следовавшими из Перми в Екатеринбург. Уже на первых почтовых станциях царский курьер узнал, что некий экипаж опережает его. Но поскольку лошадей хватало и на его долю, это сообщение Строгова не заботило.
Несколько остановок, сделанных за тот день, давали отдых разве что тарантасу – пассажиры использовали их исключительно затем, чтобы перекусить. На почтовых станциях есть где и остановиться, и поесть. К тому же, где мало станций, там любая крестьянская изба встречает путников так же гостеприимно. В этих селениях, за редкими исключениями похожих друг на друга как домиками, так и белой церквушкой с зеленым куполом, проезжий может стучаться во все двери. Любая для него откроется, с улыбкой выйдет мужик и протянет гостю руку. С ним поделятся хлебом-солью, раздуют огонь в «самоваре», и пришелец почувствует себя как дома. Семья незамедлительно потеснится, чтобы освободить ему место. Чужак, стоит ему прийти, всем становится родней. Ведь он «послан Богом».
Вечером, когда подъехали к очередной станции, Михаил, побуждаемый чем-то вроде инстинкта, спросил станционного смотрителя, давно ли здесь проезжал тот экипаж, что опережает его.
– Два часа назад, батюшка, – отвечал смотритель.
– А что это, небось, берлина?
– Нет, телега.
– Сколько пассажиров?
– Двое.
– И что, быстро едут?
– Орлы!
– Вот как… Запрягайте поживее!
Поскольку решили не задерживаться ни на один час, Михаил и Надя ехали всю ночь.
Погода держалась по-прежнему хорошая, однако было душновато, мало-помалу стала ощущаться наэлектризованность атмосферы. Солнце сияло вовсю, ни одно облачко не умеряло сверкания его лучей, но казалось, будто от земли поднимается что-то вроде горячего пара. Можно было опасаться, как бы в горах не разразилась гроза, а здешние грозы ужасны. Строгов, наученный заблаговременно распознавать атмосферные явления, предчувствовал, что скоро начнется буйство стихий, и был всерьез озабочен.
Ночь прошла без происшествий. Надя сумела подремать в тарантасе несколько часов, несмотря на тряску. Кожаный полог был наполовину откинут, это позволяло путникам урвать глоток-другой свежего воздуха, которого жаждали их легкие, истомленные удушающим зноем.
Михаил всю ночь бодрствовал, не доверяя ямщикам, которые не прочь вздремнуть на своем сиденье. Ни один час благодаря его бдительности не был потерян впустую ни на почтовых станциях, ни в дороге.
Назавтра, 20 июля, около восьми часов утра, на востоке впервые проступили очертания Уральских гор. Однако эта важнейшая горная цепь, отделяющая европейскую Россию от Сибири, находилась пока так далеко, что нечего было и думать достигнуть ее до наступления вечера. Значит, переезжать через горы волей-неволей придется на следующую ночь.
Весь этот день небо оставалось неизменно пасмурным, благодаря чему жара стала чуть более терпимой, но все в природе чрезвычайно настойчиво предвещало грозу. При подобных условиях, наверное, разумнее было бы не соваться в горы глубокой ночью, да Михаил Строгов так бы и поступил, если бы ему было позволено помедлить. Но когда на последней станции ямщик обратил его внимание на вспышки молний и отдаленный гром, что прокатывался над горным массивом, фельдъегерь только спросил:
– Телега все еще там, впереди?
– Да.
– На сколько она теперь нас опережает?
– Примерно на час.
– Вперед, а если к завтрашнему утру поспеем в Екатеринбург, на водку дам втрое!
Глава X. Гроза в Уральских горах
Уральские горы тянутся между Европой и Азией приблизительно на три тысячи верст (3200 километров). Это название – «Урал» – пришло из татарского языка, русские еще называют этот хребет «Поясом», по существу это одно и то же: Урал по-русски значит «пояс». Начинаясь от побережья Ледовитого океана, эта горная цепь угасает, дотянувшись до Каспия.
Такова была преграда, которую Строгов должен был преодолеть, чтобы попасть в Сибирь, и, как уже говорилось, он благоразумно выбрал для этого дорогу, ведущую из Перми в Екатеринбург, расположенный на восточном склоне Уральских гор. Эта дорога была и легче, и безопаснее, недаром она служила для всех торговых сношений со Средней Азией.
Ночи должно было хватить, чтобы проехать через этот горный массив, если в пути не произойдет какая-либо неприятность. К несчастью, первые раскаты грома предвещали грозу, а учитывая чрезвычайно напряженное состояние атмосферы, следовало ожидать, что она будет кошмарной. В воздухе накопилось столько электричества, что без мощнейшей разрядки не обойтись.
Михаил позаботился, чтобы его юная спутница была устроена как можно удобнее. Кожаный полог, который легко могло сорвать шквалом, закрепили понадежнее посредством канатов, которые переплетались и поверху, и в задней части повозки. Упряжь на лошадях тоже проверили, а в качестве дополнительной предосторожности буртики ступиц набили соломой, чтобы и колеса держались понадежнее, и толчки, которых трудно избежать в ночной темноте, стали полегче. Наконец, передняя и задняя ось, соединенные с кузовом тарантаса простыми колышками, были скреплены между собой поперечным деревянным брусом на болтах и гайках. Этот брус играл роль того подвесного S-образного шкворня, что соединяет переднюю и заднюю оси берлины.
Надя заняла свое место в глубине кузова, Михаил уселся рядом. Перед пологом, до предела опущенным, болтались две кожаные занавески, призванные хотя бы отчасти защитить путников от дождя и порывов ветра.
Слева от ямщицкого сидения были приделаны два больших фонаря, они отбрасывали вкось бледные лучи, вряд ли способные толком освещать дорогу. Но они все же давали знать, где находится тарантас, и могли если не рассеять мрак, то, по крайней мере, предотвратить столкновение сдругим экипажем.
Как видим, все меры предосторожности были приняты, что отнюдь не мешало в предвидении столь грозной ночи.
– Мы готовы, Надя, – сказал Михаил.
– Едем, – ответила девушка.
Отдали приказ ямщику, и тарантас покатил вверх по первому горному склону из тех, что предстояло одолеть, проезжая через Урал.
Было восемь вечера, и солнце клонилось к закату. Но вокруг уже темнело, несмотря на то, что в здешних широтах летом смеркается долго. Громадные клубы густого тумана, казалось, делали низким небесный свод, но при этом ни ветерка – тучи пока нависали неподвижно. Однако если они выглядели таковыми относительно линии горизонта, то от зенита к надиру картина менялась: расстояние, отделявшее это клубящееся скопление от земли, заметно сокращалось. Некоторые из этих клубов испускали фосфоресцирующее свечение и на взгляд казались основанием облачных арок, составлявших от четверти до шестой части окружности. И все это снижалось, опускалось к земле, вместе с тем непрестанно расширяясь: чудилось, будто тяжелая масса туч вот-вот расплющит гору, и ее не станет, как если бы невиданной силы ураган снес ее до основания. Адорога вела вверх, прямо к этим раздутым тучам, таким невероятно густым, словно они уже почти достигли плотного состояния. Еще немного, и тучи поглотят тракт, так что если к тому моменту они не разразятся дождем, тарантас в таком непроглядном тумане просто не сможет двигаться дальше, не рискуя сорваться в какую-нибудь пропасть.
А между тем Уральская горная цепь невысока. Ее высочайшая вершина, и та не превышает пяти тысяч футов. О вечных снегах даже говорить нечего: те, которыми сибирская зима окутывает эти горы, без остатка тают под летним солнцем. Трава, деревья, кустарник встречаются здесь на любой высоте. То же можно сказать о железных и медных рудниках, о разработках месторождений драгоценных камней, а все это требует большого стечения рабочих. Вот почему особые поселения, которые у русских называются «заводами», встречаются здесь достаточно часто, и тракт, проложенный бесконечной чередой путников, довольно удобен для почтовых карет.
Но то, что в хорошую погоду и при свете дня дается легко, становится тягостным и опасным, когда разбушевавшиеся стихии против воли втягивают путников в свое бешеное противоборство.
Михаил Строгов знал, притом не понаслышке, и уже на своем опыте испытал, что такое гроза в горах, и не без причин считал сие атмосферное явление не менее страшным, чем свирепые метели, которые зимой с неописуемой яростью бушуют на просторах Сибири.
Когда они с Надей тронулись в путь, дождя еще не было. Строгов откинул кожаные занавески, защищавшие внутренность тарантаса, и смотрел вперед, озирая местность, простиравшуюся по обе стороны дороги. Шаткий свет фонарей тарантаса населял это пустынное пространство фантастическими силуэтами…
Надя, сидевшая неподвижно со скрещенными на груди руками, тоже смотрела, но не наклонялась вперед, тогда как ее спутник, наполовину высунувшись из кузова, во все глаза, словно вопрошая о чем-то, вглядывался во все, что творилось на земле и небе.
Абсолютное безмолвие царило вокруг, но этот покой таил угрозу. Воздух был недвижим. Казалось, полузадушенная природа перестала дышать, ее легкие – эти угрюмые тяжелые тучи, – впав по какой-то причине в мертвящую апатию, больше не могут исполнять свое предназначение. Тишину нарушали только поскрипывание дорожной гальки под колесами экипажа, потрескивание его деревянного каркаса, стонущий скрежет осей, жаркое дыхание разгоряченных лошадей, которым не хватало воздуха, да цоканье их железных подков, высекавших искры из подвернувшихся камешков.
Притом тракт словно вымер. В эту ночь, не сулившую добра, на узких дорогах горного Урала тарантасу не встречались ни пеший, ни конный, ни какой бы то ни было транспорт. Ни костра, разожженного среди леса угольщиком, ни лагеря шахтеров в карьерах, где ведутся разработки, ни лачуги, затерянной в перелеске. Требовались поистине серьезные причины, исключающие медлительность и сомнения, чтобы при таких условиях затеять путешествие через горы. Но Строгов не колебался. Он не мог себе этого позволить, да к тому же был один вопрос, тревоживший его чем дальше, тем острее: что это за путешественники, чью телегу его тарантас все не может догнать? Какие такие высшие соображения вынуждают ихдействовать столь безрассудно?
Какое-то время он, скрывая растущее беспокойство, провел за своими наблюдениями. Около одиннадцати молнии начали бороздить небо, и это более не прекращалось. В их стремительных вспышках то появлялись, то исчезали силуэты могучих сосен, скопления которых чернели там и сям по сторонам дороги. Потом, когда тарантас скатывался к ее обочине, пламя, что вспыхивало в тучах, стало высвечивать глубокие пропасти, что разверзались у самых колес. Время от времени более гулкий стук колес указывал, что они едут через мост из плохо оструганных досок, переброшенный через какую-нибудь расщелину; тогда казалось, что гром гремит не над головой, а под ногами. К тому же все пространство вокруг вскоре наполнилось монотонным гулом, казавшимся особенно зловещим оттого, что он словно бы достигал до самого неба. С этими разнородными шумами сливались крики и междометия, то льстивые, то ругательные, которыми ямщик осыпал своих бедных лошадей, утомленных, кажется, больше духотой, чем трудной дорогой. Даже колокольчики, заливавшиеся под дугой, больше не могли их приободрить, и ноги у них порой подгибались.
– В котором часу мы доберемся до перевала? – спросил Строгов у ямщика.
– К часу ночи… если мы вообще туда доберемся! – ответил тот, качая головой.
– Скажи-ка, друг, тебя ведь не впервые в горах застигла гроза? Верно?
– Да уж не впервые, но дал бы Бог, чтобы эта не стала для меня последней!
– Боишься, значит?
– Не то чтобы боюсь, а только я тебе говорил и повторяю: это твоя ошибка, нельзя было ехать.
– Я бы сделал еще худшую ошибку, если бы остался.
– Ну же, вперед, голубушки мои! – откликнулся ямщик тоном человека, который знает, что он здесь не для того, чтобы спорить, его дело повиноваться.
В этот момент вдали послышался странный звук, будто сама земля задрожала. Как если бы воздух, доселе неподвижный, пронизали тысячи резких, пронзительных свистков. За слепящей вспышкой молнии почти тотчас последовал страшный удар грома. В свете этой молнии Михаил Строгов увидел громадную сосну, которая корчилась на горной вершине. Ветер забушевал, но пока только в верхних слоях воздуха. Раздался сухой треск – некоторые деревья, старые или со слабыми корнями, не смогли устоять перед первыми порывами урагана. Лавина переломанных стволов, грозно обрушившись со скал, прокатилась через дорогу и свалилась в бездну слева, в двух сотнях шагов от тарантаса.
Лошади разом остановились.
– Ну же, мои хорошенькие голубки! – вопил ямщик, щелкая кнутом под раскаты грома.
Михаил Строгов взял Надю за руку.
– Ты спишь, сестра? – спросил он.
– Нет, брат.
– Будь готова ко всему. Вот она, гроза!
– Я готова!
Строгов едва успел закрыть кожаные занавески тарантаса.
Шквал налетел с быстротой молнии.
Ямщик, соскочив со своего сидения, прыгнул на шею коренника, пытаясь удержать лошадей, так как сейчас огромная опасность угрожала всейупряжке.
Дело в том, что тарантас, теперь неподвижный, застыл у поворота дороги, на которой неистовствовал ураган. Значит, надо было противостоять ему в лоб, ведь иначе, стоит только уклониться в сторону, тарантас неизбежно опрокинется, рухнет в глубокую пропасть, что слева от дороги. Лошади вставали на дыбы, силясь противостоять порывам урагана, и вознице никак не удавалось их успокоить. Ласковые эпитеты сыпались из его уст вперемешку с оскорбительной бранью, но ничего не помогало. Несчастные животные, ослепленные электрическими разрядами, перепуганные нескончаемым грохотом грома, похожим на пушечную пальбу, чего доброго, порвут постромки и убегут. Ямщик потерял контроль над своей упряжкой.
И тут на помощь подоспел Михаил Строгов, одним прыжком выскочив из тарантаса. Наделенный недюжинной силой, он хоть и не без труда, сумел обуздать ошалевших лошадей.
Однако ураган неистовствовал все сильнее. Дорога в этом месте расширяется, образуя подобие воронки, затягивающей туда шквал, подобно раструбу вентиляционного рукава на пароходе. В то же время сверху, с откоса, покатился камнепад заодно с лавиной изломанных древесных скалов.
– Нам нельзя здесь оставаться, – сказал Михаил Строгов.
– Мы таки здесь не останемся! – завопил ямщик в ужасе изо всех сил, каменея от напряжения, сопротивляясь чудовищному напору воздушных масс. – Ураган с нами вот-вот управится! Отправит под горку самой короткой дорогой!
– Займись правой пристяжной, трус! – отвечал Михаил Строгов. – Левую я беру на себя!
Его речь была прервана новым шквалом. И ему, и кучеру пришлось склониться до самой земли, иначе ветер просто опрокинул бы их. Но экипаж наперекор всем усилиям людей и лошадей, которых они вынуждали противостоять буре, все же откатился назад на несколько метров, и если бы не поваленное дерево, остановившее его, наверняка скатился бы с дороги.
– Не бойся, Надя! – крикнул Михаил.
– Я не боюсь, – заверила его юная ливонка, и в ее голосе он не услышал ни малейшего волнения.
Грохотание громов на миг затихло, и жуткий шквал, просвистев у поворота дороги, унесся в ущелье.
– Хочешь повернуть назад? – спросил ямщик.
– Нет, надо ехать! Пройти этот поворот! Там, выше, мы будем под защитой склона!
– Но лошади упрямятся!
– Поступай, как я: силой тащи их вперед!
– Шквалы будут повторяться!
– Ты намерен слушаться?
– Как тебе приспичило!
– Не мне. Это приказ Царя-батюшки! – отвечал Михаил Строгов, впервые вспомнив, как действует на людей всесильное теперь на двух частях света упоминание об императоре.
– Ну, вперед, ласточки мои! – закричал ямщик, таща за собой правую пристяжную, в то время как Строгов также волок левую.
Лошади, понуждаемые так настойчиво, мучаясь иупираясь, волей-неволей продолжили путь. Бросаться в разные стороны пристяжные теперь не могли, и коренник, которого больше не дергали туда-сюда, держался середины дороги. Но люди и животные, двигаясь против ураганного ветра, когда делали три шага вперед, всякий раз были вынуждены сделать один, а то и два шага назад. Они поскальзывались, падали, вставали. При таких условиях экипаж того гляди рисковал сломаться. Если бы полог не был основательно закреплен, тарантас был бы ободран первым же порывом ветра.
Михаил Строгов с ямщиком потратили больше двух часов, чтобы одолеть этот отрезок дороги длиной не более чем с полверсты, по которому ураганный ветер, загнанный в ущелье, хлестал прямо как кнутом. Опасность там была не только в ярости бури, ополчившейся на упряжку и обоих возниц, но, главное, в камнепадах и поломанных деревьях, что валились на них с горного склона.
Внезапно при очередной вспышке молнии они увидели, что очередная такая лавина с возрастающей скоростью катится прямо на них.
У ямщика вырвался крик ужаса.
Строгов что есть силы огрел лошадей кнутом в надежде сдвинуть упряжку с места, но животные уперлись.
А ведь хватило бы нескольких шагов, и лавина прокатились бы у них за спиной!..
За какую-то долю секунды Михаил, словно воочию, увидел, какой конец сейчас придет тарантасу, как его спутница будет раздавлена! И понял: ему уже не успеть вырвать ее из экипажа живой!
И тут он прыгнул назад, уперся спиной в ось, широко расставил ноги и сверхчеловеческим усилием, на какое мог быть способен лишь в столь отчаянной ситуации, сдвинул таки тяжелый экипаж на несколько футов.
Огромная глыба, пролетая, задела грудь молодого человека, аж дыхание перехватило, будто это было пушечное ядро, а камень врезался в кремнистую дорогу с такой силой, что от удара сверкнули искры.
– Брат! – в ужасе вскрикнула Надя, при свете молнии увидевшая эту сцену.
– Надя, – отозвался Михаил, – Надя, ничего не бойся!
– Если я испугалась, то не за себя!
– С нами Бог, сестра!
– Со мной-то уж наверняка, брат, – сказала она, и шепотом добавила: – Ведь он послал мне встречу с тобой…
Усилие Михаила Строгова, сдвинувшего тарантас с места, не пропало даром. Оно дало обезумевшим лошадям необходимый толчок, снова направивший их на верный путь. Влекомые, с позволения сказать, Строговым и ямщиком, они вышли на узкий перешеек, ориентированный по оси «север-юг», где упряжка была лучше защищена от прямых атак урагана. Справа возвышался горный откос, образующий подобие углубленного укрытия, то был выступ гигантской скалы, расположенной в самом сердце бури. Сюда ее вихри прорваться не могли, место было сравнительно укромным, между тем как вокруг бушевал циклон, противостоять которому не по силам ни людям, ни животным.
И впрямь какое уж тут противостояние, если несколько дубов, чьи вершины поднимались над гребнем скалы, в мгновение ока были обезглавлены, словно громадный серп срезал их ветви и листья, подравняв точь-в-точь по краю обрыва?
Гроза неистовствовала в полную силу. Молнии сверкали, наполняя ущелье своим мерцающим светом, гром грохотал неумолчно. Земля содрогалась под этими яростными ударами, дрожала так, словно весь Уральский горный массив трясло в лихорадке.
К великому счастью, тарантас удалось, так сказать, упрятать в расщелину, куда шквалы прорывались лишь на излете. Но он все-таки не был защищен достаточно надежно: некоторые ураганные вихри, наталкиваясь на выступы скалы и закручиваясь, порой наносили ему жестокие удары. Тогда он, шатаясь, врезался в каменную стену, рискуя разлететься на тысячу обломков.
Наде пришлось выйти из тарантаса. Михаил Строгов, оглядевшись при свете фонарей, отыскал впадину, выдолбленную кайлом какого-то шахтера, и девушка забилась туда в ожидании, когда можно будет продолжить путь.
И тут– это произошло в час ночи – пошел дождь. На путешественников, кроме порывов урагана, обрушились потоки ливня, которые вскоре достигли чрезвычайной мощи, однако не пригасили огненных сполохов, охвативших небо. При подобных обстоятельствах двинуться дальше стало совершенно невозможно.
Таким образом, сколь бы Михаила Строгова ни мучило нетерпение – а оно, как мы догадываемся, было огромно, – он был вынужден подождать, пока бесчинство стихий не угомонится хоть отчасти. К тому же достигнув перевала, через который проходит дорога из Перми в Екатеринбург, он мог теперь лишь спускаться вниз по склонам уральской гряды, а в подобных обстоятельствах спуск по дороге, изрытой промоинами тысяч ручьев, стекающих с гор, среди ливневых потоков и ураганных смерчей означал бы настоящую игру со смертью, путь, ведущий в бездну.
– Промедление очень некстати, – сказал тогда Михаил, – но это, безусловно, единственная возможность избежать еще больших задержек. Неистовство этой грозы позволяет надеяться, что долгой она не будет. Около трех начнет светать, а когда солнце взойдет, спуск, на который мы не можем отважиться в темноте, станет если не легким, то хотя бы возможным.
– Так подождем, брат, – отвечала Надя, – но только если ты откладываешь спуск не затем, чтобы избавить меня от риска или усталости!
– Надя, я знаю, ты решила не отступать ни переднем, но я, подвергая опасности нас обоих, рискую чем-то большим, чем моя жизнь, и даже большим, чем твоя: если мы погибнем, я не исполню возложенной на меня задачи, того долга, который важнее всего!
– Долг… – прошептала Надя.
В это мгновение небо разорвала молния такой силы, что, казалось, она даже ливень вмиг высушила. Тотчас грянул сухой удар грома. Воздух наполнился сернистым, почти удушающим запахом, и всего в двадцати шагах от тарантаса, словно гигантский факел, разом вспыхнули несколько близко стоящих больших сосен, подожженных электрическим разрядом.
Ямщик, сбитый с ног, словно чем-то ударенный, вскочил, к счастью, невредимый.
Потом, когда последний отголосок грома затих в ущелье, Михаил Строгов почувствовал, что рука Нади крепко сжимает его ладонь. Девушка прошептала ему в самое ухо:
– Кричат! Брат, слушай!
Глава XI. Путники в беде
Действительно, при этом кратком затишье до них донеслись крики – они звучали с дороги: кричавший, видимо, находился невдалеке от расщелины, где нашел убежище тарантас.
Это походило на безнадежный призыв путника, попавшего в беду.
Михаил Строгов насторожился, вслушиваясь. Ямщик тоже слушал, но качал головой, словно ему казалось немыслимым откликнуться на этот зов.
– Путники зовут на помощь! – воскликнула Надя.
– На нас пусть не рассчитывают! – буркнул ямщик.
– Это еще почему? – возмутился Михаил. – Разве мы не должны сделать для них то же, что они бы сделали в подобном случае для нас?
– Но вы же не станете рисковать экипажем и лошадьми!..
– Я пойду пешком, – заявил Строгов.
– Я пойду с тобой, брат, – сказала юная ливонка.
– Нет, останься, Надя. С тобой побудет ямщик. Я не хочу оставлять его одного…
– Хорошо, – ответила Надя.
– Что бы ни случилось, не выходи из этого укрытия!
– Ты найдешь меня здесь.
Михаил Строгов пожал руку своей спутнице и, обойдя выступ склона, исчез в темноте.
– Твой брат делает большую ошибку, – сказал ямщик.
– Он прав, – возразила Надя просто.
Тем временем Михаил Строгов быстро шел вперед по дороге. Он очень спешил на помощь тем, кто издавал столь отчаянные крики, но его подстегивало и нетерпеливое желание узнать, кто такие эти путешественники, которым гроза не помешала отправиться в горы. Ведь он не сомневался, что это те самые, чья телега все время опережала его тарантас.
Дождь перестал, но ураган еще усилился. Крики, приносимые порывами ветра, становились все отчетливее. С того места, где Михаил оставил Надю, уже нельзя было ничего разглядеть. Дорога петляла, и вспышки молнии озаряли только выступ склона, заслоняющий ее извив. Шквалы, с разгона врезаясь в горный массив, образовывали бешеные завихрения, сквозь которые трудно пробиться, – это требовало от Строгова при всей его незаурядной силе огромного напряжения.
Вскоре стало очевидно, что путники, чьи крики он слышал, уже совсем близко. Хотя увидеть их Михаил еще не мог, то ли потому, что буря отшвырнула их в сторону от тракта, то ли из-за темноты, но их слова он теперь различал явственно.
И вот что он, к некоторому своему удивлению, услышал:
– Тупица! Ты вернешься или нет?
– Дай только добраться до ближайшей станции! Я уж позабочусь, чтобы тебя отодрали кнутом!
– Ты меня слышишь, чертов кучер? Эй! Где ты там?
– Вот, значит, как в этой стране возят пассажиров!
– А эта развалина, которую они называют телегой!
– Эй! Трижды скотина! Удрал! Ему, похоже, плевать, что он бросил нас посреди дороги!
– Так поступить со мной! С аккредитованным репортером! С англичанином! Я пожалуюсь в канцелярию посольства, добьюсь, чтобы его повесили!
Было очевидно, что говоривший так разъярен не на шутку. Однако Михаилу Строгову вдруг почудилось, что второй собеседник воспринимает происходящее и собственную участь по-другому. Тому порукой были неожиданный посреди подобной сцены взрыв хохота и последовавшие за ним слова:
– Ладно же! Нет, решительно, это сущая умора!
– Вы осмеливаетесь смеяться? – отозвался весьма едкий голос гражданина Соединенного Королевства.
– Да, дорогой собрат, разумеется! И от всей души, притом это лучшее, что я могу сделать! Советую вам поступать также! Право слово, смешнее быть не может, такого никто не видал!
В то же мгновение сильнейший удар грома наполнил ущелье несусветным грохотом, а горное эхо многократно умножило этот без того ужасающий звук. Но потом, когда заглох последний громовый раскат, веселый голос послышался снова:
– Да, невероятная потеха! Вот уж воистину такое никогда бы не произошло во Франции!
– Ив Англии! – откликнулся британец.
Тут Михаил Строгов при ярком свете молнии увидел посреди дороги, шагах в двадцати, двух путешественников, сидевших рядом на задней скамейке странной повозки, похоже, глубоко завязнувшей в какой-то колее.
Он подошел к ним, причем один продолжал смеяться, а другой сердито бурчать. Теперь Михаил их узнал: это были те два газетчика, что плыли с ним на «Кавказе» всю дорогу от Нижнего Новгорода до Перми.
– Эй! Здравствуйте, сударь! – закричал француз. – Весьма рад вас видеть в подобных обстоятельствах! Позвольте представить вам моего близкого врага – господина Блаунта!
Английский репортер отвесил поклон и, вероятно, собирался, в свою очередь, согласно канонам учтивости представить своего коллегу Альсида Жоливе, но Михаил Строгов остановил его:
– В этом нет надобности, господа: мы с вами знакомы. Нам уже довелось плыть вместе по Волге.
– А!.. Хорошо! Прекрасно! Итак, господин…?
– Николай Корпанов, купец из Иркутска, – ответил Михаил Строгов. – Может быть, вы поведаете мне, какое приключение, столь прискорбное в глазах одного и забавное для другого, случилось с вами обоими?
– Посудите сами, господин Корпанов! – отвечал Альсид Жоливе. – Только представьте: наш возница умчался вместе с передком своей адской повозки, бросив нас посреди дороги в отломанной задней половине этого нелепого экипажа! На двоих нам осталась худшая половина телеги и ни кучера, ни лошадей! Не правда ли, это абсолютно, непомерно смешно?
– Здесь нет ровным счетом ничего смешного! – отрезал англичанин.
– Да полно, коллега! Вы совершенно не умеете смотреть на вещи с положительной стороны!
– А как нам теперь продолжать путь, позвольте вас спросить? – проворчал Гарри Блаунт.
– Нет ничего проще! – отвечал Альсид Жоливе. – Вы впрягаетесь в то, что осталось от нашей кареты, я берусь за поводья, словно настоящий ямщик, называю вас моим голубком, и вы пускаетесь рысью, как подобает почтовому коню!
– Господин Жоливе, – процедил англичанин, – эта шутка переходит все границы, и я…
– Не беспокойтесь, коллега. Когда вы запыхаетесь, мы поменяемся местами, и если я не покачу вас вперед с адским ветерком, вы будете вправе обзывать меня сопящей улиткой и полудохлой черепахой!
Альсид Жоливе болтал так добродушно, что Михаил Строгов не смог удержаться от улыбки.
– Господа, – сказал он, – есть способ получше. Мы сейчас на самом перевале Уральского хребта, это значит, что дальше нам останется только спускаться вниз по горному склону. Мой экипаж там, за пятьсот шагов отсюда. Я одолжу вам одну из своих лошадей, ее можно запрячь в то, что осталось от вашей телеги, и если не произойдет какой-нибудь аварии, завтра мы все вместе прибудем в Екатеринбург.
– Господин Корпанов, – вскричал Альсид Жоливе, – вот предложение, исходящее от великодушного сердца!
– Должен прибавить, сударь, – отвечал Строгов, – что если я не предлагаю вам места в моем тарантасе, то лишь по одной причине: там их всего два, и эти места занимаем мы с сестрой.
– Сударь, тут не о чем говорить! – засмеялся Альсид Жоливе. – Мы с коллегой, с вашей лошадью и остатком своей полутелеги доскачем до самого края света!
– Мы принимаем ваше любезное предложение, сударь, – заключил Гарри Блаунт. – Что до этого ямщика!..
– О, уверяю вас, с ним такое не впервые стряслось! – сказал Михаил Строгов.
– Но тогда почему он не вернулся? Ведь этот несчастный паршивец прекрасно знает, что мы остались на дороге!
– Он-то? Да он понятия об этом не имеет!
– Как? Этот славный малый не знает, что его телега раскололась надвое?
– Именно так. Он с самым чистым сердцем доставит первую половину в Екатеринбург!
– Говорил же я вам, коллега, что весь этот случай – чистая умора! – восхитился Альсид Жоливе.
– Итак, господа, если вы хотите следовать за мной, – продолжал Михаил Строгов, – пойдемте к моему экипажу, а затем…
– Но как быть с телегой? – напомнил англичанин.
– Да не бойтесь, мой дорогой Блаунт, она не упорхнет! – закричал Альсид Жоливе. – Она так плотно вросла в землю, что если ее здесь оставят, к будущей весне она выпустит листочки!
– Идемте же, господа, – поторопил Михаил Строгов, – и вытащим сюда тарантас.
Француз и англичанин встали с задней скамейки, ставшей теперь заодно и передней, и пошли вслед за Михаилом.
На ходу Альсид Жоливе по своему обыкновению продолжал благодушно болтать – видно, никакие невзгоды не могли испортить ему настроение.
– Право же, господин Корпанов, – сказал он Михаилу Строгову, – вы нас выручаете из знатной переделки!
– Сударь, – возразил тот, – я делаю только то, что всякий сделал бы на моем месте. Если бы путники не помогали друг другу, осталось бы только перегородить все дороги!
– Долг платежом красен, сударь. Если вы далеко заедете в этих степях, возможно, мы еще встретимся, и тогда…
Хотя Альсид Жоливе не задавал Строгову прямого вопроса о том, куда он направляется, но тот, не желая вызвать подозрение, что он скрытничает, тотчас отозвался:
– Я еду в Омск, господа.
– А мы с господином Блаунтом, – продолжал Альсид Жоливе, – катим куда глаза глядят. Туда, где попадем еще, может, на какой-нибудь бал, а если и нет, новость ту или другую уж наверняка поймаем.
– В областях, охваченных нашествием? – спросил Михаил Строгов чуть торопливее, чем следовало.
– Именно так, господин Корпанов. Да, вас мы там вряд ли встретим!
– Ваша правда, господа, – ответил Строгов. – Я не большой охотник до ружейной стрельбы, не хочу, чтобы меня пырнули пикой, и вообще при своем мирном нраве не лезу туда, где дерутся.
– Это огорчительно, сударь, весьма огорчительно. Нет, в самом деле, мы можем только сожалеть, что расстанемся с вами так скоро! Но когда мы покинем Екатеринбург, может быть, наша счастливая звезда пожелает, чтобы мы еще немного, хоть несколько дней, попутешествовали вместе?
– Значит, и выдержите путь в Омск? – поинтересовался Строгов, на миг призадумавшись.
– Да мы сами ничего пока об этом не знаем, – ответил Альсид Жоливе, – но наверняка двинемся прямиком в Ишим, а когда окажемся там, будем действовать по обстоятельствам.
– Что ж, господа, – сказал Михаил Строгов, – до Ишима мы доедем сообща.
Он, разумеется, предпочел бы путешествовать один, но если попытаться отделаться от попутчиков, это может показаться подозрительным. К тому же, если Альсид Жоливе и его собрат намерены задержаться в Ишиме, не сразу ехать в Омск, отчего не проделать этот отрезок пути вместе с ними, это ведь не сулит осложнений?
– Хорошо, договорились, – произнес он. – Едем вместе.
И помолчав, самым равнодушным тоном спросил:
– У вас есть мало-мальски надежные сведения о том, где сейчас могут находиться захватчики?
– Черт возьми, сударь, нам известно только то, о чем говорили в Перми, – ответил Альсид Жоливе. – Войска Феофар-хана наводнили всю Семипалатинскую губернию и вот уже несколько дней продвигаются форсированным маршем вниз по течению Иртыша. Так что вам надо спешить, если хотите попасть в Омск раньше них.
– Да, верно, – отозвался Михаил Строгов.
– Поговаривали еще, будто полковнику Огарову удалось посредством переодевания изменить свою наружность и перейти границу, а теперь он не замедлит присоединиться к предводителю азиатов в самом центре восставшего края.
– Но как такие вещи становятся известны? – спросил Строгов, которого эти новости, более или менее правдоподобные, касались напрямую.
– Э, также, как достоянием молвы становится все, – ответил Альсид Жоливе. – Это носится в воздухе.
– И у вас есть серьезные основания думать, что полковник Огаров в Сибири?
– Я даже слышал, что он наверняка выбрал дорогу из Казани в Екатеринбург.
– А, так вы это знали, господин Жоливе? – сказал Гарри Блаунт, выведенный из своего немого оцепенения фразой французского репортера.
– Знал, – усмехнулся Альсид Жоливе.
– А о том, что он, по всей вероятности, переоделся цыганом, вы тоже проведали? – продолжал Гарри Блаунт.
– Цыганом?! – вскрикнул Строгов, это у него вырвалось невольно: он вспомнил двух цыган в Нижнем Новгороде, плавание на «Кавказе», высадку в Казани…
– Я знал достаточно, чтобы написать об этом моей кузине, – с улыбкой заметил Альсид Жоливе.
– Видно, в Казани вы времени даром не теряли! – сухо обронил англичанин.
– Воистину так, дорогой коллега. Пока «Кавказ» загружался всем необходимым, я поступал по примеру «Кавказа»!
Михаил Строгов больше не слушал ехидных реплик Гарри Блаунта и Альсида Жоливе, которые продолжали препираться между собой. Ондумал отой цыганской труппе, о старом цыгане, лица которого не смог разглядеть, о странной женщине, что была с ним, о пристальном настораживающем взгляде, который она бросила на него. Строгов пытался мысленно сопоставить все детали этой встречи, как вдруг невдалеке послышался выстрел.
– Ах! Господа, вперед! – закричал Михаил.
«Смотри-ка! Для почтенного торговца, готового бежать от ружейной пальбы, он что-то слишком резво мчится туда, где ее слышит!» – сказал себе Альсид Жоливе.
И вместе с Гарри Блаунтом, который тоже был не из тех, кто плетется в хвосте, он устремился следом за Строговым.
Минуты не прошло, как все трое уже подбегали к выступу скалы, за которым у поворота дороги был спрятан тарантас.
Группа сосен, подожженных молнией, все еще пылала. Дорога была пустынна. Но Михаил Строгов не мог ошибиться: выстрел был, и прозвучал он именно отсюда.
Внезапно послышался грозный рев, и тут же за каменной стенкой раздался еще один выстрел.
– Медведь! – закричал Строгов, мгновенно узнав этот рев, которого он бы ни с чем не перепутал. – Надя! Надя!
И, рванув из-за пояса тесак, Михаил в два огромных прыжка обогнул горный отрог, за которым девушка обещала ждать его.
Сосны, пожираемые огнем от основания стволов до крон, образовали гигантский факел, который ярко освещал эту сцену.
В тот миг, когда Михаил Строгов поравнялся с тарантасом, он увидел прямо перед собой огромный черный силуэт. Это был медведь весьма крупных размеров. Буря выгнала его из лесных чащ, покрывающих склоны Уральских гор, и он в поисках убежища пришел к этой расселине, где наверняка было его привычное логово, которое теперь заняла Надя.
Обе пристяжные, напуганные появлением гигантского зверя, порвали поводья и бросились бежать, а ямщик, испугавшись за своих лошадей, думать забыл, что оставляет девушку один на один с медведем, и кинулся за ними вдогонку.
Храбрая Надя не потеряла самообладания. Когда зверь, заметивший ее не сразу, напал на оставшегося в упряжке коренника, девушка вышла из расселины, где она пряталась, подбежала к экипажу, схватила один из револьверов Строгова и, смело шагнув к медведю, выстрелила в упор.
Легко раненный в плечо, зверь повернулся кдевушке, которая поначалу попробовала убегать от него, кружась вокруг тарантаса, между тем как лошадь пыталась порвать упряжь. Но ведь если потеряешь лошадей в горах, их уж не найти, поездке конец. Сообразив это, Надя повернулась к медведю и в то самое мгновение, когда лапы зверя должны были обрушиться на нее, с поразительным хладнокровием выстрелила вторично.
Это и был второй выстрел, который только что грянул в двух шагах от Михаила Строгова. Но он уже был рядом. Прыжок – и он оказался между медведем и девушкой. Одно-единственное движение руки сверху вниз, и гигантский зверь рухнул наземь бездыханный с брюхом, пропоротым от горла до паха. То был отменный образчик знаменитого удара сибирских зверобоев, рассчитанный на то, чтобы не попортить медвежью шкуру, за которую можно получить хорошие деньги.
– Ты не ранена, сестра? – Михаил бросился к девушке.
– Нет, брат, – ответила Надя.
Тут подоспели и два журналиста.
Альсид Жоливе обхватил коренника за шею, а весил он, надо думать, основательно, коль скоро емуудалось удержать животное. При этом и француз, и его собрат по перу yen ели увидеть стремительный маневр Михаила Строгова.
– Черт возьми! – вскричал Альсид Жоливе. – Для простого негоцианта вы изумительно орудуете тесаком, господин Корпанов!
– Даже более чем изумительно, – обронил Гарри Блаунт.
– Нам здесь, в Сибири, приходится учиться всему понемножку, господа, – объяснил Михаил Строгов.
Тут Альсид Жоливе глянул на молодого человека повнимательней.
Сейчас, при ярком свете, с окровавленным тесаком в руке, с самым решительным видом попирая стопой поверженного медведя, он являл собой картину, на которую стоило посмотреть.
«А верзила-то внушительный!» – сказал себе журналист.
Затем он почтительно, со шляпой в руке приблизился и приветствовал барышню.
Надя ответила легким поклоном.
Тогда Альсид Жоливе повернулся к своему спутнику:
– Сестра не уступит брату! Будь я медведем, не стал бы связываться с этой опасной и очаровательной парочкой!
Гарри Блаунт, прямой, как пика, снял шляпу, но держался на некоторой дистанции. Свойственная ему чопорность особенно бросалась в глаза на фоне сугубой непринужденности собрата.
Тут появился и ямщик, которому удалось-таки изловить своих лошадок. Прежде всего он с большим сожалением оглядел распростертого на земле великолепного зверя, которого придется оставить на растерзание хищным птицам, потом занялся ремонтом упряжи.
Михаил Строгов объяснил ему, в какое положение попали два путешественника, и предложил свой план уступить им одну из трех лошадей.
– Как тебе угодно, – проворчал ямщик. – Только это получатся уже два экипажа вместо одного…
– Хорошо, мой друг, – вмешался Альсид Жоливе, поняв намек. – Тебе и заплатят вдвое.
– Но, мои голубочки! – рявкнул ямщик.
Надя уже уселась в тарантас, а Михаил Строгов и его спутники последовали за ним пешком.
Было три часа ночи. Буря к тому времени начала затихать, шквалы обрушивалась на дорогу уже с меньшей яростью, двигаться вперед становилось все легче.
При первых лучах зари тарантас поравнялся с остатками телеги, колеса которой успели основательно, по самую ступицу, завязнуть в грязи. Было совершенно очевидно, что лошадке придется здорово поднатужиться, чтобы вытащить их оттуда.
Одну из пристяжных выпрягли из тарантаса и с помощью веревок привязали к останкам телеги. Оба журналиста уселись на единственную скамью этого оригинального экипажа, и обе упряжки двинулись в путь. Впрочем, коль скоро им оставалось лишь спускаться по склонам Уральских гор, это особых трудностей не сулило.
Через шесть часов два экипажа прибыли в Екатеринбург, они так и ехали друг за дружкой, и никакой неприятный инцидент не омрачил заключительного этапа их поездки.
Первым, кого узрели журналисты на пороге почтовой станции, был их ямщик, казалось, ожидавший их.
Сей почтенный русский имел физиономию в высшей степени добродушную. Безо всякого смущения, сияя улыбкой, он поспешил навстречу своим седокам и, протянув руку, потребовал обещанные чаевые.
Приверженность к истине велит нам не утаить и того, что гнев Гарри Блаунта явил пример истинно британской мощи. Если бы ямщик не успел благоразумно отпрянуть, ему пришлось бы получить «на водку» удар кулака, посланный прямо в его физиономию согласно всем правилам бокса.
Альсид Жоливе, свидетель этой сцены, корчился от хохота, может быть даже, он в жизни так не смеялся.
– Но у него тоже есть свои резоны, у этого бедняги! – кричал француз. – Мой дорогой собрат, заметьте: он в своем праве! Чем он виноват, если мы не нашли средства последовать за ним?
Тут он вытащил из кармана несколько копеек и протянул их ямщику со словами:
– Держи, друг! Если ты и не заработал их, то не по своей вине!
Этим он только усугубил раздражение Гарри Блаунта, который собрался было обрушиться на станционного смотрителя и подать на него в суд.
– Судебный процесс в России?! – закричал Альсид Жоливе. – Но, коллега, если здешний порядок вещей не претерпел существенных изменений, вы не доживете до окончания юридической волокиты! Неужели вы не слышали о том, какая история приключилась с одной русской кормилицей, которая хотела взыскать с родителей своего выкормыша плату за двенадцать месяцев кормления грудью?
– Ничего об этом не слышал, – ответил Гарри Блаунт.
– А, так вы, следовательно, не знаете и того, кем стал этот выкормыш, когда был изречен вердикт, согласно которому он выиграл дело?
– И кем же он стал? Уж просветите, будьте так любезны!
– Гусарским полковником в гвардии!
При этом сообщении все покатились со смеху.
Альсид Жоливе, вдохновленный успехом своей реплики, достал из кармана тетрадку и, ухмыляясь, вписал туда следующее замечание, достойное того, чтобы войти в толковый словарь Московского царства:
«Телега – русский экипаж, четырехколесный при отправлении, но к месту назначения прибывающий двухколесным!»
Глава XII. Провокация
Екатеринбург, если смотреть с географической точки зрения, – азиатский город, поскольку он расположен по ту сторону Уральских гор, на их самых восточных склонах. Тем не менее он принадлежит к Пермской губернии, следовательно, причисляется к одной из больших областей европейской России. Такое административное вторжение, по-видимому, должно иметь какие-то основания. Это как если бы русские челюсти вцепились в кусок Сибири да так и не разжались.
Ни у Михаила Строгова, ни у двоих иностранных репортеров не должно было возникнуть трудностей с подыскиванием средств передвижения в таком значительном городе, основанном еще в 1723 году. В Екатеринбурге был воздвигнут первый во всей империи Монетный двор, здесь сконцентрированы главные службы управления шахт. Таким образом, этот город являет собой важный промышленный центр края, изобилующего металлургическими фабриками и прочими разработками, в том числе здесь добывают золото и платину.
В описываемую эпоху население Екатеринбурга весьма увеличилось. Сибиряки и приезжие из европейской России во множестве нахлынули сюда, спасаясь от грозящего им нашествия. Они бежали из областей, уже захваченных ордами Феофар-хана, и особенно из киргизских степей, что простираются от юго-западного берега Иртыша до границ Туркестана.
Таким образом, если транспортные средства, на которых можно добраться до Екатеринбурга, стали редкостью, то в городе, напротив, скопилось множество тех, на которых можно было отсюда выехать. При создавшихся обстоятельствах и впрямь мало находилось желающих пуститься наудачу по сибирским дорогам.
Из этого следует, что Гарри Блаунту и Альсиду Жоливе не стоило большого труда заменить достославную полутелегу, которую они худо-бедно дотащили в Екатеринбург, целой телегой. Что до Михаила Строгова, принадлежащий ему тарантас не слишком пострадал от поездки через Урал. Оставалось только запрячь в него тройку добрых коней и скакать дальше по Иркутскому тракту.
Эта дорога сулила довольно ощутимые тяготы до самой Тюмени и даже до Ново-Заимской: на этом отрезке она тянется по довольно причудливой пересеченной местности, недаром именно здесь берут свое начало первые горы Уральской гряды. Зато дальше, за Ново-Заимской, простирается бескрайняя степь на тысячу семьсот верст (1815 километров) вплоть до окрестностей Красноярска.
Как известно, оба газетчика направлялись в Ишим, то есть их цель находилась в шестистах тридцати верстах от Екатеринбурга. Там они должны были навести справки о происходящем, а уж потом пуститься колесить по захваченному ордами региону, то ли вдвоем, то ли порознь, повинуясь своему охотничьему инстинкту, который наведет их на тот или иной след.
Однако эта самая дорога, ведущая из Екатеринбурга в Ишим, шла затем к Иркутску, так что Михаил Строгов мог продолжать свой путь только по ней. Однако он, не гонясь за новостями и, напротив, желая по возможности избегать местности, опустошенной захватчиками, был полон решимости нигде не задерживаться.
Поэтому он сказал своим новоявленным попутчикам:
– Господа, я бы с большим удовольствием проехал часть пути вместе с вами, но должен предупредить, что я очень спешу в Омск. Там нас с сестрой ждет наша матушка. А кто знает, успеем ли мы добраться до города прежде, чем туда ворвется ханское воинство! Поэтомуя не собираюсь задерживаться на станциях дольше, нежели это необходимо, чтобы сменить лошадей. Я буду ехать днем и ночью!
– Мы намерены действовать так же, – промолвил Гарри Блаунт.
– Идет, – кивнул Строгов. – Но если так, не теряйте ни секунды. Наймите или купите повозку, которая…
– Которая, – перебил Альсид Жоливе, – соблаговолит прибыть в Ишим не своей передней частью, а в полном составе.
Спустя полчаса проворный француз нашел, впрочем, без труда, тарантас, примерно такой же, как у Михаила Строгова, и они с коллегой тотчас уселись в него.
Михаил и Надя расположились в своем экипаже, и в полдень обе упряжки вместе покинули Екатеринбург.
Наконец-то Надя добралась до Сибири, передней – долгая дорога, ведущая в Иркутск! Какие мысли это должно было вызвать у юной ливонки? Три резвых лошадки везли ее по этой земле изгнания, где ее отец был осужден жить, может быть, долго, в такой дали от родного края! Но она едва замечала эти степи, что разворачивались у нее перед глазами, вмиг исчезая, как только ее взглядулетал за горизонт, в ту даль, где ей мерещилось родное лицо изгнанника! Она ни вочто не всматривалась, проносясь со скоростью пятнадцать верст в час по западной Сибири, по местности, столь отличной от Сибири восточной. В самом деле: здесь мало возделанных полей, почва бедна, по крайней мере, если иметь в виду поверхность, ведь ее недра, напротив, изобилуют железом, медью, платиной и золотом. Поэтому промышленные предприятия здесь видишь повсюду, а сельскохозяйственные поселения редки. Где взять руки, чтобы обрабатывать землю, засевать нивы, собирать урожай, когда выгоднее взбалтывать почву взрывами или кайлом? Здесь крестьянина сменяет рудокоп. Кирка орудует повсюду, а штыковой лопаты нигде не сыскать.
И все же порой мысли Нади, покинув далекие окрестности озера Байкал, возвращались к той ситуации, которую она в настоящий момент переживала. Образ отца слегка затуманивался, и она видела перед собой своего великодушного спутника, сначала в поезде, идущем во Владимир, где волей провидения им довелось впервые увидеть друг друга. Она вспоминала его предупредительность при первой встрече, его приход в нижегородский полицейский участок, простоту и сердечность его обращения с ней, когда он назвал ее сестрой, его заботливость во время плавания по Волге и, наконец, все то, что он сделал в ту страшную грозовую ночь, спасая ей жизнь и рискуя своей!
Итак, Надя думала о Михаиле. Она благодарила Бога за то, что послал ей в пути такого отважного покровителя, великодушного и скромного друга.
Рядом с ним, под его охраной она чувствовала себя в безопасности. Настоящий брат, и тот не мог бы быть лучше! Ее больше не пугали никакие препятствия, она теперь не сомневалась, что достигнет цели.
Что до Михаила Строгова, он мало говорил, но много думал. Со своей стороны он тоже благодарил Бога за встречу с Надей и в то же время за такое средство маскировки своей подлинной личности и доброго дела, которое ему предстояло исполнить. Спокойное бесстрашие этой девушки не могло не импонировать его отважной душе. Ей бы следовало быть ему настоящей сестрой, разве не жаль, что это не так? Он испытывал к своей прекрасной и героической спутнице такое уважение, такую восхищенную приязнь! Он чувствовал, что в ее груди бьется одно из тех редких и чистых сердец, на которые можно положиться.
И все же с тех пор, как Строгов ступил на сибирскую землю, его подстерегали реальные опасности. Если те два журналиста не ошибались, если Иван Огаров вправду перешел границу, Михаилу надо было действовать чрезвычайно осторожно. Обстоятельства изменились, ведь теперь в сибирских губерниях наверняка кишатханские шпионы. Если его инкогнито разоблачено, если стало известно, что он царский посланец, под угрозой его миссия и, вероятно, сама жизнь! Теперь Строгов чувствовал, что бремя ответственности все тяжелее давит на его плечи.
Вот какое настроение царило в первом экипаже, но что творилось в это время во втором? Да ничего мало-мальски примечательного. Альсид Жоливе сыпал фразами, Гарри Блаунт отвечал отрывистыми междометиями. Каждый смотрел на вещи по-своему и делал заметки, посвященные тем или иным путевым впечатлениям, впрочем, почти одинаковым, поскольку эпизоды первых дней их поездки по западной Сибири не блистали особым разнообразием.
На каждой станции журналисты выходили из своего экипажа и присоединялись к Михаилу Строгову. Надя выходила из тарантаса лишь в том случае, если на почтовой станции предполагалась какая-либо трапеза. Когда же надо было позавтракать или пообедать, она садилась за стол со всеми, но держалась очень замкнуто, почти не участвуя в общем разговоре.
Альсид Жоливе неустанно оказывал юной ливонке знаки внимания, впрочем, никогда не выходя за рамки безукоризненной почтительности. Он находил девушку очаровательной. Его восхищала та молчаливая энергия, что исходила от нее наперекор всем тяготам столь изнурительно жесткого путешествия.
Эти вынужденные задержки доставляли Михаилу Строгову довольно сомнительное удовольствие. Поэтому на каждой станции он только и делал, что поторапливал отъезд, докучал станционным смотрителям, подгонял ямщиков, чтобы поживей запрягали. Итак, наскоро перекусив – слишком наскоро, по мнению Гарри Блаунта, который был основательным, методичным едоком, – путники ехали дальше, причем журналисты тоже мчались с ветерком, как орлы, ведь платили они по-королевски или, как выражался Альсид Жоливе, «в манере русских орлов». (Русская золотая монета оценивается в пять рублей, рубль – денежная единица, равная ста копейкам, то есть трем франкам и девяноста двум сантимам).
Само собой разумеется, что Гарри Блаунт ничуть не пытался угодить девушке. Это была одна из тех немногих тем, на которые он не желал дискутировать со своим приятелем. Сей почтенный джентльмен не имел обыкновения заниматься двумя делами одновременно.
И вот однажды Альсид Жоливе спросил его, сколько лет может быть юной ливонке.
– Какой именно юной ливонке? – пресерьезно спросил тот, полуприкрыв глаза.
– Черт возьми, кому же, какие сестре Николая Корпанова?
– Это его сестра?
– Нет, его бабушка! – проворчал Альсид Жоливе, возмущенный таким безразличием. – Сколько вы ей дадите?
– Если бы я присутствовал при ее появлении на свет, я бы это знал! – сухо ответил Гарри Блаунт, всем своим видом показывая, что затронутая тема его нимало не интересует.
Местность, по которой в то время катили два тарантаса, была почти ненаселенной. Погода стояла хорошая, солнечная, но при некоторой облачности, и зной был не столь нестерпимым. Будь их экипажи устроены поудобнее, пассажирам вообще не на что было бы сетовать. Что до скорости, она была восхитительна, впрочем, русские почтовые берлины, как правило, отличаются быстрой ездой.
Но если край, что простирался вокруг, казался покинутым, эта его пустынность объяснялась нынешним тревожным положением. В полях почти не видно было тех сибирских крестьян, с бледными, суровыми лицами, которых одна известная путешественница очень метко сравнила с кастильцами, хотя последние более высокомерны. Там и сям виднелись деревни, уже покинутые жителями, – признак, явственно указывающий на то, что ханское воинство уже близко. Местные обитатели со своими стадами овец, с верблюдами и лошадьми ушли, пережидают напасть где-то среди северных равнин. Несколько кочевых киргизских племен, сохранивших верность властям империи, со своими шатрами тоже перебрались за Иртыш и за Обь, подальше от грабителей-захватчиков.
К счастью, почтовая служба работала по-прежнему четко. Также, как телеграф: связь с теми пунктами, куда еще дотягивались неповрежденные провода, поддерживалась исправно. Станционные смотрители согласно установленным правилам на всех станциях снабжали проезжающих свежими лошадьми. И телеграфисты, сидя у своих окошечек на каждой станции, тоже отсылали все депеши, которые им поручали, задерживая их только тогда, когда следовало уступить очередь срочной телеграмме государственной важности. Поэтому Гарри Блаунт и Альсид Жоливе широко пользовались возможностями телеграфа.
Таким образом, до сих пор путешествие Михаила Строгова происходило в удовлетворительных условиях. Царский курьер был избавлен от каких-либо задержек и был уверен, что если удастся обогнуть Красноярск, занятый передовыми частями Феофар-хана, он наверняка успеет в Иркутск раньше захватчиков и потратит на это минимум времени.
Назавтра после того дня, когда два тарантаса выехали из Екатеринбурга, они, проехав двести двадцать верст, в семь часов утра достигли маленького городка Тугулыма без каких-либо достойных упоминания событий.
Там путники потратили полчаса на завтрак. Затем снова устремились вперед со скоростью, объяснить которую можно только известным числом добавочных копеек, обещанных за нее ямщикам.
Кчасу того же дня, 22 июля, тарантасы, оставив позади еще шестьдесят верст, прибыли в Тюмень.
Население этого города, где обычно проживают десять тысяч человек, теперь удвоилось. Тюмень – первый промышленный центр, созданный русскими в Сибири, он примечателен своими прекрасными металлургическими заводами и мастерской, где льют колокола, но такого многолюдства здесь никогда еще не видывали.
Оба репортера тотчас пустились на поиски новостей. Те, что приносили беглецы с театра военных действий, не радовали.
Молва среди прочего утверждала, что войска Феофар-хана быстро приближаются к долине Ишима и их предводитель вот-вот встретится с полковником Иваном Огаровым, если уже не встретился. Из этого естественным образом следовало, что тогда наступление на восточную Сибирь развернется весьма активно.
Что до русских войск, их следовало призвать в основном из губерний европейской России, они были еще слишком далеко, чтобы дать отпор нашествию. Тем не менее казаки Тобольской губернии форсированным маршем двигались к Томску в надежде преградить путь азиатским колоннам.
К восьми вечера два тарантаса одолели еще семьдесят пять верст и подъехали к Ялуторовску.
Быстро перепрягли коней и, выехав из города, на пароме переправились через реку Тобол. Ее течение, очень спокойное, сделало эту задачу легкой, но на пути их ждали еще несколько переправ в условиях, возможно, куда менее благоприятных.
В полночь, проскакав еще пятьдесят пять верст (58 с половиной километров), добрались до городка Новая Заимка, миновав, наконец, слегка пересеченную лесистую местность, – последние предгорья Урала.
Здесь по-настоящему начиналось то, что называют сибирской степью, которая простирается до Красноярска. Это бескрайняя равнина, что-то вроде травянистой огромной пустыни, по краям которой, очерченным четким, как циркулем, кругом, небо сливается с землей. Среди этой степи взгляду не на чем остановиться, нигде ни пригорка, лишь мелькают телеграфные столбы, расставленные вдоль дороги, их провода дрожат на ветру, как струны арфы. Даже сама дорога неразличима, если посмотреть издали, с равнин: лишь по облачку легкой пыли, что взвивается из-под колес тарантасов, можно определить, где она проходит. Если бы не эта беловатая лента, которая тянется вдаль, насколько хватает глаз, можно было бы поверить, что здесь и вправду пустыня.
По степи Михаил Строгов и его спутники мчались с еще большей скоростью, чем раньше. Лошади, подгоняемые ямщиком, не встречая на своем пути ни малейших препятствий, буквально пожирали пространство. Тарантасы прямой дорогой неслись к Ишиму, туда, где оба корреспондента должны были задержаться, если какое-либо непредвиденное событие не изменит их планы.
От Новой Заимки до Ишима было около двух сотен верст. К завтрашнему вечеру, часам к восьми, путники могли и должны были одолеть это расстояние при условии, что не будут терять ни минуты. По разумению ямщиков, их пассажиры если и не являлись знатными барами или важными сановниками, то были вполне того достойны, судя по щедрости, с которой они раздавали чаевые.
Назавтра, 23 июля, оба тарантаса действительно оказались не более чем в тридцати верстах от Ишима.
В этот момент Михаил Строгов заметил впереди на дороге экипаж, едва различимый в клубах пыли: он ехал в том же направлении. Поскольку лошади, запряженные в тарантас Строгова, не такустали и бежали быстрее, он должен был вскоре догнать неизвестный экипаж.
То была почтовая берлина, а не тарантас или телега. Она вся запылилась, видно, проделала уже долгий путь. Возница лупил своих лошадей что было сил, только ударами да бранью заставляя скакать галопом. Было очевидно, что эта берлина не проезжала через Новую Заимку: на Иркутский тракт она выехала не иначе, как поколесив какими-то затерянными степными дорожками.
При виде этой берлины, несущейся в сторону Ишима, у Михаила Строгова и его спутников возникла одна и та же мысль: надо ее обогнать, поспеть на станцию раньше, прежде всего затем, чтобы обеспечить себе смену лошадей, ведь свободных может не хватить на всех. Поэтому они сказали своим ямщикам убедительное слово, и скоро тарантасы нагнали берлину с ее замученными конями.
Первым поравнялся с ней тарантас Строгова.
В это мгновение в окошке берлины показалась чья-то голова.
Лица Михаил рассмотреть не успел, оно лишь мелькнуло перед его глазами. Зато, как ни быстро это произошло, он вполне явственно расслышал властный окрик, обращенный к нему:
– Остановитесь!
Никто и не подумал подчиниться. Напротив, берлину вскоре обогнали оба тарантаса.
Тут началась гонка, настоящее состязание в скорости. Лошади, везущие берлину, взбудораженные появлением других упряжек и их скачкой, нашли в себе силы, чтобы не отстать, продержаться хоть несколько минут. И вот три экипажа скрылись в облаках пыли. Из этих пыльных беловатых туч вырывалось резкое, как выстрелы, щелканье кнута, смешанное с возбужденными криками и гневными восклицаниями.
Тем не менее первенство оставалось за Михаилом Строговым и его спутниками, а оно могло дорогого стоить, если бы оказалось, что на почтовой станции мало лошадей. Снабдить упряжками два экипажа, по крайней мере за краткий срок, – это уже могло стать для станционного смотрителя трудной задачей.
Через полчаса берлина отстала, превратилась в точку, едва различимую в степной дали, на горизонте.
Было восемь часов вечера, когда два тарантаса подкатили к почтовой станции, расположенной на въезде в Ишим.
Вести о ханском нашествии приходили все тревожнее. Авангард вражеских войск непосредственно угрожал городу, властям которого еще два дня назад пришлось эвакуироваться в Тобольск. В Ишиме не осталось больше ни одного чиновника, ни единого солдата.
Прибыв на станцию, Михаил Строгов потребовал лошадей – сию же минуту. С его стороны было очень предусмотрительно обогнать берлину. Здесь только три лошади годились для того, чтобы немедленно запрячь их. Все прочие недавно вернулись после длинных перегонов и нуждались в отдыхе. Станционный смотритель приказал запрягать.
Оба журналиста считали, что им стоит задержаться в Ишиме, поэтому не заботились о незамедлительном отъезде и приказали отвести их экипаж в сарай.
Спустя десять минут после прибытия на станцию Михаилу Строгову доложили, что его тарантас готов к отправлению.
– Отлично, – кивнул он.
Затем, подойдя к двум журналистам, сказал:
– Господа, коль скоро вы остаетесь в Ишиме, нам пришло время расстаться.
– Как, господин Корпанов? – удивился Альсид Жоливе. – Вы ни одного часа не проведете в Ишиме?
– Нет, сударь, я даже хочу покинуть станцию раньше, чем прибудет эта берлина, которую мы обскакали.
– Значит, вы боитесь, как бы тот вояжер не вздумал оспаривать у вас почтовых лошадей?
– Я более всего стремлюсь избегать любых осложнений.
– В таком случае, господин Корпанов, – сказал Альсид Жоливе, – нам остается лишь еще раз поблагодарить вас за услугу, которую вы нам оказали, а также за удовольствие, доставленное возможностью путешествовать в вашем обществе.
– К тому же не исключено, что мы в один прекрасный день еще встретимся в Омске, – прибавил Гарри Блаунт.
– Это действительно возможно, – ответил Михаил, – ведь я туда и направляюсь.
– Что ж, счастливого пути, господин Корпанов, – произнес тогда Альсид Жоливе. – И храни вас Боже от телег.
Оба журналиста протянули Строгову руку, предвкушая самое сердечное рукопожатие, когда снаружи послышался шум подъезжающего экипажа.
Почти тотчас дверь почтовой станции резко распахнулась. Вошел мужчина.
Это был пассажир берлины, субъект лет сорока с выправкой военного, рослый, мощный, широкоплечий, с волевым лицом. Его густые усы и рыжие бакенбарды сливались воедино, почти совсем закрывая нижнюю половину лица. На нем был мундир без знаков отличия. Кавалерийская сабля болталась у него на поясе, а в руке он держал хлыст с короткой рукояткой.
– Лошадей! – распорядился он властно, тоном человека, привыкшего отдавать приказания.
– У меня больше нет свободных лошадей, – ответил станционный смотритель с поклоном.
– Они нужны мне сейчас же.
– Это невозможно.
– А что же это за лошади, которых я видел у ворот? Их только что впрягли в тарантас!
– Они принадлежат вот этому проезжему, – отвечал станционный смотритель, указывая на Михаила Строгова.
– Пусть их выпрягут! – не допускающим возражений тоном потребовал неизвестный.
Тут Михаил Строгов сделал шаг вперед.
– Этих лошадей нанял я, – сказал он.
– Велика важность! Они мне нужны. Ну! Живо! Я не намерен терять время зря!
– Я тоже, – отвечал Михаил Строгов, стараясь сохранять спокойствие, хотя это давалось ему не без труда.
Надя стояла рядом с ним, тоже спокойная, но втайне встревоженная этой сценой, которой лучше бы избежать.
– Хватит болтать! – наседал проезжий.
Затем, подойдя к станционному смотрителю, прикрикнул, сопроводив свои слова угрожающим жестом:
– Пусть лошадей выпрягут из этого тарантаса и впрягут в мою берлину!
Станционный смотритель в крайней растерянности, не зная, кого слушать, посмотрел на Строгова, который имел неоспоримое право воспротивиться несправедливым требованиям неизвестного.
Михаил на мгновение заколебался. Он не хотел пускать в ход свою подорожную, которая привлекла бы к нему излишнее внимание, но также не хотел, уступив своих лошадей, задержаться в пути. Вместе с тем и затевать ссору, которая могла бы повредить его миссии, тоже казалось нежелательным.
Оба журналиста не сводили с него глаз, они были готовы его поддержать, если он обратится к ним за помощью.
– Мои лошади останутся при моем экипаже, – сказал Михаил Строгов, но голоса не повысил, не позволил себе вызывающего тона, который не подобает простому торговцу из Иркутска.
Тогда неизвестный подошел вплотную и тяжело, грубо опустил руку Михаилу на плечо.
– Вон ты как! – прорычал он. – Ты отказываешься уступить мне своих лошадей?
– Да, – отвечал Строгов.
– Что ж, они достанутся тому из нас, кто сможет уехать! Защищайся, потому что я тебя не пощажу!
С этими словами он стремительно выхватил из ножен свою саблю и встал в боевую позицию.
Надя бросилась вперед, заслонив собой Михаила.
Гарри Блаунт и Альсид Жоливе придвинулись ближе к ним.
– Драться я не стану, – просто сказал Михаил Строгов и, чтобы вернее сдержаться, скрестил руки на груди.
– Ты не желаешь драться?
– Не желаю.
– Даже после этого? – закричал неизвестный.
И прежде, чем кто-либо успел его остановить, он ударил Строгова в плечо рукояткой своего хлыста.
От такого оскорбления Михаил Строгов побледнел как смерть. Его руки с раскрытыми ладонями дернулись вверх, будто он хотел разорвать грубияна на куски. Но величайшим усилием воли он овладел собой. Дуэль – это хуже, чем опоздание, это то, что может оказаться полным провалом его миссии!.. Уж лучше потерять несколько часов!.. Да! Но проглотить оскорбление…
– Теперь ты будешь драться, трус? – повторил незнакомец, дополняя оскорбительный жест словесной грубостью.
– Нет! – ответил Михаил Строгов, не двигаясь, но в упор глядя незнакомцу в глаза.
– Лошадей! Сию минуту! – приказал тот. И вышел из комнаты.
Станционный смотритель торопливо последовал за ним, но не преминул пожать плечами и смерить Михаила Строгова неодобрительным взглядом.
Впечатление, которое эта стычка произвела на журналистов, тоже было явно не в пользу Строгова. Их разочарование бросалось в глаза. Этот крепкий молодой человек позволил, чтобы его безнаказанно ударили, и не потребовал удовлетворения! Итак, они ограничились тем, что откланялись и удалились, причем Альсид Жоливе сказал Гарри Блаунту:
– Не ожидал я такого от парня, который так ловко вспарывает животы уральским медведям! Выходит, это правда, что у храбрости есть свое время и место? В голове не укладывается! После этого впору поверить, будто мы здесь чего-то не понимаем потому, что никогда не были крепостными рабами!
Вскоре послышались стук колес и щелканье кнута – это берлина, запряженная лошадьми тарантаса, стремительно отъехала от почтовой станции.
Невозмутимая Надя и Михаил, которого все еще трясло, остались в станционной зале ожидания одни.
Царский фельдъегерь все еще сидел неподвижно со скрещенными на груди руками. Его можно было принять за статую. Только краска выступила на его мужественном, обычно бледном лице, и вряд ли это была краска стыда.
Надя же ни минуты не сомневалась, что только чрезвычайные причины могли заставить такого человека вытерпеть подобное унижение.
А потому она первая подошла к нему, как некогда он подошел к ней в новгородском полицейском участке, и сказала:
– Твою руку, брат!
И в то же мгновение ее тонкий пальчик почти материнским движением смахнул слезу, выступившую на ресницах ее спутника.
Глава XIII. Долг превыше всего
Надя догадывалась, что всеми поступками Михаила Строгова управляет тайная пружина, что по какой-то неведомой причине он себе не принадлежит, не вправе распоряжаться собой, что в создавшихся обстоятельствах он именно поэтому принес такую героическую жертву – безропотно перенес смертельное оскорбление.
При всем том Надя не просила у Строгова никаких объяснений. Разве, протягивая ему руку, она не отвечала заранее на все то, что он мог бы ей сказать?
Весь тот вечер молодой человек хранил молчание. Станционный смотритель не мог предоставить им свежих лошадей ранее завтрашнего утра, так что им придется провести здесь целую ночь. Итак, Надя должна была воспользоваться этим, чтобы отдохнуть, и комната уже была для нее приготовлена.
Девушка безусловно предпочла бы не оставлять своего спутника одного, но она почувствовала, что он нуждается в одиночестве, и собралась уйти в предназначенную ей комнату.
Однако она не могла уйти, не простившись, не сказав ни слова. Тихонько, почти шепотом, окликнула:
– Брат…
Но Михаил Строгов жестом остановил ее. Тяжкий вздох вырвался из груди девушки, и она вышла из залы.
Михаил ложиться не стал. Он бы не смог заснуть даже на час. Он чувствовал боль в плече, в том месте, которого коснулся хлыст проезжего грубияна, как будто там остался ожог.
Он сотворил вечернюю молитву, а потом еще пробормотал еле слышно:
– За родину и государя!
Но все же он испытывал непоборимую потребность узнать, кто был тот человек, что ударил его, откуда он взялся, куда спешил. Что до его лица, эти черты так глубоко отпечатались у него в памяти, что он не мог опасаться их забыть.
Строгов послал за станционным смотрителем.
Тот, сибиряк старого закала, тотчас явился и, глядя на молодого человека чуть свысока, ждал вопросов.
– Ты здешний? – осведомился Михаил.
– Да.
– Тебе знаком тот человек, что забрал моих лошадей?
– Нет.
– Ты его никогда прежде не видел?
– Никогда.
– Как думаешь, кто этот человек?
– Барин, который умеет добиться, чтобы его слушались!
Взгляд Михаила Строгова, словно кинжал, вонзился в сердце сибиряка, но станционный смотритель глаз не отвел.
– Ты смеешь меня осуждать? – выкрикнул Михаил.
– Да, – отвечал сибиряк. – Потому как есть вещи, которых и простому купцу негоже терпеть, надобно ответить!
– Такие вещи, как удар хлыста?
– Такие самые, молодой человек. Мне и по годам, и по силам тебе это сказать!
Михаил Строгов подошел к станционному смотрителю, положил ему на плечи две могучие руки и произнес исключительно спокойно:
– Ступай-ка отсюда, мой друг. Ступай, не то я тебя убью!
На сей раз смотритель понял его.
– Так-то мне больше по душе, – буркнул он.
И удалился, не прибавив ни слова.
Назавтра, 24 июля, в восемь часов утра, тарантас был запряжен тройкой сильных лошадей. Михаил Строгов и Надя сели в него, и город Ишим, оставивший у обоих такое ужасное воспоминание, вскоре исчез за поворотом дороги.
На всех станциях, где они останавливались в тот день, Михаил Строгов справлялся о берлине и неизменно убеждался, что она по-прежнему катит к Иркутску, опережая его, и неизвестный путник, торопясь так же, как он, мчит по степи, не теряя ни минуты.
В четыре часа дня, проехав семьдесят пять верст до станции Абатское, они должны были переправиться через реку Ишим, один из главных притоков Иртыша.
Эта задача оказалась несколько труднее, чем переправа через Тобол. У Ишима в этих местах и впрямь довольно быстрое течение. Зимой все реки и ручьи сибирской степи покрываются льдом толщиной в несколько футов, тогда по ним так удобно проезжать, что их можно даже не заметить, ведь русло скрывается под пышным снеговым ковром, эта белая пелена любой водоем равняет со степью, но летом путников на переправе могут ждать большие трудности.
И действительно: чтобы перебраться через Ишим, понадобилось два часа, это вывело Михаила Строгова из терпения. Он был расстроен тем сильнее, что паромщики сообщили ему отнюдь не ободряющие вести насчет ханского нашествия.
Если верить молве, какие-то лазутчики Феофар-хана уже появлялись на берегах Ишима в нижнем его течении, в южной части Тобольской губернии.
Омск находился в большой опасности. Ходили слухи, будто на границе кочевья больших киргизских орд состоялся сговор между сибирскими воинскими частями и людьми ханов, что совсем не на пользу русским, позиции которых в том краю очень слабы. Потому-то эти войска отступают, следовательно, и крестьянам губернии остается только уносить ноги. Рассказывали о жутких зверствах, творимых захватчиками, о грабежах, кражах, поджогах, убийствах. Такова азиатская манера вести войну. Вот жители и разбегаются во все концы при приближении авангарда Феофар-хана. А коль скоро и городки, и деревни пустели, Михаил Строгов больше всего боялся, что у него начнутся затруднения с транспортными средствами. Поэтому он отчаянно стремился попасть в Омск как можно скорее. Может быть, проехав этот город, он сумеет опередить ханских лазутчиков, что движутся вниз по долине Иртыша, и тогда дорога на Иркутск окажется свободна.
Именно в том месте, где тарантас и его пассажиры переправлялись через реку, заканчивалась «Ишимская оборонительная линия», как на языке военных зовется цепь сторожевых вышек или малых фортов, что тянется от южной границы Сибири верст на четыреста (427 километров) в глубь страны. Встарь эти малые форты были заняты казачьими частями, оборонявшими край как от киргизов, так и от любыхдругих опасных пришельцев. Но от фортов, покинутых с той поры, как московское правительство сочло, что все эти орды окончательно и бесповоротно покорены, не было никакой пользы именно теперь, когда они могли бы так пригодиться! Впрочем, по большей части форты эти были дотла сожжены, дым от их пожаров, поднимавшийся за горизонтом, на который указывали Михаилу Строгову паромщики, свидетельствовал о том, что неприятельский авангард близок.
Как только паром переправил тарантас и упряжку на правый берег Ишима, скачка по степи возобновилась со всей возможной скоростью.
Было семь часов вечера. День выдался очень пасмурный, несколько раз выпадали дожди с грозами, они прибили дорожную пыль, благодаря чему ехать стало лучше.
После того что случилось на почтовой станции в Ишиме, Михаил Строгов замкнулся, все больше молчал. Тем не менее он по-прежнему заботливо старался оберегать Надю от тягот этой гонки без остановок и передышек, хотя девушка не жаловалась. Она бы хотела одного: чтобы у лошадей, запряженных в тарантас, выросли крылья. Внутренний голос упорно твердил ей, что ее спутник спешит в Иркутск еще больше, чем она. Но сколько еще верст до цели!
Приходила ей на ум и мысль, что если ханские войска захватили Омск, матери Михаила Строгова угрожает опасность, которая должна безмерно тревожить ее сына, и, может быть, этого одного довольно, чтобы объяснить его нетерпение: он просто хочет скорее оказаться рядом с ней.
Итак, наступил момент, когда Надя решила, что должна поговорить с ним о старой Марфе, о том, какой одинокой она, возможно, чувствует себя сейчас, когда вокруг разыгрываются столь грозные события.
– Ты не получал никаких вестей о своей матери после вторжения? – спросила она.
– Нет, Надя. Последнее письмо, которое она мне прислала, написано два месяца назад, но вести, которые оно принесло, для меня отрадны. Марфа сильная и храбрая женщина, истинная сибирячка. Наперекор своему возрасту она сохраняет всю свойственную ей силу духа. Страдания ее не сломят.
– Я непременно увижу ее, брат, – сказала Надя с живостью. – Ты зовешь меня сестрой, ведь это значит, что я дочь Марфы!
И, поскольку Михаил ни слова не ответил, она добавила:
– А может быть, твоя мать покинула Омск?
– Да, это возможно, Надя, – вздохнул Строгов. – Я даже надеюсь, что она в Тобольске. Старая Марфа ненавидит завоевателей. Она всегда прекрасно знала степь и ничего не боялась. Мне хотелось бы думать, что она взяла посох и пустилась в путь берегом Иртыша. В здешних краях не сыщешь уголка, который не был бы ей знаком. Сколько раз она обошла эти места вместе со стариком отцом, да и сам я еще ребенком сколько раз сопровождал их в скитаниях по сибирским безлюдным равнинам! Да, я надеюсь, что мама не осталась в Омске!
– И когда же ты увидишь ее?
– Я ее увижу… на обратном пути.
– Но все-таки, если твоя мать в Омске, ты ведь хоть на час зайдешь к ней, чтобы ее обнять?
– Не зайду!
– Ты ее не увидишь?
– Нет, Надя! – отрезал Михаил, его грудь тяжко вздымалась, он чувствовал, что не в силах больше отвечать на вопросы девушки.
– Ты сказал «нет»? Ах, брат, но если твоя мать в Омске, по какой причине ты можешь уклониться от встречи с ней?
– Причина? Ты спрашиваешь о причине, Надя? – воскликнул Михаил таким мучительно изменившимся голосом, что девушка содрогнулась. – Да та же самая причина, что вынудила меня быть таким до низости терпеливым, когда тот мерзавец…
Горло перехватило: он не смог закончить фразу.
– Успокойся, брат, – произнесла Надя самым нежным голосом. – Я знаю лишь одно, вернее, не знаю, а чувствую. Сейчас всеми твоими поступками управляет одно побуждение – святой долг, если может быть что-то священнее тех уз, что привязывают сына к его матери!
Она умолкла и с той минуты избегала в разговоре любых тем, как-либо затрагивающих особое положение, в котором находился Михаил. Здесь был секрет, требующий уважения. И она его уважала.
На следующий день, 25 июля, в три часа ночи, тарантас, отъехав на сто двадцать верст от переправы через Ишим, подкатил к почтовой станции Тюкалинск.
Лошадей сменили быстро. Но здесь впервые заартачился ямщик, стоило некоторого труда убедить его ехать. Он утверждал, что ханские части рыщут по степи с целью грабежа: проезжающие, лошади и экипажи для них – знатная добыча.
Победить упрямство ямщика Строгову удалось лишь с помощью звонкой монеты, поскольку и в этом случае, как во многих других, он не пожелал пускать в ход свою подорожную. Последний указ, переданный сюда по телеграфу, был уже известен во всех областях Сибири, и русский путешественник, в виде исключения избавленный от необходимости повиноваться его предписаниям, тем самым привлек бы всеобщее внимание, а именно этого царев посланец должен был всячески избегать. Что до колебаний ямщика, может, хитрая бестия, приметив нетерпение проезжающего, вздумал сыграть на этом? Или, напротив, он имел весьма существенные причины опасаться, что дело обернется худо, это ведь тоже возможно?
Наконец тарантас двинулся в путь, да так быстро, что к трем часам дня, одолев расстояние в восемьдесят верст, подъехал к станции Чернолучье, а потом, через час, был уже на берегу Иртыша. До Омска оставалось не больше двадцати верст.
Иртыш – широкая река, одна из главных водных артерий Сибири. Зарождаясь в Алтайских горах, он несет свои воды по просторам Азии, тяготея к северному направлению, но не напрямую, а вкось, с юго-востока на северо-запад, и впадает в Обь, проделав для этого путь длиной около семи тысяч верст.
В это время года, когда все реки сибирского бассейна особенно полноводны, уровень воды в Иртыше был чрезвычайно высок. Вследствие этого течение, питаемое множеством разлившихся ручейков и притоков, превратилось чуть ли не в бурный поток, что сделало переправу довольно трудной. Пловец, даже самый искусный, не справился бы с этой задачей, и, даже пользуясь паромом, путники подвергались известному риску.
Но этот риск, как и все прочие опасности, даже на миг не мог остановить Михаила Строгова и Надю, полных решимости преодолеть все препятствия, каковы бы они ни были.
Тем не менее Михаил предложил своей юной спутнице сперва переправить на другой берег тарантас и упряжку, поскольку боялся, что паром под такой тяжестью станет менее устойчивым. Потом он намеревался вернуться за девушкой. Надя отказалась. Это стоило бы лишнего часа, а она не желала, чтобы забота о ее безопасности стала причиной промедления.
Погрузка на паром не обошлась без трудностей, так как берега были полузатоплены: не удавалось пристать достаточно вплотную. Но, попотев с полчаса, паромщик все же взгромоздил на паром тарантас и тройку лошадей. Затем туда же погрузились Михаил Строгов, Надя и ямщик, и паром отчалил.
В первые минуты все шло хорошо. Буйство Иртыша здесь усмирял расположенный выше по течению длинный мыс, он вдавался в реку, образуя водоворот, не мешавший ходу парома. Его направляли два паромщика, очень ловко орудуя длинными баграми. Но по мере того, как они приближались к стремнине, глубина реки увеличивалась, багры насилу доставали до дна, и вскоре паромщикам стало трудно находить опору. Теперь над поверхностью воды оставались только концы багров длиной меньше фута, это делало усилия паромщиков изнурительно тяжелыми и все же недостаточными.
Михаил и Надя сидели на корме, как всегда, поглощенные опасением, не случилось бы какой задержки, и с некоторым беспокойством наблюдали за маневрами паромщиков.
– Не зевай! – крикнул один из них своему товарищу.
Поводом для такого предостережения стал чрезвычайно стремительный разворот парома, который вдруг поменял направление. Течение подхватило его и быстро понесло. Итак, речь шла о том, чтобы, с толком используя багры, заставить паром двигаться не по течению, а наискось. Вот почему паромщики, упирая концы своих багров в выемки, цепочка которых предусмотрительно выдолблена у нижней кромки посудины, сумели развернуть паром, и он мало-помалу все же стал приближаться к правому берегу.
Конечно, можно было заранее без труда прикинуть, что он его достигнет верст на пять-шесть ниже по течению, но это не имело большого значения, лишь бы люди и животные без досадных происшествий высадились на сушу.
Два паромщика, рыжие мужики, к тому же ободренные обещанием щедрой платы, впрочем, не сомневались, что переправа через Иртыш, как ни тяжела, им по плечу.
Но в их расчеты не входило событие, предвидеть которое они не могли, а между тем обстоятельства повернулись так, что все их старания, вся сноровка оказались бессильными.
Паром находился на самой стремнине, отделенный от обоих берегов приблизительно равным расстоянием, и двигался вниз по реке со скоростью две версты в час, когда Михаил Строгов, вскочив на ноги, стал напряженно всматриваться во что-то, происходившее выше по течению.
Он увидел там несколько лодок, приближавшихся с большой скоростью. Этому способствовали и быстрота течения, и работа гребцов, ибо лодки были снабжены веслами.
Внезапно лицо Строгова исказилось, и у него вырвалось невнятное восклицание.
– Что там? – спросила девушка.
Но прежде чем Михаил успел ей ответить, один из паромщиков закричал, и в его голосе явственно послышался ужас:
– Татары! Татары!
Так в народе называли ханских воинов.
Он не ошибся: лодки, идущие вниз по Иртышу, были полны солдат. Через несколько минут они должны были нагнать паром, слишком перегруженный, чтобы удрать от них.
Перепуганные насмерть паромщики с воплями отчаяния побросали свои багры.
– Смелей, друзья! – закричал Михаил Строгов. – Даю пятьдесят рублей, если доберемся до правого берега раньше, чем они приплывут!
Воодушевленные таким призывом, паромщики возобновили маневры, продолжали направлять свою посудину под углом к течению, но вскоре стало очевидно, что абордажа не избежать.
Но, может, захватчики проплывут мимо, не тронут их? Нет, маловероятно! Напротив, следует опасаться худшего: это же грабители!
– Не бойся, Надя, – сказал Михаил. – Но будь готова ко всему!
– Я готова, – отвечала она.
– Даже броситься в реку, когда я скажу?
– Когда ты скажешь.
– Доверься мне, Надя!
– Хорошо.
До неприятельских лодок оставалось не более ста футов. На них к Омску плыл передовой отряд бухарских воинов-разведчиков.
Парому, чтобы достигнуть берега, надо было еще пройти расстояние, равное его удвоенной длине. Паромщики выбивались из сил. Михаил Строгав присоединился к ним: схватил багор, орудовал им со сверхчеловеческой силой. Если бы удалось вытащить тарантас на сушу и пустить коней в галоп, был бы хоть какой-то шанс спастись от преследователей, ведь у них-то лошадей нет.
Сколько усилий, и все напрасно!
– Сарынь на кичку! – закричали солдаты с первой лодки.
Михаил Строгов узнал этот боевой клич азиатских пиратов, отвечать на который полагалось не иначе, как только падая ниц.
Коль скоро ни паромщики, ни он сам не подчинились, грянул мощный залп, и две лошади рухнули мертвыми.
В то же мгновение паром сильно тряхнуло. Лодки налетели на него с кормы.
– Надя, пора! – крикнул Михаил Строгов, готовясь прыгнуть за борт. Когда он, раненный пикой, бросился в воду, девушка хотела последовать за ним. Но течение вмиг отнесло его в сторону, его рука на миг забилась над водой и исчезла.
У Нади вырвался крик, она рванулась было вслед за Строговым, но была схвачена, ее подняли на руки и пересадили в лодку.
Через мгновение паромщиков прикончили ударами пик, паром поплыл, никем не управляемый, как придется, а захватчики продолжили свой путь вниз по течению Иртыша.
Глава XIV. Мать и сын
Омск официально признан столицей западной Сибири. Между тем это не самый значительный город губернии, обязанной ему своим названием, ведь Томски многолюднее, и импозантнее. Но резиденция генерал-губернатора всей первой половины азиатской России расположена именно в Омске.
Строго говоря, Омск состоит из двух отдельных городов: в одном обитают исключительно представители власти и чиновники, другой населен преимущественно сибирскими купцами, хотя торговым центром все же не является.
В этом городе насчитывалось от двенадцати до тринадцати тысяч жителей. Для его обороны имелась крепость с бастионами по бокам, но укрепления там земляные, это если и защита, то крайне недостаточная. Поэтому нападающие, прекрасно о том осведомленные, попытавшись взять его приступом, за несколько дней осады добились своего.
Гарнизон Омска, численность которого не превышала двух тысяч человек, оборонялся храбро. Однако, слабея под натиском войск эмира, защитники мало-помалу оставляли купеческие кварталы, волей-неволей ища убежища в «верхнем городе».
Там укрылись и сам генерал-губернатор, и его офицеры, и солдаты. Они превратили эти кварталы Омска в подобие цитадели, соорудив бойницы в жилых домах и церквах, и закрепились в таком импровизированном «кремле», держались стойко, как ни мало было надежды, что помощь подоспеет вовремя. В самом деле, неприятельские войска, сплавляясь по Иртышу, что ни день, получали свежее подкрепление. Было и еще одно обстоятельство, того хуже: их действиями управлял офицер, предавший свою страну, но наделенный большим воинским талантом и при любых обстоятельствах не теряющий своей дерзкой отваги.
Это был полковник Иван Огаров.
Чрезвычайно опасный в качестве одного из предводителей им же спровоцированного нашествия, Иван Огаров располагал большим воинским опытом и познаниями. Будучи уроженцем Азии, он любил всяческие хитрости, засады и подвохи, ему нравилось их измышлять, он не брезговал никакими средствами, когда хотел выведать чей-либо секрет или расставить кому-то сети. Коварный от природы, он охотно прибегал к самой низменной маскировке, при случае мог нарядиться и нищим, вообще превосходно умел менять как свою внешность, так и повадки. К тому же он был жесток, при необходимости мог сыграть и роль палача. В его лице Феофар-хан имел достойного пособника в этой дикарской войне.
Итак, когда Михаил Строгов подъезжал к берегу Иртыша, Иван Огаров уже хозяйничал в Омске и вел осаду «верхнего города» тем упорнее, что ему не терпелось поскорее отправиться в Томск, где как раз сконцентрировалась большая часть ханской армии.
Томск и впрямь уже несколько дней находился во власти Феофар-хана, и он, овладев центральной Сибирью, именно отсюда собирался двинуть войска на Иркутск.
А Иркутск и являлся истинной целью Ивана Огарова.
Этот предатель задумал под фальшивым именем подольститься к великому князю, снискать его доверие, а когда придет час, выдать захватчикам и город, и самого князя.
Прибрав к рукам такой город и такого заложника, захватчики смогут получить и всю Сибирь.
Итак, его преследовали, царь о его намерениях знал; именно в том, чтобы помешать его игре, состояла важная миссия, порученная Михаилу Строгову. Оттого и были так строги указания, которые получил царский посланец, обязанный неузнанным проехать через захваченную территорию.
До сих пор он исполнял свою миссию с безукоризненной точностью, но сможет ли он теперь продолжать и завершить ее?
Рана, полученная Строговым, не была смертельной. Проплыв подводой, он достиг правого берега, никем незамеченный, и упал без чувств в зарослях камыша.
Придя в себя, он обнаружил, что находится в лачуге мужика, который подобрал его и о нем позаботился; этому человеку он был обязан тем, что остался жив. Но сколько времени он пробыл под кровом этого славного сибиряка? Об этом он понятия не имел. Однако, когда Михаил открыл глаза, увидел склоненную над ним добрую бородатую физиономию, глядевшую на него с сочувствием, он собрался было спросить, где очутился, но мужик, предупреждая его вопрос, сказал:
– Не разговаривай, батенька, молчи! Слаб ты еще. Я тебе сам расскажу про все, что случилось с тех пор, как я тебя притащил в свою халупу.
Тут мужик описал Михаилу все перипетии схватки, свидетелем которой он стал: нападение лодок с захватчиками на паром, ограбление тарантаса, расправу с паромщиками!..
Но Строгов его не слушал. Протянув руку к своему кафтану, он нащупал письмо императора, по-прежнему спрятанное на груди.
Он вздохнул с облегчением, но это было еще не все.
– Со мной была девушка! – сказал он.
– Они ее не убили! – поспешил заверить мужик, прочитав в глазах своего гостя, что парень вне себя от тревоги. – Посадили к себе в лодку и дальше поплыли вниз по Иртышу! Еще одна пленница вдобавок к другим, они их всех свозят в Томск!
Ответить на это Михаил Строгов не смог. Молча прижал руку к сердцу, силясь унять его бешеный стук.
Но наперекор любым испытаниям всеми его помыслами повелевало чувство долга.
– Где я? – спросил он.
На правом берегу Иртыша, всего в пяти верстах от Омска, – отвечал мужик.
– Это какую же рану я получил, что она меня так сразила? Огнестрельную?
– Да нет, пикой треснули по голове, теперь шрам останется, – сказал мужик. – Полежишь, батенька, денька три-четыре да можно и снова в путь. Ты в реку упал, но татары там шарить не стали, и твой кошель остался у тебя в кармане.
Михаил протянул мужику руку. Потом внезапно, сделав над собой усилие, привстал:
– Приятель, сколько дней я у тебя здесь пролежал?
– Три дня.
– Три дня потеряно!
– Да ты же все время был без сознания!
– Можешь продать мне лошадь?
– Хочешь уехать?
– Сейчас же.
– У меня, батенька, ни коня нет, ни повозки! Где татары прошли, там ничего не остается!
– Что ж, пойду в Омск пешком, поищу лошадь там…
– Еще несколько часов покоя, и ты смог бы идти, но пока…
– Ни единого часа!
– Тогда ступай! – вздохнул мужик, поняв, что противиться воле гостя бессмысленно. Но прибавил: – Я тебя сам провожу. К тому же в Омске русских все еще много, может, и сумеешь пробраться незаметно.
– Друг, – сказал Строгов, – да наградит тебя Господь за все, что ты для меня сделал!
– Награда? На этом свете ее ждут одни полоумные, – отвечал мужик. И вот Михаил Строгов вышел из избы. Шагнул разок-другой и ощутил дурноту, такую, что упал бы, если бы мужик не поддержал. Но свежий воздух его в два счета взбодрил. Теперь он оценил последствия удара по голове, который ему нанесли, но плотная меховая папаха, к счастью, смягчила его. Не таким человеком был Михаил, поражавший всех своей энергией, чтобы обессилеть от подобной малости! Перед ним маячила единственная цель – далекий Иркутск, куда он должен успеть. Но прежде ему следовало добраться до Омска, чтобы оттуда отправиться дальше. Без задержек.
«Господи, сохрани маму и Надю! – прошептал он. – Сейчас я не вправе думать о них!»
Вскоре Михаил Строгов с мужиком подошли к городу и, хотя нижние торговые кварталы были заняты неприятельским войском, проникли туда без помех. Земляной вал был разрушен в нескольких местах, везде виднелись бреши, через которые в город нахлынули мародеры, шедшие по пятам за полчищами Феофар-хана. На улицах и площадях Омска кишели его солдаты, однако было заметно, что некая железная рука навязала им дисциплину, довольно непривычную для них. В самом деле: они не шатались поодиночке, но только вооруженными группами, способными дать отпор любой агрессии.
На главной площади, превращенной в военный лагерь, охраняемый множеством часовых, в четком порядке раскинули бивуак две тысячи человек. Лошади, привязанные к колышкам, но сплошь оседланные, были готовы выступить по первому знаку командующего. Для этой азиатской кавалерии Омск мог быть не более чем временной стоянкой: им наверняка не терпелось доскакать до тучных равнин восточной Сибири, там города богаче, нивы плодороднее, а стало быть, и грабеж прибыльней.
Выше, над торговыми кварталами, уступами по склону поднимался «верхний город», который Ивану Огарову пока не удавалось захватить, несмотря на многочисленные атаки, мощные, но храбро отражаемые. Надето зубчатыми стенами развевался державный флаг России.
С чувством законной гордости Михаил Строгов и его провожатый воздали ему молчаливую дань почтения.
Михаил и сам хорошо знал Омск, теперь же, следуя за проводником, он успешно избегал слишком людныхулиц. Не то чтобы он мог опасаться быть узнанным: во всем городе одна лишь старушка мать могла назвать его настоящим именем. Но он поклялся не видеться с ней, итак, он ее не увидит. К тому же – он всем сердцем этого желал – она, может быть, укрылась в каком-нибудь тихом уголке среди степи.
К счастью, мужик был знаком со здешним станционным смотрителем, который, по его словам, не откажется сдать в наем или продать экипаж и лошадей, если ему хорошо заплатить. Оставалась одна трудность – как выехать из города, но и эта задача Строгова облегчалась благодаря проломам в земляном валу.
Стало быть, мужик повел своего гостя прямехонько на почтовую станцию. Но когда они шагали по какой-то узкой улочке, Михаил вдруг остановился и резко отскочил в сторону, спрятавшись за выступ стены.
– Ты чего это? – спросил мужик, крайне изумленный таким внезапным прыжком.
– Молчи! – торопливо прошептал Строгов, прижимая палец к губам.
В этот момент с главной площади на ту самую улочку, по которой пробирались Михаил со своим спутником, выехал отряд ханской кавалерии. Всадников было десятка два, а впереди шагал офицер в очень простом мундире. Хотя его быстрый взгляд зорко оглядывал все вокруг, Строгова он заметить не успел, очень уж проворно тот ускользнул в укрытие.
Крупным аллюром отряд проскакал по тесной улочке. Ни офицер, ни его эскорт местных жителей не опасались. Эти несчастные едва успевали расступаться при их приближении. Раздалось несколько полупридушенных вскриков, на которые верховые незамедлительно отвечали ударом пики.
Когда отряд скрылся из виду, Михаил Строгов спросил, повернувшись к мужику:
– Кто был этот офицер?
И лицо его, когда он произносил эти слова, стало бледным, каку мертвеца.
– Это Иван Огаров, – ответил сибиряк, поневоле понизив голос: горло перехватило от ненависти.
– Он?! – вскричал Строгов. В этом коротком слове вырвалась наружу вся ярость, с которой он не смог совладать.
В офицере он мгновенно узнал того проезжего, что ударил его на почтовой станции в Ишиме!
Сила озарения, пронизавшего ум Михаила, была такова, что этот проезжий, виденный лишь мельком, в то же время напомнил ему старого цыгана, чьи слова он подслушал на ярмарочной площади в Нижнем.
Михаил Строгов не ошибся. Это был один и тот же человек. Именно в цыганском наряде полковник Огаров, смешавшись с бродячей труппой Сангарры, смог беспрепятственно покинуть Нижегородскую губернию, куда он отправился затем, чтобы подыскать среди чужеземцев, во множестве нахлынувших из Средней Азии, сообщников, которых хотел привлечь к исполнению своего дьявольского замысла. Сангарра и ее цыгане являлись его платными шпионами и были ему абсолютно преданы. Да, это он ночью на ярмарочной площади произнес странную фразу, смысл которой Михаил смог понять только теперь, это он плыл на «Кавказе» со всей своей цыганской бандой, и, наконец, по дороге, ведущей из Казани через Уральские горы и Ишим, добрался до Омска, где ныне распоряжается как полновластный хозяин.
Прошло не больше трех дней с тех пор, как Иван Огаров прибыл в Омск. Если бы не их злосчастная встреча в Ишиме и не происшествие, на трое суток задержавшее Строгова в избе на берегу Иртыша, он наверняка обогнал бы Огарова на пути в Иркутск!
И кто знает, скольких бедствий можно было бы избежать в будущем!
Как бы то ни было, теперь Строгов более, чем когда-либо, должен был избегать этого человека, не попадаться ему на глаза. Но уж когда придет время встретиться с ним лицом к лицу, Михаил такого момента не упустит, будь его враг хоть правителем всей Сибири!
А пока они с мужиком продолжили свой путь и пришли в конце концов на почтовую станцию. Кактолько стемнеет, не составит труда выбраться из Омска через один из проломов в земляном валу. Что до покупки какого-нибудь экипажа взамен тарантаса, это оказалось невозможным. Ни купить, ни нанять – их попросту не было. Но зачем теперь Строгову экипаж? Разве ему не предстояло, увы, отныне путешествовать одному? А значит, достаточно лошади, и раздобыть ее, к великому счастью, удалось. Это было выносливое животное, способное выдержать долгую скачку, а уж такой опытный наездник, как Михаил Строгов, сумеет наилучшим образом ею воспользоваться.
Заплатить за лошадь пришлось дорого, зато спустя несколько минут он уже смог бы отправиться в путь.
Но было только четыре часа дня. Пришлось дожидаться ночи, чтобы незамеченным миновать городские укрепления. Не желая маячить на улицах Омска, Михаил остался на почтовой станции, заодно заказал себе чего-нибудь поесть.
В зале ожидания было многолюдно. Как обычно на русских станциях, здесь толпились встревоженные жители в надежде узнать новости. Толковали о скором прибытии московских частей – не в Омск, а в Томск, туда, мол, царь послал солдат, чтобы отвоевать городу полчищ Феофар-хана.
Михаил Строгов внимательно прислушивался ко всему, но сам в разговоры не вмешивался.
Внезапный крик заставил его вздрогнуть – крик, пронизавший его до глубины души, всего одно слово, но оно, можно сказать, обожгло его слух:
– Сын!
Его мать, старая Марфа, стояла перед ним! Она улыбалась ему, а сама вся дрожала! Она протягивала к нему руки!..
Строгов вскочил с места. Он хотел броситься к ней…
Мысль о долге, да и о серьезной опасности, которую могла навлечь на его мать и на него самого эта отчаянно несвоевременная встреча, остановила его порыв. Его самообладание было столь велико, что ни один мускул не дрогнул на его лице.
Двадцать человек собрались в этом зале. Среди них могли быть шпионы. И разве в городе не знали, что сын Марфы Строговой принадлежит к корпусу государевых фельдъегерей?
Молодой человек застыл на месте.
– Миша! – воскликнула его мать.
– Кто вы, сударыня? – насилу выговорил, вернее, пролепетал Михаил.
– О чем ты? Как это кто я? Сынок, да что с тобой? Ты собственную маму не узнаешь?
– Вы обознались! – холодно ответил Строгов. – Очевидно, вас ввело в заблуждение случайное сходство…
Старая Марфа подошла вплотную и, глядя ему прямо в глаза, спросила:
– Ты не сын Петра и Марфы Строговых?
Как хотелось Михаилу заключить ее в свои объятия! Он отдал бы жизнь за это право… Но если бы он это сделал, это был бы конец всему – ему, ей, его миссии, данной клятве! Ценой огромного усилия овладев собой, он зажмурился, чтобы не видеть неописуемой тревоги, исказившей дорогое лицо его матери, и спрятал руки за спину, пряча их от ее протянутых к нему трепещущих рук.
– Я, право слово, не пойму, о чем вы толкуете, добрая женщина, – произнес он, отступая на несколько шагов.
– Миша! – снова закричала старая мать.
– Я вовсе не Михаил! И никогда не был вашим сыном! Меня зовут Николай Корпанов, я купец из Иркутска!
И он, резко повернувшись, вышел из зала, но успел в последний раз услышать, как раздался за его спиной горестный зов:
– Сынок! Сынок!
Силы едва не покинули Михаила Строгова, но все же он ушел. Он не видел, как его мать упала на скамью, почти лишившись чувств. Но когда станционный смотритель подбежал к ней, чтобы помочь, старуха встала сама. В голове внезапно прояснилось. Чтобы ее сын отрекся от нее – нет, это невозможно! Чтобы она ошиблась, приняла за него кого-то другого, – этого тоже не может быть. Она только что видела своего сына, это был он, и если он ее не узнал, значит, не захотел, не должен был узнавать ее, какая-то ужасно серьезная причина заставила его так поступить! И тогда, вытесняя все нежные материнские чувства, ее настигла одна страшная мысль: «Уж не погубила ли я его, сама того не желая?»
– Видно, я совсем помешалась! – сказала она тем, кто обступил ее и стал расспрашивать. – Мои глаза меня обманули! Этот молодой человек не мой сын! У него и голос совсем другой! Хватит, не будем больше об этом говорить! Кончится тем, что он мне повсюду будет мерещиться.
Десяти минут не прошло, как на почтовую станцию заявился офицер из войска ханов:
– Марфа Строгова? – спросил он.
– Это я, – отвечала старая женщина спокойно, и лицо ее было настолько безмятежно, что свидетели только что разыгравшейся сцены не узнавали ее.
– Идем, – приказал офицер.
Уверенным шагом Марфа Строгова вышла из зала ожидания и последовала за ним.
Спустя несколько минут ее уже доставили на бивуак посреди площади к самому Ивану Огарову, которому о недавней сцене было тотчас доложено во всех деталях.
Охваченный обоснованными подозрениями, он пожелал самолично допросить старую сибирячку.
– Как тебя зовут? – жестким тоном спросил он.
– Марфа Строгова.
– У тебя есть сын?
– Да.
– Он царский фельдъегерь?
– Да.
– Где он?
– В Москве.
– И ты не получаешь от него вестей?
– Не получаю.
– Давно?
– Уже два месяца.
– Так что же это за парень, которого ты называла сыном на почтовой станции, всего несколько минут назад?
– Какой-то молодой сибиряк. Я обозналась, – отвечала Марфа Строгова. – Это со мной уже второй раз: с тех пор, как город заполонили чужаки, мне все мерещится, будто навстречу идет мой сын! Куда ни гляну, везде его вижу!
– Значит, тот парень не Михаил Строгов?
– Нет, это был не он.
– А знаешь, старуха, я ведь могу приказать, чтобы тебя пытали, пока ты правду не скажешь!
– Я сказала правду, сколько ни пытай, у меня других слов нет.
– Тот сибиряк не был Михаилом Строговым? – во второй раз спросил Иван Огаров.
– Нет, это не он, – повторила Марфа Строгова. – Я ни за какие блага на свете не отреклась бы от сына, данного мне Богом, неужто вам это невдомек?
Иван Огаров злобно смотрел на старую женщину, так открыто бросившую ему вызов. Он был уверен, что она не ошиблась, узнав в молодом сибиряке своего сына. Следовательно, если сначала сын не признал своей матери, а потом и она, в свою очередь, его не признала, у них должны быть для этого самые веские причины.
Итак, теперьу Ивана Огаровауже не осталось сомнений, что самозваный Николай Корпанов на самом деле Михаил Строгов, царский посланец, который скрывается под фальшивым именем и прибыл с сюда миссией, крайне важно выяснить, какой. Поэтому он распорядился немедленно послать за ним погоню. Затем, повернувшись к Марфе Строговой, сказал:
– Пусть эту женщину доставят в Томск.
А когда солдаты грубо потащили ее за собой, добавил сквозь зубы:
– Будет время, я сумею заставить эту старую ведьму говорить!
Глава XV. Барабинское болото
Большой удачей оказалось для Михаила Строгова, что он так поспешно покинул почтовую станцию. Приказы Ивана Огарова были тотчас переданы страже, все выходы из города оказались под надзором, приметы Строгова сообщили всем станционным смотрителям, чтобы лишить его возможности выехать из Омска. Но он к тому времени успел пробраться наружу через брешь в укреплениях, его конь уже скакал по степи и, коль скоро его сразу не догнали, у него были шансы ускользнуть.
Строгов покинул Омск 29 июля в восемь вечера. Этот город находится примерно на полдороге между Москвой и Иркутском, куда ему следовало добраться не позже, чем за десять дней, если он хотел опередить наступление ханских войск. По-видимому, злополучная встреча с матерью положила конец его инкогнито. Иван Огаров больше не мог сомневаться в том, что царский курьер только что миновал Омск и сейчас направляется в Иркутск. Депеши, что он везет, должно быть, чрезвычайной важности. Михаил Строгов понимал, что для его поимки будет сделано все, что только возможно.
Одного он не знал и знать не мог – того, что Марфа Строгова в руках Ивана Огарова, она, может случиться, заплатит даже жизнью за порыв, которого не смогла сдержать, внезапно увидев своего сына! Его счастье, что он об этом не знал! Смог бы он выдержать это новое испытание?
Итак, Михаил погонял коня, передавая животному пожиравшее его лихорадочное нетерпение, требуя лишь одного – быстрее довезти его до следующей станции, где можно будет заменить его на упряжку порезвее.
К полуночи он одолел семьдесят верст, потом остановился на станции Куликово. Но там, как он и боялся, не нашлось ни лошадей, ни экипажей. Какие-то ханские отряды проехали по большому сибирскому тракту. Все было разворовано или реквизировано, как в селениях, так и на почтовых станциях. Михаилу Строгову едва удалось разжиться какой ни на есть пищей для себя и кормом для своей лошади.
Выходит, ему необходимо поберечь этого коня, ведь неизвестно, как и когда удастся его заменить. Но все-таки, желая оказаться как можно дальше от всадников, которых Иван Огаров наверняка пустил по его следу, Михаил решил ехать дальше. Итак, час отдыха – и он снова скакал по степи.
До сих пор состояние атмосферы, к счастью, благоприятствовало путешествию государева курьера. Температура держалась сносная. Темноту ночи, в эту пору очень короткой, освещало бледное сияние луны, пробиваясь сквозь легкую облачную пелену, что позволяло видеть, куда едешь. К тому же Михаил Строгов, превосходно знающий дорогу, двигался вперед уверенно, без колебаний. Наперекор осаждавшим его мучительным мыслям он сохранял полнейшую ясность рассудка и так рвался к своей цели, будто уже видел ее на горизонте. Если он и останавливался ненадолго на каком-нибудь перекрестке дорог, то лишь затем, чтобы дать своему коню отдышаться. Тогда он спрыгивал наземь, чтобы животному хоть на несколько минут стало легче, и прикладывал ухо к земле, прислушиваясь, не раздастся ли топот мчащейся по степи погони. Не заметив ничего подозрительного, он продолжал свой путь, все вперед и вперед.
Ах! Если бы этот сибирский край накрыла полярная ночь, длящаяся месяцами непроглядная темень! Он готов был пожелать ее – потемки сулили бы ему больше шансов пересечь равнину.
В девять часов утра 30 июля Михаил Строгов миновал станцию Труновскую и устремился дальше по болотам, ибо в этой части Барабинской степи местность заболочена.
Здесь, на пространстве в триста верст, путника могли ожидать крайне серьезные препоны, чинимые самой природой. Он это знал, но знал также, что все преодолеет.
Обширные Барабинские болота тянутся с севера на юг между шестидесятой и пятьдесят второй параллелью, здесь скапливаются все те массы дождевой воды, которые не находят путей, чтобы стечь в Обь или в Иртыш. Почва этой огромной низменности сплошь глинистая, а следовательно, настолько не пропускает влаги, что вода застаивается здесь, делая местность в теплое время года почти непроезжей.
Тем не менее дорога на Иркутск проходит именно здесь, среди болот, прудов, озер, трясин, под лучами солнца исходящих болезнетворными испарениями, которые густым облаком налегают на тракт. Путников это чрезвычайно утомляет, а подчас и грозит большими бедами.
Зимой, когда стужа сковывает все, что было жидким, замораживая гнилостные миазмы, а снег выравнивает степь, сани легко и без помех могут скользить по затвердевшей ледяной корке Барабинских болот. В такую пору и охотники весьма часто навещают эти богатые дичью места, гоняясь за куницами, соболями и дорогими лисами, чей мех так высоко ценится. Но летом болота становятся топкими, зловонными, а когда уровень воды слишком высок, то и вовсе непроходимыми.
Михаил Строгов гнал своего коня по этой торфянистой равнине, уже не поросшей, как на предыдущих участках пути, степной полуобщипанной травкой, которой преимущественно и питаются громадные сибирские стада. Местность больше не выглядела бескрайней равниной, она походила скорее на огромный, но чахлый лес, непроходимое царство древовидной растительности.
Трава там росла лишь на пригорках, зато вымахивая футов на пять-шесть. Собственно то были болотные растения, которым влажность вкупе с летней жарой давала возможность неимоверно разрастаться. В основном – камыши и сусак, они образовывали непролазные заросли, непроходимые, запутанные сетчатые заграждения, среди которых пестрели многочисленные цветы, замечательные по яркости красок; особенно блистательно смотрелись ирисы и водяные лилии, аромат которых смешивался со зловонием разогретой грязи, исходящей паром в лучах солнца.
Скача меж этих камышовых и сусаковых стен, Михаил Строгов был теперь невидим с болот, по обе стороны подступающих к дороге. Высоченные тростники поднимались у него над головой, и о том, где проезжает всадник, можно было догадаться лишь по крикливым тучам водяных птиц, при его приближении взмывающих в небеса с дорожных обочин.
Тем не менее дорога была четко проложена. Она то тянулась прямой линией сквозь заросли болотных растений, то огибала извилистые берега больших прудов, иные из которых, насчитывая по нескольку верст как в длину, так и в ширину, заслуживали скорее названия озер. В некоторых местах, где обогнуть скопления застойных вод не представлялось возможным, путь шел не то чтобы по мостам, но по тряским настилам, полуутопленным в толстых слоях глины. Брусья, из которых они были сложены, несмотря на все предосторожности, дрожали, словно утлая доска, переброшенная через пропасть. Местами подобные настилы тянулись на расстояние в двести-триста шагов, и не раз случалось, что у пассажиров или, по крайней мере, пассажирок проезжавших здесь тарантасов возникали симптомы, смахивающие на морскую болезнь.
Под копытами лошади Строгова настил проминался, обретая твердость, – конь и всадник вкупе весили немало, и Михаил продолжал ехать без остановки, перемахивая через провалы там, где брусья прогнили, но как бы резво ни бежала лошадь, ни ей, ни всаднику не дано было избежать укусов двукрылой мошкары, изобилующей в этом болотистом краю.
Когда приходит нужда пересечь Барабинские болота в летнее время, путники обзаводятся масками из конского волоса, их приделывают к кольчуге, туго сплетенной из металлической нити, она предохраняет голову и плечи. Однако, несмотря на все предосторожности, мало комуудается выбраться из этих болот иначе, чем в красных пятнах, покрывающих лицо, руки и шею. Здесь сам воздух словно бы испещрен острыми иглами, и нетрудно понять, что даже рыцарские доспехи не защищают от жала этих двукрылых. Это ужасающая местность, где человек выживает в жестокой борьбе с долгоножками, комарами, москитами, слепнями и даже с мириадами микроскопических насекомых, не видных невооруженным глазом, но если рассмотреть этих тварей невозможно, зато нельзя не чувствовать их бесчисленных нестерпимых укусов, к которым даже самые закаленные сибирские охотники никогда не могли привыкнуть.
Лошадь Михаила, доведенная этими ядовитыми двукрылыми до исступления, дергалась и прыгала так, словно тысячи шпор вонзались ей в бока. Потом животное, охваченное безумной яростью, закусив удила, понеслось галопом, промахивало версту за верстой со скоростью экспресса, хлестало себя хвостом по бокам, ища в этой бешеной скачке облегчения своих мук.
Только очень искусный наездник, каким был Строгов, мог удержаться в седле при таком поведении лошади, всех этих внезапных остановках и диких прыжках, которые она делала, пытаясь увернуться от атак мошкары. Что касается Михаила, он уже стал, можно сказать, нечувствительным к физической боли под властью единственного желания – любой ценой достигнуть цели: словно под воздействием стойкой анестезии, он в этой сумасшедшей гонке видел лишь одно – желанную скорость.
Кто бы поверил, что эта часть Барабинской степи, где в жаркое время года создается столь нездоровая атмосфера, может стать приютом для какого-либо населения?
Тем не менее это так. Изредка то тут, то там среди зарослей гигантского камыша мелькали какие-то хижины. Мужчины, женщины, дети, старики в одежде из кожи животных, с лицами, скрытыми под масками из пропитанных смолой пузырей, пасли стада чахлых овец, но чтобы уберечь этих животных от нападения насекомых, окуривали их дымом очагов, где круглые сутки горят сырые дрова, их подбрасывают в огонь днем и ночью, так что едкий дым медленно распространялся над всем громадным болотом.
Когда Михаил Строгов почувствовал, что его конь, сраженный усталостью, готов упасть, он остановился возле одной из этих жалких лачуг, и там, забыв о собственной усталости, сам по обычаю сибиряков обтер искусанную шкуру несчастного животного разогретым жиром. Потом Михаил задал ему хорошую порцию корма. И только после того, как конь был хорошо вычищен и сытно накормлен, он постарался восстановить свои силы, съев несколько ломтей хлеба и кусков мяса и запив все это квасом. Час, в крайнем случае два часа спустя, он продолжил свою нескончаемую скачку, снова галопом помчавшись по дороге, ведущей в Иркутск.
Таким манером Михаил Строгов, покинув станцию Труновскую, проскакал девяносто верст и, казалось, совсем не чувствуя усталости, 30 июля к четырем часам дня прибыл в Чулым.
Волей-неволей пора было предоставить коню ночь передышки. Храброе животное больше не могло продолжать путь без отдыха. В Чулыме, как и нигде больше, он не нашел никаких транспортных средств. По тем же причинам, что и в предыдущих городках и поселках, здесь не осталось ни лошадей, ни экипажей.
Чулым, маленький город, до которого еще не добрались ханские войска, почти совсем опустел, ведь с юга захватить его было легче легкого, дай с севера он был не лучшим образом защищен. Поэтому почтовая станция, полицейский участок, особняк администрации по распоряжению высшего начальства были покинуты, и чиновники с одной стороны, а жители, имеющие средства бежать отсюда, с другой, заблаговременно перебрались в Камск, в центр Барабинской степи.
Итак, Михаил должен был смириться с необходимостью провести ночь в Чулыме, чтобы позволить своему коню отдохнуть часов двенадцать. Он помнил указания, полученные в Москве: проехать через Сибирь инкогнито, как можно быстрее добраться до Иркутска, однако не ставить под удар конечный успех путешествия во имя скорости. Следовательно, он должен довольствоваться тем единственным средством передвижения, которое ему осталось.
На следующий день Строгов покинул Чулым в то же самое время, когда пришло известие, что в десяти верстах от городка на Барабинской дороге замечен первый отряд ханских разведчиков. Михаил снова устремился вперед, дальше по заболоченным пространствам. Дорога была ровной, что облегчало путь, но она очень уж петляла, и это удлиняло его. Однако не было никакой возможности его сократить, сойдя с тракта, чтобы двигаться к цели напрямую, – через трясины, заросли и пруды не пройти.
Через двое суток, первого августа в полдень, проскакав сто двадцать верст, Михаил Строгов прибыл в поселок Спасское, а к двум добрался до Покровского, где пришлось остановиться. Его лошадь, в последний раз отдыхавшая в Чулыме, была измотана и не способна сделать больше ни шагу. Здесь ради этой вынужденной передышки Строгов провел остаток дня и всю следующую ночь, но, отправившись в путь наутро, по-прежнему вскачь по полузатопленной равнине, к четырем часам дня второго августа он одолел семьдесят пять верст и достиг Камска.
Местность изменилась. Этот Камск – маленький город, похожий на островок, обжитой, чистый и здоровый посреди непригодного кжизни края. Он находится в самом сердце Барабинских болот. Почва здесь осушена посредством каналов, отводящих излишек влаги в Томь, русло этой реки, притока Иртыша, проходит через Камск, благодаря чему зловонное болото здесь превращено в богатейшее пастбище. Но все эти усовершенствования пока не обеспечили полной победы над лихорадкой, которая осенней порой делает пребывание в этом городе небезопасным. Тем не менее окрестные обитатели именно здесь ищут убежища от малярийных миазмов, когда весь край оказывается в их полной власти.
Несмотря на нашествие ханского воинства, Камск еще не опустел, жители городка не спешили разбегаться. Вероятно, они считали себя защищенными здесь, в самом центре Барабинских болот, или, по крайней мере, думали, что успеют убежать, если окажутся под непосредственной угрозой.
Как бы Михаилу Строгову ни хотелось узнать какие-либо свежие новости, здесь на это надежды не было. Скорее уж к нему обратилось бы с вопросами городское начальство, если бы проведало, кем на самом деле является мнимый иркутский торговец. Ведь Камск по самому своему расположению, казалось, поистине находился вне общей сибирской жизни и постигших ее тяжких испытаний.
Впрочем, Михаил никому, или почти никому, не показывался на глаза. Оставаться неузнанным для него теперь уже было мало, он хотел стать невидимым. Прошлый опыт сделал его предельно осторожным, заставляя чем дальше, тем больше опасаться как за настоящее, так и за будущее. Поэтому царский посланец держался особняком и, отнюдь не склонный бродить по улицам городка, не желал даже носа высовывать с постоялого двора, где он остановился.
В Камске Строгов мог бы найти экипаж, а следовательно, и более удобный способ путешествовать, возможность отказаться, наконец, от скачки верхом, ведь он уже проехал так от самого Омска. Но по зрелом размышлении он побоялся, что покупка тарантаса привлечет к нему внимание. Он ведь не пересек линии, ныне разделившей Сибирь на свободную территорию и земли, оккупированные ханами. Эта линия проходила примерно по долине Иртыша, и пока он здесь, было бы рискованно давать повод для подозрений.
К тому же, чтобы завершить трудный переходчерез Барабинские болота, удирая от всадников, посланных за ним в погоню, в случае прямой угрозы желательно, если потребуется, иметь возможность юркнуть в густые заросли камыша, а для этого лошадь, несомненно, лучше экипажа. Оставив позади Томск или даже Красноярск, оказавшись в каком-нибудь значительном центре западной Сибири, Михаил сможет подумать, что ему больше подойдет, но это будет позже, пока пусть все остается как было.
Что до коня, у Михаила и в мыслях не было сменить его на другого. Они с этим храбрым животным были созданы друг для друга. Михаил знал, сколько можно из него выжать. Большая удача, что он в Омске купил этого коня: тот добрый мужик, что привел его тогда к станционному смотрителю, оказал ему неоценимую услугу. К тому же если Михаил уже привязался к своему коню, то и последний, похоже, мало-помалу приноровился к тяготам этого путешествия. При условии, что ему предоставят несколько часов роздыху, всадник мог надеяться, что этот скакун вынесет его за пределы захваченной неприятелем территории.
Итак, тот вечер и ночь со второго августа на третье Михаил Строгов провел на мало посещаемом, укрытом от назойливых любопытных взглядов постоялом дворе у въезда в город.
Позаботившись, чтобы его конь получил все, в чем нуждался, Михаил лег, разбитый усталостью, но сон его был неспокоен, он то и дело просыпался. Слишком много воспоминаний и тревог одновременно осаждали его. Образы старухи-матери и юной отчаянной спутницы, которых он оставил позади, беззащитных, поочередно являлись ему, подчас смешиваясь, сливаясь в единую мучительную заботу.
Потом его мысли возвращались к поручению, которое он поклялся исполнить. То, что он повидал со времени своего отъезда из Москвы, представлялось ему все более серьезным. Нашествие вместе с волнениями местных племен приобрело чрезвычайно угрожающий размах, а участие во всем этом Ивана Огарова делало ситуацию еще более опасной. При взгляде на конверт с императорской печатью – письмо, несомненно, содержавшее в себе секрет исцеления от стольких невзгод, спасения всего этого истерзанного войной края, – Михаил Строгов ощущал нечто подобное яростному желанию промчаться над этой степью на крыльях орла, только бы скорее достигнуть Иркутска, обернуться ураганом, сметающим на своем пути все препятствия, чтобы со скоростью сто верст в час пронестись по воздуху и наконец предстать перед великим князем со словами: «Ваше высочество, вот послание от его величества государя!»
На следующее утро, в шесть часов, Строгов отправился в путь с намерением проскакать за этот день восемьдесят верст (85 километров), отделяющих Камск от поселка под названием Убинск. В радиусе двадцати верст от города он снова оказался среди Барабинских болот, здесь их больше никто не осушал, и почва, проминаясь под лошадиным копытом, часто сочилась влагой. Дорога на этом участке была трудно различима, но благодаря своей предельной осторожности Строгов ехал без каких-либо неприятных сюрпризов.
Добравшись до Убинска, он позволил своей лошади отдыхать всю ночь, так как назавтра хотел без передышки проскакать сотню верст от Убинска до Икульского. Итак, он выехал на рассвете, но на его беду почва Барабинских болот становилась чем дальше, тем отвратительней.
Дело в том, что между Убинском и Комаковым с месяц назад прошли на редкость обильные проливные дожди, вода застоялась в здешней узкой низинке, и образовалась непроходимая впадина. Бесконечная череда топей, огромных луж и озер более не прерывалась. Одно из этих озер, достаточно значительное, чтобы быть отмеченным на географических картах под китайским названием Чанг, пришлось обогнуть, сделав крюк на двадцать с гаком верст по крайне тяжелой дороге. Отсюда задержки, с которыми Михаил Строгов при всем своем нетерпении ничего не мог поделать. Впрочем, он зато порадовался, как правильно рассудил, не взяв в Камске экипажа: лошадь могла пройти там, где не проедет никакая повозка.
В девять часов вечера Строгов прибыл в Икульское, где остановился на всю ночь. До этого селения, затерянного среди Барабинского болота, вести о войне абсолютно не доходили. Эта часть провинции, волей самой природы расположенная на развилке между двумя путями, по которым ханские колонны двигались одна к Омску, другая к Томску, до сих пор была избавлена от ужасов нашествия.
Однако естественные дорожные трудности теперь должны были стать полегче, ведь, если не будет непредвиденных задержек, с завтрашнего дня Строгов выберется из Барабинских болот. Тогда он вновь окажется на проезжей дороге, ему бы только одолеть еще сто двадцать пять верст (133 километра) до Колывани.
Прибыв в этот крупный город, он окажется ровно на таком же расстоянии от Томска. Тогда можно будет навести справки, обдумать ситуацию, после чего он, весьма возможно, решит объехать стороной этот город, который, если молва не лжет, находится в руках Феофар-хана.
Но если поселки, вроде, к примеру, Икульского или Каргинска, через которые он проезжал на следующий день, оставались относительно спокойными благодаря своему расположению среди Барабинских болот, где ханским войскам было бы трудновато развернуть наступление, разве не следовало опасаться, что на более плодородных и благополучных берегах Оби Строгову хоть больше и не грозят физические препоны, зато поджидают угрозы, исходящие от людей? Ведь именно этого следовало ожидать. Как бы то ни было, если потребуется, он без колебаний свернет с Иркутского тракта. Тогда, продолжая путь по степи, он, разумеется, рискует остаться без всякой поддержки. В самом деле, там же больше не будет ни торных дорог, ни городов, ни селений. В крайнем случае могут встретиться на пути одинокие фермы или просто хижины бедняков, наверняка гостеприимных, но едва сводящих концы с концами, у них припасами не разживешься. И все-таки Строгов спешил вперед, не зная сомнений.
Наконец, около половины четвертого, миновав станцию Каргатск, Строгов оставил позади последние Барабинские низины, и под копытами его коня снова зазвенела сухая, твердая земля Сибири.
Он выехал из Москвы пятнадцатого июля. Стало быть, если включить в расчеты семьдесят с гаком часов, проведенных в хижине на берегу Иртыша, сегодня, пятого августа, истекал двадцать один день с момента его отправления.
До Иркутска ему еще предстояло проехать одну тысячу пятьсот верст.
Глава XVI. Последнее усилие
Не напрасно Михаил Строгов боялся какой-нибудь дурной встречи на этих равнинах, простирающихся за пределами Барабинской низменности. Одного взгляда на поля, истоптанные лошадиными копытами, хватало понять, что ханские полчища прошли здесь, и что это варвары, о которых можно сказать, как и о турках: «Там, где прошел турок, трава никогда не вырастет!»
Стало быть, пересекать эту местность Михаилу Строгову приходилось не иначе, как с бесконечными предосторожностями. Клубы дыма над горизонтом возвещали о том, что поселки и хижины еще горят. Их запалили авангардные части или вся армия ханов уже достигла последних рубежей провинции? Находится ли Феофар-хан собственной персоной уже в Енисейской губернии? Этого Михаил Строгов не знал и не мог ни на что решиться, пока ничего не выяснит на этот счет. Неужели край настолько опустошен, что он не найдет ни одного сибиряка, которого можно было бы расспросить?
Михаил проскакал две версты по абсолютно безлюдной дороге. Он озирался, высматривал то справа, то слева какой-нибудь дом, не покинутый жителями. Однако все дома, в которые он заходил, были пусты.
Вдруг между деревьями он приметил догорающую хижину, над которой еще курился дымок. Приблизившись, он увидел в нескольких шагах от гибнущего дома старика, окруженного плачущими детьми. Женщина, еще молодая, наверное, его дочь и мать этих малышей, стоя на коленях, безумными глазами смотрела на эту картину опустошения. Она кормила грудью младенца, ему всего несколько месяцев, а у нее скоро не станет молока… Вокруг этой семьи все было разрушено, этих людей обрекли на полную нищету.
Михаил Строгов подошел к старику, спросил напрямик:
– Ты сможешь ответить на мои вопросы?
– Говори, – обронил старик.
– Татары прошли здесь?
– Да, и поэтому мой дом в огне!
– Это был отряд или армия?
– Армия. Посмотри на наши поля: сколько хватает глаз, все опустошено!
– Войском командует эмир?
– Он самый, потому и вода в Оби стала красной!
– И Феофар-хан вошел в Томск?
– Да.
– А не знаешь, Колывань тоже захвачена?
– Нет, ведь она еще не горит!
– Спасибо, друг. Могу я сделать что-нибудь для тебя и твоих?
– Ничего.
– До свидания.
– Прощай.
И Михаил Строгов, положив двадцать пять рублей на колени несчастной женщине, у которой не нашлось сил даже поблагодарить его, тронул своего коня, и тот возобновил свой так ненадолго прерванный бег.
Теперь Строгову было ясно одно: он во что бы то ни стало должен объехать Томск стороной. Следует спешить в Колывань, где захватчиков пока еще нет: он туда доберется, это возможно. Но следовало подкрепиться перед долгой дорогой. А потом свернуть с иркутского тракта, переправиться через Обь, затем обогнуть Томск – иного решения быть не могло.
Определив таким образом свой новый маршрут, Михаил не должен был больше ни одной минуты тратить на сомнения. Он и не колебался: пустил своего коня быстрым равномерным аллюром по дороге, ведущей прямиком на левый берег Оби, до которой еще сорок верст. Найдет ли он паром, чтобы переправиться, или захватчики разрушили все речные суда и ему придется добираться до другого берега вплавь? Там видно будет.
Что касается его коня, к тому времени вконец изнуренного, Михаил Строгов спрашивал себя, останутся ли у него хоть какие-то силы после такого пути. Придется подыскать ему замену в Кдлывани. Он чувствовал, что ему скоро будет не хватать этого бедного животного. Итак, Колывань должна стать началом нового этапа его путешествия, ведь оттуда оно продолжится в иныхусловиях. Когда опустошенный край останется позади, его будут ждать еще большие трудности, но если успешно миновать Томск, он сможет опять выехать на иркутский тракт и продолжить путь по Енисейской провинции, еще не разоренной нашествием. Так он должен добраться до цели за несколько дней.
После довольно жаркого дня наступила ночь. К полуночи глубокая темнота накрыла степь. На закате ветер стих, и кругом воцарился нерушимый покой. Лишь топот конских копыт раздавался на пустынной дороге да порой голос всадника, что подбадривал его. В столь густых потемках требовалось все время быть начеку, чтобы не сбиться с дороги, по сторонам которой часто встречались пруды и ручейки, впадающие в Обь.
Итак, Строгов ехал как можно быстрее, однако соблюдал определенную осторожность. При этом он полагался не только на зоркость своих глаз, умевших видеть в темноте, но и на ум своего коня, поскольку знал, что тот вправду очень разумен.
И вот в момент, когда Строгов, соскочив на землю, старался поточнее рассмотреть, в каком направлении идет дорога, ему вдруг почудилось, что с запада доносится невнятный гул. Это походило на дальний стук копыт по сухой твердой земле. Да, сомнения больше не было. Позади, за одну-две версты отсюда конские копыта отбивали на дороге четкий ритм.
Михаил приложил ухо к земле на самой середине дороги и вслушался как можно внимательнее.
«Это отряд кавалерии из Омска, – подумал он. – Скачут быстро, топот все громче. Русские? Или люди хана?»
Он послушал еще.
«Да, – сказал себе, – всадники скачут крупной рысью! Не пройдет и десяти минут, как они будут здесь! Моему коню их не обогнать. Если это русские, присоединюсь к ним. А если враги, надо от них ускользнуть! Но как? Где спрячешься в этой степи?»
Оглядевшись вокруг, Михаил, наделенный исключительно острым зрением, различил впереди, в сотне шагов слева от дороги смутно проступающую в ночи темную массу.
«Это какие-то заросли, – подумал он. – Спрятаться в них, может, и рискованно, если всадники вздумают там пошарить, меня схватят. Но выбора нет! Вот они! Они уже здесь!»
Не прошло и минуты, как Строгов, ведя своего коня за уздечку, вступил в маленький лиственничный лесок, примыкающий к дороге. По обеим ее сторонам других деревьев не было, она проходила между прудами и оврагами, по краям которых рос карликовый кустарник – зарослиутесника и вереска. Таким образом, проехать там было абсолютно невозможно, отряд волей-неволей должен был проскакать мимо этого леска, раз он держал путь к Иркутску.
Михаил Строгов метнулся было в глубь леса, прячась за лиственницами, но успел сделать всего каких-нибудь сорок шагов и наткнулся на ручей, который замыкал эту чащу, образуя полукружную преграду.
Однако темень была такой густой, что Михаил мог не опасаться, что его заметят, по крайней мере, если этот лесок не станут тщательно обшаривать. Поэтому он отвел своего коня к самому берегу ручья и привязал к дереву, а сам вернулся на опушку и, прильнув к земле, стал вслушиваться, пытаясь распознать, с кем имеет дело.
Едва онуспел залечь под лиственницами, как увидел довольно странный свет, от которого отделились и замелькали тут и там среди темноты какие-то сверкающие точки.
«Факелы!» – понял он.
И отпрянул стремительно, какдикарь, нырнул туда, где заросли были гуще.
Шаг лошадей замедлялся по мере приближения к лесу. Выходит, эти всадники освещали дорогу, желая осмотреть ее малейшие повороты?
Михаилу Строгову следовало опасаться этого, и он инстинктивно отступил еще дальше, вплотную к речке, готовый прыгнуть в нее, если потребуется.
Поравнявшись с зарослями, отряд остановился. Всадники сошли с коней. Их было с полсотни. Человекдесять с факелами, их свет довольно широкой полосой озарял дорогу и ее обочины.
По некоторым признакам Михаил сообразил, что ему неожиданно повезло: они и не думали обыскивать заросли, просто выбрали это место для бивуака, чтобы дать отдых лошадям, а людям – возможность перекусить.
Действительно, лошадей разнуздали, они принялись щипать травку, которая покрывала землю густым ковром. Всадники же разлеглись на обочине дороги, стали делить между собой провизию, извлекая ее из своих вещевых мешков.
Сохраняя все присущее ему хладнокровие, Михаил Строгов подполз поближе, прячась в высокой траве. Он хотел посмотреть, что там происходит, а потом и послушать.
Это был отряд, прибывший из Омска. Он состоял из всадников-узбеков, народности, составлявшей большинство в ханских войсках. По типу внешности они приближаются к монголам. Это хорошо сложенные люди выше среднего роста, но черты их лиц грубы и дики, на головаху них «талпаки», это нечто вроде черных папах из овчины, они носят желтые сапоги на высоких каблуках, остроносые, наподобие средневековых башмаков. Их кафтаны из некрашеного хлопка, подбитые ватой, были туго перепоясаны кожаными поясами, обшитыми красным сутажом. Для самозащиты им служили щиты, а для нападения – кривые сабли, длинные тесаки и ружья, притороченные к седлу. На плечаху них были фетровые накидки ярких тонов.
Лошади узбекской породы, которые вольно паслись на лесной опушке, происходили из тех же краев, что и всадники. При свете факелов, ярко горевших под сенью лиственниц, их было ясно видно. Эти животные, ростом немного меньше тех, что особо ценятся на востоке, обладали, однако, недюжинной силой: выносливые скакуны, они не ведали иного аллюра, кроме галопа.
Этот отряд возглавлял пенджа-баши (так зовется командир, которому подчиняются пятьдесят человек), под его началом находились дег-баши, командиры каждой десятки. Двоих из всех офицеров отличало то, что они носили каски и полукольчугу; маленькие трубы, притороченные к их седлам, служили отличительным знаком их ранга.
Пенджа-баши должен был дать отдых своим людям, утомленным долгой скачкой. Он болтал со вторым офицером, причем оба курили самокрутки из листьев конопли, на основе которой производят наркотик, широко употреблявшийся у азиатов, и бродили взад-вперед по лесу, так что Михаил Строгов, оставаясь незамеченным, мог слышать их разговор и понимал его, поскольку знал это азиатское наречие.
Первые же услышанные им слова до крайности насторожили Строгова. И немудрено, ведь речь шла о нем.
– Этот курьер не мог настолько опередить нас, – сказал пенджабаши, – а с другой стороны, никак невозможно, чтобы он проехал подругой дороге, не через Барабинские болота.
– Кто знает, не остался ли он в Омске? – отвечал дег-баши. – Может, все еще прячется где-нибудь в городе?
– Вот это бы и вправду было желательно! Тогда и полковнику Огарову нечего бояться, что депеши, которые, видимо, везет этот курьер, дойдут по назначению!
– Говорят, он из местных, сибиряк, – продолжал дег-баши. – Если ему эти края хорошо знакомы, он мог и свернуть с иркутского тракта на время, чтобы потом снова туда выехать!
– Но тогда мы его опередим, – отозвался пенджа-баши, – ведь из Омска мы выехали меньше чем за час после него, скачем во весь дух по самой короткой дороге, а кони у нас быстрые. Стало быть, или он застрял в Омске, или доберется до Томска после нас, тогда мы перекроем ему дорогу. Так или иначе, Иркутска ему не видать.
– А та сибирячка – крепкая старуха! Явно, она его мамаша, – напомнил дег-баши.
При этих словах сердце у Строгова заколотилось так, будто вот-вот разорвется.
– Да, – отозвался пенджа-баши, – она уперлась, твердит, что этот якобы купец не ее сын. Да только Огарова не проведешь, полковник говорит, мол, когда время придет, он сумеет заставить старую ведьму заговорить.
Сколько слов, а для Михаила каждое – как удар кинжала! Итак, его инкогнито разоблачено, врагам известно, что он посланец царя! Отряд кавалерии, посланный за ним в погоню, не преминет преградить ему дорогу! И – вот она, самая страшная мука! – мать в руках захватчиков; этот зверь Огаров хвастается, что развяжет ей язык, когда пожелает!
Михаил Строгов прекрасно знал, что отважная сибирячка не проговорится, но она заплатит за это жизнью!..
Казалось, он не мог бы ненавидеть Ивана Огарова больше, чем ненавидел до этой минуты, и все же волна новой ярости захлестнула все его существо. Негодяй, предавший свою страну, теперь угрожал пыткой его матери!
Офицеры между тем продолжали разговор, и, насколько мог расслышать Михаил, речь шла о том, что в окрестностях Колывани неминуемо произойдет столкновение между русскими частями, идущими с севера, и ханским войском. Маленький двухтысячный корпус русских, замеченный в нижнем течении Оби, форсированным маршем движется к Томску. Если сведения верны, этот корпус будет неминуемо уничтожен превосходящими силами Феофар-хана, и тогда весь иркутский тракт окажется во власти захватчиков.
Из слов пенджа-баши Михаил Строгов также узнал, что за его голову назначена цена, велено взять его живым или мертвым.
Итак, было необходимо сейчас же обогнать узбекских всадников, прежде них вырваться на дорогу к Иркутску, переправиться через Обь, чтобы река стала преградой между ним и преследователями. Но для этого бежать следовало раньше, чем они свернут свой бивуак. Приняв это решение, Михаил Строгов тотчас приготовился его исполнить.
В самом деле, не мог же их привал продолжаться долго, пенджа-баши не собирался давать своим людям передышку более чем на час, хотя они тоже с самого Омска не меняли своих коней на свежих, лошади у них должны были устать не меньше, чем у Строгова, и по той же причине.
Итак, ему нельзя терять ни минуты. Уже час ночи, надо воспользоваться темнотой, которую скоро прогонит заря, и выбраться из этого леска на дорогу. Но хотя ночь благоприятствовала такому замыслу, успех бегства казался крайне маловероятным. Ни в чем не желая полагаться на авось, Михаил дал себе несколько минут на размышление, взвесил все за и против, чтобы не промахнуться в столь важной игре.
Из расположения места действия следовало, что ему не удастся прокрасться позади зарослей замкнутых полукругом лиственниц, по отношению к которому дорога была прочерчена, как стягивавшая дугу хорда. Речка, ограничивающая этот полукруг, была не только глубокой, но довольно широкой и очень грязной. Высокий густой утесник делал подход к ней абсолютно невозможным. К тому же чувствовалось, что дно под этой мутной водой вязкое, там не найдешь твердой опоры. Да и по ту сторону речки заросший кустарником берег куда как мало годился для маневров, каких требует поспешное бегство. Строгов не успеет еще и шагу ступить, как подвергнется беспощадному преследованию, его в два счета окружат и он окажется в руках неприятельских всадников.
Оставался лишь один возможный путь – по большой дороге. Надо попробовать выбраться на нее, обогнуть лесную опушку, не привлекая внимания, оторваться от погони хоть на четверть версты, прежде чем заметят, выжать из своего коня все, на что он способен, даже если вследствие такой траты сил и энергии животное рухнет замертво, достигнуть берега Оби, а там уж пересечь эту широкую реку хоть на пароме, хоть вплавь, если другого способа не найдется, – вот какая попытка предстояла Михаилу Строгову.
Перед лицом опасности его силы и мужество возросли. На карту были поставлены его жизнь, его миссия, честь отечества, а возможно, и спасение его матери. Места колебаниям не оставалось, и он принялся за дело.
Теперь нельзя было терять ни мгновения. Среди отдыхающих кавалеристов уже начиналось движение. Кое-кто уже прохаживался по лесной опушке у самой дорожной насыпи. Другие еще лежали поддеревьями, но их лошади уже мало-помалу сбивались в кучу, сходились к центру леска.
Поначалу у Михаила Строгова мелькнула мысль, не позаимствовать ли одну из этих лошадей, но он здраво рассудил, что они наверняка также измотаны, как его собственная. А значит, лучше довериться животному, в котором не сомневаешься, столько раз сослужившему тебе добрую службу. Этого славного коня, спрятанного за высокими кустами вереска, узбеки так и не заметили. Впрочем, они и не заходили в самую глубь леса.
Строгов прополз среди травы к своему лежавшему на земле скакуну. Потрепал его по холке, тихо произнес несколько слов и сумел сделать так, чтобы конь встал бесшумно.
К этому времени произошло поистине благоприятное стечение обстоятельств: факелы, догорев дотла, погасли, а темнота все еще была достаточно непроглядной, по крайней мере, там, под сенью лиственниц.
Снова взнуздав коня, укрепив подпругу седла, проверив крепления стремян, он тихонько потянул за повод. Впрочем, умное животное, казалось, смекнуло, что от него требуется, и послушно следовало за хозяином, не издав даже самого тихого ржания.
Тем не менее, несколькоузбекскихлошадей подняли головы и стали мало-помалу продвигаться к опушке. В правой руке Михаил Строгов сжимал револьвер, готовый размозжить голову первому же вражескому всаднику, если тот приблизится. Но, к счастью, сигнал побудки еще не прозвучал, и Строгову удалось пробраться в ту часть леса, где он справа образовал угол, достигающий дороги.
Чтобы проскользнуть незамеченным, Михаил рассчитывал как можно дольше не садиться в седло, сделать это лишь за поворотом дороги, до которого оставалось две сотни шагов. Но когда он поравнялся с опушкой, лошадь одного из узбеков на беду учуяла их, заржала и потрусила к дороге.
Хозяин бросился следом, чтобы удержать ее, но заметил чужой силуэт, смутно проступивший при первых проблесках рассвета, и крикнул:
– Тревога!
Услышав его, все, кто был на бивуаке, разом повскакивали и ринулись к дороге.
Михаилу Строгову ничего не оставалось, как только пришпорить своего коня, пустив его в галоп.
Оба офицера, командующие отрядом, вырвались вперед, побуждая своих людей властными выкриками, но Строгов был уже в седле.
В это мгновение грянул выстрел, и он почувствовал, что пуля пробила его плащ. Не поворачивая головы, не отвечая, вонзил шпоры в бока лошади, одним прыжком вымахнул на опушку и, нахлестывая коня, помчался в сторону Оби.
Лошади узбеков были расседланы, стало быть, он сможет немного опередить всадников, но отряд не замедлит устремиться в погоню! Так и есть: двух минут не прошло с того момента, как он выехал из леска, а позади уже раздавался топот нескольких лошадей, и он мало-помалу нарастал.
Начинало светать, теперь взгляд уже мог различать не только самые близкие предметы.
Оглянувшись, Строгов увидел всадника, который быстро приближался. Это былдег-баши. Офицер великолепно держался в седле и, опережая отряд, грозил вот-вот настигнуть беглеца.
Не останавливаясь, Михаил направил на него свой револьвер, не дрогнувшей рукой прицелился и спустил курок. Пораженный в грудь, узбек рухнул наземь.
Однако другие всадники следовали за ним вплотную и, не задерживаясь возле упавшего офицера, продолжали пришпоривать коней, подбадривая себя криками. Расстояние, отделявшее их от Михаила Строгова, мало-помалу сокращалось.
Тем не менее последнему в течение получаса удавалось оставаться вне пределов досягаемости их оружия. Но он чувствовал, что его конь слабеет, ежесекундно ждал, что измученное животное упадет, наткнувшись на какое-нибудь препятствие, и больше не встанет.
Стало уже довольно светло, хотя солнце еще не показалось над горизонтом. Не более чем в двух верстах равнину пересекала бледная полоса, обрамленная несколькими довольно редко растущими деревьями. Это была Обь, река, текущая с юго-запада на северо-восток, ее поверхность почти на одном уровне со степью, так что, можно сказать, сама степь и является ее долиной.
Несколько раз в Михаила стреляли, но ни одна пуля его не зацепила. И также несколько раз ему приходилось пускать в ход свой револьвер, если кто-то из всадников оказывался слишком близко. Тогда очередной узбек валился на землю, а его товарищи разражались яростными криками.
Однако это преследование не могло закончиться иначе, чем бедой для Строгова. Его конь терял последние силы, тем не менее емуудалось дотянуть до самого берега реки, все еще выигрывая эту скачку.
К этому моменту узбекский отряд был всего в полусотне шагов от беглеца.
На Оби, абсолютно пустынной, нигде не было ни парома, ни судна – переправиться не на чем.
– Смелей, дружище! – крикнул Михаил коню. – Ну же! Последнее усилие!
И он бросился в реку, а она в этом месте шириной с полверсты.
Одолеть течение, очень сильное, было чрезвычайно трудно. Ноги его лошади не доставали до дна, так что эту воду, стремительную, как горный поток, надо было пересечь без опоры, вплавь. Рискнуть на такую попытку – это со стороны Михаила Строгова было чудом отваги.
Всадники остались на берегу, не решаясь броситься в реку.
Но в этот момент пенджа-баши схватил ружье и старательно прицелился в беглеца, который уже достиг стремнины. Грянул выстрел, и конь Строгова, сраженный в бок, канул на дно под своим хозяином.
Тот быстро освободился от стремян, как только скакун исчез с поверхности реки. И поплыл наудачу под градом пуль. Ему удалось достигнуть правого берега, заросшего тростником, и он укрылся в этих зарослях.
Глава XVII. Стихи и песни
Итак, Строгов был в сравнительной безопасности. Но, как бы то ни было, положение все еще оставалось ужасным. Теперь, когда благородное животное, так верно служившее ему, нашло свою смерть в водах реки, как он сможет продолжать свой путь? Он остался на своих двоих, без еды, в стране, разоренной завоевателями, преследуемый разведчиками эмира, а до цели все еще довольно далеко.
– Клянусь небесами, я дойду! – воскликнул он вслух, отвечая на все доводы, подсказываемые упадком духа, на миг постигшим его. – Господь хранит святую Русь!
Михаил Строгов был сейчас вне досягаемости узбекских кавалеристов. Они не рискнули вслед за ним переплыть реку, к тому же они наверняка считают, что он утонул, ведь он у них на глазах исчез под водой, а когда он выбирался на правый берег Оби, они уже не могли его видеть.
Пробираясь среди гигантских береговых камышей, Михаил сумел выбраться на всхолмленную часть берега. Впрочем, это удалось ему не без труда, поскольку наносы густой тины, возникшие здесь в пору разлива реки, превратили берег в трясину, почти непролазную.
Ступив наконец на твердую почву, Михаил Строгов сосредоточился на том, что ему надлежало сделать. Прежде всего он хотел обогнуть Томск, занятый войсками ханов. Тем не менее ему надо было добраться до какого-нибудь селения или почтовой станции, где можно раздобыть лошадь. Как только она у него будет, он свернет с горной дороги, не станет выезжать на иркутский тракт раньше, чем в окрестностях Красноярска. Если поспешить, он надеялся найти там еще свободную дорогу, по которой сможет направиться на юго-восток, в сторону озера Байкал.
Для начала Строгов должен был определить, где он находится.
В двух верстах впереди, если идти по течению Оби, виднелся маленький, живописный город, ступенями поднимающийся по пологому склону невысокого холма. Несколько церквей с куполами в византийском стиле, зелеными и золотыми, вырисовывались на сером фоне пасмурного неба.
Это была Колывань, где находили приют сановники и служилые люди из Камска и других городов, на лето бегущие сюда от нездорового климата Барабинских болот. Если верить новостям, которые смог узнать царский посланец, этот город пока еще не в руках захватчиков. Ханские войска, разделенные на две колонны, двинулись влево на Омск и вправо на Томск, пренебрегая местностью, что оказалась посередине.
У Михаила Строгова сложился план, простой и логичный: добраться до Колывани прежде узбекских всадников, которые пока что двигались по левому берегу Оби. Там, даже если придется заплатить десятикратную цену, он купит одежду, лошадь, выедет на иркутский тракт и поскачет по южной степи.
Было три часа ночи. Окрестности Колывани, безмятежно спокойные, казались абсолютно безлюдными, покинутыми. Вероятно, жители сельской местности, боясь нашествия, противостоять которому не могли, бежали на север, ближе к Енисейску.
И вот Строгов решительно зашагал в сторону Колывани, как вдруг вдали послышались ружейные выстрелы.
Он остановился и ясно различил раскатистый гул, сотрясающий воздушные пласты, и на его фоне короткий сухой треск, природа которого угадывалась безошибочно.
«Пушка! – сказал он себе. – И ружейная пальба! Значит, тот маленький русский корпус нарвался-таки на шахскую армию! Ах! Господи, сделай так, чтобы я добрался до Колывани раньше их!»
Строговне ошибся. Вскоре стрельба мало-помалу стала отчетливей, и позади, слева от Колывани, над горизонтом показались большие беловатые клубы, но не обычного дыма, а того, что сопровождает залпы артиллерии.
Узбекские всадники на левом берегу Оби остановились и ждали, чем кончится бой.
С их стороны Михаилу Строгову было нечего опасаться. Он еще быстрее зашагал к городу.
Тем временем пальба усилилась и заметно приближалась. Это был уже не смутный дальний гул, а отчетливая череда пушечных залпов. В то же время дым, подхваченный ветром, поднимался к небу, и стало даже очевидно, что сражающиеся быстро продвигаются к югу. По-видимому, Колывань подвергнется нападению с севера. Но защищают ее русские или пытаются отвоевать у солдат Феофар-хана? Оттого, что выяснить это не представлялось возможным, Строгова охватила растерянность.
До Колывани оставалось уже полверсты, не больше, когда длинная огненная струя сверкнула среди городскихдомов, и церковная колокольня рухнула вниз в вихре огня и пыли.
Стало быть, теперь бой шел уже в самой Колывани? Михаил должен был прийти к этому выводу, но если так, очевидно, ханские войска сражаются с русскими на улицах города. Подходит ли такой момент для того, чтобы искать там приюта? Нет ли риска, что Строгова там схватят, удастся ли ему улизнуть из Колывани, как раньше из Омска?
Он мысленно перебирал все эти возможности. Заколебавшись, даже приостановился. Не лучше ли дойти, пусть и на своих двоих, до какого-нибудь поселка вроде, к примеру, Дьячинска, и там за любую цену раздобыть лошадь?
Подумав, что это единственное решение, которое сейчас разумно принять, Михаил тотчас свернул в сторону от реки и направился уже не прямо к Колывани, а так, чтобы обойти город справа.
Стрельба к этому времени уже стала до крайности ожесточенной. Вскоре у противоположной, левой части города, вспыхнуло пламя. Весь тот квартал Колывани был охвачен пожаром.
Михаил стремительно шел, почти бежал по степи, стараясь найти укрытие под какими-нибудь деревьями, благо они встречались то здесь, то там. И тут справа появился отряд всадников. Стало очевидно, что продолжать бежать в этом направлении невозможно. Всадники во весь опор неслись к городу, и у него почти не было надежды избежать встречи с ними. Но вдруг на глаза ему попалась рощица – несколько тесно растущихдеревьев и под ними одинокий дом, до которого он мог добежать прежде, чем его заметят.
Добежать, спрятаться там, попросить, а если надо, то и без спросу взять какой-нибудь еды для подкрепления сил, ведь он изнурен усталостью и голодом! У Михаила не было другого выхода. Он кинулся к этому дому, до него было с полверсты, вряд ли больше. Приблизившись, он понял, что перед ним телеграфная контора. Оттуда тянулись три провода, один на запад, другой на восток, третий к Кдлывани.
Учитывая положение вещей, контора, скорее всего, покинута, но в конце концов так или сяк, там все же можно было спрятаться и, если потребуется, дождаться ночи, чтобы впотьмах продолжить путь по степи, где шныряют ханские лазутчики.
Не медля ни секунды, Михаил Строгов подбежал к двери дома и с силой толкнул ее.
В зале, где происходят прием и отсылка телеграфных сообщений, находился всего один человек. Это был телеграфист, спокойный, флегматичный, равнодушный ко всему, что происходило вне этих стен. Верный своим служебным обязанностям, он сидел на положенном месте у окошечка, ожидая посетителей, которым могут потребоваться его услуги.
Михаил бросился к нему, срывающимся от усталости голосом насилу выговорил:
– Что происходит? Вам что-нибудь известно?
– Ничего, – телеграфист, улыбаясь, пожал плечами.
– Это русские с татарами там дерутся?
– Говорят, вроде так.
– Но кто берет верх?
– Понятия не имею.
Столько благодушия в такой кошмарной обстановке, эта невозмутимость, если не безразличие – трудно было поверить, что подобное возможно.
– А линия не оборвана? – спросил Михаил Строгов.
– Между Колыванью и Красноярском оборвана, но связь с европейской Россией еще работает.
– Правительственная?
– Если в ней возникает надобность, то да. И частная работает, если платят. Десять копеек за слово. Так что вам угодно, сударь?
Строгов собрался было объяснить чудаковатому телеграфисту, что никакой депеши он отправлять не собирается, ему бы кусок хлеба да глоток воды, но в этот момент дверь резко распахнулась.
Подумав, что сюда ворвались его преследователи, Михаил чуть в окно не сиганул, но вошли всего два человека, как нельзя более непохожие на ханских воинов.
Один из нихдержал в руке депешу, писаную карандашом. Обогнав своего спутника, он первым ринулся к окошечку бесстрастного телеграфиста.
В этих двоих Строгов с изумлением, которого трудно не понять, узнал тех, о ком давно не вспоминал, не думал когда-либо увидеть их снова. То были корреспонденты Гарри Блаунт и Альсид Жоливе, ныне уже не только попутчики, но и соперники, враги, ведь теперь каждый охотился за новостями на театре военных действий.
Они покинули Ишим всего через несколько часов после отъезда Михаила, ехали той же дорогой и если опередили его, то лишь потому, что он потерял трое суток, когда отлеживался в мужицкой избе на берегу Иртыша.
Теперь они стали свидетелями битвы русских с шахскими войсками на подступах к Кдлывани, а когда бой завязался уже и на улицах города, помчались в телеграфную контору, каждый хотел оспорить у другого первенство, раньше него отправить в Европу свою депешу, повествующую о последних событиях.
Строгов отступил в темный угол, откуда мог, оставаясь незамеченным, все видеть и слышать. Теперь-то он наверняка узнает столь важные для него новости и поймет, надо ли ему заходить в Кдлывань или нет.
Гарри Блаунт, как более собранный из двоих, захватил окошечко первым и протянул телеграфисту свою депешу, между тем как Альсид Жоливе, против своего обыкновения оставшись не удел, нетерпеливо топтался у него за спиной.
– Десять копеек за слово, – объявил телеграфист.
Гарри Блаунт выложил на столик пачку рублевых купюр, на которую его собрат покосился с некоторым удивлением.
– Хорошо, – сказал телеграфист.
И с величайшим, просто невиданным спокойствием начал передавать депешу следующего содержания:
«Лондон, «Дейли телеграф», из Кдлывани Омской губернии в Сибири, 6 августа. Стычка русских и ханских войск…»
Поскольку это читалось вслух, Михаил Строгов прослушал все, что английский корреспондент передавал своей газете.
«Русские части отступили с большими потерями, ханские войска в тот же день овладели Кдлыванью…» – этой фразой заканчивалась депеша.
– Теперь моя очередь! – воскликнул Альсид Жоливе, спеша отправить свою депешу, адресованную его кузине из Монмартрского предместья.
Но английскому газетчику это совсем не улыбалось, он не собирался уступать окошечко, предпочитая располагать им постоянно, чтобы передавать новости по мере их поступления. Поэтому он не сдвинулся с места.
– Но вы же закончили!
– Нет, не закончил, – просто отвечал Гарри Блаунт.
И он продолжал строчить слово за словом, передавая затем написанное телеграфисту, который спокойный голосом читал:
«В начале сотворил Бог небо и землю…»
Это были стихи из Библии, Гарри Блаунт передавал их по телеграфу, только бы выиграть время, не уступить место своему сопернику. Может быть, его газете это обойдется в несколько тысяч рублей, зато эта газета первой получит информацию о событиях. А Франция подождет!
Можно понять бешенство Альсида Жоливе, хотя при других обстоятельствах он признал бы это удачной военной хитростью. Но сейчас он даже попытался заставить телеграфиста принять его депешу раньше, чем писанину его собрата.
– Господин в своем праве, – спокойно осадил его телеграфист, указывая на Гарри Блаунта и одаряя его любезной улыбкой.
И продолжал исправно передавать «Дейли телеграф» первые стихи священной книги.
Пока он работал, Гарри Блаунт невозмутимо подошел к окну и, приставив к глазам бинокль, наблюдал за тем, что творилось в окрестностях Кдлывани, намереваясь дополнить свои сообщения.
Несколько мгновений спустя он снова занял свое место у окошка и добавил к своей телеграмме следующее:
«Две церкви охвачены огнем. Похоже, огонь распространяется вправо. Земля же безвидна и пуста, и тьма над бездною…»
Альсида Жоливе охватило простое и свирепое желание придушить достопочтенного корреспондента «Дейли телеграф».
Он снова воззвал к телеграфисту, но тот, по-прежнему бесстрастный, отвечал:
– Это его право, сударь, это его право… по десять копеек за слово.
И он отправил в Англию следующее известие, сообщенное Гарри Блаунтом:
«Русские жители бегут из города. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет…»
Альсид Жоливе буквально лопался от ярости.
Тем временем Гарри Блаунт вернулся к окну, но на сей раз замешкался, несомненно, потому, что был захвачен спектаклем, который разыгрывался перед его глазами, и наблюдал за ним чуть дольше. Поэтому, когда телеграфист закончил передавать третий библейский стих, Альсид Жоливе бесшумно метнулся к окошечку и также, как ранее его собрат, деликатно выложил на столик очень приличную пачку рублей, а телеграфисту вручил депешу, которую тот стал громким голосом читать:
«Мадлен Жоливе, 10, Монмартрское предместье, (Париж). Из Кдлывани, Омской губернии, Сибирь, 6 августа. Русские сражаются. Ожесточенная погоня ханской кавалерии…»
А когда Гарри Блаунт оглянулся, он услышал, как коллега дополняет свое сообщение, насмешливо напевая:
Находя неприличным смешивать священное и мирское, как дерзнул его собрат, Альсид Жоливе ответил на стихи из Библии игривым припевом Беранже.
– Гм! – обронил Гарри Блаунт.
– Вот так! – откликнулся Альсид Жоливе.
Тем временем положение в Кдлывани и вокруг становилось все тяжелее. Шум боя приближался, стрельба теперь гремела оглушительно.
Внезапно телеграфную контору сильно тряхнуло.
Бомба влетела в помещение, проломив стену и подняв тучу пыли.
Альсид Жоливе в этот момент строчил на листке следующие строки:
но тут, недописав, бросился к бомбе, схватил ее обеими руками, швырнул в окно прежде, чем та взорвалась, и тотчас прыгнул назад к окошку. Все это было для него делом одной секунды. Что до боевого припаса, он взорвался снаружи, секунд через пять.
Тем временем Альсид Жоливе как нельзя более хладнокровно начертал в своей телеграмме:
«Шестидюймовый снаряд пробил стену телеграфной конторы. Ждем других того же калибра…»
У Строгова больше не было сомнений: русских из Колывани вытеснили. Итак, ему не оставалось ничего иного, кроме как пуститься в путь по южной степи.
Но тут совсем близко от телеграфной конторы вспыхнула ожесточенная перестрелка, и оконные стекла вылетели под градом пуль.
Гарри Блаунтупал, раненный в плечо.
Альсид Жоливе в тот же миг принялся строчить дополнение к своей депеше: «Корреспондент «Дейли телеграф» Гарри Блаунт, находясь рядом со мной, пал, сраженный осколком стены…», но бесстрастный телеграфист со своим обычным безоблачным спокойствием сообщил ему:
– Сударь, линия оборвана.
Оставив свое окошко, он, как ни в чем не бывало, взял свою шляпу, смахнул с нее пыль и, не переставая улыбаться, вышел через маленькую заднюю дверь, которой Михаил Строгов не заметил.
Тут в контору ввалились ханские солдаты, и ни Михаилу, ни газетчикам не удалось унести ноги.
Альсид Жоливе со своей бесполезной депешей в руках бросился к распростертому на полу Гарри Блаунту и, повинуясь порыву своего храброго сердца, взвалил его себе на плечо, собираясь удирать с этой ношей… Но было поздно!
Оба иностранца попали в плен, и Михаил Строгов, внезапно настигнутый врагами в момент, когда хотел выпрыгнуть в окно, тоже попал в руки ханских солдат!
Часть вторая
Глава I. В лагере неприятеля
Если отправиться пешком от Кдлывани, прошагать весь день, достигнуть поселка Дьячинска, затем пройти еще несколько верст, впереди раскинется широкая равнина, среди которой то здесь, то там возвышаются большие деревья, в основном сосны и кедры.
Эту часть степи в теплое время года обычно занимают сибирские пастухи, здесь достаточно корма для их многочисленных стад. Но сейчас напрасно было бы искать там хотя бы одного из этих кочующих жителей. Вместе с тем равнина отнюдь не стала пустынной. Напротив, на ней царило необычайное оживление.
В самом деле, именно здесь захватчики поставили свои шатры: это сам Феофар-хан, свирепый бухарский эмир, раскинул свой лагерь, туда на следующий день, 7 августа, и доставили пленных, взятых в Кдлывани после истребления маленького русского корпуса. От этих двух тысяч, угодивших в клещи между двумя неприятельскими колоннами, пришедшими из Омска и Томска, осталось не более нескольких сотен солдат. Итак, дела обернулись худо, имперская власть по эту сторону Урала, похоже, была упразднена, по крайности временно, ведь русские не преминут рано или поздно вытеснить отсюда эти орды захватчиков. Но в итоге нашествие достигло центра Сибири и, поскольку край восстал, сможет распространяться хоть на западные провинции, хоть на восток. Иркутск уже напрочь отрезан от Европы, прервана всякая связь. Если войска сберегав Амура и с дальних концов Иркутской губернии не подоспеют вовремя, чтобы защитить эту столицу азиатской России, она, охраняемая недостаточной военной силой, попадет в руки врагов и прежде, чем ее отвоюют обратно, великий князь, брат императора, падет жертвой мстительности Ивана Огарова.
Что же случилось с Михаилом Строговым? Раздавлен ли он наконец тяжестью стольких испытаний? Признал ли себя побежденным? Ведь от самого Ишима неудачи непрестанно преследовали, снова и снова одолевали его. Считает ли он, что эта партия проиграна, его миссия сорвалась, выполнить поручение уже невозможно?
Но Михаил Строгав был из тех, кто не сдается, не отступает, пока смерть не остановит. А он был жив, даже не ранен, письмо императора по-прежнему оставалось при нем, и его инкогнито было в силе. Он рассчитывал затеряться в толпе пленных, которых захватчики, словно презренный скот, в огромном количестве гнали в Томск, а между тем, направляясь туда, он одновременно приближался и к Иркутску. И, наконец, он все еще опережал Ивана Огарова.
«Я прорвусь!» – твердил он про себя.
После того, что случилось в Кдлывани, все его силы сосредоточились на единственной мысли: вырваться на свободу! Но как ускользнуть от солдат эмира? Он ждал удобного момента, а там видно будет.
Лагерь Феофара являл собой впечатляющее зрелище. Множество шатров, кожаных, фетровых, шелковых, сверкали и переливались в лучах солнца. Высокие пышные султаны, венчавшие их конусообразные кровли, покачивались среди разноцветных вымпелов, флажков и штандартов. Самые богатые шатры принадлежали первым сановникам ханства. О высоком ранге этих военачальников свидетельствовал особый флаг, украшенный конским хвостом. Его древко разветвлялось на пучок затейливо оплетенных красных и белых палочек. Вся равнина до самого горизонта была испещрена тысячами этих азиатских шатров (такую юрту узбеки называли «караой»), привезенных сюда на спинах верблюдов.
Солдат в лагере насчитывалось тысяч сто пятьдесят, не меньше: здесь были и пехотинцы, и кавалеристы, объединяемые общим названием «аламаны». Среди них особенно выделялись представители основных народностей Туркестана, прежде всего таджики – белокожие, высокие, с правильными чертами лица, черноглазые и черноволосые, они составляли большую часть этой армии. Кокандское и Кундузское ханства набрали из них войско, почти равное бухарскому. Затем к таджикам подметались представители других народностей Туркестана, обитающих по соседству с ними. То были узбеки, низкорослые, рыжебородые, вроде тех, что устроили погоню за Михаилом Строговым. А еще киргизы с лицами плоскими, каку калмыков, в кольчугах: у одних были копья, у других лук и стрелы, произведенные в Азии, третьи вооружились саблями, ружьями с фитилем и «чаканом» – небольшим топориком на коротком топорище, наносящим по большей части смертельные раны. Были здесь и монголы, люди среднего роста с черными волосами, заплетенными в косу, падающую на спину. Монголы круглолицы, смуглы, с глубоко посаженными живыми глазами, борода у них растет редкая, на них синяя одежда из хлопчатобумажной чесучи, отделанная черным плюшем и перетянутая кожаным поясом с серебряной пряжкой, и сапоги с ярким сутажом, на них высокие шелковые шапки, обшитые мехом стремя лентами, развевающимися у них за спиной. И наконец, можно было увидеть там афганцев с коричневой кожей, арабов, народ примитивный, но принадлежащий к прекрасной семитской расе, и тюркоязычных кочевников с их раскосыми глазами, словно бы лишенными век, – всех эмир завербовал под свое знамя, знамя поджигателей и разбойников.
Помимо этих свободных солдат, здесь насчитывалось и некоторое число солдат-рабов, преимущественно персов, под командованием офицера того же происхождения, а в армии Феофар-хана воины рабского происхождения ценились никак не ниже свободных.
К этому перечню следовало добавить евреев, которых использовали здесь в качестве прислуги, – в одежде, подпоясанной веревкой, в небольшой шапочке из темного сукна на голове вместо тюрбана, ношение которого им запрещено. Заслуживают упоминания также «каландары»: это группа в несколько сот человек, что-то вроде благочестивых дервишей в изодранной одежде, поверх которой наброшена шкура леопарда. Если хватит фантазии, чтобы вообразить себе подобную гигантскую смесь различных народностей и племен, можно составить почти исчерпывающее представление о том, что подразумевалось под обобщающим наименованием воинства ханов.
С полсотни тысяч таких солдат имели лошадей, отличающихся таким же разнообразием, как их владельцы. Хвосты этих животных были завязаны узлом, а крупы покрыты шелковой сетчатой попоной, их связывали десятками посредством двух параллельно идущих веревок. Среди них выделялись лошади туркменской породы, тонконогие, с продолговатым телом, блестящей шкурой и благородным экстерьером. Были там и выносливые узбекские лошадки, и кокандские, способные заодно с всадником везти на себе пару шатров и полный набор кухонной посуды, а еще киргизские в светлых попонах, пришедшие сюда с берегов реки Эмбы, где их ловят арканом, этим азиатским лассо, не говоря о полукровках, рожденных от смешения этих пород и обладающих высокими достоинствами.
В общем и целом, животные здесь насчитывались тысячами. Малорослые, но стройные длинношерстные двугорбые верблюды, чья густая грива ниспадает на шею, послушные и легче, чем одногорбые дромадеры, привыкающие ходить в упряжке, также получаемые от скрещивания дромадеров с бактрианами одногорбые «нары» огненно-рыжей масти, чья шерсть завивается колечками, а еще ослы, скотина крепкая, работящая, чье мясо к тому же весьма ценится азиатами и составляет часть их рациона.
Пышные рощицы кедров и сосен отбрасывали на всю эту мешанину людей и животных, на огромное скопище шатров свою свежую тень, сквозь которую здесь и там пробивались солнечные лучи. Ничего не могло быть живописнее, чем эта картина, на которую самый смелый колорист извел бы все краски своей палитры.
Когда пленных, захваченных в Кдлывани, привели к шатрам Феофара и важных сановников ханства, над лагерем гремели барабаны, звенели трубы. Этим звукам, которые сами по себе достаточно внушительны, вторил треск ружейной пальбы и еще более грозный гром четырех– и шестидюймовых пушек, из которых состояла артиллерия эмира.
Лагерь Феофара был оборудован абсолютно по-военному. Все, что могло бы напомнить о мирном жилье – гаремы самого властителя и его приближенных, – осталось в Томске, находившемся ныне в руках захватчиков.
После того как этот лагерь отслужит свое и будет свернут, именно Томск собирались сделать резиденцией эмира до той поры, пока он не переберется оттуда в Иркутск – столицу восточной Сибири.
Увенчанный пышными плюмажами, развевавшимися на ветру, подобно веерам, шатер Феофара, задрапированный широкими полотнищами сверкающей шелковистой ткани, которая свисала с витых шнуров, украшенных тканой золотой бахромой, возвышался над всеми соседними шатрами. Это пышное сооружение красовалось в центре обширной поляны в окружении великолепных берез и громадных сосен. Перед этим шатром на лакированном столе, инкрустированном драгоценными камнями, лежал раскрытый Коран, священная книга, чьи страницы представляли собою тончайшие золотые пластинки с изящной гравировкой. А вверху развевался четырехцветный флаг с эмирским гербом.
Ближе к краям поляны полукругом располагались шатры важных бухарских сановников. Здесь обитали главный конюший, имеющий право следовать за конем эмира вплоть до самого дворца, старший сокольничий, держатель эмирской печати, главнокомандующий от артиллерии, верховный советник, коего правитель удостоивает своего поцелуя и дозволяет появляться перед ним с развязанным поясом, «шейх-аль-ислам», глава всех улемов, представитель священнослужителей, «верховный кази», наделенный полномочиями в отсутствие эмира разрешать все споры, возникающие между военными, и, наконец, главный астролог, чьей важной обязанностью является всякий раз, когда шах соберется куда-нибудь отправиться, вопрошать звезды о том, благополучно ли будет сие начинание.
Когда пленников привели в лагерь, эмир пребывал у себя в шатре. Он не показался. И это было, несомненно, к лучшему. Любое его слово или жест могли быть не иначе как сигналом к какой-нибудь кровавой расправе. Но он окопался в своем уединении, составляющем один из атрибутов величия восточных правителей. Тот, кто не мелькает перед глазами, внушает восхищение и, главное, боязливый трепет.
Что касается пленных, им предстояло томиться взаперти в каком-нибудь огороженном загоне и, подвергаясь дурному обращению и всем капризам погоды, почти без пищи, ждать, когда Феофару заблагорассудится заняться ими.
Самым послушным, если и не самым терпеливым из всех, был, разумеется, Михаил Строгов. Безропотно позволил, чтобы его вели, ведь шел-то он при этом туда, куда хотел, притом в условиях такой безопасности, на какую свободным никак не мог бы рассчитывать на дороге из Колывани в Томск. Убежать до прибытия в город значило бы рисковать угодить в лапы рыщущих по степи эмирских разведчиков. Восточная граница территории, оккупированной ханскими войсками, не заходила дальше восемьдесят второго меридиана, проходящего через Томск. Следовательно, если Михаилу Строгову удастся пересечь этот меридиан, он сможет рассчитывать, что окажется вне вражеской зоны, беспрепятственно переправится через Енисей и доберется до Красноярска прежде, чем Феофар-хан завладеет этой провинцией.
«Мне бы только попасть в Томск, – твердил он себе, стараясь унять порывы нетерпения, совладать с которыми было подчас трудно, – там уж минутное дело – прорваться через аванпосты. Надо выиграть у Феофара и Огарова двенадцать часов, всего-то двенадцать, мне этого хватит, чтобы обогнать их в Иркутске!»
Чего Михаил Строгов и вправду боялся больше всего, так это присутствия в ханском лагере Ивана Огарова, а он должен был там присутствовать. Кроме опасения быть узнанным, срабатывал какой-то инстинкт, нашептывавший ему, что этот предатель – его главный противник, которого важнее всего опередить. Михаил также понимал, что слияние частей полковника Огарова с войском Феофара существенно усилит захватчиков: кактолько это объединение произойдет, они всей массой обрушатся на главный город восточной Сибири. Таким образом, все беды, каких можно было ожидать, угрожали именно с этой стороны. Поэтому он ежеминутно прислушивался, не раздадутся ли какие-нибудь фанфары, возвещающие о прибытии союзника эмира.
К этой мысли добавлялись тревога о матери и воспоминания о Наде: одну захватили в Омске, другую умыкнули на лодке посреди Иртыша. Теперь она, без сомнения, тоже в плену, как и Марфа Строгова! А он ничего не мог для них сделать! Сужденоли ему когда-нибудь вновь ихувидеть? Он не осмеливался думать об этом, но сердце страшно щемило.
Гарри Блаунта и Альсида Жоливе доставили в лагерь эмира одновременно с Михаилом Строговым. Их недавний попутчик, взятый заодно с ними в телеграфной конторе, знал, что они заперты в том же загоне, охраняемом целой оравой часовых, но общения с ними не искал. Для него, по крайней мере, сейчас, мало значило то, какое мнение о нем должно было сложиться у них после той стычки в Ишиме, на почтовой станции. К тому же он предпочитал быть один, чтобы, если представится случай, и действовать в одиночку. Поэтому он держался от них в стороне.
Альсид Жоливе с той минуты, когда его собрат, только что стоявший рядом, свалился на пол, непрестанно расточал ему свои заботы. Гарри Блаунт всю дорогу от Колывани до лагеря, то есть несколько часов пути, брел, опираясь на руку своего соперника. Поначалу он пробовал ссылаться на свой статус британского подданного, но убедился, что оттого никакого проку, когда имеешь дело с этими варварами, которые ни на что не реагируют, кроме сабельных ударов и уколов пикой. Итак, пока корреспонденту «Дейли телеграф» пришлось разделить общую участь, даже если позже он и не преминет потребовать сатисфакции за подобное обращение. Но тем не менее этот путь дался газетчику очень тяжело, ведь рана сильно болела, и без поддержки Альсида Жоливе ему бы, пожалуй, до лагеря не дойти.
Что до Альсида Жоливе, его практический склад ума всегда оставался при нем, и он пустил все средства, бывшие в его распоряжении, чтобы физически и морально подбодрить коллегу. Как только он убедился, что их заперли в загоне всерьез и надолго, его первой заботой было осмотреть рану Гарри Блаунта. Очень ловко сняв с него куртку, он убедился, что плечо лишь слегка задето осколком взорванной стены.
– Это ничего, – заверил он. – Простая царапина! После двух-трех перевязок, дорогой собрат, ее и видно не будет!
– Но откуда возьмутся эти перевязки? – проворчал Гарри Блаунт.
– Я сам буду их вам делать!
– Так вы немножко врач?
– Все французы немножко врачи!
Подтверждая это заявление, Альсид Жоливе разорвал свой платок, из одного куска нащипал корпии, из другого наделал тампонов, зачерпнул воды из пруда, вырытого посредине загона, обмыл рану, которая, к великому счастью, была пустяковой, и очень умело замотал плечо Гарри Блаунта мокрой тряпкой.
– Я вас лечу водой, – разглагольствовал он. – Сия жидкость, помимо всего прочего, являет собой самое действенное успокаивающее средство из всех известных, при лечении ран она просто неоценима, ныне этот способ врачевания в наибольшем ходу. Медицина потратила на это открытие шесть тысяч лет! Да! Ровно шесть тысяч, это круглая цифра!
– Я признателен вам, господин Жоливе, – ответил Гарри Блаунт, вытягиваясь на ложе из палой листвы, которое его спутник устроил ему в тени березы.
– Вот еще! Не за что! На моем месте вы сделали бы то же самое!
– Ну, этого я не знаю, – несколько наивно отвечал Гарри Блаунт.
– Шутник! Вот еще! Все англичане великодушны!
– Это несомненно, но что касается французов…
– Да ладно вам, французы добры, они даже глупы, если угодно! Но их оправдывает то, что они французы! Однако хватит, не будем больше говорить об этом и даже ни о чем вообще, уж поверьте мне. Вам необходим абсолютный покой.
Но у Гарри Блаунта не было ни малейшего желания молчать. Если раненому и стоило подумать об отдыхе, то корреспондент «Дейли телеграф» был не из тех, кто прислушивается к голосу благоразумия.
– Господин Жоливе, – спросил он, – как вы считаете, наши последние депеши успели пересечь русскую границу?
– Почему бы и нет? – ответил Альсид Жоливе. – В настоящий момент могу вас уверить, что моя благословенная кузина знает, что за дела творились в Колывани!
– В скольких экземплярах она распространяет эти депеши, ваша кузина? – полюбопытствовал Гарри Блаунт, впервые так прямо задав коллеге свой вопрос.
– Хорошенькое дело! – Альсид Жоливе рассмеялся. – Моя кузина – очень скромная особа, которая не любит, чтобы о ней судачили. Она пришла бы в отчаяние, если бы узнала, что мысль о ней не дает вам уснуть, когда вы так нуждаетесь в отдыхе!
– Я не хочу спать, – отвечал англичанин. – Что думает ваша кузина об этих делах, которые творятся в России?
– По ее мнению, похоже на то, что сейчас они приняли скверный оборот. Но не беда! Московское правительство могущественно, его не может по-настоящемуустрашить нашествие варваров, Сибирь от него никуда не денется.
– Чрезмерная самонадеянность погубила немало империй! – возразил Гарри Блаунт, не свободный от некоторой «английской» ревности относительно русских притязаний на Среднюю Азию.
– Ох, не будем говорить о политике! – воскликнул Альсид Жоливе. – Медицина этого не рекомендует! Нет ничего более вредоносного при ранениях в плечо… По крайней мере, если от этих разговоров вас не клонит в сон!
– Тогда поговорим о том, что нам делать, – предложил Гарри Блаунт. – Господин Жоливе, я решительно не намерен оставаться в плену у этих мерзавцев.
– Черт возьми, я тоже!
– Мы сбежим при первом удобном случае?
– Да, если не найдется другого средства вернуть нам свободу.
– А вы знаете другое? – Гарри Блаунт пристально посмотрел приятелю в лицо.
– Разумеется! Мы же не вояки, мы держим нейтралитет, мы вправе жаловаться!
– Кому? Этой скотине Феофар-хану?
– Нет, он нас не поймет, – отвечал Альсид Жоливе. – А вот его ближайший сподвижник Иван Огаров – другое дело.
– Он же прохвост!
– Без сомнения, однако этот прохвост – русский. Он знает, что с правами человека шутки плохи, да ему и смысла нет нас задерживать, даже напротив. Только мне как-то противно просить о чем-то этого господина!
– К тому же этого господина нет в лагере, по крайней мере, я его здесь не видел! – заметил Гарри Блаунт.
– Он появится. Иначе и быть не может. Он должен присоединиться к эмиру. Сейчас Сибирь разделена на две части, Феофар наверняка только его и ждет, чтобы двинуться на Иркутск.
– А когда вырвемся на свободу, что будем делать?
– Продолжим нашу кампанию, будем следовать за ханскими войсками до подходящего момента или решающего события, позволяющего перейти на противоположную сторону. Выходить из игры нельзя, какого дьявола?! Мы же только начали! Вам, коллега, уже посчастливилось получить ранение на службе «Дейли телеграф», в то время как я ничего еще не получил, служа моей кузине… Ну, то-то же! – пробормотал Альсид Жоливе. – Вот он и уснул! Несколько часов сна и свежих водных компрессов – вот и все, что нужно, чтобы поставить англичанина на ноги. Эти люди сделаны из железа!
И пока Гарри Блаунт спал, Альсид Жоливе бодрствовал рядом с ним. Он достал свою тетрадку и строчил в нее заметки, к тому же он преисполнился решимости поделиться ими со своим собратом, к огромному удовольствию читателей «Дейли телеграф». Пережитое связало их накрепко. Больше не было смысла завидовать друг другу.
Таким образом, то, что больше всего страшило Михаила Строгова, стало предметом самого горячего желания обоих журналистов. Прибытие Ивана Огарова, видимо, и впрямь могло пойти им на пользу, ведь как только будет установлено, что они иностранные журналисты, их, скорее всего, отпустят. Сподвижник эмира сумеет вразумить его, хоть Феофар и привык считать журналистов обычными шпионами. Вот и вышло, что интересы Альсида Жоливе и Гарри Блаунта пришли в прямое противоречие с целями Михаила Строгова. Последний эту ситуацию хорошо понимал, что стало для него еще одной причиной избегать всякого сближения с бывшими попутчиками. Он принимал все меры, чтобы не попасться им на глаза.
Прошло четыре дня, но за это время положение вещей нисколько не изменилось. До пленников не доходило никаких слухов о том, что лагерь эмира снимается с места. Их бдительно стерегли. Не было никакой возможности пересечь кордон пехотинцев и всадников, день и ночь карауливших загон. Что до еды, которую им выделяли, ее едва хватало. Дважды в сутки им бросали кусок козьей требухи, испеченной на углях, или сыра, называемого «курт», который делается из кислого овечьего молока и вымачивается в молоке верблюдицы, каковое обычно зовут кумысом. И это было все. В довершение тягот резко испортилась погода. Начались крупные атмосферные пертурбации, порождающие шквалы вперемешку с ливнями. Несчастные, не имея где укрыться, были вынуждены выносить эту непогоду, которая угрожала здоровью, а ждать облегчения страданий было неоткуда. Некоторые раненые, женщины, дети умирали, и пленникам приходилось самим хоронить трупы: стража отказывала даже в могилах.
В эту пору тяжких испытаний Альсид Жоливе и Михаил Строгов, каждый со своей стороны, буквально разрывались на части. Они старались помочь всем, кому только могли. Травмированные меньше прочих, сильные, крепкие, они были наделены большей, по сравнению с другими, сопротивляемостью и могли принести пользу страдающим, готовым отчаяться товарищам по несчастью своими советами и заботой.
Но сколько так может продолжаться? Возможно, Феофар-хан, удовлетворившись своими первыми успехами, намерен повременить с походом на Иркутск? Это вызывало опасение, ведь он ничего не предпринимал. И вот утром двенадцатого августа совершилось событие, которого так желали Альсид Жоливе и Гарри Блаунт и так боялся Михаил Строгов. Внезапно запели трубы, загрохотали барабаны, им стала вторить ружейная пальба… Огромное облако пыли заклубилось над дорогой, ведущей из Кдлывани.
Иван Огаров в сопровождении нескольких тысяч военных вступил в лагерь эмира.
Глава II. Образ действий Альсида Жоливе
Да, это в полном составе прибыл армейский корпус, который Иван Огаров привел под начало эмира. Его пехота и кавалерия были частью войска, осаждавшего Омск. Не сумев справиться с «верхним городом», где, как мы помним, под защитой гарнизона укрылся губернатор, Иван Огаров решил махнуть рукой, не тянуть ради этого с завоеванием восточной Сибири. Итак, он оставил в Омске довольно значительный гарнизон, а свои орды повел к Томску. По пути обеспечил подкрепление завоевателям Кдлывани и вот теперь присоединился к армии Феофара.
Солдаты Ивана Огарова остановились на подступах к лагерю. Они не получали приказа раскинуть бивуак. Было очевидно, что их предводитель не намерен задерживаться, он хочет идти вперед и в самый кратчайший срок достигнуть Томска, большого города, по его замыслу, естественно, предназначенного стать центром будущих операций.
Заодно со своими солдатами Иван Огаров пригнал сюда конвой русских пленных, взятых в Омске и Колывани. Этих несчастных не отправили в загон, и так уже слишком тесный для тех, кого там держали. Их оставили возле аванпостов, без крова, почти без пищи. Какую участь Феофар-хан готовил злополучным невольникам? Погонят ли их в Томск, или им уготована какая-нибудь кровавая казнь, что в обычае у азиатских тиранов? Это было тайной склонного к причудам эмира.
Проходя через Омск и Кдлывань, это воинство обзавелось сопровождением: за ним тащилась толпа попрошаек, мародеров, торговцев, цыган, обычно составляющая арьергард армии, выступившей в поход. Вся эта публика промышляла тем, чем ей удавалось разжиться на землях, по которым они проходили, и после них там уже мало что оставалось для других любителей пограбить. Итак, необходимость гнала их вперед хотя бы уже потому, что надо же добывать пропитание для экспедиционной армии. Вся местность между Ишимом и Обью была вконец опустошена, уже ничего не выжмешь. Захватчики оставляли после себя пустыню, по которой русским придется двигаться не иначе как с большими трудностями.
Среди цыган, что сошлись сюда из западных провинций, находилась и бродячая труппа, вместе с которой Михаил Строгов доплыл до Перми. Была там и Сангарра. Эта шпионка-дикарка, на жизнь и смерть преданная Ивану Огарову, не покинула своего господина. Мы их уже видели вдвоем в Нижнем Новгороде, когда они готовили свой заговор. После того какпересекли Урал, они расстались, но только на несколько дней. Иван Огаров быстро достиг Ишима, в то время как Сангарра со своей труппой двинулась к Омску по пути, расположенному южнее.
Нетрудно понять, какую огромную помощь оказала Огарову эта женщина. Через своих цыган, проникающих в любые уголки, она чего только не узнавала, чтобы все передать ему. В результате Иван Огаров был в курсе всего, что происходило даже в самом сердце захваченных провинций. Сто пар широко раскрытых глаз и настороженныхушей всегда были к его услугам. Впрочем, и он со своей стороны, не скупясь, оплачивал все эти донесения, из которых извлекал очень много полезного для себя.
Сангарра некогда была замешана в одном крайне серьезном деле, но русский офицер вызволил ее из беды. Она не забывала, чем обязана ему, и была предана своему спасителю душой и телом. Когда Иван Огаров встал на путь измены, онживо сообразил, сколько пользы сможет принести емутакая союзница. Что бы он ей ни приказал, Сангарра все исполняла. Непостижимый инстинкт, еще более могущественный, чем чувство благодарности, побуждал ее стать рабой предателя, к которому она привязалась с первыхже дней его сибирского изгнания. Наперсница и сообщница, не имеющая ни родины, ни семьи, Сангарра охотно поставила свою бродяжью жизнь на службу захватчикам, которых Иван Огаров натравил на Сибирь. Кчрезвычайному коварству, естественному для ее племени, в натуре Сангарры добавлялась яростная энергия, не знающая ни милости, ни прощения. Эта дикарка была бы достойна разделять с апачем его вигвам или с островитянином Андаманского архипелага его хижину.
Со времени прибытия в Омск, где она со своими цыганками присоединилась к Ивану Огарову, Сангарра его больше не покидала. Обстоятельства, при которых он столкнулся с Михаилом Строговым и Марфой, были ей известны. Знала она и о его опасениях, связанных с царским посланцем, и разделяла их. Коль скоро Марфа Строгова в плену, эта женщина сумеет ее пытать со всей изощренностью самых свирепых краснокожих, только бы выведать ее секрет. Но время, когда Ивану Огарову понадобилось бы вырвать у старой сибирячки ее тайну, еще не пришло. Сангарра должна была подождать, и она ждала, не спуская глаз с той, которая не подозревала, что за ней шпионят, не знала, что ее малейший жест, любое слово день и ночь находятся под надзором. Цыганка особенно чутко вслушивалась, не сорвется ли сует Марфы слово «сын», но до сих пор невозмутимое спокойствие старухи расстраивало ее замыслы.
А между тем при первых же звуках труб главнокомандующий от артиллерии и старший конюший выехали с блестящим эскортом узбекской кавалерии, чтобы с почетом встретить Ивана Огарова на подступах к лагерю.
Как только он предстал перед ними, они оказали ему высочайшие почести и пригласили посетить в их сопровождении шатер Феофар-хана.
Полковник Огаров, как всегда, невозмутимый, на любезности важных сановников, присланных, чтобы встретить его, отвечал холодно. Он был одет очень просто, но все еще не без дерзкой бравады продолжал носить мундир русского офицера.
В тот момент, когда он хлестнул коня, побуждая его перескочить через ограду лагеря, Сангарра, пройдя среди всадников эскорта, подошла к Огарову и замерла перед ним неподвижно.
– Ничего? – спросил он.
– Ничего.
– Будь терпеливой.
– Но время, когда ты заставишь старуху говорить, уже близко?
– Оно приближается, Сангарра.
– И когда же старуха заговорит?
– Когда прибудем в Томск.
– Скоро?
– Через три дня.
В больших черных глазах Сангарры сверкнул необычный огонь, и она удалилась спокойным, ровным шагом.
Огаров стиснул коленями бока коня и, сопровождаемый штабными офицерами из числа подданных эмира, поскакал к шатру Феофар-хана. Последний уже ждал своего сподвижника. Совет, состоящий из хранителя печати, улема и нескольких высокопоставленных сановников, занял свои места в шатре.
Спрыгнув с коня, Огаров вошел и предстал перед эмиром.
Феофар-хан был мужчиной лет сорока, рослым, с довольно бледным лицом, хранящим свирепое выражение, и злыми глазами. Черная борода, завитая мелкими кольцами, спускалась ему на грудь. В своем воинственном наряде, в кольчуге из золота и серебра, с перевязью, сверкающей драгоценными камнями, с кривой саблей в ножнах, инкрустированных так же роскошно, как ятаган, в сапогах с золотыми шпорами и шлеме с бриллиантовым султаном, искрящимся, как сноп огней, Феофар представлял собой скорее странное, чем внушительное зрелище, – этакая пародия на Сарданапала, абсолютный властитель, по своей прихоти играющий жизнью и достоянием подданных, тиран, чье могущество не имеет пределов, получивший у себя в Бухаре как особую привилегию звание эмира.
В тот момент, когда появился Иван Огаров, важные сановники восседали на подушках с золотыми фестонами, но Феофар поднялся с пышного дивана в глубине шатра, выстланного мягким, толстым бухарским ковром.
Эмир подошел к Огарову и удостоил его поцелуя, в значении которого сомневаться не приходилось. Сие лобзание ставило эмирского сподвижника на первое место в совете, на время вознося его даже выше улема.
Затем Феофар промолвил:
– Я не намерен задавать тебе вопросы. Просто говори, Иван. Здесь ты найдешь уши, как нельзя более расположенные услышать тебя.
Огаров свободно изъяснялся на родном языке эмира, вплетая в свою речь пышные обороты, характерные для восточной манеры выражаться.
– О владыка, сейчас не время для долгих речей. Тебе ведомо, что я совершил, встав во главе твоих войск. Долины Ишима и Иртыша теперь в нашей власти, твои всадники могут купать своих коней в водах этих рек, отныне принадлежащих тебе. Киргизские орды восстали по слову Феофархана, и главный сибирский тракт от Ишима до Томска в твоих руках. Итак, ты волен послать свои войска как на восток, где восходит солнце, так и на запад, где оно садится.
– Что, если я пойду вслед за солнцем? – вопросил эмир, который слушал очень внимательно, хотя по его лицу никак нельзя было угадать, что у него на уме.
– Вслед за солнцем – это значит в сторону Европы, дабы поскорее завоевать сибирские провинции от Тобольска до Урала.
– А если я двинусь навстречу сему факелу небес?
– Тогда заодно с Иркутском ты подчинишь своей власти богатейшие области центра Сибири.
– Но как быть с армиями петербургского султана? – спросил Феофархан, наделяя этим диковинным титулом императора всея Руси.
– Они не страшны тебе ни на западе, ни на востоке, – заверил Иван Огаров. – Вторжение произошло так внезапно, что Иркутск или Тобольск, словно созревший плод, упадет тебе в руки прежде, чем они подоспеют на помощь. Царские войска были раздавлены под Кдлыванью, так будет везде, где твои воины сразятся с безмозглыми солдатами Запада.
Помолчав с минуту, эмир спросил:
– А что подсказывает тебе твоя преданность нашему делу?
– По-моему, – с живостью отвечал Иван Огаров, – надобно идти навстречу солнцу! Напитать наших коней травой восточных степей! Овладеть Иркутском, столицей восточных провинций, а заодно взять такого заложника, который один стоит целого края. Надо, чтобы в наши руки попал если не сам царь, то великий князь, его брат.
Это и было главной целью, к которой стремился Иван Огаров. Послушав его речи, можно было принять этого человека за одного из свирепых последователей Степана Разина, прославленного разбойника, в XVIII столетии опустошавшего юг России. Захватить великого князя, беспощадно расправиться с ним – только это могло в полной мере утолить его ненависть! Одновременно взятие Иркутска привело бы к тому, что вся восточная Сибирь тотчас попала бы под ханскую власть.
– Так мы и поступим, Иван, – отвечал Феофар.
– Каковы будут твои наказы, мой повелитель?
– Сегодня же перевести нашу штаб-квартиру в Томск.
Иван Огаров откланялся и, сопровождаемый старшим сокольничим, удалился, чтобы позаботиться об исполнении эмирского приказа.
Он совсем было собрался вскочить в седло и скакать на аванпосты, когда неподалеку, в той части лагеря, где держали пленных, послышался какой-то шум. Раздались крики, грянули два-три ружейных выстрела. Что там происходит? Попытка бунта или побега, которую надлежит немедленно подавить?
Вместе со старшим сокольничим Иван Огаров направился туда, но успел сделать лишь несколько шагов: почти тотчас перед ним возникли, вырвавшись из общей массы, два человека, которых солдаты не сумели удержать.
Сокольничий, не нуждаясь в дополнительной информации, сделал жест, равносильный приказу умертвить обоих, и головы пленников скатились бы наземь, если бы Иван Огаров не произнес каких-то слов, остановивших уже занесенную над ними саблю.
Русский мигом смекнул, что это иностранцы, и велел подвести их к нему.
Это были Гарри Блаунт и Альсид Жоливе.
С того момента, когда полковник Огаров появился в лагере, они добивались, чтобы их отвели к нему. Солдаты отказывались. Отсюда потасовка, попытка к бегству, выстрелы, к счастью, ни одного из журналистов не задевшие, но их казнь не заставила бы себя ждать, если бы не вмешательство эмирского союзника.
Последний с минуту разглядывал пленников, которые показались ему абсолютно незнакомыми. А между тем они были свидетелями той сцены на почтовой станции в Ишиме, когда Иван Огаров ударил Михаила Строгова. Но разъяренный проезжающий тогда не обратил внимания на тех, кто был в соседней комнате.
Однако Гарри Блаунт и Альсид Жоливе, напротив, сразу его узнали, и француз шепнул спутнику:
– Смотрите-ка! Полковник Огаров и грубиян из Ишима – одно и то же лицо!
Затем прибавил, по-прежнему на ухо приятелю:
– Изложите-ка наше дело, Блаунт. Вы окажете мне услугу. Этот русский полковник в стане эмира мне противен, я не могу побороть презрения, и если даже моя голова благодаря ему останется на плечах, глаза бы не глядели на его физиономию!
Говоря так, Альсид Жоливе всем своим видом выражал полнейшее и притом высокомерное равнодушие.
Понял ли Иван Огаров, что поведение пленника для него оскорбительно? Если и так, он этого ничем не проявил.
– Кто вы такие, господа? – осведомился он по-русски, хоть и очень холодно, но обходясь без своей обычной грубости.
– Корреспонденты двух газет, английской и французской, – коротко отрекомендовался Гарри Блаунт.
– У вас, несомненно, есть документы, подтверждающие это и удостоверяющие вашу личность?
– Вот бумаги, свидетельствующие о наших полномочиях. Они выданы нам в России английским и французским консульствами.
Полковник Огаров взял грамоты, которые протягивал ему Гарри Блаунт, и внимательно их прочитал. Потом осведомился:
– Вы просите разрешения наблюдать за нашими военными действиями здесь, в Сибири?
– Мы просим лишь, чтобы нам вернули свободу, – сухо отвечал английский газетчик.
– Вы свободны, господа, – сказал Иван Огаров. – Мне будет любопытно почитать ваши репортажи в «Дейли телеграф».
– Сударь, – отозвался англичанин, демонстрируя самую непробиваемую флегму, – это вам обойдется в шесть пенсов на номер, не считая почтовых расходов.
И, сообщив это, Гарри Блаунт повернулся к своему спутнику, казалось, вполне одобрявшему подобный ответ.
Иван Огаров и глазом не моргнул. Дал шпоры коню и, сопровождаемый эскортом, вскоре исчез в облаках пыли.
– Ну-с, господин Жоливе, как вам нравится полковник Иван Огаров, генерал-аншеф ханского воинства? – полюбопытствовал Гарри Блаунт.
– Меня, дорогой собрат, – сулыбкой откликнулся Альсид Жоливе, – особенно впечатлил эффектный жест, который сделал этот сокольничий, приказывая снести нам головы!
Как бы там ни было и какие бы мотивы ни побудили Ивана Огарова так обойтись с двумя журналистами, оба оказались на свободе и могли сколько угодно рыскать по театру военных действий. Они отнюдь не собирались выходить из игры. Антипатия, которую они ранее испытывали друг к другу, сменилась самой сердечной дружбой. Испытания сблизили их, теперь им и в голову не могло прийти расстаться. Мелочное соперничество отныне и навсегда стало между ними невозможным. Гарри Блаунт не мог забыть, чем он обязан своему спутнику, который никоим образом не старался ему об этом напоминать, да ив конечном счете их сближение, облегчая для обоих сочинение репортажей, должно было послужить на пользу читателям.
– А теперь, – сказал Гарри Блаунт, – что мы станем делать со своей свободой?
– Злоупотреблять ею, черт возьми! – отвечал Альсид Жоливе. – Преспокойно отправимся в Томск, посмотрим, что там делается.
– До того момента, надеюсь, очень близкого, когда мы сможем присоединиться к какому-нибудь русскому корпусу?
– Ваша правда, мой дорогой Блаунт! Не стоит уж слишком татаризироваться! Это еще куда ни шло для тех, кого к цивилизации приобщает армейская служба, но нам-то нельзя не понимать, что народы Средней Азии в этом нашествии могут только потерять, но ничего не выиграют. Русские сумеют вытеснить их отсюда, это лишь вопрос времени!
Между тем прибытие Ивана Огарова, который только что освободил Альсида Жоливе и Гарри Блаунта, для Михаила Строгова было, напротив, серьезной угрозой. Если случай столкнет царева фельдъегеря с полковником Огаровым, последний наверняка узнает в нем проезжего, с которым он так грубо обошелся на почтовой станции в Ишиме. И хотя Строгов не ответил на оскорбление так, как сделал бы при любых других обстоятельствах, он все же привлечет к себе внимание, что затруднит осуществление его планов.
Таков был отрицательный результат появления Огарова. Впрочем, так или иначе, счастливым следствием его прибытия стал приказ сегодня же сняться с места и перенести штаб-квартиру в Томск.
Это было осуществлением самого страстного желания Михаила Строгова. Ведь он, как нам известно, хотел попасть в Томск, смешавшись с толпой пленников, то есть не рискуя попасть в лапы разведчиков, которыми кишели окрестности этого большого города. Однако с тех пор, как здесь находился Иван Огаров и возникла опасность быть узнанным, Строгов поневоле задумался, не лучше ли, отказавшись от первоначального замысла, попробовать сбежать по дороге.
На этом последнем решении Михаилу и пришлось остановиться, отбросив сомнения, когда он узнал, что Феофар-хан и Иван Огаров уже выехали и во главе нескольких тысяч кавалеристов держат путь к городу.
«Что ж, – сказал он себе, – с побегом я подожду, по крайней мере, если не представится какой-нибудь исключительно удобный повод. На подступах к Томску по эту сторону меня подстерегает множество неприятных неожиданностей, но по другую сторону, за городом, шансов будет становиться все больше, ведь я через несколько часов проберусь сквозь те эмирские посты, которые дальше всего выдвинуты к востоку. Еще три дня потерпеть, а дальше – да поможет мне Бог!»
Да, путь по степи, который предстояло проделать пленникам под надзором многочисленного отряда эмирских солдат, должен был быть именно трехдневным. Им надо было пройти полтораста верст, отделяющих лагерь от города. Для караульных, которые ни в чем не нуждались, это легко, но каково несчастным, ослабевшим от лишений? На этом отрезке сибирской дороги они оставят не один труп!
В два часа пополудни 12 августа на небе не было ни облачка. Стояла сильная жара. Торчи-баши (военный предводитель войска Феофар-хана), дал приказ отправляться.
Альсид Жоливе и Гарри Блаунт, купив лошадей, уже скакали по дороге, ведущей к Томску, где по логике вещей должны были сойтись все главные действующие лица этой истории.
Среди пленниц, которых Иван Огаров привел в лагерь эмира, была одна старуха, которую лишь ее молчаливость уже явственно выделяла из массы тех, кто разделял ее участь. Из ее уст никто не слышал ни единой жалобы. Она казалась статуей, символизирующей скорбь. Эту женщину, почти всегда хранящую неподвижность, стерегли усерднее, чем любую другую: за ней все время наблюдала цыганка Сангарра, хотя старухе, казалось, то ли невдомек, то ли безразлична ее слежка. Несмотря на преклонный возраст, ей приходилось идти пешком в процессии пленниц, никаких послаблений в тяготах пути она не получала.
Зато по милости провидения рядом с ней оказалось смелое и милосердное создание, будто созданное затем, чтобы понимать и поддерживать ее. Среди ее несчастных товарок эта девушка, поразительно красивая и спокойная, ни в чем не уступающая старой сибирячке, похоже, взяла на себя задачу заботиться о ней. Эти пленницы не обменялись ни одним словом, но девушка всегда оказывалась рядом со старой женщиной, когда той могла понадобиться помощь. Поначалу безмолвная заботливость незнакомки вызывала у старухи недоверие. Но мало-помалу на редкость прямой взгляд девушки, ее сдержанность и таинственная симпатия, зародившаяся между ними в их общей беде, победили высокомерную холодность Марфы Строговой. Таким образом Надя – ибо это была она – смогла, сама того не зная, возвратить матери заботы, которые она получала от ее сына. Природная доброта вдвойне воодушевляла ее. Посвятив себя служению ей, Надя нашла применение своей молодости и очарованию в том, чтобы покровительствовать старой узнице. В толпе несчастных, озлобленных страданиями, эти две молчаливые женщины, из которых одна казалась бабушкой, другая внучкой, внушали всем что-то похожее на благоговение.
Надю, после того как на переправе через Иртыш ее умыкнули шахские разведчики на лодках, препроводили в Омск. Там ее держали как пленницу наравне с прочими женщинами, которыхуспели захватить люди Ивана Огарова, в том числе и с Марфой Строговой.
Не будь Надя так сильна духом, она была бы сломлена двойным ударом, обрушившимся на нее. То, что ее поездка прервана, а Михаил Строгов убит, привело ее в отчаяние, но одновременно и возмутило. После столькихусилий, так счастливо приближавших ее к отцу, долгожданная встреча с ним отдалилась, быть может, навсегда, и в довершение всех печалей она лишилась бесстрашного спутника, которого сам Господь, казалось, послал ей на пути, чтобы привести к цели. Надя в одну минуту потеряла все. Образ Михаила Строгова, на ее глазах исчезнувшего в водах Иртыша, получив удар пики, неотступно преследовал девушку. Могли такой человек погибнуть подобным образом? Для кого Бог приберегает свои чудеса, если путь праведного и храброго, ведомого каким-то несомненно благородным предназначением, прерван из-за ничтожной случайности? Порой в ее душе гнев превозмогал скорбь. В памяти всплывала сцена оскорбления, которому ее спутник подвергся на почтовой станции в Ишиме и так странно его стерпел. У Нади вся кровь закипала при этом воспоминании.
«Кто отомстит за его гибель, если он сам уже не может постоять за себя?» – думала она.
И в глубине ее юного, девичьего сердца рождался крик: «Господи, дай мне сделать это!»
Если бы Михаил Строгов хоть доверил ей перед смертью свой секрет, тогда бы она, даром что женщина, почти дитя, могла привести к благому концу дело этого брата, которого Бог напрасно послал ей, если так скоро собирался отнять!..
Погруженная в эти мысли, Надя, понятное дело, оставалась словно бесчувственной ко всему, даже к тяготам плена.
Именно в те дни случай свел ее с Марфой Строговой, хоть она даже на миг не заподозрила, кто перед ней. Да и как Надя могла вообразить, что эта старая женщина, такая же пленница, как она сама, – мать ее спутника, которого она знала не иначе как купца Николая Корпанова? И откуда Марфа узнала бы, какие узы благодарности связывают эту юную незнакомку с ее сыном?
Поначалу Надю привлекло в Марфе Строговой что-то вроде какого-то сходства в манере держаться в этих условиях, в которых каждая из них переносила тяготы своего положения. Стоическое безразличие к физическим страданиям их повседневной жизни, презрение старой женщины к телесным невзгодам – источником всего этого для Марфы могли быть только душевные муки, равные ее собственным. Так думала Надя, и она не ошибалась. Итак, ею овладело инстинктивное сочувствие тем мучениям, которых Марфа никому не показывала, вначале Надю оттого и потянуло к ней. Этот способ противостоять беде импонировал гордойдуше девушки. Она не предлагала старухе свою помощь, а просто оказывала ее. Марфа же не давала понять, что принимает либо отвергает ее услуги. На техучасткахдороги, где идти было особенно трудно, девушка шла с ней рядом, поддерживая ее. Когда раздавали еду, старуха не двигалась с места, и Надя делила с ней свою скудную порцию. Так и тянулось для той и другой это мучительное путешествие. Благодаря своей юной спутнице Марфа смогла на своих ногах следовать за солдатами, которые конвоировали толпу пленниц, иначе бы ее привязали к седлу подобно многим другим бедняжкам, которых так и проволокли по этому скорбному пути.
– Награди тебя Бог, дочка, за все, чем ты помогаешь мне, старухе! – промолвила однажды Марфа Строгова, и это были первые слова, за несколько дней сказанные между этими двумя несчастными.
За эти дни, которые показались им долгими, как столетия, старуха и девушка, как легко предположить, должны были разговориться и поведать друг другу о своих печалях. Но Марфа Строгова из более чем понятной осторожности помалкивала, разве что обронит как можно короче словцо-другое, причем только о себе самой. Ни единого упоминания о сыне, о той злополучной встрече лицом к лицу.
Надя тоже долгое время была если не совсем нема, то по крайности очень скупа на слова, считая их бесполезными. Но все-таки однажды, чувствуя, какая передней простая и высокая душа, девушка не выдержала муки, переполнявшей ее сердце, и рассказала, ничего не утаив, обо всем, что она пережила со дня отъезда из Владимира до гибели Николая Корпанова. То, что она говорила об этом молодом купце, своем спутнике, живо заинтересовало старую сибирячку.
– Николай Корпанов? – переспросила она. – Расскажи-ка мне еще про этого Николая! Среди нынешней молодежи я знаю только одного человека, который не удивил бы меня, если бы вел себя так! А Николай Корпанов – его настоящее имя? Ты в этом уверена, дочка?
– С какой стати он солгал бы мне? – удивилась Надя. – Он, ни в чем ни разу меня не обманувший?
И все-таки Марфа, взволнованная чем-то похожим на предчувствие, продолжала задавать Наде вопрос за вопросом:
– Ты говоришь, он был неустрашим, моя девочка? И твой рассказ доказывает, что так и было!
– Да, он не знал страха, – отвечала Надя.
«Совсем, как мой сын», – твердила про себя Марфа Строгова.
И начинала снова:
– Ты еще говоришь, никакие преграды не могли его остановить, да? Он ничему не удивлялся и при всей своей силе был таким нежным, что ты словно обрела в нем не только брата, но и сестру, и что он заботился о тебе, как мать?
– Да, да! – вздохнула Надя. – Брат, сестра, мать – он был для меня всем!
– И сверх того львом, всегда готовым тебя защитить?
– Лев, правда! – отвечала девушка. – Да, он лев, настоящий герой!
«Мой сын! – думала старая сибирячка. – Мой сын!»
– И, тем не менее, ты говоришь, что он вынес страшное оскорбление тогда, в Ишиме, на почтовой станции? И не дал отпора?
– Это правда… – Надя опустила голову.
– Не дал отпора, – повторила Марфа Строгова, содрогнувшись.
– Матушка! – вскричала Надя. – Не осуждайте его, матушка! Здесь скрыта какая-то тайна, тайна, которой теперь уже никто не узнает, одному Богу дано о том судить!
– А ты-то сама? – Марфа подняла глаза и вгляделась в лицо Нади, будто желая проникнуть в самую глубину ее души. – Разве ты не презирала его, этого Николая Корпанова, в час унижения?
– Я им восхищалась, хоть и не понимала его! – отвечала девушка. – Никогда еще он не казался мне настолько достойным уважения! Я так чувствовала!
Старая женщина помолчала, затем спросила:
– Он был крупный?
– Да, очень большой.
– И пригожий, верно? Ну, дочка, скажи!
– Он был очень красив, – пробормотала Надя, краснея до корней волос.
– Это был мой сын! Говорю тебе, это он! – закричала старуха, обнимая Надю.
– Твой сын? – повторила Надя, совершенно ошеломленная. – Твой сын?
– Ну же, давай доберемся до сути, деточка! – сказала Марфа. – У твоего спутника, твоего друга и покровителя была мать! Не говорил ли он тебе о своей матери?
– О своей матери? Да, он часто говорил о ней, как и я говорила ему о своем отце. Всегда ее вспоминал. Он обожал ее!
– Надя, Надя! Все, что ты рассказываешь, точь-в-точь история моего сына! – прошептала старуха. И добавила в неудержимом порыве: – Но разве он не должен был повидаться с ней проездом через Омск? С этой матерью, которую он, по твоим словам, так любил?
– Нет, – отвечала Надя. – Он не должен был.
– Нет? – закричала Марфа. – Ты смеешь говорить мне это?
– Да, но я еще не успела тебе объяснить, что по не известным мне причинам, которые, видимо, превыше всего, Николай Корпанов должен был, насколько я поняла, пересечь Сибирь в полном секрете. Это был для него вопрос жизни и смерти, нет, даже больше – вопрос долга и чести.
– Долг, твоя правда, – сказала старая сибирячка. – Он всевластен, это одна из тех вещей, ради которых жертвуют всем. Во имя исполнения долга отказываются от всего, даже от счастья обнять, возможно, в последний раз свою старую маму! То, чего ты не знала, Надя, да я и сама не ведала до последней минуты, все это мне теперь ясно! Ты помогла мне это понять! Но светом, которым ты озарила потемки, где блуждала моя душа, я с тобой поделиться не могу. Раз мой сын сам не открыл тебе свою тайну, мне тоже подобает ее сохранить! Прости меня, Надя! Ты сделала для меня доброе дело, а я не могу ответить тебе тем же!
– Матушка, я вас ни о чем не спрашиваю, – успокоила ее Надя.
Теперь старая сибирячка нашла объяснение всему, вплоть до немыслимого поведения ее сына по отношению к ней тогда в Омске, на постоялом дворе, где они столкнулись при свидетелях. Сомнения больше не было: спутником Нади являлся не кто иной, как Михаил, обязанный любой ценой скрывать, что он послан государем с какой-то секретной миссией, важной депешей, чтобы доставить которую, необходимо пересечь охваченный нашествием край.
«Ах, мой храбрый мальчик! – думала Марфа Строгова. – Нет! Я тебя не предам, никакие пытки никогда не вырвуту меня признание, что это тебя я видела в Омске!»
Она могла бы единым словом вознаградить Надю за всю ее преданность по отношению к ней. Достаточно было лишь сообщить девушке, что ее спутник Николай Корпанов, а вернее, Михаил Строгов не погиб в водах Иртыша, ведь Марфа встретила его через несколько дней после того случая, она говорила с ним!
Но старая женщина сдержалась, умолчала об этом, сказала только:
– Деточка, не теряй надежды! Беды не вечно будут преследовать тебя! Ты снова увидишь своего отца, такое у меня предчувствие. А может, и тот, кто звал тебя сестрой, жив! Господь не мог допустить, чтобы твой храбрый спутник погиб. Надейся, дочка, надейся! Делай, как я! Траур, что я ношу, не по моему сыну!
Глава III. Ответный удар
Такова была ситуация, в которой оказались Марфа Строгова и Надя. Старая сибирячка поняла все, а девушка хоть и не знала, что ее спутник, столь горько оплакиваемый, еще жив, но хотя бы выяснила, что та, к которой она по-дочернему привязалась, была матерью и ему. Теперь она благодарила Бога, что даровал ей эту отраду: возможность в их общей беде заменить пленнице сына, которого она потеряла.
Одного ни та, ни другая не могли знать: Михаил Строгов, схваченный в Колывани, с тем же конвоем, что и они, направляется в Томск.
Пленных, приведенных Иваном Огаровым, присоединили к тем, кого эмир уже держал в своем военном лагере. Этих несчастных были тысячи, сибиряков и уроженцев европейской России, военных и штатских, в пути они образовали колонну, растянувшуюся на несколько верст. Кое-кого из них, сочтя особенно опасными, вели с руками в оковах, соединенных одной длинной цепью. Там были и женщины, и дети, связанные или подвешенные к передней луке вражеских седел, их всех безжалостно таскали по дорогам! Гнали, как бесправное людское стадо. Всадники, сопровождавшие их, вынуждали пленников сохранять некоторый порядок, такчто отстающих не было, не считая тех, кто падал, чтобы больше не встать.
В результате Михаил Строгов, оказавшись в первых рядах покидавших ханский лагерь, то есть среди пленников из Колывани, не смешался с теми, кого только что привели сюда из Омска. Поэтому он не мог и помыслить, что в той же процессии находятся его мать и Надя, как и эти последние не подозревали о его присутствии.
Этот переход из лагеря в Томск в подобных условиях, под солдатскими нагайками, был ужасен, а для многих оказался смертельным. Люди брели по степи, по дороге, которая после проезда эмира и его авангарда стала еще более пыльной. А было приказано идти быстро. Передышки, да и то очень короткие, позволялись редко. Эти сто пятьдесят верст под палящим солнцем казались им бесконечными, даже если процессия двигалась быстро.
Он совершенно бесплоден, край, раскинувшийся от правого берега Оби до подножия горного хребта, который ответвляется от Саянских гор, тянущихся с севера на юг. Разве что порой несколько чахлых, опаленных зноем кустиков торчат там и сям, нарушая однообразие бескрайней равнины. Здесь никто ничего не выращивает, поскольку нет воды, и пленникам, измученным тяжелой дорогой, именно воды особенно не хватало. Чтобы добраться до реки, пришлось бы сделать крюк, пройти верст пятьдесят на восток до подножия горного хребта, которым отмечен водораздел между бассейнами Оби и Енисея. Там течет Томь, маленький приток Оби, который, прежде чем затеряться в одной из больших северных рек, протекает через Томск. Воды там вдоволь, степь не столь бесплодна, да и жара не такая палящая. Но начальники конвоя получили неукоснительно строгий приказ двигаться к Томску кратчайшей дорогой, поскольку эмир все еще мог опасаться, что на его войско нападет с фланга какая-нибудь русская колонна, подоспевшая сюда из северных провинций. Так вот, большая дорога проходит в стороне от берега Томи, по крайней мере, та ее часть, что связывает Кдлывань с поселком под названием Зеледеево, а сворачивать с большой сибирской дороги приказа не поступало.
Бесполезно расписывать страдания несчастных пленников. Многие сотни полегли в степи, их трупам предстояло пролежать там до поры, пока волки, которые появятся к зиме, обглодают их до последней косточки.
Подобно тому как Надя все время была рядом, готовая помочь старой сибирячке, Михаил Строгов, свободный в своих передвижениях в пределах колонны пленных, оказывал несчастным, более слабым товарищам всю помощь, какую позволяла ситуация. Одних он подбадривал, других поддерживал, не щадя сил, метался от тех к этим, пока всадник, угрожая пикой, не заставлял его занять место в том ряду, что был емууказан.
Почему он не пытался бежать? Потому что принял решение: теперь он устремится в степь не раньше, чем приблизится к тем местам, где дорога станет для него безопасной. Он уперся, как одержимый, увлекшись этой идеей – добраться до Томска «на средства эмира». И был прав. Стоило посмотреть на многочисленные отряды, мелькавшие по сторонам процессии, скачущие то на север, то на юг: становилось сразу понятно, что ему и двух верст не пройти – схватят. Всадники эмира множились, порой казалось, что они лезут прямо из-под земли, как те вредные насекомые, что выползают сотнями на поверхность после грозового дождя. К тому же в подобной ситуации бегство было бы крайне затруднительно, если вообще возможно. Солдаты из караула проявляли предельную бдительность, ведь если бы начальство усомнилось в их усердии, это могло стоить им головы.
Наконец 15 августа на склоне дня процессия достигла поселка Зеледеево, в тридцати верстах от Томска. Здесь дорога подходила к берегу Томи.
При виде этой речки первым побуждением пленников было броситься к воде, но их конвоиры не позволили им сломать ряды прежде, чем будет устроен привал. Хотя течение Томи в это время года стремительно, почти как у горных потоков, близость реки все же могла благоприятствовать бегству какого-нибудь отчаявшегося бедолаги или сорвиголовы, а потому охране надлежало принять строжайшие меры. Лодки, реквизированные в Зеледееве, были поставлены на два якоря и образовали цепь препятствий, которую не преодолеть. Границу лагеря, вплотную доходившую до первых домов поселка, охранял неприступный кордон часовых.
Михаил Строгов, может, до этого момента и подумывал ускользнуть в степь, но когда трезво изучил ситуацию, понял, что в этих условиях план побега вряд ли выполним, и, не желая ничего испортить, предпочел выждать.
Следующую ночь пленникам пришлось провести на берегу Томи. Дело в том, что эмир перенес вступление своих войск в Томск на день позже. Он решил ознаменовать военным парадом перемещение в столь значительный город своей штаб-квартиры. Феофар-хан уже занял томскую крепость, но большая часть его воинства разместилась за стенами в ожидании момента торжественного марша в город.
Иван Огаров оставил эмира в Томске, куда они оба въехали накануне, и вернулся в лагерь, раскинутый у Зеледеева. Отсюда он должен был выступить на следующий день с арьергардом ханской армии. Дом, где ему предстояло переночевать, уже приготовили. На восходе солнца пехота и кавалерия под его командованием двинулись к Томску, где эмир желал устроить им пышную встречу во вкусе азиатских властителей.
Когда привал был организован, узники, изнуренные тремя днями пути и обжигающим зноем, смогли, наконец, утолить жажду и хоть немного перевести дух.
Солнце уже село, наступали сумерки, но горизонт еще сиял меркнущим светом, когда Марфа Строгова, поддерживаемая Надей, спустилась к Томи. До этой минуты им было не пробиться к воде сквозь тесные ряды тех, кто там толпился, а теперь пришла их очередь.
Старая сибирячка склонилась к прохладным струям, а Надя, опустив туда руку, поднесла к ее губам ладонь, полную воды. Эта благодетельная влага возвращала к жизни их обеих, девушку и старуху.
Они уже повернулись, собираясь отойти от берега, как вдруг Надя резко выпрямилась. Невольный крик вырвался из ее уст.
Михаил Строгов здесь, всего в нескольких шагах от нее! Да, это был он!.. Последние лучи гаснувшего дня еще достаточно ясно освещали его!
Услышав голос Нади, Михаил вздрогнул… Но его самообладания еще хватило на то, чтобы ни единым словом не выдать себя.
Но тут рядом с Надей он увидел свою мать!
При этой внезапной встрече он, чувствуя, что больше не владеет собой, прикрыл рукой глаза и быстро зашагал прочь.
Надя чуть не бросилась вслед за ним, но старая сибирячка шепнула ей на ухо:
– Останься здесь, дитя мое!
– Это он! – пролепетала Надя сдавленным от волнения голосом. – Он жив, матушка! Это он!
– Да, это мой сын, Михаил Строгов, – отвечала Марфа. – Но, как видишь, я и шага не сделала к нему! Поступай также, моя девочка!
Михаил же только что пережил одно из сильнейших потрясений, какие способен вынести смертный. Его мать и Надя здесь! Две пленницы, образы которых почти слились воедино в его сердце! В общей беде Бог привел их друг к другу! Итак, Надя узнала, кто он? Нет, он успел заметить жест Марфы, удержавшей девушку, когда та хотела броситься к нему! Значит, мать все поняла и сохранила тайну сына.
За ту ночь Михаил раз двадцать был готов устремиться на поиски матери, но он сознавал, что обязан подавить огромное желание заключить ее в объятия, еще раз пожать руку своей юной спутнице! Малейшая неосторожность могла погубить его. К тому же он ведь давал клятву, что не встретится с матерью… да, он не увидит ее, добровольно откажется от встречи! Раз невозможно бежать нынче же ночью, он сделает это, как только прибудет в Томск. В этих двух существах сосредоточена вся его жизнь, но он затеряется в степи, так и не прижав их к сердцу, он бросит их на произвол стольких невзгод!
Итак, Михаил надеялся, что эта новая встреча посреди лагеря у Зеледеева не повлечет за собой губительных последствий ни для матери, ни для него самого. Но он не знал, что некоторые подробности этой сцены, как бы мимолетны они ни были, не укрылись от глаз Сангарры, шпионки Ивана Огарова. Цыганка была там, на берегу, всего в нескольких шагах. Она, как всегда, глаз не спускала со старой сибирячки, а та знать не знала об этой слежке. Приметить Михаила Строгова Сангарра не успела: когда она оглянулась, он уже скрылся из виду. Но жест матери, удержавшей Надю, она заметила, а молния, сверкнувшая в глазах Марфы, лучше любых слов сказала ей все.
Отныне сомнений не осталось: сын Марфы Строговой, царский курьер, в настоящее время находится в Зеледееве среди пленников Ивана Огарова!
Сангарра была убеждена, что он здесь, хоть и не знала его! Поэтому она не пыталась его разыскивать, да и кого найдешь темной ночью в такой многолюдной толпе?
Дальнейшая слежка за Надей и Марфой Строговой также стала бесполезной. Было очевидно, что эти женщины держатся настороже, бессмысленно ждать, не совершат ли они какой-нибудь промах, который поставит под удар царского фельдъегеря.
Теперь цыганку заботило одно: как бы поскорее известить Ивана Огарова. Поэтому она тотчас покинула лагерь пленных. Через четверть часа она уже была в Зеледееве. Ее провели в дом, который занимал сподвижник эмира.
Иван Огаров принял цыганку без промедления.
– Что тебе нужно, Сангарра? – спросил он.
– Сын Марфы Строговой в лагере! – объявила она.
– Среди пленных?
– Да, он в плену.
– Ах! – вскричал Иван Огаров. – Теперь-то я выведаю…
– Ты ничего не выведаешь, Иван, – возразила цыганка. – Ведь ты его даже не видел.
– Но ты же знаешь его! Ты его видела, Сангарра!
– Я не видела его, но я подстерегла его мать: у нее вырвалось одно движение, которым она себя выдала. Я сразу все поняла!
– И ты уверена, что не ошиблась?
– Уверена.
– Ты знаешь, как для меня важно арестовать этого курьера, – напомнил Иван Огаров. – Если письмо, которое ему вручили в Москве, дойдет до Иркутска и попадет в руки великого князя, он будет настороже, мне тогда до него не добраться! Это письмо я должен получить любой ценой! А тут ты приходишь и заявляешь, что курьер, везущий его, в моей власти! Еще раз спрашиваю тебе, Сангарра: все точно, ты не ошиблась?
Огаров произнес эти слова с большим напором. Видно, ему и впрямь крайне важно было завладеть тем письмом – его возбуждение говорило об этом. Однако Сангарру нисколько не смутила настойчивость, с какой он уточнил свой вопрос. Она ответила невозмутимо:
– Я не ошибаюсь, Иван.
– Но послушай, Сангарра, в лагере несколько тысяч пленных, а ты сама говоришь, что не видела Михаила Строгова!
– Да, – отвечала цыганка, и дикая радость вспыхнула в ее глазах, – я его не знаю, но его мать знает! Иван, нам придется заставить ее говорить!
– Что ж, завтра она заговорит! – воскликнул Огаров.
Затем он протянул цыганке руку, и та ее поцеловала, однако в этом почтительном жесте, который в обычае у северных племен, не было ни тени пресмыкательства.
Сангарра вернулась в лагерь. Устроилась снова поблизости от Нади и Марфы Строговой и всю ночь не спускала с них глаз. Старуха и девушка не спали, хотя обе были страшно утомлены. Но тревоги, мешавшие им заснуть, были сильнее усталости. Михаил Строгов жив, но он в плену, как и они! Ивану Огарову это известно, а если и нет, разве не может он об этом узнать? Надя была всецело поглощена одной мыслью: ее спутник, которого она считала мертвым, жив! Но Марфа Строгова, более прозорливая, вглядываясь в будущее, догадывалась, что хоть она не дорожит собой, у нее есть все основания бояться за сына.
Затаившись в потемках совсем рядом с ними, Сангарра несколько часов подряд оставалась на этом посту, навострив уши… Но подслушать ничего не смогла. Из неосознанной, инстинктивной осторожности Марфа Строгова и Надя не обменялись ни единым словом.
На следующий день, 16 августа, около десяти утра, у границы лагеря раздались оглушительные звуки труб. Они звали солдат шахской армии под ружье, и те немедленно принялись строиться.
Иван Огаров, покинув Зеледеево, присоединился к многочисленным шахским офицерам, составляющим штаб армии. Его лицо было мрачнее обычного, в напряженных, застывших чертах угадывалось глухое бешенство, ищущее любого повода, чтобы вырваться наружу.
Михаил Строгов, скрываясь в толпе пленников, видел, как этот человек проходил мимо. У него возникло предчувствие, что надвигается какая-то катастрофа, ведь теперь Иван Огаров знал, что Марфа Строгова – мать капитана корпуса царских курьеров.
Подъехав к центру лагеря, Огаров соскочил с лошади, и всадники из его эскорта, оттеснив толпу, образовали вокруг него широкое пустое пространство.
В этот момент Сангарра, подойдя к нему, сказала:
– Я ничего нового не узнала, Иван!
Ни слова не отвечая, Огаров отдал одному из своих офицеров какой-то короткий приказ.
Тотчас солдаты принялись прочесывать ряды пленников, грубо расчищая себе путь. Несчастных людей колотили древками пики нагайками, им приходилось торопливо вскакивать, выстраиваясь кольцом вдоль границы лагеря. За их спинами расположился в четыре ряда кордон из пехотинцев и всадников, абсолютно исключив возможность бегства.
Немедленно воцарилось молчание, и тут Сангарра по знаку Ивана Огарова направилась туда, где среди других пленниц стояла Марфа Строгова.
Старая сибирячка видела, как она приближалась. И поняла, что сейчас произойдет. Презрительная усмешка промелькнула на ее губах. Потом, наклонившись к Наде, она тихо сказала:
– Мы с тобой больше не знакомы, дочка! Что бы ни произошло, каким бы жестоким ни было это испытание, смотри же: ни слова! Пальцем не шевельни! Все дело в нем – не во мне!
Тут подошла Сангарра. Несколько мгновений она молча смотрела в лицо старой сибирячке, потом положила ей руку на плечо.
– Чего тебе? – обронила Марфа Строгова.
– Пойдем! – отвечала цыганка.
И, подтолкнув пленницу, вывела ее на середину площадки, где их ждал Огаров.
Михаил Строгов полуприкрыл глаза, боясь, как бы горящий взгляд не выдал его.
Оказавшись лицом к лицу с Огаровым, старуха выпрямилась, скрестила на груди руки и молча ждала.
– Ты Марфа Строгова? – спросил он.
– Да, – отвечала старая сибирячка спокойно.
– Ты готова отказаться от того, что говорила три дня назад, когда я допрашивал тебя в Омске?
– Нет.
– Итак, тебе не известно, что твой сын, царский фельдъегерь, проезжал через Омск?
– Я ничего об этом не знаю.
– И человек, которого ты приняла за своего сына на почтовой станции, был кто-то другой? Не твой сын?
– Это был не он.
– А с тех пор ты его не встречала? Здесь, среди этих пленных?
– Нет.
– А если тебе его покажут, ты его узнаешь?
– Нет.
При этом ответе, говорящем о непреклонной решимости ни в чем не признаваться, в толпе послышался шепоток.
Иван Огаров с угрозой стиснул кулаки – не смог сдержаться.
– Слушай! – сказал он Марфе Строговой. – Твой сын здесь, и ты немедленно укажешь нам его!
– Нет.
– Все эти люди, взятые в Омске и Колывани, сейчас пройдут у тебя перед глазами, и если ты не укажешь мне Михаила Строгова, получишь столько ударов кнута, сколько человек перед тобой пройдет!
На самом деле Огаров уже понял, что сколько бы он ни грозился, каким бы пыткам ее ни подвергал, неукротимая сибирячка не заговорит. Чтобы разоблачить царского посланца, он теперь рассчитывал не на нее, а на самого Строгова. Ему казалось невозможным, чтобы мать и сын, увидев друг друга вблизи, не выдали себя каким-нибудь непроизвольным движением. Разумеется, если бы он хотел лишь перехватить письмо императора, приказал бы обыскать всех пленников, и дело с концом. Но Михаил Строгов мог, осознав, к чему все идет, уничтожить письмо, а если он не будет узнан и сможет добраться до Иркутска, замыслы Ивана Огарова сорвутся. Итак, предателю требовалось наложить руку не только на послание, но и на его носителя.
Надя поняла все. Теперь она знала, кто такой Михаил Строгов, почему он хотел неузнанным пересечь захваченные ханами области Сибири!
По приказу Ивана Огарова пленники один за другим проходили перед Марфой Строговой, а она оставалась неподвижной как статуя, и во взгляде ее нельзя было прочесть ничего, кроме полнейшего равнодушия.
Ее сын шел в числе последних. Когда пришел его черед пройти перед своей матерью, Надя закрыла глаза, она не могла на это смотреть!
Михаил Строгов выглядел абсолютно невозмутимым, только на его ладонях выступила кровь, так глубоко он впился в них ногтями.
Иван Огаров был побежден, сын и мать взяли верх!
Сангарра, стоявшая с ним рядом, произнесла всего одно короткое слово:
– Кнут!
– Да, – закричал Огаров, больше не владея собой. – Кнут для этой старой мерзавки! Бейте, пока не сдохнет!
Солдат, державший в руках это ужасное пыточное орудие, приблизился к Марфе Строговой.
Кнут состоит из нескольких кожаных ремешков, к концам которых прикреплены кусочки крученой металлической проволоки. Считается, что приговор к ста двадцати ударам кнута равносилен смертному. Марфа Строгова это знала, но она знала также, что никакая пытка не вынудит ее заговорить, и была готова пожертвовать жизнью.
Два солдата схватили старую женщину и поставили на колени. Ее платье разорвали, обнажив спину. К груди ей приставили саблю так, чтобы острый конец всего на три-четыре пальца не доставал до кожи: стоит ей пошатнуться от боли, и он будет вонзаться в грудь.
Ханский солдат встал над ней.
Он ждал приказа.
– Давай! – сказал Иван Огаров.
Кнут просвистел в воздухе…
Но ударить не успел – чья-то могучая рука вырвала его у палача.
Михаил Строгов был здесь! Этой кошмарной сцены он выдержать не смог! Если на почтовой станции в Ишиме, когда хлыст Ивана Огарова коснулся его плеча, он сдержался, то здесь, когда удар должен был обрушиться на его мать, он утратил самообладание.
Огаров своего добился.
– Михаил Строгов! – воскликнул он.
Потом, шагнув вперед, усмехнулся:
– А, проезжий из Ишима?
– Он самый! – откликнулся Михаил.
И, замахнувшись, рассек кнутом лицо Огарова:
– Око за око!
– Недурной ответ! – выкрикнул кто-то из зрителей, чей голос, на его счастье, потонул в общем гомоне.
Десятка два солдат навалились на Михаила Строгова, готовые убить его на месте…
Но Иван Огаров, у которого вырвался крик боли и ярости, жестом остановил их.
– Этот человек подлежит суду эмира! – сказал он. – Пусть его обыщут!
На груди Михаила Строгова обнаружили письмо с имперским гербом, которое он не успел уничтожить. Письмо было вручено Ивану Огарову.
Зрителем, который произнес фразу «Недурной ответ!», был не кто иной, как Альсид Жоливе. Он вместе со своим собратом по перу тоже ночевал в Зеледееве, они вместе присутствовали при этой сцене.
– Черт возьми! – сказал он Гарри Блаунту. – Крепкий народ эти северяне! Согласитесь, что нам бы надлежало искупить свою несправедливость по отношению к попутчику! Будь он хоть Корпанов, хоть Строгов, он того заслуживает! Красиво расквитался за случай в Ишиме!
– Да, действительно расквитался, – отвечал Гарри Блаунт, – но теперь этот Строгов – покойник. Пожалуй, для него было бы лучше, если бы он еще помедлил, прежде чем вспомнить обиду!
– И оставил свою мать гибнуть под кнутом?
– А вы считаете, он такой выходкой облегчил ее участь? И ее, и своей сестры?
– Ничего я не считаю, – буркнул Альсид Жоливе, – знаю только одно: на его месте я и сам не сделал бы лучше! Ну и рубец! Эх, кой черт! Надо же иногда и вскипать! Если бы Бог хотел, чтобы мы всегда и везде оставались невозмутимыми, он влил бы нам в жилы не кровь, а воду!
– Отменный эпизод для хроники! – сказал Гарри Блаунт. – А если бы вдобавок Иван Огаров был столь любезен, что показал бы нам это письмо!..
Как только Огаров осушил кровь, что струилась по его лицу, он вскрыл конверт. Долго читал и перечитывал письмо, словно хотел как можно глубже усвоить то, что там содержалось.
Затем, распорядившись, чтобы Михаила Строгова, накрепко связанного, отправили в Омск вместе с прочими узниками, он принял командование над войском, раскинувшим лагерь в Зеледееве, и под оглушительный аккомпанемент труб и барабанов двинулся к городу, где его ждал эмир.
Глава IV. Триумфальный въезд
Томск, организованный в 1604 году, чуть ли не в самом сердце земли сибирской, является одним из самых значительных городов азиатской России. Тобольск, расположенный севернее шестидесятой параллели, Иркутск, выстроенный восточнее сотого меридиана, видели, как Томск разрастается за их счет.
И все же, какуже говорилось, Томские был столицей этой огромной провинции. Генерал-губернатор и весь его штат обосновались в Омске. Тем не менее Томск – самый значительный город этой территории, которая простирается до подножия Алтайских гор, то есть до китайской границы. По склонам этих гор в сторону долины Томи непрестанно текут платина, золото, серебро, медь, золотоносный свинец. Когда край богат, город, расположенный в центре столь многое приносящих разработок, тоже не беден. В результате по красоте зданий, элегантности меблировки и экипажей Томск мог соперничать с величайшими европейскими столицами. Это был город миллионеров, обогатившихся ломом и киркой на склонах здешних гор, и хотя он не имел чести служить резиденцией государеву наместнику, зато могутешаться, имея в числе самых именитых своих сановников главу купеческой гильдии, основного концессионера шахт императорского правительства.
Некогда Томск слыл городом, расположенным на самом краю света. Кто желал отправиться туда, тому предстояло целое путешествие. Ныне это не более чем простая прогулка, если дорога не истоптана ногами захватчиков. Вскоре построят даже железную дорогу, которая пересечет Уральский хребет и свяжет этот город с Пермью.
Красив ли Томск? Надо признаться, что путешественники не проявляют единодушия в этом вопросе. Мадам де Бурбулон, проведя здесь несколько дней проездом из Шанхая в Москву, называет его местечком не слишком живописным. Исходя из ее описания, это довольно убогий город: старые кирпичные и каменные дома, очень узкие улицы, совсем не похожие на те, что обычно бывают в больших сибирских городах, грязные кварталы, где ютится в тесноте население, по большей части азиаты. Там кишат вялые пропойцы, у которых «даже опьянение апатично, как у всех народов Севера!»
Напротив, путешественник Анри Руссель-Кийу выражает абсолютно непререкаемое восхищение Томском. Не потому ли, что этот город, который мадам де Бурбулон посетила летом, он видел зимой, под снежным покрывалом? Это не исключено и подтверждает мнение, что некоторые местности, тяготеющие к полюсам, можно оценить только в холодное время года, как некоторые жаркие страны впечатляют лишь тогда, когда там особенно тепло.
Как бы там ни было, мсье Руссель-Кийу положительно утверждает, что Томск не только самый очаровательный город Сибири, но и один из прелестнейших городов мира, он хвалит его дома с колоннами и перистилем, тротуары, мощенные деревянными плахами, широкие четко расположенные улицы и пятнадцать великолепных церквей, что отражаются в водах Томи, по ширине превосходящей любую из французских рек.
Истина лежит посередине между этими двумя крайними мнениями. Томск, который насчитывает двадцать пять тысяч жителей, живописно располагается ступенями на склоне высокого, довольно крутого холма.
Однако прелестнейший город на свете стал самым уродливым, когда его оккупировали захватчики. Кому взбрело бы в голову восторгаться им в это время? Его защищали несколько батальонов пеших казаков, расквартированных здесь постоянно. Они не смогли дать отпор полчищам эмира. Часть жителей, родственная им по происхождению, оказала его ордам радушный прием, и с этого момента Томск не казался больше ни русским, ни сибирским городом – его словно бы разом перенесли в центр Кокандского или Бухарского ханства.
Именно в Томске эмир решил встретить свои победоносные войска. В их честь собирались закатить праздник с песнями, танцами и всяческими выдумками, которому предстояло завершиться бурной оргией.
Место, выбранное для этой церемонии, оборудовали в азиатском вкусе. Это было обширное плато, расположенное на холме, на сотню футов возвышающемся над течением Томи. Отсюда открывался просторный вид на перспективу изящных домов и церквей с пузатыми куполами, на множество речных излучин и на заднем плане леса, окутанные жарким туманом. Все это красовалось в великолепном зеленом обрамлении, которое создавали несколько рощ гигантских кедров и сосен.
Слева от плато возвышалось что-то вроде блистательной декорации, имитирующей дворец диковинной архитектуры, – образцом для нее наверняка послужили некоторые бухарские здания в стиле отчасти местном, отчасти мавританском: это временное сооружение было воздвигнуто в форме широких террас. Над дворцом, над верхушками минаретов, торчавшими со всех сторон среди осеняющих плато древесных крон, кружили сотни ручных аистов, доставленных сюда из Бухары одновременно с армией.
Террасы предназначались для придворных эмира, его союзников-ханов, высших сановников, а также для гаремов каждого из этих властителей Туркестана.
Среди этих султанш, которые в большинстве были не более чем рабынями, купленными на невольничьих рынках Закавказья и Персии, некоторые носили покрывало, скрывающее их от посторонних глаз, лица других оставались открытыми. Наряды у них всех были чрезвычайно роскошны. Изысканные плащи с рукавами, поддернутыми сзади к плечу и закрепленными тесьмой на манер пуфов, известных европейской моде, выставляли напоказ их обнаженные руки в браслетах, соединенных между собою цепочками из драгоценных камней, и маленькие тонкие пальчики с ногтями, выкрашенными соком хны. При малейшем движении эти плащи, у одних шелковые, тонкие, словно паутина, у других из легкой аладжи, турецкой шелковистой ткани, в тонкую полоску, слегка шуршали, что так приятно для слуха восточного мужчины. Под этим верхним одеянием переливались и сверкали парчовые юбки, прикрывая шелковые панталоны, которые легонько ниспадали на мягкие, тонкие сапожки, изысканно резные и расшитые жемчугом. У тех женщин, что не прятались под покрывалом, можно было полюбоваться длинными прядями ниспадающих из-под тюрбана волос разных цветов, чарующими очами, великолепными зубами, ослепительными чертами, прелесть которых еще более подчеркивалась чернотой тонко подведенных бровей и тенями на веках, слегка тронутых графитом.
У подножия террас под штандартами и орифламмами[8] бдила личная стража эмира: у каждого обоюдоострая кривая сабля на боку, кинжалу пояса, в руке пика десяти футов длиной. Некоторые из этих восточных вояк имели вдобавок белые дубинки, у других были алебарды, украшенные султанами из золотых и серебряных нитей.
Вокруг повсюду, вплоть до дальнего конца этого широкого плато на крутых склонах, чье подножие омывала Томь, скопилась разноплеменная толпа, состоящая из представителей всех народов Средней Азии. Там были узбеки в своих черных бараньих папахах, рыжебородые и сероглазые, в «архалуках» – это одежда наподобие туники, скроенной на азиатский манер. Теснились там и туркмены в своих национальных костюмах – в широких панталонах ярких расцветок, куртках и плащах из верблюжьей шерсти, в красных шапках, конических либо, напротив, расширяющихся кверху, в высоких кожаных сапогах на русский манер, у пояса на узком ремешке – огниво и кинжал. Здесь же рядом, подле своих господ, можно было увидеть и туркменских женщин с косами, удлиненными посредством шнурков из козьей шерсти, в рубахах с открытым воротом, поверх которых накинута «джуба» в голубую, пурпурную, зеленую полоску, а на ногах шнуровка из пестрых перекрещивающихся ленточек поддерживает кожаные сандалии. Казалось, все народности, обитающие близ русско-китайской границы, поднялись по зову эмира: были там и жители Маньчжурии, мужчины с выбритыми лбами и висками, с волосами, заплетенными в косы, в долгополых одеждах, в шелковых рубахах, перепоясанных на талии, в овальных колпаках из ярко-вишневого атласа с черной каемкой и красной бахромой и женщины восхитительного типа красоты, кокетливо украшающие свои черные волосы искусственными цветами и изысканными бабочками, прикалывая их золотыми булавками. Наконец, не обошлось и без монголов, бухарцев, персов, туркестанских китайцев – все были представлены на празднестве победителей.
Только сибиряков не видно было на этом приеме. Те, кто не успел бежать, затворились в своих домах, боясь грабежей, которые могли начаться по повелению Феофар-хана, дабы достойно увенчать торжественную церемонию.
Было уже четыре часа, когда эмир под гром барабанов, пение труб, пушечную и ружейную пальбу соизволил выехать на площадь.
Феофар восседал на своем любимом коне, голову которого венчал усыпанный бриллиантами султан. Эмир остался в своем воинском облачении. Рядом с ним выступали правители Коканда и Кундуза, первые вельможи ханств, а следом во множестве шествовали штабные офицеры.
В этот момент на террасе появилась старшая из жен Феофара, правительница, если позволительно так назвать султаншу Бухары. Но будь она владычицей или рабыней, эта женщина, персиянка по происхождению, была неописуемо прекрасна. Наперекор мусульманскому обычаю – и наверняка по прихоти эмира – она не закрыла своего лица. Ее пышные волосы, заплетенные в четыре косы, нежно скользили по ослепительно белым плечам, едва прикрытым шелковой накидкой, шитой золотом и прикрепленной на затылке к головному убору, усыпанному драгоценными камнями немыслимой стоимости. Из-под ее голубой шелковой юбки с широкими полосами глубокого синего цвета ниспадали газовые шелковистые шальвары, выше пояса на ней была надета пышная рубашка из той же ткани с изящным округлым вырезом под горло. Но с головы до стоп, обутых в персидские туфли, на ней сверкало такое обилие украшений, золотых туманов, нанизанных на серебряную нить, турецких бус, бирюзы, добытой на знаменитых копях Эльбруса, колье из сердоликов, агатов, изумрудов, опалов и сапфиров, что казалось, будто ее юбка и корсаж сотканы из драгоценных камней. Что касается тысяч бриллиантов, сверкавшиху нее на шее, на руках выше локтей, на запястьях и пальцах, на поясе и на ногах, миллионов рублей не хватило бы, чтобы купить все это, а блестели онитакярко, что, казалось, в центре каждого камешка при соприкосновении с солнечным лучом вспыхивает своеобразная вольтова дуга.
Эмир и ханы спешились, сановники свиты последовали их примеру. Все заняли места под великолепным шатром, раскинутым в центре первой террасы. Перед шатром, как всегда, лежал на священном столе Коран.
Русский сподвижник Феофара не заставил себя ждать: не было и пяти часов, когда оглушительные звуки труб возвестили о его прибытии.
Иван Огаров – или Шрам, как его уже успели прозвать, – был на сей раз в мундире офицера ханской армии. К шатру эмира он подъехал верхом. Его сопровождал отряд солдат из лагеря в Зеледееве, они выстроились по краям площади, на которой свободным оставалось теперь только пространство, предназначенное для увеселений.
Широкий шрам, наискось пересекающий физиономию предателя, сразу бросался в глаза. Огаров представил эмиру своих главных офицеров, и Феофархан, не изменяя обычной холодности, которая служила основой его достоинства, все же обошелся с ними так, что они остались довольны приемом.
По крайней мере, так интерпретировали эту сцену Гарри Блаунт и Альсид Жоливе, неразлучные газетчики, теперь ведущие свою охоту за новостями совместно. Покинув Зеледеево, они быстро подоспели в Томск. Их неплохо задуманный план состоял в том, чтобы украдкой отколоться от эмирского войска, как можно скорее присоединиться к какому-нибудь русскому корпусу и, если возможно, с ним вместе поспешить в Иркутск. Они уже насмотрелись на прелести нашествия, все эти поджоги, грабежи, убийства внушили им глубокое отвращение, и им не терпелось оказаться на стороне защитников Сибири.
Тем не менее Альсид Жоливе дал понять своему коллеге, что он не может покинуть Томск, не посвятив нескольких строчек триумфальному въезду в город ханских войск – хотя бы затем, чтобы удовлетворить любопытство своей кузины. Гарри Блаунт тоже решил задержаться здесь на несколько часов, но в тот же вечер оба должны были выехать на дорогу, ведущую к Иркутску, и, будучи хорошими наездниками, рассчитывали опередить разведчиков эмира.
Итак, Альсид Жоливе и Гарри Блаунт, смешавшись с толпой, наблюдали за происходящим, стараясь не упустить ни одной подробности этого празднества, которое сулило им добрую сотню отменных строчек хроники. Поэтому они любовались Феофар-ханом во всем его великолепии, его женами, его офицерами и стражниками, всей этой восточной пышностью, о которой в Европе не имеют ни малейшего представления. Но оба с презрением отвернулись, когда перед эмиром предстал Иван Огаров, и не без досады ждали, когда он уберется с глаз и начнутся торжества.
– Видите ли, мой дорогой Блаунт, – сказал Альсид Жоливе, – мы явились слишком рано, подобно солидным буржуа, которые ничего не согласны упустить, коль скоро заплатили деньги! Все это пока – не более чем поднятие занавеса, а было бы элегантнее прийти только в начале балета.
– Какого балета? – не понял Гарри Блаунт.
– Обязательного, черт побери! Но сдается мне, что сейчас занавес поднимется и начнется представление.
Альсид Жоливе вел себя так, словно и впрямь находился в Опере: вынул из чехольчика лорнет и с видом знатока приготовился оценивать «главных исполнителей труппы Феофара».
Однако увеселения начались не сразу, им предшествовала мучительная церемония.
В самом деле, ведь триумф победителя не может быть полным без унижения побежденных. Вот почему на площадь вывели несколько сот пленных, подгоняя их солдатскими нагайками. Их было велено сначала прогнать перед Феофар-ханом и его союзниками, а затем вместе с прочими товарищами по несчастью препроводить в городскую тюрьму, набив ее до отказа.
В первых рядах этих узников находился Михаил Строгов. Согласно приказу Ивана Огарова он шел под особой охраной приставленного к нему отряда солдат. Его мать и Надя были там же.
Старая сибирячка, неизменно полная энергии, когда опасность грозила ее сыну, теперь была ужасающе бледна. Она готовилась кхудшему, предвидела какую-нибудь кошмарную сцену. Не зря Михаила Строгова вели к эмиру. Она потому и дрожала за него. Иван Огаров, получив при всем честном народе удар кнутом, который был занесен над ней, был не из тех, кто прощает, его месть будет беспощадна. Михаилу Строгову наверняка грозили чудовищные пытки во вкусе среднеазиатских варваров. Если Огаров остановил расправу, когда солдаты бросились на Михаила, он знал, что делает, приберегая своего врага для эмирского правосудия.
К тому же мать и сын ни единым словом не смогли перекинуться после той жуткой сцены в лагере под Зеледеевым. Их безжалостно разлучили. Это сделало их невзгоды еще горше, ведь каким утешением для обеих стала бы возможность вместе коротать дни плена! Марфе Строговой хотелось попросить у сына прощения за все зло, которое она невольно причинила, ведь она корила себя за то, что не сумела сдержать порыв своего материнского сердца! Если бы она лучше владела собой тогда, на почтовой станции в Омске, когда вдруг столкнулась с Мишей лицом к лицу, он продолжил бы свой путь, никем не узнанный! Скольких бед можно было избежать!
А Строгов со своей стороны думал о том, что если сюда привели его мать, если Ивану Огарову потребовалось ее присутствие, это наверняка затем, чтобы заставить ее страдать при виде его мучений или даже, чего доброго, ей, как и ему самому, уготована ужасная смерть!
Надя же ломала голову, как бы спасти их, найти способ прийти на помощь сыну и матери. Она не знала, что придумать, но смутно чувствовала, что сейчас, прежде всего, надо не привлекать к себе внимания, необходимо стушеваться, стать маленькой, незаметной, как мышь. Может быть, тогда ей удастся перегрызть прутья клетки, куда заточили льва. Только бы представился хоть какой-нибудь повод действовать! Она его не упустит, даже если придется пожертвовать собой ради сына Марфы Строговой.
Тем временем большую часть пленников уже провели перед эмиром, и каждый из них, проходя, должен был в знак покорности распростереться ниц, лицом в пыль. Их ждало рабство, это унижение было прелюдией к нему! Когда эти несчастные склонялись слишком медленно, грубые руки стражников с размаху швыряли их наземь.
Подобный спектакль вызвал у Альсида Жоливе и его спутника самое настоящее омерзение.
– Какая подлость! Уйдем! – пробормотал француз.
– Нет, – возразил Гарри Блаунт. – Мы должны увидеть все!
– Легко сказать – увидеть все… Ах! – внезапно вскрикнул Альсид Жоливе, хватая приятеля за руку.
– Что с вами? – удивился тот.
– Смотрите, Блаунт! Это она!
– Она?
– Сестра нашего попутчика! Одна, в плену! Надо ее спасти…
– Держите себя в руках, – холодно осадил его англичанин. – Наше вмешательство скорее навредит этой девушке, чем принесет пользу.
Альсид Жоливе, уже готовый броситься вперед, остался на месте, и Надя, которая их не заметила, так как волосы, падая ей на лицо, наполовину закрывали его, в свой черед прошла перед эмиром, не привлекая его внимания.
Тут вслед за Надей к нему приблизилась Марфа Строгова, а поскольку она не распростерлась во прахе достаточно проворно, стражники грубо толкнули ее.
Старуха упала.
Ее сын так яростно рванулся из рук стражников, что те насилу справились с ним.
Но Марфа поднялась, и ее потащили прочь, однако тут вмешался Иван Огаров:
– Пусть эта женщина останется здесь!
Надю снова оттеснили в толпу пленных. Взгляд Ивана Огарова не задержался на ней.
Тут и Михаила Строгова подвели к эмиру, но он остался стоять, даже глаз не опустил.
– Лицом в пыль! – крикнул ему Иван Огаров.
– Нет! – отвечал Михаил.
Два стражника попытались принудить его склониться, но сами попадали наземь, зашибленные его могучим ударом.
Огаров шагнул к молодому человеку, рявкнул с угрозой:
– Ты умрешь!
– Я умру, – гордо отвечал Михаил Строгов, – но тебе, Иван, никогда уже не стереть со своего лица позорный след кнута, метку предателя!
При таком ответе Огаров побледнел как смерть.
– Кто этот пленник? – спросил эмир голосом, который казался еще грознее оттого, что был спокоен.
– Русский шпион, – отвечал Иван Огаров.
Выдавая Строгова за шпиона, он знал, что приговор, который его теперь ждет, будет ужасен.
Михаил двинулся на Огарова.
Солдаты удержали его.
Тогда эмир сделал жест, при котором вся толпа разом склонилась. Затем указал на Коран, который ему тотчас поднесли. Он раскрыл священную книгу и ткнул перстом в одну из страниц.
Страница была выбрана наугад, случайно, или, сказать вернее, все эти восточные люди должны были думать, что ныне сам Бог решает судьбу Михаила Строгова. Подобный способ судопроизводства у народов Средней Азии называется «фаль». Смысл стиха, в который уперся палец судьи, подвергается соответствующему истолкованию, после чего выносится какой ни на есть вердикт.
Эмир держал свой палец прижатым к странице Корана. Главный улем приблизился и громким голосом прочитал стих, который завершался такими словами:
– И он больше не увидит ничего на этой земле.
– Русский шпион, – сказал тогда Феофар-хан, – ты пришел сюда, чтобы подсмотреть то, что делается в нашем лагере! Смотри же, смотри во все глаза!
Глава V. Смотри, смотри во все глаза!
Михаила Строгова со связанными руками поставили у подножия террасы, напротив трона эмира.
Его мать в конце концов изнемогла от стольких физических и душевных мук, сникла, у нее больше не было мужества ни смотреть, ни слушать.
– Смотри, смотри во все глаза! – сказал Феофар-хан, грозно простирая руку к Михаилу Строгову.
Будучи хорошо знаком с нравами Востока, Иван Огаров, без сомнения, понял скрытое значение этих слов, и его губы на миг искривились в жестокой усмешке. Потом он занял свое место подле Феофар-хана.
Вскоре раздался зов труб. Это был сигнал к началу представления.
– Вот и балет, – шепнул Гарри Блаунту Альсид Жоливе. – Только эти варвары наперекор всем правилам дают его перед драмой, а не после!
Михаилу Строгову было приказано смотреть. И он смотрел.
На площадку вырвалась целая туча танцовщиц. Зазвучала странная мелодия, создаваемая сочетанием разных восточных инструментов – в этом оркестре участвовали дутар, род мандолины с удлиненным грифом из тутового дерева, с двумя струнами из крученого шелка; кобыз, нечто вроде виолончели, внизу заканчивающейся штырем, со струнами из конского волоса, вибрирующими под воздействием смычка; чибызга, длинная тростниковая дудка, а также трубы, барабаны и тамбурины, не говоря о гортанных голосах певцов. Нужно упомянуть и своеобразный дополнительный оркестр, создаваемый десятком воздушных змеев: они держались на длинных шнурках, закрепленных посередине, и звенели на ветру, словно эоловы арфы.
Почти тотчас начались танцы.
Плясуньи, все как на подбор, были родом из Персии. Они не являлись рабынями и свободно занимались своей профессией. Некогда они принимали официальное участие в придворных церемониях в Тегеране, но с тех пор, как там воцарилось ныне правящее семейство, их изгнали из страны или, по меньшей мере, стали третировать, так что им пришлось искать удачи на стороне. На них были национальные костюмы и множество украшений. В ушах у них покачивались маленькие золотые треугольнички и длинные подвески; серебряные, отделанные чернью кольца охватывали их шеи; на руках и ногах звенели браслеты, на которыхдрагоценные камни располагались в два ряда; сверкающие подвески со множеством бриллиантов, бирюзы и сердоликов трепетали на концах длинных кос. Пояса, плотно охватывающие талии, скреплялись бриллиантовыми застежками, похожими на перекладину большого епископского креста.
Они очень грациозно исполняли всевозможные танцы, то одиночные, то групповые. Их лица были открыты, но время от времени они накидывали легкую вуаль, и тогда казалось, будто облачко прозрачного газа проплывает перед их сверкающими глазами, как легкий туман по звездному небу. Некоторые из этих персиянок носили вместо шарфа кожаную расшитую жемчугом перевязь, на которой подвешенный уголком вниз треугольный мешочек раскрывался в нужный момент. Из этих тканевых мешочков с золотой филигранью они вытягивали длинные узкие ленты из ярко-красного шелка, на которых были вышиты стихи из Корана. Ленты они растягивали между собой, создавая из них кольцо, по которому другие танцовщицы скользили без остановки и, проходя перед каждым стихом, сообразно заповеди в нем заключенной, то простирались ничком, то взмывали в легком прыжке, словно затем, чтобы занять место среди небесных магометанских гурий.
Но особенно – и это примечательная деталь – Альсида Жоливе поразило, что эти персиянки выглядели скорее отрешенно томными, чем неистовыми: как по характеру, так и по исполнению своих танцев они больше напоминали безмятежных, скромных индийских баядер, нежели страстных обольстительниц Египта.
Когда первое выступление было закончено, снова прозвучал суровый голос:
– Смотри, смотри во все глаза!
Тот, кто повторил слова эмира, рослый уроженец Средней Азии, был не кто иной, как исполнитель смертных приговоров Феофар-хана. Он встал за спиной Михаила Строгова, держа наготове кривую саблю с широким коротким лезвием, одно из тех знаменитых изделий из дамасской стали, что куют прославленные оружейники Карши и Гисара. Стражники между тем принесли и установили рядом с ним треножник с жаровней, на которой горели без дыма несколько раскаленных углей. Легкий парок над ними происходил от сжигания толченых ароматических смол с примесью ладана, которыми посыпали жаровню.
Между тем за персиянками без промедления последовала труппа танцовщиц совсем иного типа, которых Михаил Строгов тотчас узнал.
И, надо полагать, оба журналиста узнали их тоже, поскольку Гарри Блаунт шепнул коллеге:
– Это цыганки из Нижнего Новгорода!
– Они самые! – вскричал Альсид Жоливе. – Сдается мне, что этим шпионкам за зоркость глаз платят побольше, чем за резвость ног!
Как мы знаем, француз не ошибся, приняв этих танцовщиц за агентов секретной службы эмира.
На первом плане в цыганской труппе блистала Сангарра в великолепном, странном и живописном наряде, который еще больше подчеркивал ее красоту. Сама она не танцевала, являясь, как актриса пантомимы, в окружении своих балерин, которые исполняли самые причудливые па, заимствованные в разных краях Европы, коль скоро их племя бродит повсюду: в Богемии, в Италии, в Испании, в Египте. Они плясали под звяканье металлических тарелок, которые держали в руках, и гудение похожего на баскский барабан инструмента, издававшего под их царапающими пальцами пронзительные звуки. Один из таких бубнов трепетал в руках Сангарры, она возбуждала танцовщиц своей игрой, приводя их в исступление, словно фригийских жриц.
Потом вперед выступил юный цыган лет пятнадцати, не больше. В руках у него был дутар, две струны которого он заставлял вибрировать, попросту пощипывая их ногтями. Он запел. На каждом куплете этой песни, чей ритм был чрезвычайно странен, одна из танцовщиц останавливалась перед ним и замирала внимая, но всякий раз, когда доходило до припева, она возобновляла свой прерванный танец, тряся перед юным певцом своим бубном и оглушая его звоном и громкой дробью.
Когда же отзвучал последний припев, плясуньи вовлекли юного цыгана в бесчисленные извивы их танца.
В тот же миг золотой дождь посыпался на них из рук эмира и его приближенных, а также офицеров всех рангов, и к затухающему рокоту дутаров и тамбуринов прибавился звон монет, особенно громкий при их столкновении с тарелками танцовщиц.
– Щедрость грабителей! – шепнул Альсид Жоливе на ухо своему спутнику.
Эти потоком льющиеся деньги впрямь были ворованными, недаром заодно с туманами и цехинами сыпались дукаты и русские рубли.
Затем на минуту воцарилась тишина, и голос палача, положившего руку на плечо Михаила Строгова, снова произнес те же слова, при каждом повторении звучавшие все мрачнее:
– Смотри, смотри во все глаза!
Но на сей раз Альсид Жоливе заметил, что обнаженной сабли в руках у заплечных дел мастера больше не было.
Тем временем солнце уже склонялось к горизонту. Дали за городом мало-помалу окутывали сумерки. Под сенью кедров и сосен сгущался полумрак, и воды Томи, темнеющие вдали, сливались с первыми клубами ночного тумана. Было понятно, что потемки вот-вот подползут и к плато, раскинувшемуся выше городских улиц.
Но в это мгновение на площадь выбежали, запрудив ее, несколько сотен рабынь с зажженными факелами. Цыганки и персиянки под предводительством Сангарры снова появились перед троном эмира, готовые, играя на контрасте, продемонстрировать свои столь разнородные танцы. Вступили инструменты среднеазиатского оркестра, создавая теперь более разнузданную, дикарскую гармонию. Им вторили гортанные голоса певцов. Воздушные змеи, ранее спущенные на землю, возобновили свой полет, унося в вышину целые созвездия разноцветных фонариков. На фоне такой летучей иллюминации, под ветром, к закату посвежевшим, стоны этих воздушных арф звучали громче.
Потом в круг танцующих, чье беснование дошло до предела, ворвался целый эскадрон в военной форме, и тут началась пехотная фантасмагория, создававшая престранное впечатление.
Эти солдаты с обнаженными саблями и длинными пистолетами, демонстрируя что-то вроде эквилибристики, буквально взорвали воздух оглушительными выстрелами, продолжительной пальбой на фоне грома барабанов, рокота бубнов, хриплого пения дутаров. Их оружие, на китайский манер заряженное разноцветным порохом с прибавлением каких-то металлических ингредиентов, выстреливало длинные снопы красного, зеленого, синего цвета, так что можно было подумать, будто все эти люди неистовствуют среди вспышек фейерверка. В известном смысле потеха напоминала танцы, сопровождавшие гимнические песнопения древних греков, разновидность военной пляски, когда вожаки маневрировали между остриями шпаг и кинжалов. Впрочем, возможно, наши предки позаимствовали такой обычай не у греков, а у народов Средней Азии. Но пляска ханских вояк выглядела еще диковинней из-за этих снопов цветного огня, извивающихся над головами танцовщиц, отчего все их блестки вспыхивали огненными точками, подобно искрящемуся калейдоскопу, чьи комбинации бесконечно варьировались при каждом движении плясуний.
Журналист-парижанин наверняка был пресыщен живописными постановочными эффектами, по части коих современный театр столь много преуспел. И все же Альсид Жоливе не смог удержаться от того легкого покачивания головы, которое между бульваром Монмартра и храмом Мадлен означало бы: «Недурно! Весьма недурно!»
Но вот все эти причудливые огни, словно по команде, внезапно погасли, танцы прекратились, самих пляшущих как ветром сдуло. Праздничная церемония завершилась, теперь только факелы озаряли плато, всего минуту назад полное слепящих огней.
По знаку эмира Михаила Строгова вывели на середину площади.
– Блаунт, – Альсид Жоливе обернулся к своему спутнику, – вы уверены, что хотите досмотреть все это до конца?
– Никоим образом, – буркнул англичанин.
– Надеюсь, читатели вашей «Дейли телеграф» не падки на подробные описания казни в восточном вкусе?
– Не более чем ваша кузина.
– Бедный парень! – вздохнул Альсид Жоливе, глядя на Михаила Строгова. – Храбрый солдат заслуживает того, чтобы пасть на поле брани!
– Мы можем что-то сделать, чтобы его спасти? – спросил Гарри Блаунт.
– Ничего мы не можем…
Журналистам вспомнилось, как великодушно Строгов вел себя по отношению к ним, а теперь они знали, через какие испытания он, невольник долга, был вынужден пройти. И что же? Сейчас, среди этих варваров, не знающих жалости, они ничем не могли ему помочь!
Поэтому, не желая глазеть на пытки, уготованные этому несчастному, они зашагали по направлению к городу.
Час спустя журналисты уже выехали на дорогу, ведущую в Иркутск, собираясь примкнуть к русским и с ними продолжить то, что Альсид Жоливе, несколько опережая события, именовал «кампанией реванша».
А между тем Михаил Строгов стоял, устремив гордый взор на эмира и презрительно не замечая Ивана Огарова. Он готовился к смерти, но напрасно было бы искать в нем хоть малейшие проявления слабости.
Зрители, обступившие площадь, также, как штабные офицеры Феофархана, для которых казнь являлась не более чем еще одним развлечением, ждали, чтобы она совершилась. Потом, утолив любопытство, вся эта орда дикарей сможет предаться безудержному пьянству.
Эмир жестом приказал, чтобы Михаила Строгова подвели к террасе. Стражники подтолкнули его, он приблизился, и тогда Феофар на язьже, который пленник понимал, объявил ему:
– Ты пришел, чтобы высматривать, русский шпион. Сегодня ты смотрел в последний раз. Через мгновение твои глаза навеки перестанут видеть свет!
Итак, Михаила Строгова должна была сразить не смерть, а слепота. Утратить зрение – это, возможно, страшнее, чем потерять жизнь! Несчастный будет ослеплен – таков приговор.
И все же, услышав его из уст эмира, Михаил не дрогнул. Сохраняя спокойствие, он смотрел широко открытыми глазами, будто хотел сосредоточить все силы своей души в последнем взгляде. Умолять этих свирепых дикарей о пощаде тщетно, да и ниже его достоинства. Он даже не думал об этом. Все помыслы Михаила сосредоточились на его миссии, непоправимо проваленной, на матери и Наде, которых он больше не увидит! Но он не позволил смятению, терзавшему душу, отразиться на его лице.
Однако потом все его существо захлестнула жажда мести. Он повернулся к Огарову и в порыве ярости выдохнул:
– Иван, предатель Иван, прими мой последний взгляд – это угроза тебе!
Огаров пожал плечами.
Но тут Михаил ошибся. Его глазам не суждено было навеки угаснуть, глядя на Ивана Огарова. Перед ним, выступив вперед, встала Марфа Строгова.
– Мама! – воскликнул он. – Да, да! Мой последний взгляд принадлежит тебе, а не этому ничтожеству! Останься здесь, рядом! Дай еще раз увидеть твое любимое лицо! Пусть мои глаза закроются, глядя на тебя!
Старая сибирячка, ни слова не говоря, сделала шаг вперед.
– Прогоните эту женщину! – приказал Иван Огаров.
Двое солдат оттолкнули Марфу Строгову. Она отшатнулась, но на ногах удержалась, осталась стоять в нескольких шагах от сына.
Палач приблизился. На сей раз с саблей наголо. Эту саблю с раскаленным добела лезвием он только что раскалил на ароматизированных углях жаровни.
Михаилу Строгову предстояло быть ослепленным по азиатскому обычаю – посредством раскаленной сабли, лезвием которой проводят перед глазами осужденного!
Он не пытался сопротивляться. Для него более не существовало в мире ничего, кроме матери, он буквально пожирал ее глазами! В этом последнем взгляде сосредоточилась вся его жизнь!
Марфа Строгова протягивала к нему руки, ее глаза были распахнуты во всю ширину, они глядели на сына!..
Раскаленное лезвие прошло перед глазами Михаила.
Раздался крик отчаяния. Старая Марфа без чувств рухнула наземь.
Ее сын Михаил Строгов был слеп.
Эмир, как только его повеления были исполнены, удалился со всем своим двором. Вскоре на площади не осталось никого, кроме Ивана Огарова и факельщиков.
Уж не задумал ли презренный негодяй оскорбить свою жертву, вслед за палачом нанести Михаилу еще один, последний удар?
Он медленно подошел к Строгову, и тот выпрямился, почувствовав его приближение.
Иван Огаров достал из кармана письмо императора, развернул его и, с величайшей иронией помахивая этим листком перед угасшими глазами царского фельдъегеря, произнес:
– А теперь читай, Михаил Строгов! Прочти и ступай в Иркутск, передай то, что прочел! Отныне Иван Огаров – вот кто настоящий государев посланец!
С этими словами предатель сложил письмо и спрятал у себя на груди. Потом ушел, не обернувшись, а следом за ним удалились с площади и факельщики.
Михаил Строгов остался один в нескольких шагах от бесчувственной, может быть, мертвой матери.
Вдали слышались крики, пение, разноголосый шум оргии. Томск, весь в огнях, сверкал, как подобает праздничному городу.
Строгов прислушался. Площадь была пустынна и тиха. Он пополз, неуверенно, наугад туда, где упала его мать. Нашел ее на ощупь, склонился над ней, прижался щекой к ее щеке, послушал, бьется ли сердце. Если бы кто-то взглянул на них со стороны, подумал бы, что он говорит с ней, но тихо, шепотом.
Была ли еще жива старая Марфа, могла ли услышать то, о чем шептал ей сын? Как бы то ни было, она не шелохнулась. Михаил поцеловал ее в лоб, коснулся губами ее седых волос. Потом встал и потихоньку, стопой ощупывая дорогу и пытаясь вытянуть вперед связанные руки, побрел сам не зная куда.
Внезапно рядом с ним появилась Надя.
Она шагала прямо к нему. Кинжал, что она держала в руке, послужил ей, чтобы разрезать путы на запястьях Михаила.
Слепой, он не знал, кто освободил его, так как Надя при этом не произнесла ни слова.
Только потом, сделав это, окликнула:
– Брат!
– Надя! – пробормотал Строгов. – Надя!
– Пойдем, брат, – сказала девушка. – Теперь я буду твоими глазами. Я и поведу тебя в Иркутск!
Глава VI. Друг, обретенный в пути
Через полчаса Михаил Строгов и Надя покинули Томск.
Этой ночью некоторым узникам удалось бежать, поскольку все захватчики, офицеры и солдаты, более или менее захмелев, сами не заметили, как ослабили надзор, до сей поры неукоснительно строгий, будь то на стоянке в лагере под Зеледеевым или в дороге, по которой гнали пленных. Поэтому, хотя Надю сначала увели вместе с остальными, она сумела ускользнуть и вернулась на плато в момент, когда Михаила Строгова подвели к эмиру. Там, смешавшись с толпой, она увидела все, что случилось. Ни один звук не сорвался с ее уст, когда добела раскаленное лезвие прошло перед глазами ее спутника. У нее хватило сил, чтобы оставаться немой и неподвижной. Провидческое озарение подсказало ей, что, сдержавшись, она, пока свободная, сможет привести сына Марфы Строговой к цели, которой он поклялся достигнуть. Когда старая сибирячка упала без чувств, сердце Нади на миг перестало биться, но мысль об этом возвратила ей силу духа.
«Я буду собакой-поводырем слепого!» – сказала она себе.
После ухода Ивана Огарова Надя какое-то время пережидала, скрываясь в потемках. Ждала, когда толпа разойдется и плато опустеет. Но вот Михаил Строгов, брошенный, жалкий калека, которого больше не стоит опасаться, остался один. Она видела, как он подполз к своей матери, скорчился рядом с ней, поцеловал ее в лоб, потом встал, на ощупь двинулся вперед, хотел бежать… Минуты не прошло, как они, держась за руки, уже спускались по крутому склону и, добравшись по берегу Томи до городской стены, на свое счастье обнаружили в ней брешь.
Иркутский тракт был единственной дорогой, ведущей на восток, так что ошибиться было невозможно. Надя быстрым шагом увлекала Михаила Строгова вперед, подальше от Томска. Ведь, может быть, уже завтра эмирские разведчики, опомнившись после многочасовой оргии, снова рассыплются по степи и перекроют им все пути. Значит, всего важнее их опередить, раньше врагов достигнуть Красноярска, а до него пятьсот верст (533 километра). К тому же весьма желательно не сворачивать с тракта как можно дольше. Пробираться в стороне от торной дороги рискованно, там их могут подстерегать любые неожиданности, это почти верная и при том скорая смерть.
Как Надя смогла вынести все тяготы этой ночи с 16-го на 17-е августа? Откуда взялись у юной девушки физические силы, необходимые, чтобы одолеть столь долгий переход? Как она еще держалась на ногах, кровоточащих от этого нескончаемого форсированного марша? Все это почти необъяснимо. Но тем не менее факт остается фактом: на следующее утро, через двенадцать часов после того как они оставили Томск, Михаил Строгов и Надя достигли поселка Семиловское, прошагав за ночь полсотни верст.
Михаил так и не проронил ни слова. Не Надя вела его за руку, а он всю эту ночь поддерживал свою спутницу, но только благодаря ее руке, что указывала ему верное направление хотя бы одним чуть уловимым трепетом пальцев, он смог идти своим обычным скорым шагом.
Семиловское, оставленное жителями, было почти совсем безлюдно. Боясь ханских полчищ, люди бежали отсюда в расчете найти убежище в окрестностях Енисейска. Лишь в двух-трех домах еще кто-то ютился. Все, что было в поселке полезного или ценного, беженцы вывезли на тележках.
Тем не менее Наде было необходимо остановиться здесь на несколько часов. Им обоим требовались еда и отдых. Девушка повела своего спутника на окраину поселка. Там они нашли пустой дом, дверь которого была открыта. Они вошли. Посреди комнаты, возле высокой печи, характерной для сибирских жилищ, стояла обшарпанная деревянная скамья. Они сели на нее.
Тогда Надя всмотрелась в лицо своего ослепшего спутника так пристально, словно никогда прежде его не видела. В ее взгляде было нечто большее, чем благодарность и чем сострадание. Если бы Михаил мог увидеть ее, он прочел бы в этих прекрасных горестных глазах бесконечную нежность и преданность.
Веки слепого, покрасневшие, обожженные, приоткрылись, и стало видно, что его глаза абсолютно сухи. Склера слегка сморщилась и как бы обтрепалась по краям, зрачок необычайно расширился, радужная оболочка, по-прежнему голубая, казалось, стала темнее, чем раньше, брови и ресницы частично обгорели, но взгляд молодого человека, такой ясный и проницательный, совсем не изменился, по крайней мере с виду. Однако он больше ничего не видел, слепота была полной, потому что жар раскаленной стали убил чувствительность сетчатки и глазной нерв.
В это мгновение Михаил Строгов, протянув руки в пустоту, спросил:
– Ты здесь, Надя?
– Да, – отвечала девушка, – я рядом. Я больше не покину тебя, Миша.
Услышав из ее уст свое имя, которого Надя никогда прежде не произносила, Михаил вздрогнул. Он понял, что его спутница знает, кто он, какие узы связывают его с Марфой. Ей все известно!
– Надя, – снова заговорил он, – мы должны расстаться.
– Расстаться? Но почему, Миша?
– Я не хочу стать препятствием на твоем пути! Твой отец ждет тебя в Иркутске! Ты должна спешить к отцу!
– Мой отец проклянет меня, Миша, если я тебя покину после всего, что ты для меня сделал!
– Надя, Надя! – пробормотал Строгов, хватая и сжимая руку, которой она накрыла его ладонь. – Ты не должна думать ни о ком, кроме своего отца!
– Михаил, – возразила Надя, – я тебе нужнее, чем моему отцу! Или ты считаешь, что должен отказаться от мысли об Иркутске?
– Никогда! – вскричал Строгов так порывисто, что стало ясно: вся энергия его духа осталась при нем.
– Однако у тебя больше нет того письма!..
– Потому что его украл Иван Огаров! Что ж, я сумею обойтись без письма, Надя! Они обошлись со мной, как со шпионом, так я и буду действовать, как шпион! Отправлюсь в Иркутск и расскажу обо всем, что видел, что слышал. Богом живым клянусь! Придет день, и мы с этим предателем еще сойдемся лицом к лицу! Но мне надо успеть в Иркутск раньше него.
– И ты еще говоришь, что нам надо расстаться, Михаил?
– Надя, эти скоты у меня все отобрали!
– Зато у меня остались мои глаза и несколько рублей в придачу! Я смогу видеть за двоих и привести тебя туда, куда ты не дойдешь один!
– И как мы туда доберемся?
– Пешком.
– А как прокормимся в пути?
– Будем побираться.
– Так пойдем же, Надя!
– Пойдем, Миша.
Молодые люди больше не называли себя братом и сестрой. В своей общей беде они почувствовали, что связаны друг с другом еще теснее. Дав себе всего час передышки, они вышли из дома. Надя, побродив по улицам поселка, раздобыла несколько ломтей так называемого «черного» хлеба (особый сорт, его пекут из ржи) и немного напитка, который у русских называется «мед», приготовляемого действительно из меда, но разбавленного водой. Ей это ни копейки не стоило, так как она впервые выступила в роли нищенки. Хлеб и мед худо-бедно позволили Михаилу Строгову утолить свой голод и жажду. Надя приберегла для него львиную долю этой скудной еды. Он поедал хлеб кусок за куском, а она ему их подавала. И пил из дорожной фляги, которую она подносила к его губам.
– Ты ешь, Надя? – несколько раз спрашивал он.
– Да, Миша, – неизменно отвечала девушка, а сама ограничилась тем немногим, что не доел ее спутник.
Покинув Семиловское, Михаил и Надя вышли на иркутский тракт и снова пустились в свой трудный путь. Девушка что было сил превозмогала усталость. Если бы Михаил Строгов видел ее, он, может быть, не отважился бы идти дальше. Но Надя не жаловалась, и он, не слыша от нее даже ни одного жалобного вздоха, шагал и шагал, не в силах обуздать свое нетерпение. Но почему? Разве мог он все еще надеяться опередить наступающих врагов? Он шел пешком, без денег, он был слеп, и если бы не Надя, его единственный проводник, ему оставалось бы только улечься на обочине дороги и самым жалким образом умереть! Но в конце концов, если благодаря своей исключительной силе воли он доберется до Красноярска, тогда, может случиться, еще не все потеряно, ведь губернатор, приема у которого он добьется, без колебаний предоставит ему средства, чтобы попасть в Иркутск.
Итак, Михаил Строгов шагал, погруженный в свои мысли, и все больше молчал. Он держал Надю за руку. Между ними возник непрестанный молчаливый контакт. Им казалось, что они уже могут обмениваться мыслями, более не нуждаясь в словах. Но время от времени Михаил Строгов все же просил:
– Надя, поговори со мной.
– Зачем, Миша? Мы же думаем вместе! – отвечала девушка, стараясь не дать ему догадаться по голосу, как она измучена.
Но иногда ее сердце на миг словно замирало, ноги подкашивались, шаг замедлялся, рука, сплетенная с его рукой, вытягивалась, она отставала. Тогда Михаил останавливался, его глаза обращались к ней, как будто он пытался разглядеть ее сквозь мрак, который носил в себе. Его грудь вздымалась, потом он крепче подхватывал свою спутницу под локоть, стараясь поддержать, и снова устремлялся вперед.
Однако среди всех этих беспросветных тягот в тот день их ожидал счастливый случай, который был призван избавить обоих от мук усталости.
Прошло около двух часов с того момента, как они вышли из Семиловского, когда Михаил вдруг остановился и спросил:
– На дороге никого не видно?
– Она абсолютно пуста, – отвечала Надя.
– Разве ты не слышишь позади нас на тракте какой-то шум?
– Да, правда.
– Если это шахские солдаты, нам надо спрятаться. Смотри в оба.
– Подожди, Михаил! – отвечала Надя и отошла на несколько шагов, где дорога поворачивала направо.
Строгов, на минуту оставшись один, замер и прислушался.
Надя возвратилась почти тотчас и сказала:
– Это повозка. Там молодой парень.
– Он один?
– Один.
Михаил на миг заколебался. Надо ли прятаться? Или, напротив, попытать счастья: не согласится ли тот малый подвезти если не его, то хотя бы ее? Он бы удовольствовался возможностью уцепиться рукой за край повозки, при надобности мог бы ее и подтолкнуть, ведь ноги исправно служили ему, между тем как Надя, шедшая пешком с тех самых пор, как они переправились через Обь, то есть более восьми дней, была на пределе сил, он это чувствовал.
Он выжидал.
Повозка вскоре приблизилась к повороту дороги. Это было средство передвижения, которое в здешних краях зовется кибиткой. Она выглядела крайне обшарпанной, но при необходимости могла выдержать трех пассажиров. Обычно в кибитку запрягают трех лошадей, но эту везла всего одна – мохнатая, с длинным хвостом, в ней текла кровь монгольской породы, обеспечивающая изрядную силу и кураж. Управлял ею молодой человек, с ним была собака.
Надя угадала в этом парне русского. У него было доброе, несколько флегматичное лицо, внушающее доверие. К тому же он, казалось, меньше всего на свете склонен торопиться. Шел пешком, чтобы не слишком утомлять свою лошадь, и при взгляде на него никто бы не подумал, что он так вальяжно шествует по дороге, которую с минуты на минуту могут перекрыть ханские солдаты.
Надя, держа за руку Михаила Строгова, отступила к обочине.
Кибитка остановилась, и возница с улыбкой спросил девушку, удивленно вылупив на нее свои добрые круглые глаза:
– Это куда же вы таким манером топаете?
При первых же звуках этого голоса Михаил сказал себе, что где-то уже слышал его. Еще секунда, и его лицо просветлело: он уже безо всяких сомнений узнал парня.
– Ну, так куда же вы путь держите? – повторил тот, на сей раз обращаясь прямо к Строгову.
– Мы идем в Иркутск, – отвечал Михаил.
– Э, батенька, да ты знаешь ли, сколько до него верст, до твоего Иркутска?
– Знаю.
– Так вот и идешь, на своих двоих?
– Да.
– Ты еще куда ни шло, а барышня?..
– Это моя сестра, – сообщил Строгов, смекнув, что благоразумнее называть Надю так.
– Сестра так сестра, а только, батенька, ты уж мне поверь: до Иркутска ей нипочем не дойти!
– Друг, – отвечал Михаил, подойдя ближе, – татары меня обчистили, не оставили ни копейки, мне нечем тебе заплатить. Но если бы ты согласился подвезти мою сестрицу, я мог бы за твоей повозкой пешком идти, если надо, и бежать. Я ни на один час тебя не задержу…
– Брат! – воскликнула Надя, – я не хочу!.. Не хочу! Сударь, мой брат слепой!
– Слепой? – дрогнувшим голосом переспросил парень.
– Татары выжгли ему глаза! – отвечала Надя, протягивая к нему руки, будто умоляла о жалости.
– Глаза выжгли? Ох, батенька, вот уж беда так беда! Ну, а я еду в Красноярск. Так почему бы тебе с сестрицей не сесть в мою кибитку? Если малость потеснимся, можно поместиться и втроем. К тому же мой пес не откажется пробежаться пешком.
– Как звать тебя, друг? – спросил Михаил.
– Николаем. Я Николай Пигасов.
– Этого имени я теперь век не забуду, – отвечал Строгов.
– Давай же, усаживайся, батенька, слепенький ты мой бедолага. Сзади садись, сестрица твоя пусть сядет рядом, а я спереди, мне ж править надо. Вам мягко будет, как в гнездышке: там славная груда березовых веток и ячменной соломы. Ну-ка, уступи нам место, Серко!
Пес охотно выпрыгнул на обочину дороги, не заставив себя упрашивать. Это была собака сибирской породы, средних размеров, серая, большеголовая, с приветливой мордой, похоже, очень привязанная к своему хозяину.
Строгов и Надя мигом устроились в коляске. Михаил протянул руки, словно хотел коснуться Николая Пигасова. Тот сразу понял его жест:
– Ты хочешь пожать мне руку! Вот они, обе разом, пожимай, батенька, сколько угодно!
Кибитка тронулась. Лошадь, которую Николай никогда не бил, трусила иноходью. Если Михаил Строгов и не выиграл по части скорости, зато Надя была избавлена от новых тягот.
Девушка так измучилась, что равномерное покачиванье кибитки скоро усыпило ее, и этот сон был сродни полной прострации. Михаил Строгов и Николай как могли удобно уложили ее на груду березовых листьев. Отзывчивый молодой человек очень растрогался, и если на глаза Михаила не навернулись слезы, то лишь потому, что раскаленная сталь иссушила их до последней!
– Она милая, – сказал Николай.
– Да, – ответил Строгов.
– Хочет быть сильной, храбрая, видать, да только хрупкие они, батенька, внутри себя, эти малышки! Вы, поди, издалека? Идете-то давно ли?
– Очень давно.
– Вот бедняги! И такие молодые… Небось, здорово больно было, когда они тебе глаза выжигали?
– Больно, – сказал Михаил, поворачиваясь к Николаю, будто мог увидеть его.
– Ты не плакал?
– Да как сказать…
– Я бы тоже плакал. Подумать только: никогда больше не увидеть тех, кого любишь! Но, в конце-то концов, они зато тебя видят. В этом, пожалуй, все-таки есть своя отрада!
– Может, и так. А скажи, друг, – внезапно спросил Строгов, – ты меня никогда нигде не встречал?
– Тебя, батенька? Нет, никогда.
– А мне твой голос почему-то знаком.
– Только посмотрите на него! – ухмыльнулся Николай. – Он мой голос узнал! А может, ты это затем спрашиваешь, чтобы выведать, откуда я? Ну, это я тебе запросто скажу. Я еду из Колывани.
– Из Колывани? – повторил Строгов. – Значит, там-то я тебя и встречал. Ты из телеграфной конторы?
– Не без того, – хмыкнул Николай. – Я там сидел. Депеши передавал, служба такая.
– И ты оставался на посту до последней минуты?
– Так это ж и была та минута, до которой мне полагалось там быть!
– Дело был в тот день, когда англичанин и француз с пачками рублевок в руках спорили за место у твоего окошечка? Англичанин еще цитировал стихи из Библии!
– Это, батенька, возможно, да только я ничего такого не помню!
– Как так? Разве можно это забыть?
– Я никогда не читаю депеш, которые передаю. Поскольку мой долг велит их забывать, всего проще не знать их вовсе.
Этот ответ много сказал о нем.
Между тем кибитка неторопливо катила вперед, как бы Михаилу ни хотелось ускорить ее бег. Но Николай и его лошадь привыкли к этому аллюру, ни тот, ни другой не были склонны его менять. Через каждые три часа пути лошадь отдыхала – так было и днем, и ночью. Во время таких остановок лошадь паслась, а пассажиры кибитки подкреплялись в компании верного Серко. Провизии в кибитке хватило бы на два десятка едоков, и Николай щедро предоставил свои запасы в распоряжение двух гостей, которых он считал братом и сестрой.
После дня отдыха силы Нади отчасти восстановились. Николай старался, чтобы поездка была для нее как можно приятнее. Поэтому путешествие проходило в сносных условиях, правда, медленно, зато равномерно, без заминок. Случалось порой, что ночью Николай задремывал с вожжами в руках и начинал похрапывать с безмятежностью, свойственной людям со спокойной совестью. Тогда, если приглядеться, можно было заметить, как рука Михаила Строгова нащупывает поводья в надежде заставить лошадь прибавить шагу. Эти маневры удивляли Серко, впрочем, он ничего «не говорил». Потом, стоило Николаю продрать глаза, лошадь мигом возвращалась к своей привычной трусце, но кибитка все же выигрывала несколько верст сверх своей обычной скорости.
Так они пересекли речку возле Ишимска, миновали несколько селений, потом еще одну речку, Марьинку, и деревушку под тем же названием, сельцо Богатовское, наконец Чулу, маленький ручеек, разделяющий западную и восточную Сибирь. Дорога бежала то через ланды, где взгляду открывались бескрайние горизонты, то сквозь нескончаемые густые хвойные леса, из которых, казалось, уже никогда не суждено выбраться.
Повсюду было пустынно. Селения оказались почти совсем покинутыми. Жители бежали за Енисей, полагая, что эта широкая река, может быть, остановит нашествие.
К 22 августа кибитка достигла Ачинска, городка в трехстах восьмидесяти верстах от Томска. От Красноярска их отделяли еще сто двадцать верст. Этот отрезок путешествия обошелся без каких-либо неприятностей. За все шесть дней, проведенных вместе, Николай, Михаил и Надя оставались прежними, единственное, что омрачало их нерушимое спокойствие, – мысль двоих о том, что близится час, когда придется расстаться со своим третьим спутником.
Михаил Строгов, можно сказать, видел этот край, по которому они проезжали, глазами Николая и Нади. Они оба по очереди описывали ему места, мимо которых проезжала кибитка. Он знал, равнина вокруг или лес, когда среди степи стояла одинокая лачуга или какой-нибудь местный житель мелькал на горизонте. Николай был неистощим в своей словоохотливости. Ему нравилось болтать, и, какова бы ни была его манера смотреть на вещи, им тоже полюбилось его слушать.
Однажды Михаил Строгов спросил его, какая сегодня погода.
– Довольно хорошая, батенька, – ответил он, – но это уже последние летние деньки. Осень в Сибири коротка, скоро нас настигнут первые холода. Может, татары угомонятся на это время на зимних квартирах?
Михаил Строгов с сомнением покачал головой.
– Ты в это не веришь, батенька, – понял Николай. – Думаешь, они пойдут на Иркутск?
– Боюсь, что так, – вздохнул Михаил.
– Гм… Ты прав. С ними там один негодник, он их распаляет, не дает охолонуть на полдороге. Слышал, что рассказывают об Иване Огарове?
– Да.
– Знаешь, что ни говори, это не дело – свою страну предавать!
– Действительно, это нехорошо… – буркнул Михаил Строгов, стараясь сохранять невозмутимость.
– Батенька, – продолжал Николай, – сдается мне, что ты как-то чересчур спокойно толкуешь об этом Огарове! Твое русское сердце должно подпрыгивать, едва заслышав это имя!
– Поверь, друг, я ненавижу его больше, чем ты когда-либо сможешь его ненавидеть, – сказал Строгов.
– Это невозможно, – заявил Николай, ну уж нет! Как только подумаю об Огарове, о бедах, которые он причинил нашей святой Руси, меня такое зло берет! Да будь он у меня в руках, я бы…
– И что бы ты тогда сделал, друг?..
– Думаю, я бы его прикончил.
– Я тоже, уж будь уверен, – спокойно отвечал Михаил Строгов.
Глава VII. Переправа через Енисей
Вечером 23 августа на горизонте показался Красноярск. Путь сюда от Томска занял восемь дней. Как Михаил ни старался, побыстрее управиться не удалось, в основном потому, что Николай мало спал. Поэтому никак не удавалось подстегнуть бег его коня, который в других руках мог бы одолеть это расстояние часов за шестьдесят.
К счастью, о вражеском наступлении пока не было ни слуху, ни духу. Ни один лазутчик не появлялся на тракте, по которому ехала их кибитка. Это выглядело достаточно необъяснимым: должно быть, какое-то важное событие помешало войскам эмира незамедлительно двинуться на Иркутск.
Такое событие действительно имело место. Новый корпус русских, наспех собранный в Енисейской губернии, двинулся к Томску, чтобы попытаться отвоевать город обратно. Поскольку войска эмира, сосредоточенные теперь в одном месте, оказались сильнее, русским пришлось отступить. Ведь под началом Феофар-хана, кроме его собственных солдат, были воины Кокандского и Кундузского ханства, в общей сложности двести пятьдесят тысяч человек. Такому полчищу русское правительство пока не могло противопоставить соответствующие силы. Похоже, отразить нашествие так скоро было не суждено, и ничто не могло помешать всему этому воинству обрушиться на Иркутск.
Сражение под Томском состоялось 22 августа, чего Михаил Строгов еще не знал, но именно по этой причине к 25 числу эмирский авангард еще не добрался до Красноярска.
Так или иначе, хоть Строгов и не имел понятия о последних событиях, совершившихся после его ухода, он знал, по крайней мере, одно: он все же опередил врагов на несколько дней и теперь ему нельзя отчаиваться, у него есть шанс успеть в Иркутск прежде них. Для этого предстояло оставить позади еще восемьсот пятьдесят верст (900 километров).
К тому же он надеялся, что в Красноярске, где около двенадцати тысяч жителей, удастся раздобыть какое-нибудь средство передвижения. Поскольку Николай Пигасов должен был остановиться в этом городе, необходимо заменить его другим возницей, а кибитку – другим экипажем, который будет двигаться побыстрее. Обратившись к градоначальнику и не без удовольствия покончив с постылым инкогнито, Михаил выступит в своем истинном качестве государева фельдъегеря и, несомненно, будет обеспечен всем, что требуется, дабы как можно скорее достигнуть Иркутска. Тогда ему останется только поблагодарить славного малого Николая Пигасова и незамедлительно отправиться в путь вместе с Надей, с которой он не желал расстаться прежде, чем сможет вручить девушку ее отцу.
Однако Николай, хоть и собирался остановиться в Красноярске, но, как он говорил, лишь «приусловии, что там найдется работенка!»
В самом деле, этот образцовый служащий, до последнего продержавшись на своем посту в Кдлывани, только того и искал, чтобы снова оказаться в распоряжении властей.
– С чего бы мне получать жалованье, ежели я его не заработал? – твердил он.
Поэтому если его служба не потребуется в Красноярске, который, должно быть, все еще поддерживает телеграфную связь с Иркутском, он собирался отправиться в контору Удинска, а то и податься в столицу Сибири. В этом случае ему снова окажется по пути с братом и сестрой, это бы и для них хорошо – где они найдут такого надежного проводника и преданного друга?
Кибитке оставалось проехать всего полверсты до Красноярска. Справа и слева от дороги замелькали деревянные кресты, во множестве установленные здесь, на подступах к городу. Было семь часов вечера. На ясном небе четко вырисовывались силуэты церквей и домов, построенных на высоком скалистом берегу Енисея. Вода реки искрилась в последних мягко играющих в воздухе лучах заходящего солнца.
Но вот кибитка остановилась.
– Где мы, сестрица? – спросил Строгов.
– До ближайших домов самое большее полверсты, – ответила Надя.
– Этот городуже заснул, что ли? – снова заговорил Михаил. – Яне слышу ни единого звука.
– А я ни одного огонька не вижу, хоть уже темнеет, – сказала Надя. – И ни одного дымка в воздухе.
– Странный город! – проворчал Николай. – Никто не шумит, все спать залегли в такую рань!
Предчувствие, что дело плохо, пронзило сознание Строгова. Михаил не делился со своей спутницей надеждами, которые он возлагал на Красноярск, где рассчитывал получить верные средства для того, чтобы благополучно завершить свое путешествие. Но какже он теперь боялся, что надежды в который раз обманут его! Тем не менее девушка догадалась о его потаенных мыслях, хотя больше не понимала, чего ради ее спутник так спешит в Иркутск, если с ним больше нет письма императора. В тот день она, угадав его нетерпение, спросила об этом, но в ответ Михаил только и сказал:
– Я поклялся добраться до Иркутска.
Однако, чтобы исполнить свою миссию, ему надо было найти в Красноярске какое-нибудь быстрое средство передвижения…
– В чем дело, друг? – поторопил он Николая. – Почему мы не едем?
– Да вот боюсь, как бы стуком колес кибитки всех горожан не перебудить!
С этими словами Николай легонько стегнул лошадь. Серко гавкнул разок-другой, и кибитка тихонько покатила по дороге к Красноярску.
Десять минут спустя они выехали на широкую улицу. Красноярск был пуст! В этих «северных Афинах», как называла его мадам де Бурбулон, не осталось ни одного «афинца». Не видно блистательных экипажей, разъезжавших по чистым просторным улицам, влекомые великолепными лошадьми. Ни один прохожий не топчет тротуары, проложенные у подножия красивых, величественных деревянных домов! Элегантные сибирячки, одетые по последней парижской моде, больше не гуляют по дивному парку, чьи аллеи прорублены в березовом лесу, который простирается до берега Енисея! Онемел большой соборный колокол, и колокола церквей тоже молчат, а ведь это такая редкость, чтобы русский город не полнился колокольным звоном! Но здесь царило полнейшее безлюдье. В городе, еще недавно таком оживленном, не осталось ни единого живого существа!
Последняя телеграфная депеша, вышедшая из кабинета царя прежде, чем связь была прервана, содержала приказ, адресованный градоначальнику, гарнизону и жителям, кто бы они ни были: покинуть Красноярск, бежать в Иркутск, забрав с собой все ценное и такое, что может так или иначе послужить захватчикам; такое же распоряжение передать всем обитателям окрестных городков и селений. Московское правительство хотело создать на пути наступающих рукотворную пустыню. Эти приказы во вкусе Ростопчина никто и на минуту не подумал оспаривать. Они были исполнены, вот почему в Красноярске не осталось ни одной живой души.
Михаил Строгов, Надя и Николай молча ехали по безлюдным улицам, ошеломленные, подавленные. В этом мертвом городе не было ни единого звука, кроме шума, производимого их кибиткой. Строгов, хотя никому своих чувств не показывал, наверняка испытал что-то похожее на порыв ярости против судьбы, что преследовала его так упорно, снова и снова разрушая все надежды.
– Боже ты мой! – вскричал Николай. – В этой пустыне мне уж точно никакого жалованья не заработать!
– Друг, – сказала Надя, – тебе придется ехать с нами в Иркутск.
– И верно, этого не миновать! – согласился Николай. – Между Удинском и Иркутском линия еще, наверное, не оборвана… Отправимся, батенька?
– Подождем до завтра, – вздохнул Михаил.
– Ты прав. Нам же переправляться через Енисей, тут надо, чтобы видимость была.
– Видимость… – прошептала Надя, подумав о своем слепом друге.
Николай услышал ее. Он повернулся к Михаилу:
– Извини, батенька. Для тебя-то что день, что ночь, все едино…
– Не упрекай себя, друг, – сказал Строгов и машинально провел ладонью по глазам. – С таким проводником, как ты, я еще кое на что годен.
Стало быть, передохни несколько часов. И Надя тоже пусть отдохнет. До завтра, когда рассветет!
Михаилу, Николаю и Наде не пришлось долго искать место для отдыха. Первый дом, дверь которого они толкнули, был так же пуст, как все прочие. Там не нашлось ничего, кроме нескольких березовых веников. Лошади за неимением лучшего пришлось ограничиться этой убогой пищей. Что до продовольственных запасов кибитки, они не оскудели, и каждый получил свою долю. Потом девушка и Николай помолились, преклонив колена перед скромным образом – панагией, висящей на стене и освещенной светом догорающей лампы, и улеглись спать. Бодрствовал один Михаил Строгов, сон не мог одолеть его.
На следующий день, 26 августа, еще до рассвета кибитка, снова запряженная, покатила через березовый парк к берегу Енисея.
Михаил Строгов был весьма озабочен. Что ему делать, как переправиться через реку, если (а это всего вероятнее) все лодки и паромы уничтожены с целью задержать наступление противника? Он знал Енисей, ему не раз случалось переправляться через него. Знал, какая это широкая река, насколько сильно течение в двух ее рукавах, пробивших себе путь среди островов. При обычных обстоятельствах с помощью паромов, приспособленных специально для перевозки проезжающих, их лошадей и экипажей, переправа через Енисей занимала часа три, паромы достигали правого берега не иначе, как ценой огромных усилий. Как же кибитка сможет перебраться на другой берег в отсутствие каких-либо плавучих средств?
«И все-таки я переправлюсь!» – твердил себе Михаил Строгов.
Солнце уже поднималось над горизонтом, когда кибитка выехала на левый берег, туда, куда вела одна из больших аллей парка. В этом месте берег достигал высоты сотни фунтов над уровнем реки. Следовательно, отсюда открывался обширный вид на течение Енисея.
– Вы видите паром? – спросил Михаил Строгов, жадно, будто сам мог что-то увидеть, водя глазами туда и сюда – разумеется, это получалось у него по привычке, машинально.
– Едва развиднелось, брат, – отвечала Надя. – Туман над рекой еще так густ, что и воды не разглядишь.
– Но это ведь ее шум я слышу?
Действительно, из-под пелены тумана раздавался глухой ропот прихотливых струй, они сталкивались друг с другом, образуя водовороты. Енисей в эту пору чрезвычайно полноводен, его течение отличается буйной мощью. Все трое прислушивались, ожидая, когда рассеется завеса тумана. Солнце, выкатившись из-за горизонта, быстро поднималось, его первые лучи должны были вот-вот разогнать пар.
– Ну, что там? – нетерпеливо спросил Михаил.
– Туман начинает клубиться, брат, – отвечала Надя, – солнце уже просвечивает сквозь него.
– Но ты еще не видишь реку, сестра?
– Пока нет.
– Немного терпения, батенька, – сказал Николай. – Все это сейчас растает! Вот, и ветерок подул! Он разгонит его. Уже видны деревья на высоких холмах правого берега! Туман расходится! Улетает! Доброе солнышко растопило его! Ах, какже красиво, бедный ты мой слепец, для тебя сущая беда, что ты не можешь полюбоваться на все это!
– Ты видишь судно? – перебил его Строгов.
– Ничего похожего, – вздохнул Николай.
– Смотри внимательно, друг, на этот берег и на противоположный, как можно дальше, насколько хватает глаз! Хоть что-нибудь – паром, барка, берестяная лодочка?
Николай и Надя, цепляясь руками за стволы берез, растущих на самом краю скалистого берега, вглядывались вдаль, вытягивали шеи, наклонившись над обрывом. Их взгляду открылась огромная панорама. Енисей, ширина которого в этом месте достигает как минимум полутора верст, образует здесь два рукава. Один из них существенно больше второго, но течение в обоих стремительное. Между этими двумя рукавами расположены несколько островов, поросших ольхой, ивами и тополями; выглядят они так, будто вереница судов стала на якорь посреди реки да и зазеленела. Дальше, за ними, уступами громоздятся высокие холмы восточного берега, увенчанные лесом, верхушки которого в этот момент как раз золотились и розовели в лучах восходящего солнца. Енисей, торопливо бегущий от верховьев к устью, в оба конца был виден далеко, сколько хватало глаз. Вся эта величественная панорама плавно закруглялась, на взгляд образуя полукруг периметром в полсотни верст.
Но нигде – ни лодочки: ни на левом берегу, ни на правом, ни на островах. Уходящие согласно приказу все забрали с собой или разрушили. Яснее ясного: если бухарцы не распорядились доставить им с юга материалы, нужные, чтобы соорудить понтонный мост, Енисей послужит хорошим барьером: он их задержит на какое-то время, марш на Иркутск прервется.
– Помнится, – сказал тогда Михаил Строгов, – выше по течению, у последних домов Красноярска есть маленькая пристань. Туда причаливают паромы. Друг, сходим-ка туда, авось найдем там на берегу какую-нибудь забытую лодку.
Николай тотчас устремился в указанном направлении. Надя взяла Михаила за руку и быстрым шагом повела его за собой. Только бы нашлась барка, простая плоскодонка достаточных размеров, чтобы перевезти кибитку или, если это невозможно, переправить хотя бы ее пассажиров, и Михаил Строгов без колебаний попытается форсировать реку!
Двадцать минут спустя все трое подошли к маленькому порту, крайние строения которого начинались у самой воды. Это было нечто вроде деревеньки, прилепившейся к Красноярску снизу.
Но на песчаной отмели не было ни единого суденышка, и на свайном помосте, служившем пристанью, тоже. Не из чего было даже соорудить плот, способный выдержать трех человек.
Такой обескураживающий ответ Николай дал на расспросы Строгова: он находил, что переправиться через реку абсолютно невозможно.
– Мы сделаем это, – сказал Михаил.
И они продолжили поиски. Обшарили несколько домов, притулившихся у самого берега и брошенных так же, как все дома в Красноярске. Достаточно было толкнуть дверь любого из них, и она распахивалась. Но все это были лачуги бедняков, совершенно пустые. Пока Николай заходил в один, Надя осматривала другой. Да и сам Михаил Строгов заходил туда и сюда, пытался руками нащупать что-нибудь, что могло бы послужить для его целей.
Николай и девушка, каждый со своей стороны, тщетно рылись в этих хижинах, они уже собирались прекратить поиски, когда услышали, что ихзовут.
Оба поспешили на берег. Там они увидели Михаила Строгова на пороге одного из домов.
– Идите сюда! – кричал он.
Николай и Надя поспешили к нему и вслед за ним вошли в хижину.
– Что это? – спросил Строгов, ощупывая ладонью предметы, грудой наваленные в кладовке.
– Бурдюки, – отвечал Николай. – Их здесь, чтоб мне провалиться, с полдюжины!
– Они полные?
– Да, в них кумыс. Очень кстати: пополним наши запасы!
Кумыс – напиток, изготовляемый из молока кобыл или верблюдиц, это укрепляющее и даже опьяняющее питье, Николай не мог не обрадоваться такой находке.
– Отложи их в сторону, – сказал ему Михаил. – Но сначала опустоши.
– Сию минуту, батенька.
– Вот что нам поможет переплыть Енисей.
– А плот где возьмем?
– Сама же кибитка нам и послужит. Она достаточно легкая, может плыть. К тому же при помощи этих бурдюков мы будем поддерживать на плаву и ее, и лошадь.
– Славно придумано, батенька! – закричал Николай. – Этак с Божьей помощью мы доберемся… Хоть, понятное дело, не по прямой линии – больно здесь течение быстрое!
– Неважно! – отмахнулся Михаил. – Сначала переправимся, а уж дорогу на Иркутск как-нибудь найдем, нам лишь бы на ту сторону попасть.
– Задело! – и Николай тут же принялся опорожнять бурдюки и перетаскивать их к кибитке.
Один, полный кумыса, был оставлен про запас, остальные тщательно завязали, сперва наполнив воздухом, чтобы использовать как плавучее средство. Пара бурдюков, привязанных к лошадиным бокам, была призвана удерживать животное на поверхности. Два других прикрепили к оглоблям кибитки между колесами, чтобы обеспечить ее устойчивость, преобразовав в своего рода судно.
Эта работа была вскорости закончена.
– Ты не боишься, Надя? – спросил Строгов.
– Нет, брат, – ответила девушка.
– А ты, друг?
– Я-то? – воскликнул Николай. – Да я всю жизнь мечтал поплавать в кибитке! Наконец мечта сбудется!
Берег в этом месте был довольно покатым, это способствовало спуску кибитки на воду. Лошадь протащила ее до самой кромки воды, вскоре устройство и его четвероногий «движитель» уже покачивались на волнах. Что до Серко, он храбро пустился вплавь.
Трое пассажиров стояли в кибитке, из предосторожности разувшись, но благодаря бурдюкам вода не доходила им даже до щиколоток.
Михаил Строгов держал поводья лошади и, следуя указаниям Николая, направлял ее, но по косой, щадя животное, которое в противном случае изнемогло бы в борьбе с течением. Все шло хорошо именно потому, что кибитка с ним не слишком боролась, и через несколько минут их уже отнесло от красноярских пристаней. Они дрейфовали в северном направлении, и было уже понятно, что кибитка пристанет к противоположному берегу значительно ниже по течению. Но это не беда.
Итак, переправа через Енисей даже на таком несовершенном устройстве не сулила бы больших трудностей, если бы течение было равномерным. Но на беду бурные речные струи тут и там сталкивались, образуя водовороты, и скоро кибитку наперекор усилиям, которые Михаил прилагал, лавируя среди них, стало неудержимо затягивать в одну из этих воронок.
Дело принимало крайне опасный оборот. Кибитка больше не двигалась наискосок к противоположному берегу, не шла галсами, а крутилась со страшной скоростью, сдвигаясь все ближе к центру водоворота, словно наездник на цирковой дорожке. Движение становилось еще стремительнее. Лошади с трудом удавалось держать голову над водой, ее неслов водоворот, она рисковала захлебнуться; теперь ей приходилось опираться на кибитку.
Михаил Строгов понимал, что происходит. Он чувствовал, как его несет по замкнутому кругу, который мало-помалу сужается, из него уже не вырваться. Он не произнес ни слова. Если бы его глаза могли видеть эту погибель, был бы хоть какой-то шанс ее избежать… Но они не могли!
Надя тоже молчала. Ее руки, судорожно вцепившись в борта кибитки, силились удержать импровизированную посудину в равновесии наперекор беспорядочным скачкам, вследствие которых она соскальзывала все ближе к центру воронки.
Что касается Николая, трудно сказать, сознавал ли он всю серьезность положения? Что им управляло – презрение к опасности, прирожденная флегматичность, отвага, безразличие? Или, может быть, жизнь в его глазах не имела цены, была, по восточному выражению, лишь «пятидневным гостеваньем», которое, хочешь не хочешь, закончится к шестому дню? Как бы там ни было, его улыбчивая физиономия не выдавала ни малейшей тревоги.
Итак, кибитку все крутило в водовороте, и Серко терял последние силы. Внезапно Михаил Строгов, сбросив с себя часть одежды, стеснявшей его движения, бросился в воду. Затем, могучей рукойухватив испуганную лошадь за повод, он с такой силой поволок ее в сторону, что человеку и животному общими усилиями удалось вырваться за пределы сферы притяжения воронки. Быстрое течение тотчас подхватило кибитку, и она снова понеслась вперед.
– Ура! – закричал Николай.
Всего через два часа после того, как кибитка отчалила от пристани, она преодолела первый, широкий рукав Енисея и пристала к одному из островов в шести с лишним верстах вниз по реке, если считать от точки отправления.
Там лошадь вытащила повозку на берег, и храброму животному дали час отдыха. Потом они пересекли остров, сплошь поросший великолепными березами, и кибитка, прокатившись под их сенью, выехала ко второму, маленькому речному рукаву.
Однако форсировать его оказалось тоже непросто. Здесь никакие водовороты более не преграждали им путь, зато течение было настолько быстрым, что до правого берега кибитка доплыла еще на пять перст вниз по реке. В целом получалось одиннадцать верст отклонения в сторону.
На огромных реках, протекающих по территории Сибири, пока нет мостов, это делает их серьезным препятствием, весьма затрудняющим сообщение. Для Михаила Строгова все эти переправы оборачивались более или менее драматично. Паром, на котором они с Надей переплывали Иртыш, подвергся нападению ханских вояк. На Оби, когда его коня настигла пуля, он только чудом спасся от гнавшихся за ним всадников. В сравнении с теми приключениями переправа через Енисей оказалась все же менее мучительной.
– Это не было бы таким забавным, не будь оно так трудно! – потирая руки, воскликнул Николай, когда они выбрались на правый берег реки.
– То, что для нас было всего лишь трудно, друг, для бухарцев, может быть, окажется непосильным! – ответил Михаил Строгов.
Глава VIII. Заяц, перебежавший дорогу
Наконец-то Михаил Строгов смог поверить, что дорога на Иркутск свободна. Он опередил врагов, которые замешкались в Томске, а когда солдаты эмира доберутся до Красноярска, они там найдут одни опустевшие дома. И ничего, что позволило бы незамедлительно пересечь Енисей! Итак, им обеспечены несколько дней задержки, покуда понтонный мост, соорудить который затруднительно, не обеспечит им переправу.
Впервые после роковой встречи в Омске с Иваном Огаровым царский фельдъегерь почувствовал, что тревога отступает, можно надеяться, что никакое новое препятствие больше не встанет между ним и его целью.
Кибитка, которую течением отнесло по косой на пятнадцать верст к юго-востоку, теперь снова выехала на тракт и возобновила свой долгий путь по степи. Дорога была хороша, этот ее отрезок между Красноярском и Иркутском даже можно считать лучшим из всех, что Михаилу пришлось проехать за последние недели. Меньше колдобин, на которых путников трясет, широкие кроны деревьев, защищающие их от жарких солнечных лучей, ведь там сосновые и кедровые леса тянутся на сотню верст. Это уже не бескрайняя степь, чей горизонт, образуя круг, сливается с небом. Но и этот щедрый край в те дни опустел. Повсюду – покинутые селения. Больше не встретишь местных сибирских крестьян, среди которых преобладает славянский тип. Теперь это была пустыня – и, как мы знаем, пустыня, возникшая по приказу.
Стояла хорошая погода, но воздух, свежея за ночь, уже не так легко прогревался на солнце. Ведь настали первые числа сентября, и здесь, в северных широтах, световой день к осени заметно сокращается, дуга, по которой солнце поднимается над горизонтом, становится все ниже. А осень здесь продолжается недолго, хотя эта часть территории Сибири расположена не выше пятьдесят пятой параллели, то есть находится на той же широте, что Эдинбург и Копенгаген. Порой зима даже сменяет лето почти внезапно. Это происходит потому, что зимы в азиатской части России наступают раньше положенного срока, и тогда столбик термометра опускается до точки замерзания ртути (около 42 градусов ниже нуля), недаром там температура около минус двадцати по Цельсию считается еще терпимой.
Итак, погода благоприятствовала путникам. Ни дождей, ни ураганов. Жара стала умеренной, ночи прохладными. Надя поздоровела, Михаил Строгов тоже окреп: с тех пор, как покинули Томск, оба мало-помалу восстановили свои силы, подорванные пережитыми тяготами.
Что до Николая Пигасова, он никогда не чувствовал себя лучше. Для него эта поездка была прогулкой, приятной экскурсией, так он коротал свой негаданный отпуск служащего, лишенного службы.
«Это определенно лучше, чем двенадцать часов в день сидеть на стуле и орудовать телеграфным ключом!» – говорил он себе.
Михаил Строгов смогуговорить Николая гнать свою лошадь побыстрей. Чтобы добиться этого, ему пришлось доверительно признаться, что они с сестрой направляются к своему отцу, сосланному в Иркутск, и очень спешат. Разумеется, загонять этого коня никак нельзя, весьма вероятно, что они не найдут другого взамен, но если обеспечить ему достаточно частые передышки – например, через каждые пятнадцать верст, – за сутки можно будет без особого труда одолевать верст шестьдесят. К тому же лошадь на диво крепкая, сама ее порода говорит о том, что она способна переносить продолжительные нагрузки. Богатые пастбища ей обеспечены на всем протяжении пути, трава здесь густая и сочная. Значит, можно попросить это животное и поработать сверхурочно.
Николай уступил, прислушавшись к этим доводам. Его очень взволновала история двух молодых людей, которые спешат разделить со своим отцом его изгнание. Ничего более трогательного, как ему казалось, он сроду не слышал. Поэтому он сказал Наде – и ах, с какой улыбкой! – такие слова:
– Сердце, полное божественнойдоброты! Какая радость ждет господина Корпанова, когда его глаза увидят вас, когда он раскроет свои объятия, чтобы прижать вас к груди! Если я доеду до Иркутска – а мне это теперь кажется весьма вероятным, – вы мне позволите присутствовать при этой встрече? Да, не правда ли?
Но тут же хлопнул себя по лбу:
– Нет, но как подумаешь, какое он испытает горе, узнав, что его старший сын ослеп! Ах! Все так перемешано в этом мире!
Вследствие всего этого кибитка покатила резвее и, по расчетам Михаила Строгова, делала теперь от десяти до двенадцати верст в час.
Так и вышло, что 28 августа путники проехали городок Балайск, находившийся в восьмидесяти верстах от Красноярска, а 29-го миновали Рыбинск, отстоящий от Балайска на сорок верст.
На следующий день, одолев еще тридцать пять верст, они прибыли в Канск, город покрупнее, названный по омывающей его реке Кан. Эта река – маленький приток Енисея, берущий начало на Саянах. Город малозначителен, его деревянные дома живописно теснятся вокруг центральной площади, но над ней возвышается высокая соборная колокольня с блистающим на солнце крестом.
Дома безлюдны, храм пуст. Больше нет ни почтовой станции, ни обитаемого постоялого двора. В конюшнях ни одной лошади. В степи ни единого домашнего животного. Приказы московского правительства были исполнены с безукоризненной точностью. Все, чего уходящие не смогли забрать с собой, было разрушено.
Выезжая из Канска, Михаил Строгов сообщил Наде и Николаю, что им встретится на пути к Иркутску только один мало-мальски значительный городок – Нижнеудинск. В ответ Николай сказал, что он это знает как нельзя лучше, ведь в том городе имеется телеграфная контора. А стало быть, если Нижнеудинск покинут также, как Камск, ему придется в поисках новой службы добираться до самой столицы восточной Сибири.
Кибитка смогла без большого труда пройти вброд здешнюю речку, которая пересекла им дорогу, как только они миновали Канск. Дальше между Енисеем и одним из его крупных притоков, Ангарой, на берегу которой стоит Иркутск, можно было не опасаться больших водных преград, разве что переправа через Динку сулила некоторые осложнения, да и то вряд ли. Итак, особых задержек с этой стороны ожидать не стоило.
От Канска до следующего населенного пункта путь лежал не близкий: верст сто тридцать. Остановки, предусмотренные договором, разумеется, соблюдались, иначе, как выражался Николай, со стороны лошади последовали бы обоснованные нарекания. Он этой храброй скотинке обещал, что через каждые пятнадцать верст она будет отдыхать, а уж коли условился, пусть даже с животным, изволь не выходить за пределы контракта!
Перебравшись через маленькую речку Бирюсу, кибитка утром 4 сентября подкатила к Бирюсинску.
Там их ждала большая удача: Николай, заметив, что съестные припасы на исходе, пошарив тут и там, нашел в брошенной печи дюжину «борщевиков», пирогов, испеченных на бараньем сале, и немалый запас риса, сваренного на воде. Это добавление к кумысу, которого у них после Красноярска было вдоволь, пришлось весьма кстати.
После запланированной остановки они продолжили свой путь. Было уже 5 сентября, шла вторая половина дня. До Иркутска оставалось всего пятьсот верст. И позади было слыхом не слыхать бухарского авангарда. Михаил Строгав твердо уверился, что ему больше не грозят никакие препоны и дней через восемь, самое большее через десять, он предстанет перед великим князем. Когда отъехали от Бирюсинска, через дорогу шагах в тридцати от кибитки перебежал заяц.
– Ох! – вырвалось у Николая.
– Что с тобой, друг? – с живостью спросил Строгов: его с тех пор, как он ослеп, настораживал малейший звук.
– Ты разве не видел? – буркнул Николай, чья улыбчивая физиономия внезапно омрачилась.
Затем, опомнившись, добавил:
– А, ну-да, ты же видеть не можешь. Твое счастье, батенька!
– Но и я тоже ничего не видела, – сказала Надя.
– Тем лучше, да, тем лучше для вас! Но я… я-то видел!
– Да что такое? – не выдержал Михаил.
– Заяц только что перебежал нам дорогу! – возвестил Николай.
На Руси есть народное поверие, что если дорогу пересекает заяц, это знак, сулящий путнику близкую беду.
Суеверный, как большинство русских, Николай остановил кибитку.
Михаил понимал колебания своего спутника, хотя сам ни в малой степени не разделял его веры в зловещий смысл пробегающих зайцев. Он попытался успокоить парня:
– В этом нет ничего страшного, друг.
– Для тебя да, для нее тоже, это я, батенька, и сам знаю, – отвечал Николай. – Но для меня…
Однако тут же, собравшись с духом, фаталистически изрек:
– Это судьба.
И снова пустил коня рысцой.
Однако наперекор мрачному предзнаменованию день прошел без каких-либо неприятностей.
Назавтра, 6 сентября, кибитка остановилась в полдень в таком же безлюдном поселке, как вся округа.
Там на пороге одного из домов Надя нашла два ножа с крепким лезвием, такие в ходу у сибирских охотников. Один она передала Михаилу Строгову, и тот спрятал его под одеждой, другой девушка забрала себе. До Нижнеудинска кибитке оставалось проехать всего семьдесят пять верст.
Однако к Николаю за эти два дня так и не вернулось его обычное хорошее настроение. Дурная примета подействовала на него сильнее, чем можно было ожидать, и он, до сей поры часа не проводивший без болтовни, впадал порой в долгое тягостное молчание, и Наде с трудом удавалось вывести его из этого состояния. То были симптомы настоящего душевного расстройства, что объяснимо там, где речь идет о людях, принадлежащих к тем северным расам, чьи суеверные предки были основателями гиперборейской мифологии.
Начиная от Екатеринбурга, иркутский тракт проходит почти параллельно пятьдесят пятому градусу северной широты, но после Бирюсинска заметно отклоняется к юго-востоку, так что пересекает сотый меридиан под углом. Следуя в направлении Иркутска по кратчайшей, эта дорога достигает предгорьев Саян, которые являются не чем иным, как ответвлением Алтая, огромной горной цепью, которая видна на расстоянии двух сотен верст.
Итак, кибитка мчалась по этому тракту. Да, мчалась! Было очевидно, что Николай теперь и в мыслях не имел щадить свою лошадь, ему и самому не терпелось добраться до цели. Несмотря на все свое смирение, отдающее фатализмом, он больше не чувствовал себя в безопасности нигде, успокоиться он сможет разве что под защитой стен Иркутска. Многие русские на его месте чувствовали бы то же, что и он: сколько их было, тех, кто поворачивал коня и возвращался назад из-за того, что заяц перебежал дорогу!
Между тем он делал кое-какие наблюдения, а Надя передавала их Михаилу, попутно следя, чтобы информация была точной. Исходя из того, что он слышал, Строгов поневоле приходил к заключению, что череда уготованных им испытаний, пожалуй, еще не исчерпана.
В самом деле: если после Красноярска природа тех мест, по которым они проезжали, выглядела нетронутой, то теперь им встречались леса, покалеченные огнем и железом, луга вдоль обочин были так вытоптаны, что становилось ясно: здесь прошло какое-то большое войско.
Верст за тридцать до Нижнеудинска следы недавних опустошений стали настолько многочисленными, что не придавать им значения было уже невозможно. Не осталось и надежды, что все это объясняется чем-либо иным, кроме нашествия бухарцев.
Действительно, здесь уже не только поля были истоптаны лошадиными копытами, но и вырублены леса. Некоторые дома, разбросанные вдоль дороги, стояли не просто пустые, но либо полуразрушенные, либо полусожженные. На их стенах виднелись отметины от пуль.
Можно понять, какая тревога охватила Строгова. Сомнения не было: здесь недавно прошел корпус ханской армии. А вместе с тем это не воины эмира, ведь они не могли обогнать кибитку, оставшись не замеченными. Но кто же они тогда, эти новые захватчики, по какой окольной степной дороге они умудрились выйти на главный тракт, ведущий к Иркутску? С какими новыми врагами еще предстояло столкнуться царскому фельдъегерю?
Этими опасениями Михаил Строгов не делился ни с Николаем, ни с Надей – не хотел их тревожить. К тому же он решил продолжать путь, пока какое-либо непреодолимое препятствие не остановит его. Потом видно будет, что ему делать.
На следующий день признаки того, что здесь недавно прошло значительное войско, состоявшее из пехоты и кавалерии, стали еще очевиднее и многочисленнее. Из-за горизонта здесь и там поднимались клубы дыма. Теперь пассажиры кибитки двигались вперед с предосторожностями. Некоторые дома покинутых селений у них на пути еще горели: наверняка их подожгли не раньше, чем сутки тому назад.
Наконец 8 сентября кибитка остановилась. Конь отказался двигаться дальше. А Серко залился жалобным лаем.
– Что там такое? – спросил Строгов.
– Труп! – отвечал Николай, выпрыгивая из кибитки.
Это было тело мужика, ужасно покалеченное и уже остывшее.
Николай перекрестился. Потом с помощью Михаила Строгова он перенес мертвеца на обочину дороги. Он хотел бы достойно похоронить его, зарыть глубоко, чтобы степные хищники не растерзали останки несчастного, но Михаил Строгов не дал ему времени на это.
– Едем, друг, едем! – крикнул он. – Нам нельзя медлить! Мы ни часа не должны терять!
И кибитка покатила дальше.
К тому же если бы Николай вздумал отдавать последние почести всем мертвым, которых они теперь находили на большой сибирской дороге, у него бы ни сил, ни времени не хватило! На подступах к Нижнеудинску эти тела, распростертые на земле, встречались им десятками.
Однако надо было продолжать путь, пока это не станет абсолютно невозможным, и при этом не попасть в лапы захватчиков. Итак, они двигались той же дорогой, но от села к селу опустошений и руин встречалось все больше. Эти деревни, чьи названия говорили о том, что их основали ссыльные поляки, подверглись всем ужасам грабежей и поджогов. Кровь жертв даже еще не совсем запеклась. Но понять, при каких обстоятельствах произошли все эти кошмарные события, было невозможно. Здесь не осталось ни одной живой души, которая могла бы о том поведать.
В тот день, часов около четырех, Николай разглядел на горизонте высокие колокольни церквей Нижнеудинска. Над ними поднимались серо-белые клубы – вряд ли это были облака.
Николай и Надя вглядывались вдаль и пересказывали Михаилу Строгову результаты своих наблюдений. Пришла пора принять решение. Если город покинут, его можно пересечь без риска, но если враги по каким-то причинам там засели, его необходимо обогнуть любой ценой.
– Едем вперед! – сказал Михаил Строгов. – С оглядкой, но вперед!
Проехали еще одну версту.
– Там не облака, а дым! – закричала Надя. – Брат, они подожгли город!
Это уже было более чем очевидно. Из-под серых клубов то здесь, то там мелькали языки пламени. Дым закручивался все гуще, поднимался к небу. И нигде ни одного беглеца. Вероятно, поджигатели, найдя город пустым, подожгли его. Но вправду ли это сделали захватчики? Может быть, сами русские подчинились соответствующему приказу великого князя? Разве царское правительство не распорядилось, чтобы от Красноярска до Енисея ни один город, ни одно селение не могли дать приют солдатам эмира? Но как быть Михаилу Строгову? Следует ли ему продолжать путь, или он должен остановиться?
Им овладела нерешительность. Тем не менее, взвесив все за и против, он подумал, что, как ни тяжко тащиться по степи без дороги, непозволительно рисковать второй раз попасть в руки противника. Следовательно, он убедит Николая свернуть с тракта и, если иначе нельзя, вернуться туда, только обогнув Нижнеудинск. Но тут где-то справа грянул выстрел. Просвистела пуля, и лошадь, что везла кибитку, упала мертвой.
В то же мгновение на дорогу вылетела дюжина всадников, они окружили кибитку. Михаил Строгов, Надя и Николай, не успев опомниться, попали в плен. Их без промедления потащили в Нижнеудинск.
Несмотря на столь внезапную атаку, Михаил Строгов не потерял присутствия духа. О самозащите нечего было и думать, ведь он не видел своих врагов. Да если бы и видел, он бы не сделал такой попытки. Это навлекло бы смерть на них всех. Однако, лишенный возможности видеть, он слышал и понимал все, о чем говорили эти люди.
Действительно, по их языку он определил, что это бухарцы, а из их слов узнал, что они – передовой отряд армии захватчиков.
Вот что Михаилу Строгову удалось выяснить из обрывков подслушанных им фраз, когда они разговаривали при нем и позже.
Эти солдаты не находились под непосредственным командованием эмира, который все еще оставался на противоположном берегу Енисея. Они принадлежали к третьей колонне, сформированной исключительно из воинов Кокандского и Кундузского ханств, с которой армия Феофара должна была вскоре соединиться в окрестностях Иркутска.
Чтобы обеспечить успех захвата восточных провинций, эта колонна, по совету Ивана Огарова, перейдя границу Семипалатинской губернии и обогнув озеро Балхаш с юга, двинулась вдоль Алтайского хребта. Грабя и опустошая все на своем пути под командованием офицера, поставленного во главе ее кундузским ханом, она вышла к верховьям Енисея. Там в предвидении того, что будет сделано в Красноярске по государеву приказу, и чтобы облегчить переправу эмирскихвойскчерез реку, этот офицер спустил на воду флотилию барок, которые как плавучее средство, а при надобности как материал для составного моста помогут Феофару и его людям перебраться через Енисей и продолжить марш на Иркутск уже по правому берегу. Затем эта третья колонна, обойдя предгорья, спустилась в долину Енисея и выступила на тракт за семьдесят верст от Нижнеудинска. Начиная оттуда, вдоль дороги в страшном изобилии громоздились руины, ведь это основа основ азиатского ведения войны. Нижнеудинск не замедлил разделить общую участь, и захватчики, числом пятьдесят тысяч, уже покинули его, чтобы занять позиции на подступах к Иркутску. Еще немного – и они вольются в войско эмира.
Такое положение сложилось на текущий день – ситуация крайне серьезная для этой части восточной Сибири, абсолютно изолированной от внешнего мира, и для защитников ее столицы, не столь многочисленных, по сравнению с полчищами захватчиков.
Итак, Михаил Строгов узнал, что третья колонна противника прибудет в Иркутск, вот-вот присоединится к большей части армии под предводительством эмира и Ивана Огарова. Следовательно, осада города и его последующая сдача – всего-навсего вопрос времени, возможно, весьма короткого.
Понятно, какие мысли должны были одолевать Михаила Строгова! Кто бы удивился, если бы в такой ситуации он наконецутратил мужество и всякую надежду? Однако ничего подобного! Даже чуть слышно, про себя его губы не произнесут иных слов, кроме этих:
– Я добьюсь цели!
Спустя полчаса после нападения вражеских всадников Михаил, Николай и Надя были доставлены в Нижнеудинск. Верный пес бежал следом за ними, но близко не подходил. Но в городе, охваченном огнем, они оставаться не могли, оттуда ушли уже и последние мародеры.
Поэтому солдаты посадили своих пленников на лошадей и понеслись прочь от города, причем Николай, как всегда, покорился судьбе, Надя тоже сохраняла спокойствие, неколебимая в своей вере в Михаила Строгова; последний же, с виду равнодушный, только и ждал малейшего повода вырваться на волю.
От внимания бухарцев не укрылось то обстоятельство, что один из пленных слеп. Будучи по природе варварами, они сделали себе из этого забаву: потешались над несчастным как могли. Ехали быстро, и лошадь Строгова, никем не направляемая, кроме него, скакала, как придется, то и дело сворачивала в сторону, ломая строй отряда. Это навлекало на Михаила грубую брань и удары, которые возмущали Николая, а у Нади и подавно разрывалось сердце. Но что они могли сделать? Они ведь даже не знали языка захватчиков, любое их вмешательство встретило бы самый безжалостный отпор.
Вскоре у этих солдат, на свой варварский манер склонных к изыскам, возникла даже идея заменить лошадь, на которой ехал Михаил Строгов: дать ему слепого коня. Основанием для такой замены стало замечание одного из всадников, которое достигло слуха Михаила:
– А может, он все-таки видит, этот русский?
Происходило все это в шестидесяти верстах за Нижнеудинском, вблизи селения Чибарлинское. Итак, незрячего всадника усадили на слепую лошадь, вложив смеха ради ему в руки поводья. Потом мучители принялись стегать животное нагайками, швырять в него камнями и орать, чтобы пустить в галоп.
Лошадь, такая же слепая, как и всадник, лишенный возможности направлять ее, то и дело сбивалась с дороги, налетала на деревья, Михаил тоже пытался вытерпеть боль от ударов о препятствия и тряски. Его конь даже падал несколько раз, что могло привести к самым печальным последствиям.
Однако Строгов не протестовал. Никто не услышал от него ни слова жалобы. Если лошадь падала, ждал, пока подойдут и поднимут. Действительно поднимали, и жестокая потеха продолжалась. Николай не мог выдержать этого зрелища. Он пытался броситься на помощь своему товарищу. Тогда его удерживали и вдобавок избивали.
Эта забава, вне всякого сомнения, так и длилась бы день за днем к радости бухарцев, если бы ей не положило конец происшествие более серьезное.
Наступил момент, когда – дело было 10 сентября – слепая лошадь понесла прямиком к расположенному у края дороги провалу глубиной футов в сорок-пятьдесят. Николай хотел броситься следом! Его опять удержали. Лошадь, никем не управляемая, рухнула в эту яму вместе с седоком.
У Нади и Николая вырвался крик ужаса!.. Они, конечно, думали, что после такого падения их спутник разбился вдребезги!
Однако когда подошли посмотреть, что с ним случилось, обнаружили, что Михаил Строгов сумел такудачно вылететь из седла, что не получил ни царапины. А вот у несчастное лошади были сломаны две ноги, она больше ни на что не годилась. Ее так и бросили подыхать, даже добить не удосужились, а Михаила Строгова привязали к седлу одного из всадников, вынудив пешком следовать за отрядом.
И снова – ни одной жалобы или протеста! Пленник шел таким быстрым шагом, что веревка, притороченная к седлу, даже не слишком натягивалась. Он по-прежнему оставался тем же «железным человеком», которого генерал Кусов так нахваливал царю!
На следующий день, 11 сентября, отряд достиг поселка Чибарлинское. Здесь и произошло событие, которое должно было повлечь за собой весьма серьезные последствия.
Уже стемнело. Ханские всадники после того, какустроили привал, были более или менее пьяны. Они собирались двинуться дальше.
И тут Надю, которую до сих пор каким-то чудом никто не трогал, оскорбил один из этих солдат. Михаил Строгов не мог видеть ни самого негодяя, ни его выходки, зато Николай видел все.
Тогда спокойно, не задумываясь, а может, и не сознавая, что делает, он двинулся прямо к солдату и прежде, чем тот успел его остановить, выхватил из седельной кобуры пистолет и разрядил ему прямо в грудь.
На выстрел тотчас примчался офицер, командующий этим отрядом.
Всадники ринулись к несчастному Николаю, готовые изрубить его на куски, но по знаку командира только накинули ему петлю на шею, мешком перебросили через седло, и отряд пустился в галоп.
Строгов уже почти перегрыз путы, которыми был привязан, и теперь, когда лошадь внезапно рванулась вперед, веревка оборвалась, пленник свалился наземь, а полупьяный кавалерист, уносясь вдаль во весь опор, этого даже не заметил.
Михаил и Надя остались одни посреди дороги.
Глава IX. В степи
Итак, они снова свободны, как тогда, когда выехали из Перми, направляясь к берегам Иртыша. Но как изменились условия их путешествия! В те дни к их услугам был комфортабельный тарантас, и скорость их передвижения гарантировала частая смена лошадей на хорошо оборудованных почтовых станциях. А ныне им придется идти пешком, без надежды раздобыть какое бы то ни было средство передвижения, без гроша, не зная даже, чем бы разжиться, чтобы мало-мальски подкрепить свои силы, а ведь им осталось пройти еще четыреста верст! И сверх того Михаил Строгов больше ничего не может увидеть иначе, как глазами Нади.
Друга, которого им послал случай, они только что потеряли при самых удручающих обстоятельствах.
Михаил Строгов упал на дорожную насыпь. Надя стояла над ним, ждала только знака, чтобы снова пуститься в путь.
Было десять часов вечера. Солнце скрылось за горизонтом еще в половине четвертого. Никакого жилья, даже самой убогой хижины нигде не видно. Последние всадники ханского отряда уже скрылись вдали. Михаил Строгов и Надя остались совсем одни.
– Что они сделают с нашим другом? – воскликнула девушка. – Бедный Николай! Наша встреча стала для него роковой!
В ответ – молчание.
– Михаил, – продолжала Надя, – знал бы ты, как он тебя защищал, когда бухарцы издевались над тобой! А ради меня рискнул жизнью!
Строгов по-прежнему молчал. О чем он думал, застыв в неподвижности, подперев голову руками? Пусть он не отвечал, но хотя бы слышал, что говорила ему Надя?
Да! Он все слышал, и когда девушка, помолчав, спросила: «Куда мне теперь вести тебя, Михаил?», – он, наконец, ответил:
– В Иркутск!
– По большой дороге?
– Да, Надя.
Михаил Строгов оставался и теперь человеком, который дал клятву, что бы ни случилось, дойти до цели. Он и большую дорогу выбрал потому, что это был кратчайший путь. Если появятся передовые части Феофар-хана, тогда и придет время свернуть в сторону, а пока незачем.
Надя взяла Михаила за руку, и они отправились.
К следующему утру, 12 сентября, пройдя верст двадцать, они добрались до поселка Тулуновское, где сделали короткий привал. Поселок сгорел, жителей здесь не осталось. Надя всю ночь бродила по дороге, искала, не валяется ли где-нибудь на обочине брошенный врагами труп Николая. Но она тщетно обшаривала руины и вглядывалась в лица мертвецов. Похоже, Николай пока жив. Ноне затем ли ему сохраняют жизнь, чтобы подвергнуть жестокой казни, когда отряд прибудет в лагерь под Иркутском?
Надя изнемогала от голода, ее спутник тоже жестоко страдал, поэтому девушка была счастлива, когда в одном из покинутыхдомов поселка наткнулась на запас сушеного мяса и «сухариков» – это кусочки хлеба, высушенные посредством выпаривания и благодаря этому способные сохранять свои питательные свойства. Михаил и Надя нагрузили на себя столько, сколько могли унести. Таким образом, пропитание на несколько дней было им обеспечено, в воде же не могло быть недостатка здесь, где вся местность изборождена тысячами мелких ручейков, впадающих в Ангару.
Они продолжили свой путь. Строгов шел уверенным шагом, если и замедляя его, то лишь в угоду своей спутнице. Надя, не желая его задерживать, заставляла себя идти, хоть и через силу. К счастью, ее спутник не мог видеть, до какого жалкого состояния девушку доводит усталость.
И все же Михаил Строгов чувствовал это.
– Твои силы на пределе, бедное дитя, – вздыхал он порой.
– Нет, – отвечала она.
– Когда ты больше не сможешь идти, я тебя понесу, Надя.
– Да, Миша.
В тот день им пришлось перейти маленькую речку, но там был брод, и переправиться не составило труда.
Небо было пасмурным, температура – терпимой. Тем не менее следовало опасаться, что в довершение прочих бед может зарядить дождь. Кое-какие ливни уже выпадали, но они были непродолжительны.
Так они все время и шли, держась за руки. Разговаривали мало. Надя то смотрела вперед, то оглядывалась, проверяя, что делается у них за спиной. Два раза в день они устраивали привал. Отдыхали по шесть часов, ночью. В каких-то избушках Надя отыскала еще немного баранины – это мясо в здешних местах настолько в ходу, что фунт стоит всего две с половиной копейки.
Однако вопреки надеждам, которые, может быть, еще питал Михаил Строгов, в окрестностях им не встретилось никакихдомашнихживотных. Ни лошади, ни верблюда. Всех их либо увели, либо уничтожили. Так что предстояло продолжать тащиться по этой нескончаемой степи на своих двоих.
Следы третьей ханской колонны, которая прошла на Иркутск, попадались им то и дело. То лошадиный труп на дороге, то брошенная повозка… И весь этот тракт, словно вехами, был отмечен бездыханными телами несчастных сибиряков, особенно часто они встречались вблизи деревень. Надя, превозмогая отвращение, вглядывалась во все эти трупы!..
Но главная опасность была не впереди, она угрожала догнать их сзади. С минуты на минуту мог появиться авангард главной эмирской армии под командованием Ивана Огарова. Лодки, доставленные с низовий Енисея, должны были прибыть в Красноярск и незамедлительно послужить для переправы войска через реку. Тогда дорога для захватчиков будет открыта. Между Красноярском и озером Байкал никакой корпус русских не сможет преградить ее. Поэтому Михаил Строгов ежечасно ждал появления бухарских разведчиков.
И по той же причине Надя на каждом привале взбиралась на какой-нибудь холмик, повернувшись лицом к западу, напряженно всматривалась вдаль. Но покатам не было видно клубов пыли, возвещающих о приближении конников.
Потом снова шли, и когда до Михаила Строгова доходило, что уже не Надя его ведет, а он ее, бедную, тащит, молодой человек замедлял шаг. Говорили они по-прежнему мало и только об одном – о Николае. Девушка вспоминала все, что он сделал для них за те считанные дни, что они путешествовали вместе.
Михаил старался внушить своей спутнице хоть малую надежду, хотя в глубине души не находил ни проблеска этого чувства. Он-то понимал, что их несчастному другу не избежать смерти.
В один из этих дней он спросил:
– Почему ты ничего не рассказываешь мне о моей матери, Надя?
О его матери! Нет, этого Надя не хотела. Кчему растравлять горе? Ведь старая сибирячка умерла. Разве последний поцелуй, который сын запечатлел у нее на лбу, не был прощанием с покойницей, распростертой на плато близ Томска?
– Поговори со мной о ней, Надя, – настаивал Михаил. – Расскажи! Ты доставишь мне радость!
И тогда Надя сделала то, чего до сей поры избегала. Она рассказала обо всем, что происходило между ней и Марфой со времени их встречи в Омске, где они увиделись впервые. Вспомнила, как ее необъяснимо, инстинктивно потянуло к незнакомой старухе-пленнице, как она заботилась о ней, как та взамен ободряла ее. В ту пору Михаил Строгов еще был для нее всего лишь Николаем Корпановым…
– Которым я должен был оставаться до сих пор! – отозвался он, и его лицо омрачилось.
Затем, помолчав, добавил:
– Я не сдержал своей клятвы, Надя. Ведь я дал слово не видеться с матерью!
– Но ты же и не пытался увидеть ее, Миша! – воскликнула Надя. – Лишь волей случая ты столкнулся с ней!
– Но я поклялся не выдать себя, что бы ни случилось!
– Миша, Миша, опомнись! Как ты мог сдержаться, когда на Марфу Строгову замахнулись кнутом? Нет! Не существует такой клятвы, что запрещала бы сыну вступиться за свою мать!
– И все же я нарушил клятву, Надя, – упорствовал Строгов. – Да простят мне это Господь и государь!
Тогда девушка сказала:
– Миша, есть один вопрос, который я хочу тебе задать. Но если ты посчитаешь, что не должен на него отвечать, промолчи. Я на тебя не обижусь, как бы ты ни решил.
– Говори, Надя.
– Зачем ты так спешишь в Иркутск теперь, когда у тебя отняли царское письмо?
Строгов крепче сжал руку своей спутницы, но не вымолвил ни слова.
– Выходит, покидая Москву, ты уже знал его содержание? – продолжала Надя.
– Нет, не знал.
– Должна ли я думать, Миша, что тебя гонит в Иркутск только желание поскорее сдать меня с рук на руки моему отцу?
– Нет, Надя, – отвечал Михаил сурово. – Я обманул бы тебя, если бы позволил верить этому. Я иду туда, куда велит мой долг! Что касается необходимости привести тебя в Иркутск, кто, как не ты, Надя, теперь ведет меня? Разве не твоими глазами я вижу, не твоя руку направляет каждый мой шаг? Разве ты не возвращаешь мне сторицей все услуги, какие прежде я мог оказывать тебе? Не знаю, когда судьба перестанет нас преследовать, но в час, когда ты скажешь мне спасибо за то, что я вручаю тебя отцу, я должен буду благодарить тебя, что ты привела меня в Иркутск!
– Бедный Миша! – прошептала Надя, взволнованная до глубины души. – Не говори так! Это не тот ответ, которого я ждала. Скажи, почему ты так спешишь в Иркутск теперь, после всего, что случилось?
– Потому что мне нужно успеть туда раньше Ивана Огарова! – воскликнул Строгов.
– Это все еще важно? Даже теперь?
– Даже теперь, и я сделаю это!
Произнося такие слова, Михаил Строгов имел в виду нечто большее, чем просто ненависть к предателю. И Надя догадывалась, что ее спутник сказал ей не все, ибо не мог поступить иначе.
Спустя три дня, то есть 15 сентября, они подошли к поселку Кутунское, что в семидесяти верстах от Тулуновского. Теперь ходьба давалась девушке с огромным трудом, каждый шаг причинял ей страдания. Измученные ноги едва могли держать ее. Но она крепилась, боролась с усталостью, думая лишь об одном: «Раз он не может видеть, каково мне, буду идти, пока не упаду!»
А между тем ни одно препятствие не встретилось им на этом участке пути, да и никакие опасности их не подстерегали с того момента, когда бухарские всадники бросили их на дороге. Только невыносимая усталость, ничего больше.
Все так и продолжалось три дня. Было очевидно, что третья колонна захватчиков быстро движется на восток. Об этом свидетельствовали разрушения, оставляемые ими, пожарища, переставшие дымиться, уже разложившиеся трупы, валявшиеся на дороге.
На западе тоже никого не было видно. Эмирский авангард не появлялся. Ломая голову, чем объяснить такую задержку, Михаил Строгов терялся в самых немыслимых догадках. Уж не подоспели ли достаточно внушительные силы русских? Может, они вышли прямиком на Томск или Красноярск?
Но если так, третья колонна, оторвавшись от двух других, рискует остаться без подкрепления? В таком случае великому князю не составит труда отстоять Иркутск, благодаря выигрышу во времени он сможет даже перейти в наступление.
Порой Михаил давал волю таким надеждам, но вскоре осознавал, насколько они эфемерны. Нет, ему надо рассчитывать только на собственные силы, действовать так, как если бы спасение великого князя зависело лишь от него одного!
Теперь им предстояло пройти шестьдесят верст, отделяющих Кутунское от Кимилтейского, маленького городка на берегу Динки, притока Ангары. Михаил Строгов с беспокойством думал о том, каким препятствием на пути станет для них эта довольно значительная река. О том, чтобы найти паром или лодку, и речи не было, а ему помнилось, что и в лучшие времена, когда он там переправлялся, на брод тоже было рассчитывать мудрено. Зато перебравшись через эту реку, можно не опасаться, что еще какая-нибудь водная преграда задержит их на дороге к Иркутску, хотя до него оттуда еще двести тридцать верст.
Чтобы дойти до Кимилтейского, им потребуется не меньше трех дней. Надя еле ноги волочит. Как бы ни был высок ее моральный дух, физических сил ей не хватает. Михаил Строгов понимал это как нельзя лучше!
Не будь он слепым, Надя наверняка сказала бы ему:
– Иди, Миша! Оставь меня в какой-нибудь избушке! Доберись до Иркутска! Исполни свою миссию! И повидай моего отца! Скажи ему, где я! И что я его жду! Вдвоем вы сможете вернуться за мной! Иди, ну! Я не боюсь! От бухарцев спрятаться я сумею! Я буду беречь себя ради отца и ради тебя! Ступай же, Михаил! Я больше идти не могу!
Несколько раз Надя поневоле останавливалась. Тогда Михаил Строгов брал ее на руки и, с этой минуты, уже не беспокоясь о состоянии измученной девушки, неутомимый, шел быстрее.
Восемнадцатого сентября в десять часов вечера они наконец достигли поселка Кимилтейское. Взойдя на вершину холма, Надя различила на горизонте полоску, чуть более светлую. Это была Динка. Время от времени в ее водах отражались зарницы – далекие молнии без грома, озарявшие окрестное пространство.
Надя провела своего спутника по опустевшему селению. Зола пожаров уже остыла. Прошло не меньше пяти-шести дней с тех пор, как здесь проходили бухарцы. Поравнявшись с последними домами поселка, Надя без сил рухнула на каменную скамью.
– Мы сделаем привал? – спросил Михаил Строгов.
– Уже ночь настала, Миша, – отвечала Надя. – Не хочешь передохнуть несколько часов?
– Я бы предпочел сперва переправиться через Динку, – сказал Строгов. – Чтобы между нами и эмирским авангардом протекала река. Но ведь ты уже не держишься на ногах, Надя, бедная моя!
– Пойдем, Миша, – девушка взяла своего спутника за руку и повела за собой.
До того места, где Динка пересекала иркутский тракт, им оставалось пройти еще версты две-три. Надя надеялась, что как-нибудь выдержит это последнее усилие, о котором просил Строгов. И вот они зашагали по дороге при свете мелькающих зарниц. Вокруг простиралась бескрайняя равнина, по которой текла эта небольшая, но внушавшая путникам беспокойство река. Нигде ни деревца, ни холмика, одна плоская равнина – здесь снова начинались сибирские степи. Воздух был совершенно неподвижен, не слышно даже слабого дуновения – в такой тишине любой звук может распространяться на немыслимые расстояния.
Внезапно Михаил и Надя разом застыли на месте, их ноги словно бы приросли к земле.
Где-то в степи послышался собачий лай.
– Ты слышишь? – прошептала Надя.
Потом издали донесся крик, отчаянный горестный вопль, как если бы человеческое существо, умирая, из последних сил призывало на помощь.
– Это Николай! Николай! – воскликнула девушка, охваченная ужасным предчувствием.
Михаил, вслушавшись, покачал головой.
– Идем же, Миша, скорее! – и Надя потащила его за собой. Она, которая только что еле передвигала ноги, мгновенно ощутила, как силы возвращаются к ней под воздействием сильнейшего возбуждения.
– Мы что, свернули с дороги? – спросил Михаил, чувствуя под ногами уже не пыльный тракт, а стерню.
– Да… Так надо! – отвечала девушка. – Крик раздался оттуда, справа!
Так они прошагали несколько минут. До реки теперь оставалось всего полверсты.
Снова послышался лай, не такой громкий, но явно ближе.
Надя остановилась.
– Да! – сказал Михаил. – Это лает Серко! Он же тогда последовал за своим хозяином…
– Николай! – закричала девушка.
Но ее зов остался без ответа.
Лишь несколько хищных птиц взлетели и растворились в небесной вышине.
Строгов напрягал слух. Надя вглядывалась в эту равнину, которая при вспышках электрических разрядов переливалась бликами, как стекло. Но девушка никого не видела.
И тут снова раздался голос, на этот раз они различили слабый жалобный зов:
– Миша!
Тотчас на Надю, весь в крови, наскочил пес. Это был Серко.
Николай где-то здесь, совсем близко, это ясно! Только он мог так простонать «Миша!» Но где же он? У Нади уже сил не было его звать.
Строгов, опустившись на землю, искал его на ощупь.
Вдруг Серко снова залаял и бросился к гигантской хищной птице, которая подлетела, чуть не стелясь по земле.
Это был стервятник. Когда Серко кинулся на него, он взлетел, но тотчас снова ринулся вниз и ударил пса! Тот еще успел прыгнуть на птицу!.. Но чудовищный клюв обрушился на собачью голову, и на сей раз Серко упал мертвым.
В то же мгновение у Нади вырвался крик ужаса:
– Вот!.. Вот он!
Из земли торчала голова! Надя споткнулась бы об нее, если бы не очередной всполох яркого света, хлынувшего с неба на степь.
Надя упала на колени возле этой головы.
Закопанный в землю по самую шею согласно гнусному азиатскому обычаю, Николай был брошен умирать в безлюдной степи от голода, жажды, от волчьих зубов или клювов хищных птиц. Кошмарная пытка: жертву, приговоренную к подобной казни, держит в плену сама земля, она давит несчастного, ему не выбраться, его руки связаны и прижаты к телу, каку трупа в гробу! Тому, кто заживо погребен в этой тесной глиняной раковине, разломать которую нет сил, остается лишь призывать смерть, чей приход так нестерпимо медлителен!
Вот уже три дня, как бухарцы закопали здесь своего пленника!.. Трое суток Николай ждал помощи, сознавая, что она если и придет, то слишком поздно!
Стервятники приметили его голову, торчавшую из земли, и вот уже несколько часов пес защищал своего хозяина от хищных птиц!
Михаил Строгов стал раскапывать землю ножом, спеша освободить живого друга из этих могильных тисков!
Глаза Николая, до сей поры закрытые, открылись.
Он узнал Михаила, Надю. И прошептал:
– Прощайте, друзья. Рад, что довелось снова вас увидеть. Молитесь за меня!..
Это были его последние слова.
Строгов продолжал разрывать землю, крепко утоптанную, твердую, как скала. Наконец ему удалось извлечь оттуда тело несчастного. Михаил прислушался, еще надеясь различить биение сердца. Нет, оно больше не билось.
Тогда он решил похоронить умершего, не оставлять его в степи без погребения. Принялся расширять эту дыру, в которой Николай сгинул заживо, и сумел увеличить ее настолько, чтобы уложить туда мертвеца! Верный Серко должен был упокоиться здесь же, рядом со своим хозяином!
В этот момент на дороге послышался сильный шум, причем довольно близко, за полверсты, а то и меньше.
Строгов навострил уши.
И сразу понял, что это за звуки: отряд всадников скакал к берегу Динки.
– Надя, Надя! – окликнул он, понизив голос.
Девушка, до этой минуты погруженная в молитву, вздрогнула, выпрямилась.
– Смотри! – шепнул он ей. – Смотри!
– Бухарцы! – пробормотала она.
Это и впрямь был авангард эмира, во весь опор скачущий к Иркутску.
– Они не помешают мне похоронить его! – сказал Михаил Строгов.
И снова приступил к своей работе.
Вскоре тело Николая со сложенными на груди руками было опущено в могилу. Михаил и Надя, преклонив колена, помолились за упокой его души, отдавая последний долг этому бедняге, доброму и безобидному, которому привязанность к ним стоила жизни.
– Теперь, – сказал Строгов, забрасывая могилу землей, – степные волки не смогут его сожрать!
И тотчас жестом, полным угрозы, протянув руку в сторону проезжающих по тракту кавалеристов, воскликнул:
– В дорогу, Надя!
Однако тракт теперь был в распоряжении бухарцев, Михаил Строгов не мог туда вернуться. Ему оставалось лишь пробираться без дорог по степи, чтобы достигнуть Иркутска в обход. А значит, больше не нужно было заботиться о переправе через Динку.
У девушки уже не оставалось сил идти или хотя бы тащиться. Но смотреть вместо него она могла. Он подхватил ее на руки и зашагал, держась юго-западного направления.
Ему предстояло пройти более двухсот верст. Как одолеть такое расстояние? Какие сломаться под гнетом невыносимых тягот? Чем они будут питаться в дороге? Откуда взять сверхчеловеческие силы, чтобы перейти через Саянский хребет, первые отроги которого окажутся у них на пути? Ни Надя, ни он сам не могли бы ответить на эти вопросы!
Тем не менее, спустя двенадцать дней, второго октября, в шесть часов вечера, у ног Михаила Строгова развернулся огромный водный ковер.
Это было озеро Байкал.
Глава X. Байкал и Ангара
Озеро Байкал расположено в семнадцати футах над уровнем моря. В длину оно тянется верст на девятьсот, в ширину – сто верст. Его глубина неизвестна. Мадам де Бурбулон, ссылаясь на мнение моряков, утверждает, что его подобает называть «господин Море». А если назовешь «господином Озеро», Байкал тотчас приходит в ярость. И однако, если верить преданию, ни один русский там никогда не тонул.
Это огромный бассейн сладкой, чистой воды, питаемый тремястами с лишним рек и речушек и окруженный великолепной грядой гор, имеющих вулканическое происхождение. А вытекает из него одна лишь Ангара, которая дальше, за Иркутском, чуть выше Енисейска, впадает в Енисей. Что же касается гор, опоясывающих Байкал, они образуют еще два ответвления – Тунгусскую гряду и обширную горную систему Алтая.
В это время года приближение холодов уже ощущалось. Как случается в этих краях с их особыми климатическими условиями, осень, похоже, собиралась прежде срока обернуться зимой. Наступили первые числа октября. Теперь солнце исчезало с горизонта в пять часов вечера, и долгими ночами температура падала до нуля градусов. Первый снег, которому предстояло продержаться до будущего лета, уже покрывал белыми шапками вершины гор, соседствующих с Байкалом. Это внутреннее море за месяцы сибирской зимы промерзает на несколько футов, и тогда его поверхность бороздят полозья почтовых саней, телег и прочих экипажей.
То ли из-за недостатка почтительности со стороны тех, кто смеет именовать его «господин Озеро», то ли по другим, более метеорологическим причинам на Байкал нередко обрушиваются яростные бури. Его волны, такие же короткие, как те, что характерны для всего Средиземноморья, весьма опасны для паромов, плоскодонных лодок и пароходов, в летнее время снующих по его поверхности.
Михаилу Строгову нужно было с Надей на руках добраться до северозападной оконечности озера. Что до девушки, можно сказать, что вся ее жизнь теперь сосредоточилась в глазах. Чего, кроме смерти от непосильных тягот и лишений, могли ожидать эти двое на таких диких задворках? А между тем – что оставалось царскому курьеру, стремящемуся к своей цели, из всего этого маршрута длиной в шесть тысяч верст? Всего-навсего пройти по берегу озера шестьдесят верст до истока Ангары да еще восемьдесят оттуда до Иркутска! В общей сложности – каких-нибудь сто сорок верст, три дня пути для крепкого, здорового мужчины, хотя бы и пешего.
Но могли Строгов все еще считать себя таким мужчиной?
Небо, по всей видимости, не хотело подвергать его испытаниям. Рок, ополчившийся на Строгова, казалось, на миг вздумал дать ему шанс ускользнуть от него. Эта часть степи, примыкающая кдальней оконечности Байкала, которую он считал безлюдной, благо она такой и является в любое время года, на сей раз такой не была.
Как раз у юго-западного берега озера, там, где оно острым углом вдается в сушу, толпилось с полсотни каких-то людей. Надя заметила их, как только Михаил Строгов, несший ее на руках, вышел из горного ущелья.
В первое мгновение девушка поневоле испугалась: уж не бухарский ли это отряд, присланный сюда, чтобы держать под наблюдением берега Байкала? При таких обстоятельствах им обоим путь к бегству был бы отрезан.
Но Надя в два счета убедилась, что бояться нечего.
– Русские! – закричала она.
Этот последний порыв истощил ее силы: глаза девушки закрылись, голова безвольно свесилась на грудь Строгова. Но их уже заметили, несколько человек из числа этих русских подбежали к ним и тотчас доставили слепого и его спутницу на маленький песчаный пляж, возле которого был причален плот.
Он готовился к отплытию.
Все эти русские были беглецами. Сюда, на берег Байкала, их привели разные обстоятельства, но один общий интерес. Эмирские передовые части согнали их с насиженных мест, они рассчитывали найти убежище в Иркутске и, не имея возможности добраться туда по суше с тех пор, как захватчики заполонили оба берега Ангары, задумали сплавиться вниз по течению реки, русло которой проходило через город.
Сердце Михаила Строгова аж подпрыгнуло, когда он услышал об этих планах. В его игре нежданно-негаданно возник счастливый шанс. Но у него хватило сил скрыть волнение: сейчас он строже, чем когда-либо, оберегал свое инкогнито.
Замысел беженцев был очень прост. Вдоль самого высокогорного берега Байкала в направлении истока Ангары проходит течение, им-то они и рассчитывали воспользоваться, чтобы быстро добраться до единственного байкальского водосброса. Ауж оттуда стремительные воды Ангары домчат их до Иркутска со скоростью десять-двенадцать верст в час. Таким образом, еще полтора суток, и город предстанет перед ними.
Никаких пристаней в здешних местах не было. Беглецам надо было как-то возместить этот недостаток. Соорудили плот или, точнее, цепь плотов, какие обычно вяжут сибирские сплавщики леса. Материалом для сооружения этого плавучего средства послужил пихтовый лес, растущий на берегу.
Стволы, стянутые друг с другом посредством ивовых прутьев, образовали платформу, на которой могли без труда разместиться сто человек.
На этом-то плоту и поплыли Надя и Михаил Строгов. Девушка пришла в себя, взбодрилась. Ей дали перекусить чем Бог послал, спутник ее тоже получил свою порцию еды. Потом она опустилась на груду сухой листвы и уснула глубоким сном.
Отвечая на расспросы попутчиков, Михаил Строгов умалчивал обо всем, что случилось в Томске. Он выдавал себя за жителя Красноярска, который не успел добраться до Иркутска прежде, чем войско эмира подступило клевому берегу Динки, и высказывал предположение, что основные силы бухарцев, по всей вероятности, уже заняли позиции и ведут осаду сибирской столицы.
Следовательно, нельзя было терять ни минуты. К тому же холодало чем дальше, тем сильнее. По ночам температура уже падала ниже нуля. Поверхность Байкала местами начала подергиваться тонким ледком. На озере это было не страшно, здесь у плота был простор для маневров, но меж берегов Ангары, если лед преградит им путь, придется трудно. Итак, все говорило о том, что беглецам надлежит отправиться в плавание незамедлительно.
В восемь вечера отдали швартовы и плот, подгоняемый течением, двинулся вдоль берега. Несколько дюжих мужиков, орудуя громадными шестами, заставляли его не сбиваться с нужного направления.
Командование плотом принял на себя старик, всю жизнь плававший по Байкалу. Это был мужчина лет шестидесяти пяти, продубленный озерными ветрами. Белая, очень густая борода спускалась ему на грудь. На голове он носил меховую папаху, его лицо неизменно хранило выражение непреклонной суровости. Длинный широкий плащ, стянутый на талии поясом, достигал каблуков его сапог. Старик был молчалив: сидел на корме и, произнося за десять часов не более десятка слов, командовал преимущественно жестами. Впрочем, все маневры при управлении сводились к тому, чтобы не дать плоту уйти на закраину течения, которое держалось у берега, от него не отклоняясь.
Следует заметить, что на плоту собрались пассажиры разных сословий. Достаточно сказать, что, кроме мужиков из числа местных уроженцев, мужчин, женщин, стариков и детей, туда затесались трое паломников, которые снарядились в дорогу, дабы посетить святые места, и нашествие застало их в пути. Там же оказались несколько монахов и один поп. Каждый паломник имел при себе посох и флягу, которая болталась на поясе, и все они жалобными голосами монотонно тянули псалмы. Один из них был с Украины, другой – с побережья Желтого моря, третий из Финляндии. Этот последний, уже в изрядных летах, носил на поясе маленькую кружку для пожертвований, запертую на замок: такие обычно висят на церковной паперти. Из всего, что он насобирал за время своего долгого утомительного путешествия, ему не причиталось ни гроша, он не имел даже ключа от замка, который будет отперт не раньше, чем паломник вернется в свой храм.
Что касается монахов, это были пришельцы из северных областей империи. Родной Архангельск, по мнению некоторых путешественников, ни дать ни взять похожий на города Востока, они покинули три месяца тому назад.
Посетили острова Кижи и Валаам, что близ Карельских берегов, побывали в Соловецком монастыре, в монастыре Пресвятой Троицы, в Святоантониевской и Святофеодосийской обителях Киева, издавна столь любимого ягеллонами[9], навестили московский и казанский монастыри Святого Симеона, а также старообрядческий храм в Казани, после чего направились в Иркутск все в тех же одеяниях из саржи, поверх которых были надеты рясы с капюшонами.
Поп, простой деревенский священник, был одним из тех шестисот тысяч народных пастырей, что насчитывает российская империя. Одетый также бедно, как мужики, да и сам-то, в сущности, – не более чем один из них, поскольку, не дослужившись до высокого церковного сана, ранга, не имея покровителей, трудился, как любой крестьянин: за гроши крестил, женил, хоронил. Чтобы спасти свою жену и детей от зверств захватчиков, у него не было иного средства, как только перевезти их куда-нибудь в северные области. Сам же он оставался в своем приходе до последнего. Потом ему пришлось бежать, а коль скоро иркутский тракт закрыт, он – делать нечего – подался на Байкал.
Эти разношерстные представители духовного сословия столпились на носу плота и то принимались молиться, возвышая голос посреди ночной тишины, то умолкали, притом через равные промежутки времени. Каждый стих своей молитвы они неизменно завершали возгласом: «Слава Господу!»
Это плавание обошлось без происшествий. Надя так и осталась лежать, погруженная в глубокое забытье. Михаил Строгов бодрствовал, охраняя ее сон. Усталость могла победить его только после более продолжительных тягот, да и мысль его бежала от сна, непрестанно работая.
На рассвете плот, движение которого замедлял противный ветер, достаточно крепкий и ослабивший действие течения, был еще в сорока верстах до Ангары. Весьма вероятно, что он туда доберется не раньше трех-четырех часов дня. Впрочем, это было не такуж плохо, скорее наоборот: ведь тогда вниз по реке беглецы будут плыть ночью, темнота поможет им пробраться в Иркутск незамеченными.
Единственное опасение, которое несколько раз выражал их седобородый предводитель, касалось образования льдин на поверхности воды. Ночь выдалась до крайности студеная. Путники видели, как многочисленные осколки льда под напором ветра дрейфовали на запад. Сами по себе они были не опасны, поскольку их теперь никак не могло занести в Ангару, напротив, бриз отгонял их прочь от ее истока. Но следовало ожидать, что течение занесло в реку льдины, образовавшиеся в восточной части озера, а в таком случае русло Ангары в верховьях забито. Отсюда могут возникнуть задержки и прочие трудности, а то и, чего доброго, лед способен обернуться непреодолимым препятствием и вынудить плот остановиться.
Понятно, что Михаил Строгов испытывал огромный интерес к состоянию озера и нетерпеливо стремился узнать, много ли на его поверхности плавающего льда. А так как Надя проснулась, он то и дело засыпал ее вопросами, и она извещала его обо всем, что творилось на поверхности воды.
В то время как льдины, гонимые ветром, вот так плавали по озеру, с Байкалом стали происходить любопытные вещи. Из глубины нескольких артезианских источников с раскаленной водой, которые сама природа пробила на озерном дне, стали вырываться великолепные кипучие фонтанчики. Эти струи взлетали на большую высоту, источая облака раскрашенного солнечными лучами во все цвета радуги пара, который почти сразу конденсировался в холодном воздухе. Необычайное зрелище! Как бы оно, наверное, очаровало туриста, случись ему наблюдать это в свое удовольствие, мирно и безмятежно проплывая по глади сибирского моря!
Около четырех часов старый капитан указал пассажирам плота на две гранитные скалы, что высились на берегу: проход между ними и был истоком Ангары. На правом берегу виднелись маленький порт Лиственничной, несколько домов на береговом откосе, церковь.
Но в то же время обнаружилось и одно крайне серьезное обстоятельство: первые льдины, приплывшие с востока, уже дрейфовали между ангарскими берегами, и, естественно, течение несло их в сторону Иркутска. Однако их пока набралось не так много, чтобы загромоздить реку, да и не настолько было холодно, чтобы они смерзлись воедино.
Плот, приблизившись к маленькой пристани, остановился. Старый капитан решил задержаться здесь на часок для ремонта – требовалось кое-что подправить. Бревна плота разболтались, чего доброго, могли и совсем разъединиться, их следовало связать между собой покрепче, чтобы они выдержали напор стремительного ангарского течения.
Когда время года благоприятствует, Лиственничная служит портом прибытия и отправления для всех, кто путешествует по озеру Байкал, направляясь в Кьяхту, последний город на русско-китайской границе, или возвращаясь оттуда. Поэтому здесь часто встречаются и пароходы, и все мелкие каботажные суденышки, плавающие по озеру.
Но в те дни Лиственничная опустела. Ее обитатели не пожелали остаться дома, рискуя подвергнуться хищническому нападению бухарцев, шаставших ныне по обоим берегам Ангары. Они отправили в Иркутск флотилию лодок и кораблей, обычно зимовавших в здешней гавани, и сами, прихватив все, что могли, временно перебрались в столицу восточной Сибири.
Старый капитан не ожидал, что в Лиственничной ему придется принять на борт новых беглецов, однако едва плот причалил, из покинутого дома выскочили двое и со всех ног бросились вниз по склону к пристани.
Надя, сидевшая на корме, поначалу рассеянно смотрела на них, но потом с трудом удержала готовый вырваться крик и схватила Строгова за руку. Он поднял голову:
– Что такое, Надюша?
– Там эти двое, наши попутчики!
– Француз и англичанин, которых мы встретили на перевале через Урал?
– Да.
Михаила передернуло. Такая встреча грозила разоблачением инкогнито, которое он так строго соблюдал. В самом деле, теперь Альсид Жоливе и Гарри Блаунт увидят его уже не как Николая Корпанова, им известной его настоящее имя, и то, что он посланец государя. Эти журналисты дважды сталкивались с ним с тех пор, как они распрощались на почтовой станции в Ишиме: сначала в лагере в Зеледееве, когда он подпортил ударом кнута физиономию Ивана Огарова, потом в Томске, где эмир приказал ослепить его. Стало быть, они знали, кто он и зачем оказался здесь.
Строгов быстро принял решение. Он сказал:
– Надя, как только француз и англичанин взойдут на плот, попроси их подойти ко мне!
Это действительно были Гарри Блаунт и Альсид Жоливе. Их, как и самого Михаила Строгова, в порт Лиственничной привела не случайность, а необходимость, порожденная ходом событий.
Мы помним, что друзья-репортеры стали свидетелями захвата ханскими войсками Томска, откуда они затем ушли, не пожелав дожидаться варварской казни, призванной увенчать праздник победителей. Журналисты, недосмотрев этот спектакль, были уверены, что их былой попутчик предан смерти: откуда им было знать, что по приказу эмира он не убит, а только ослеплен?
Итак, раздобыв лошадей, они в тот же вечер покинули Томск с благоразумным намерением отныне посылать свои сообщения из восточной Сибири не раньше, чем доберутся до лагеря русских. Поэтому Альсид Жоливе и Гарри Блаунт без промедления поспешили в Иркутск. Они надеялись опередить Феофар-хана и, несомненно, в том преуспели бы, если бы не помешало непредвиденное появление третьей колонны, которая подоспела с юга, пройдя долиной Енисея. Им также, как Михаилу Строгову, преградили дорогу еще раньше, чем они успели подойти к берегу Динки. Вот почему они были вынуждены свернуть с тракта и двинуться к озеру Байкал.
Добравшись до Лиственничной, они обнаружили, что порт уже опустел. С другой стороны, у них не было возможности пробраться в Иркутск, осажденный вражеской армией. Они трое суток томились здесь, пребывая в крайней растерянности, когда появился плот с беженцами. Последние поделились с ними своим замыслом. Разумеется, у них был шанс под покровом ночи незамеченными проникнуть в Иркутск. Вот газетчики и решили тоже попытать счастья.
Альсид Жоливе тотчас нашел общий язык со старым капитаном, знатоком байкальского судоходства, и попросил пустить их с Блаунтом на плот, предлагая любую плату, сколько бы тот ни потребовал.
– Здесь не платят, – отрезал старик. – Просто рискуют жизнью, вот и все.
Журналисты забрались на борт, Надя видела, как они устраивались в носовой части плота.
Гарри Блаунт оставался все тем же хладнокровным британцем, который за все время их поездки по Уралу едва удостоил ее пары слов. Альсид Жоливе выглядел чуть менее беззаботным, чем прежде, но нужно признать, что серьезность положения оправдывала эту перемену.
Француз едва успел расположиться на носу плота, когда почувствовал, что чья-то ладонь легла ему на плечо. Он оглянулся и увидел перед собой Надю, сестру того, кто более не являлся Николаем Корпановым и был известен ему как Михаил Строгов, царский фельдъегерь.
У него вырвалось удивленное восклицание, ноонприкусил язык, увидев, как девушка приложила палец к губам.
– Пойдемте, – шепнула Надя.
Тут же Альсид Жоливе скроил самую равнодушную минуй, знаком предложив Гарри Блаунту не отставать, последовал за ней.
Но как ни велико было изумление журналистов при встрече на этом плоту с Надей, оно стало безграничным, когда перед ними возник Михаил Строгов, которого они не чаяли увидеть среди живых.
Однако он не пошевелился при их приближении.
Альсид Жоливе с немым вопросом оглянулся на девушку.
– Он не видит вас, господа, – сказала Надя. – Бухарцы выжгли ему глаза! Мой бедный брат слеп!
На лицах Альсида Жоливе и его спутника выразилось живейшее сострадание. Еще мгновение, и оба журналиста уселись подле Михаила Строгова, пожали ему руку и приготовились выслушать то, что он им скажет.
– Господа, – тихим голосом начал Строгов, – вам не следует знать, ни кто я, ни зачем приехал в Сибирь. Я прошу вас уважать мой секрет. Вы обещаете мне это?
– Клянусь честью, – отвечал Альсид Жоливе.
– Слово джентльмена, – подтвердил Гарри Блаунт.
– Благодарю вас, господа.
– Мы можем быть вам полезны? – спросил мистер Блаунт. – Если угодно, мы готовы помочь вам в вашем деле.
– Я предпочитаю действовать один, – сказал Михаил Строгов.
– Но ведь эти мерзавцы выжгли вам глаза! – не выдержал Альсид Жоливе.
– У меня есть Надя, мне хватает ее глаз!
Спустя полчаса плот отчалил от маленькой пристани Лиственничной и вошел в реку. Было пять часов вечера. Близилась ночь. Она обещала быть очень темной и весьма холодной, так как температура уже опустилась ниже нуля.
Альсид Жоливе и Гарри Блаунт, дав Михаилу Строгову слово хранить его секрет, однако, не покинули его. Завязалась беседа. Они тихо говорили, а слепой, благодаря их рассказам пополнив запас сведений, которыми уже располагал, получил возможность составить для себя более четкое понятие о положении дел.
Итак, было очевидно, что в настоящее время Иркутскуже осажден и три неприятельские колонны действуют там заодно. А значит, нет сомнения, что эмир и Иван Огаров находятся у стен сибирской столицы.
Но с какой стати царев курьер спешит туда, да так, что его нетерпение бросается в глаза? Ведь он теперь лишен возможности вручить великому князю письмо императора, а что в нем было, ему неизвестно. Альсид Жоливе и Гарри Блаунт не понимали этого, они так же, как Надя, терялись в догадках.
Впрочем, разговора о прошлом они не заводили за исключением единственного момента, когда Альсид Жоливе счел своим долгом сказать Михаилу Строгову:
– Видимо, нам следует принести извинения за то, что, прощаясь на почтовой станции в Ишиме, мы не пожали вам руку.
– Нет, вы имели право счесть меня трусом!
– Как бы то ни было, – заметил Альсид Жоливе, – вы великолепно хлестнули этого прохвоста кнутом! Он после такого удара долго будетходить с отметиной на роже!
– Не слишком долго, уверен, – коротко отозвался Михаил Строгов.
Через полчаса после отправления из Лиственничной Альсид Жоливе и его товарищ уже были полностью в курсе тех жестоких испытаний, череда которых выпала на долю Михаила и Нади. Журналистам оставалось лишь безмерно восхищаться силой духа их обоих, сравниться с которой могла лишь преданность, проявленная этой юной девушкой. Что до Михаила Строгова, о нем они думали теперь точно то же, что сказал о нем в Москве царь: «Поистине это настоящий мужчина!»
Несмотря на скопление ледяной крошки, заполонившей русло Ангары, плот продвигался довольно быстро. Перед глазами путешественников по обеим сторонам реки разворачивалась движущаяся панорама, и благодаря некоей оптической иллюзии казалось, будто эти переменчивые живописные виды один за другим проплывают мимо их застывшего на месте плота. Здесь громоздились высокие гранитные скалы самых диковинных очертаний, там из диких расщелин низвергались бурные потоки, порой в широкой расселине глазу открывалась разоренная, еще дымящаяся деревушка, а следом за ней – густой пихтовый лес, охваченный бушующим пламенем. Но хотя бухарцы повсюду оставили следы своего прохождения, их самих пока было не видать: они в основном сконцентрировались на подступах к Иркутску.
Между тем паломники продолжали громогласно возносить молитвы, а старый капитан, отгоняя с дороги слишком близко напирающие льдины, неуклонно удерживал плот на самой стремнине быстрого течения Ангары.
Глава XI. Между двумя берегами
К восьми часам вечера окрестности накрыла глубокая тьма, впрочем, этого следовало ожидать, взглянув на небо. Недавно народившийся месяц едва показался над горизонтом, а выше не поднимался. Если смотреть с середины реки, берегов не разглядишь. Скалы уже на небольшой высоте тонули в тяжелых тучах, которые еле-еле тащились по небу. Время от времени с востока долетали некие дуновения слабого ветерка, но они, казалось, почти мгновенно угасали в тесной долине Ангары.
Темнота, несомненно и при том весьма существенно, благоприятствовала планам беглецов. В самом деле, хотя захватчики бесспорно расставили свои аванпосты по обоим берегам реки, у плота оставался солидный шанс проскочить незаметно. Было также маловероятно, что осаждающие перекрыли Ангару вверх по течению от Иркутска, ведь они знали, что с юга русским нечего ждать подкрепления. Впрочем, еще немного – и сама природа того гляди воздвигнет этот барьер, если мороз скует воедино ледяную крошку, все гуще заполняющую ангарское русло.
На плоту теперь воцарилась полная тишина. С тех пор как он поплыл вниз по реке, голоса паломников умолкли. Они продолжали молиться, но тактихо, что с берега это бормотание никто бы не услышал. Беглецы лежали на бревенчатом помосте, очертания их распростертых тел почти не выступали над поверхностью воды. Старый капитан улегся впереди, его помощники расположились рядом, их единственной заботой было отгонять преграждающие путь льдины, и они справлялись с этим без шума.
Пока небольшие дрейфующие льдины тоже были благоприятным фактором, лишь бы в дальнейшем они не обернулись непроходимым затором, преградив дорогу плоту. Ведь на чистой речной глади его могли бы заметить даже в темноте, а двигаясь в этой массе, где ворочались куски льда различных размеров и форм, он сливался с ней, к тому же льдины, сталкиваясь, производили шум, способный заглушить любые подозрительные звуки.
Между тем воздух стал пронизывающе холодным, беглецы жестоко страдали, не имея иной защиты, кроме нескольких березовых веток. Люди жались друг к другу, пытаясь спастись от крепчающего мороза, который в ту ночь достиг, по-видимому, минус десяти. Легкий восточный ветерок, прилетающий с заснеженных горных вершин, касаясь кожи, причинял острую боль.
Михаил Строгов и Надя, лежа на корме, без жалоб переносили это новое мучение. Альсид Жоливе и Гарри Блаунт, расположившись рядом с ними, тоже прилагали все усилия, чтобы достойно выдержать первые атаки сибирской зимы. Ни те, ни другие больше не пытались беседовать, даже вполголоса. К тому же ситуация, в которой они находились, поглощала все их внимание. В любой момент могло произойти что-нибудь опасное, даже такая катастрофа, из которой никто не выберется невредимым.
Для человека, который рассчитывал вот-вот достигнуть своей цели, Михаил Строгов держался на диво спокойно. Впрочем, присутствие духа никогда ему не изменяло, он сохранял хладнокровие и в самых отчаянных положениях. А ныне Михаил предвидел, что близок час, когда ему наконец можно будет подумать о своей матери, о Наде, о себе самом! Онуже ничего не страшился, кроме последнего невезения: только бы плот не вмерз в лед прежде, чем они достигнут Иркутска! Только об этом он и думал, впрочем, готовый, если потребуется, рискнуть на какую-нибудь неслыханно дерзкую попытку.
Надя, придя в себя после нескольких часов отдыха, восстановила физические силы, подчас грозившие надломиться от чрезмерных тягот, хотя ничто не могло поколебать твердости ее духа. Она тоже думала о том, что если Михаилу ради достижения своей цели потребуются новые усилия, ей необходимо быть рядом, чтобы направлять его. Однако по мере того, как они приближались к Иркутску, в сознании девушки все живее и ярче представлялся образ ее отца. Она видела его в осажденном городе, вдали от тех, кто ему дорог, но была уверена, что он борется с захватчиками со всем пылом своего патриотизма. Через несколько часов, если небеса наконец будут милостивы к ним, она сможет обнять его, передать ему последние слова своей матери, и больше ничто уже их не разлучит. Если ссылка Василия Федорова окажется бессрочной, его дочь останется рядом с ним, такой же изгнанницей. Затем, повинуясь естественной склонности, ее мысли вновь обратились к тому, кому она обязана тем, что сможет увидеть отца, к великодушному спутнику, «брату», который, когда бухарцы будут отброшены, отправится в обратный путь, в Москву, и, может быть, им уже никогда не приведется встретиться!..
Что до Альсида Жоливе и Гарри Блаунта, у обоих на уме было одно: складывается крайне драматическая ситуация, и, если все пойдет должным образом, она сулит хроникерам интереснейший материал. Таким образом, англичанин думал о читателях «Дейли телеграф», а француз – о своей кузине Мадлен. По сути, ими владели весьма сходные чувства.
«Э, тем лучше! – говорил себе Альсид Жоливе. – Чтобы взволновать, надо и самому поволноваться! Помнится, на эту тему есть даже какой-то известный стих, но, вот черт, не могу вспомнить…»
И он напрягал свои столь много повидавшие глаза, силясь проникнуть взглядом сквозь завесу темноты, окутавшей реку.
Однако порой весь этот мрак отступал, и при ярко вспыхнувшем фантастическом свете становились видны берега, которые выглядели совершенно нереальными. Это происходило, если там пылал лес или какая-нибудь приречная деревня, еще не догорев, озаряла окружающий пейзаж, создавая мрачную репродукцию дневных картин с добавлением резких контрастов ночи. Тогда Ангара вся целиком загоралась тысячами огней. Каждая ледышка, большая или маленькая, становилась зеркалом, отражавшим огонь под всеми мыслимыми углами, река превращалась в некое подобие гигантской многоцветной радуги, которая вся переливалась, повинуясь прихотям течения. Среди ослепительных бликов этих плавучих зеркал плот терялся, никем не замечаемый.
Итак, пока опасности не было, она затаилась где-то впереди.
Но беглецам угрожала еще одна напасть. Они не могли ее предвидеть и, главное, противостоять ей. Случаю было угодно, чтобы проблему обнаружил не кто иной, как Альсид Жоливе. И вот при каких обстоятельствах: журналист, лежа на корме справа, у самого края, опустил руку в воду. Внезапно его поразило странное ощущение – на поверхности реки вода казалась липкой, по консистенции напоминавшей скорее нефть. Проверив свои осязательные ощущения посредством обонятельных, Альсид Жоливе понял, что не ошибся. Это действительно оказалась нефть, слоем которой была покрыта вся поверхность Ангары на достаточно большом отрезке. Нефтяной слой плыл по течению!
Неужели их плот действительно погружен в эту субстанцию, в высшей степени горючую? Откуда она взялась? Что это – природный феномен, выброс нефти, всплывшей на поверхность со дна Ангары, или всему причиной чья-то разрушительная идея, приведенная в исполнение захватчиками? Уж не хотят ли они таким манером разжечь пожар до самого Иркутска, хотя по законам цивилизованного ведения войны подобные средства недопустимы?
Такие вопросы задавал себе Альсид Жоливе, однако решил, что не должен делиться своим открытием ни с кем, кроме Гарри Блаунта. Оба сошлись на том, что незачем тревожить своих товарищей, сообщая им об этой новой угрозе.
Как известно, почва Средней Азии, как губка, вся пропитана жидким углеводородом. Близ портового города Баку, на границе с Персией, на полуострове Апшерон, что на Каспии, в Малой Азии, в Китае, Бирме тысячи нефтяных источников выходят на поверхность земли. Это «страна нефти», не уступающая той, что ныне в Северной Америке заслужила подобное название.
Во время некоторых религиозных торжеств (особенно в портовом городе Баку) огнепоклонники лили в море нефть, она, будучи легче воды, всплывала на поверхность. Ночью, дождавшись, пока нефтяной слой разольется чуть ли не по всему Каспию, они поджигали его, получалось неповторимое зрелище – океан пламени, волнующийся и бурлящий от ветра.
Но то, что в Баку являлось лишь забавой, на Ангаре могло обернуться катастрофой. Если нефть вспыхнет по чьей-то злой воле или небрежности, пламя в мгновение ока распространится до самого Иркутска.
Так или иначе, не стоило опасаться, что кто-нибудь допустит такую неосторожность на плоту, зато большую угрозу представляли пожары, разгоревшиеся на обоих берегах Ангары. Ведь довольно раскаленного уголька или искры, упавшей в реку, чтобы воспламенился весь нефтяной слой.
Любой, кто представит себя на месте Альсида Жоливе и Гарри Блаунта, поймет их испуг лучше, чем его можно описать. Не лучше ли при таких обстоятельствах причалить к берегу, высадиться, переждать? Эти вопросы задавали себе оба газетчика.
– Какая бы опасность нам ни грозила, – сказал Альсид Жоливе, – я знаю кое-кого, кто не станет выжидать!
Он подразумевал Михаила Строгова.
Между тем плот быстро дрейфовал среди льдин, которые смыкались вокруг него все теснее.
До сей поры ни один ханский отряд не появлялся на берегах Ангары. Это доказывало, что плот еще не достиг их аванпостов. Однако около десяти вечера Гарри Блаунту почудилось, будто впереди копошится множество каких-то черных фигур. Перепрыгивая с льдины на льдину, они быстро приближались.
«Бухарцы!» – подумал он.
Проскользнув в носовую часть плота, он указал старому капитану на эти подозрительные передвижения.
Тот принялся внимательно всматриваться в темноту.
– Это всего лишь волки, – сказал он. – Лучше уж они, чем бухарцы. Ну, будем обороняться. Только без шума!
Беглецам и впрямь пришлось не на шутку сразиться с этими свирепыми хищниками, которые рыскали по окрестностям, гонимые голодом и стужей. Волки учуяли плот и без долгих проволочек напали. При сложившихся обстоятельствах беглецам, затевая борьбу, пришлось обходиться без огнестрельного оружия, ведь все происходило недалеко от вражеских постов. Женщины и дети сбились в кучу посередине плота, а мужчины, вооружившись кто рогатиной, кто ножом, а большинство попросту палками, приготовились отразить атаку. И все молча, без криков, зато волчий вой и рычание буквально рвали воздух.
Михаил Строгов не пожелал оставаться в стороне. Он растянулся на краю плота, вытащил свой ножи, когда хищная стая напала, ловко пустил его в ход. Всякий раз, когда волк оказывался в пределахдосягаемости, клинок, направляемый рукой умелого охотника, вонзался ему в горло. Гарри Блаунт и Альсид Жоливе тоже не зевали, потрудились на славу. Товарищи по несчастью храбро поддерживали друг друга. Все это смертоубийство происходило в полной тишине, хотя многим беглецам не удалось избежать очень серьезных укусов.
Однако было похоже, что эта схватка не скоро кончится. Стая волков непрестанно обновлялась, с правого берега Ангары набегали новые звери, их там было видимо-невидимо.
– Этому конца не будет! – ворчал Альсид Жоливе, в который раз замахиваясь своим кинжалом, красным от крови.
И действительно: с момента начала атаки прошло уже полчаса, а волки продолжали сотнями перебегать по льдинам к плоту.
Беглецы, вконец измотанные, заметно слабели. Сражение принимало для них скверный оборот. На плот уже вскочил десяток особо крупных волков, разгоряченных яростью и голодом. Их глаза горели в темноте, как раскаленные угли. Альсид Жоливе и его друг бросились в самую гущу этих страшных зверей, Михаил Строгов тоже пополз к ним, но тут расстановка сил внезапно и резко изменилась.
Всего за несколько секунд волки не только убрались с плота, но и на льдинах не осталось ни одного. Их черные силуэты стремительно посыпались в разные стороны, и вскоре стало понятно, что звери со всех ног удирают на правый берег реки.
Дело в том, что волкам для охоты нужна темнота, а тут вся Ангара озарилась ярким светом. Он исходил от огромного пожара. Со всех концов пылало большое селение. На сей раз бухарцы были здесь, они творили свое черное дело. Начиная с этого пункта, они контролировали оба берега вплоть до самого Иркутска. Итак, для беглецов начался самый опасный участок пути, а до столицы Сибири оставалось еще тридцать верст.
Было одиннадцать часов тридцать минут вечера. Плот по-прежнему скользил в потемках, пробирался среди льдин, абсолютно сливаясь с ними. Но местами поверхность воды была освещена, эти обширные световые пятна порой достигали плота. Тогда беглецы теснее вжимались в бревна и замирали, стараясь ни единым движением не выдать себя.
Селение горело чрезвычайно бурно. Дома, сложенные из пихты, вспыхивали, будто состояли из чистой смолы. Там пылали одновременно около ста пятидесяти строений. Завывания торжествующих бухарцев смешивались с треском горящих бревен. Старый капитан, отталкиваясь от льдины, плывущей рядом с плотом, сумел отвести его поближе к правому берегу, такчто теперь от пылающих домов их отделяло расстояние в триста-четыреста футов.
Тем не менее беглецы, попадая то и дело в полосу яркого света, неминуемо были бы замечены, если б поджигатели не так самозабвенно увлеклись разрушением поселка. Но как не понять страхов, мучивших в те минуты Альсида Жоливе и Гарри Блаунта при мысли о горючей жидкости, что плескалась под их плотом?
И то сказать, от горящих строений, как из раскаленного адского пекла, летели целые снопы искр. Вместе с клубами дыма эти искры уносились к небу футов на пятьсот-шестьсот. На правом берегу, расположенном напротив этого пожарища, деревья и скалы, обагренные заревом, казались тоже охваченными огнем. А ведь хватило бы одной единственной искорки, упавшей на поверхность реки, чтобы пожар распространился вверх и вниз по течению, тогда пламя перекинулось бы и на другой берег. Вот тут плот и всех его пассажиров ждала бы неотвратимая скорая гибель.
Но, к счастью, слабый ночной ветерокдул не с той стороны. Он по-прежнему тянул с востока, такчто пламя отклонялось влево. Это позволяло надеяться, что беглецы ускользнут от этой новой угрозы.
Поселок, охваченный огнем, и впрямь остался наконец позади. Блики пожара мало-помалу бледнели, его треск доносился все глуше, и вот уже последние проблески света угасли в тени крутых скал, что высились там, где Ангара делает резкий поворот.
Было около полуночи. Темнота, опять став непроглядной, снова накрыла плот своим защитным пологом. Бухарцы по-прежнему были тут как тут, сновали по берегам. Их было не видно, но слышно. И костры на вражеских аванпостах пылали чрезвычайно ярко.
Между тем возникла необходимость поосторожнее маневрировать среди льдин, напиравших все сильнее. Старый капитан встал, и мужики вновь взялись за багры. Все они знали свое дело, но управлять плотом становилось чем дальше, тем труднее: русло реки закупоривалось льдом прямо на глазах.
Михаил Строгов пробрался в носовую часть плота.
Альсид Жоливе последовал за ним.
Оба услышали то, что старый капитан говорил своим людям:
– Справа, не зевай, смотри в оба!
– А вон льдины слева напирают!
– Гони их! Багром отпихивайся!
– Часа не пройдет, как застрянем!..
– Если Бог попустит! – проворчал капитан. – Без его святой воли ничего не делается.
– Слышите, что они говорят? – шепнул Строгову Альсид Жоливе.
– Да, – отвечал Михаил. – Но Бог за нас!
Между тем положение все более усложнялось. Если продвижение плота остановится, беглецам не добраться до Иркутска, мало того – им придется оставить свое импровизированное судно, оно неминуемо развалится под ними, льды раздавят его. Тогда связки из ивовых прутьев лопнут, пихтовые стволы, насильственно разъединенные, покроются ледяной корой, и у несчастных людей не останется иной опоры, кроме самих льдин. А как только рассветет, бухарцы увидят их и беспощадно истребят!
Михаил Строгов вернулся на корму. Там его ждала Надя. Он приблизился к ней, взял за руку и задал все тот же неизменный вопрос «Надя, ты готова?», на который она ответила, как всегда:
– Готова!
Еще несколько верст плот проталкивался среди плавучих льдин. Но было ясно: если Ангару скует льдом, плыть по течению станет невозможно, они застрянут. Уже и теперь они дрейфовали куда медленней, чем поначалу. Ежеминутно плот наталкивался на что-нибудь или сворачивал с пути, избегая столкновения. То увиливал от наскока, то проскальзывал в образовавшуюся брешь между льдинами. А любые задержки вызывали огромное беспокойство.
В самом деле, ведь в запасе оставалось всего несколько ночных часов. Если беглецы не достигнут Иркутска раньше пяти часов утра, им придется проститься с надеждой когда-либо туда попасть.
И вот в половине второго несмотря на все их усилия (чего они только не делали!) плот уткнулся в массивную ледяную запруду и безнадежно застрял. Льдины, плывшие вниз по реке, тотчас наперли на него, прижимая к этой преграде, и он потерял возможность двигаться так же необратимо, как если бы налетел на риф.
Русло Ангары в этом месте сужалось до половины своей обычной ширины. Отсюда и ледяной затор, который мало-помалу смыкался все крепче под двойным воздействием достаточно сильного напора наплывающих льдин и мороза, который все крепчал. Всего за пятьсот шагов ниже по течению река снова расширялась, и льдины, одна задругой отрываясь от запруды, продолжали дрейфовать в направлении Иркутска. Таким образом, если бы берега так не сблизились, то и затор, вероятно, не образовался бы, плот смог бы продолжать плыть по течению. Но непоправимая катастрофа уже произошла, и беглецам пришлось оставить всякую надежду добраться до своей цели.
Если бы в их распоряжении имелся инструмент, каким обычно пользуются китобои, пробивая каналы в ледяных пустынях, они могли бы расчистить себе дорогу до того места, где река расширяется. Может, им на это хватило бы времени? Но под рукой нет ни пилы, ни кайла, ничего такого, чем можно бы разбить эту ледяную корку, от стужи затвердевшую, как гранит.
На что решиться?
В этот момент с правого берега Ангары раздалась ружейная пальба. Дождь пуль обрушился на плот. Итак, несчастных заметили. Разумеется, так и было: другие выстрелы тотчас загремели с левого берега. Беглецы, оказавшись меж двух огней, стали легкой мишенью для бухарских стрелков. Некоторые уже были ранены, хотя все эти пули в потемках посылались наудачу.
– Идем, Надя, – шепнул Михаил Строгов на ухо девушке.
Без каких бы то ни было замечаний Надя, «готовая на все», протянула ему руку.
– Надо перейти затор, – тихо сказал он ей. – Веди меня, но так, чтобы никто не заметил, что мы уходим с плота!
Надя повиновалась. Они с Михаилом быстро выскользнули на ледяную поверхность в полном мраке, то тут, то там разрываемом вспышками ружейных выстрелов.
Надя ползла впереди, Строгов за ней. Пули сыпались вокруг них, как крупный град, с треском врезаясь в лед. Шероховатый, с острыми гранями, он до крови изранил их ладони, но оба продолжали упорно ползти вперед.
Через десять минут они добрались до противоположной стенки затора. Впереди воды Ангары, освобожденные от излишков льда, текли вольно. Несколько льдин, мало-помалу отрываясь от затора, продолжали плыть по направлению к городу.
Надя понимала, на какую попытку решился Михаил Строгов. Она приметила одну из таких льдин, которая уже едва держалась, зацепившись узким выступом.
– Сюда, – сказала девушка.
И оба растянулись на этом куске льда, легонько раскачав его, чтобы отделился от запруды.
Льдина поплыла. Река расширилась, путь был свободен.
Удаляясь вверх по течению, Михаил и Надя еще долго слышали звуки выстрелов, крики отчаяния, завывания бухарцев… Потом мало-помалу все эти звуки, полные мучительной тревоги и свирепого ликования, затихли вдали.
– Бедные наши товарищи! – прошептала Надя.
Полчаса льдина, на которой плыли Михаил Строгов и Надя, стремительно несла их вперед, хотя в любой момент можно было опасаться, что она растает под ними. Подхваченная течением, она дрейфовала по самой середине реки, и не было надобности направлять ее в сторону до той минуты, когда потребуется причалить к иркутской набережной.
Михаил Строгов, стиснув зубы и навострив уши, молчал. Ни слова не проронил. Никогда еще он не был так близок к цели. Он чувствовал, что достигнет ее!..
Около двух часов ночи на темном горизонте, с которым сливались очертания берегов Ангары, загорелась двойная полоса света.
Справа – огни Иркутска, слева – костры лагеря осаждающих.
До города оставалось всего полверсты.
– Наконец! – пробормотал Михаил Строгов.
Но внезапно у Нади вырвался крик.
Услышав его, Михаил Строгов выпрямился так резко, что льдина зашаталась. Он простер руку вперед, туда, куда текла Ангара. Сейчас на его лицо, озаренное голубоватыми отблесками далекого света, было страшно смотреть. Его глаза, казалось, снова увидели свет.
– Ах! – вскричал он. – Значит, сам Господь против нас!
Глава XII. Иркутск
Иркутск – столица восточной Сибири – в обычное время очень многолюден, в этом городе триста тысяч жителей. На правом, довольно высоком, берегу Ангары красуются его храмы, среди которых выделяется внушительный собор, и дома, разбросанные в живописном беспорядке.
Увиденный с почтительного расстояния, скажем, с вершины горы, что высится в двадцати верстах у большого сибирского тракта, Иркутск со своими церковными маковками, колокольнями, чьи стремительные шпицы напоминают минареты, со своими пузатыми куполами, похожими на японские фарфоровые вазы, создает впечатление отчасти восточное. Но лицо города меняется, стоит путешественнику войти в его пределы. Полувизантийский, полукитайский город оборачивается европейским благодаря щебеночному покрытию улиц, обрамленных пешеходными мостками, пересекаемых каналами, обсаженных громадными березами, благодаря своим кирпичным и деревянным домам, некоторые в несколько этажей, а также потому, что по этому городу разъезжает множество экипажей, не только тарантасов и телег, но и дилижансов, и колясок, и, наконец, потому, что среди его обитателей немало тех, кто в высшей степени причастен к прогрессу цивилизации, кому не чужды и самые последние новинки парижской моды.
В эту эпоху из-за наплыва беженцев из сибирских провинций Иркутск был переполнен. Блага всякого рода имелись здесь в изобилии. Иркутск – кладовая тех бесчисленных товаров, которыми обмениваются между собой Китай, Средняя Азия и Европа. Поэтому администрация Иркутска могла смело призвать сюда сельских жителей из долины Ангары, хакассов, тунгусов, бурят и превратить в пустыню все пространство между городом и наступающими захватчиками.
В Иркутске находится резиденция генерал-губернатора восточной Сибири. Ему подчиняются штатский губернатор, в чьих руках сосредоточено управление провинцией, начальник полиции, у которого полно забот в городе, где множество ссыльных, и, наконец, мэр: он распоряжается всеми торговцами, это персона значительная благодаря как своему огромному богатству, так и влиянию, которое он имеет на своих подопечных.
Гарнизон Иркутска в те дни состоял из казачьего пехотного полка, где насчитывалось около двух тысяч человек, и корпуса жандармов, носивших каски и голубые мундиры с серебряными галунами.
При этом, как мы знаем, брат царя вследствие чрезвычайных обстоятельств с первых дней нашествия оказался запертым в городе.
Здесь следует кое-что уточнить.
В эти отдаленные провинции восточной Азии великого князя привели дела большой государственной важности. Он проехал по главным городам Сибири, путешествуя не по-княжески, а скорее по-военному: без свиты, в сопровождении своих офицеров, с казачьим полком в качестве эскорта. Так он достиг Забайкалья. Даже Николаевск, последний русский город, построенный на берегу Охотского моря, успел удостоиться его посещения.
Достигнув пределов огромной империи, управляемой из Москвы, великий князь отправился в Иркутск, откуда рассчитывал пуститься в обратный путь, но тут пришло известие об этом нашествии, столь же грозном, сколь внезапном. Он поспешил в сибирскую столицу, но едва он туда прибыл, связь с европейской Россией почти тотчас прервалась. Ему еще доставили несколько телеграмм из Петербурга и Москвы, он даже успел на них ответить, но потом провод был перерезан – мы помним, при каких обстоятельствах это случилось.
Теперь Иркутск был оторван от остального мира.
Великому князю оставалось лишь заняться организацией обороны, и он взялся за это с твердостью и хладнокровием, проявляемыми им и прежде, в иных ситуациях.
Известия о взятии противником Ишима, Омска, Томска одно за другим приходили в Иркутск. А значит, следовало любой ценой спасти столицу Сибири от грозящей ей оккупации. На скорое прибытие подкрепления надеяться не приходилось. Небольшие воинские подразделения, рассеянные там и сям по Приамурью и Иркутской губернии, были слишком малочисленны, чтобы остановить ханские полчища. Итак, коль скоро они неизбежно обложат Иркутск, самое важное – привести город в такое состояние, чтобы он смог выдержать долговременную осаду.
Эти работы начались в день, когда пал Томск. Одновременно с этой последней новостью великому князю сообщили, что эмир Бухарский и его союзники-ханы самолично возглавляют нашествие. Но он не знал одного: что сподвижником этих варваров-правителей является Иван Огаров, русский офицер, которого он разжаловал, но в глаза не видел.
Вначале, как мы уже знаем, жителям Иркутской провинции было приказано покинуть свои города и селения. Те, кто не доберется до сибирской столицы, должны были отступить за Байкал, в края, которых опустошительное нашествие, весьма вероятно, не затронет. Урожай зерновых и фураж подверглись реквизиции в пользу города, чтобы этот последний дальневосточный форпост московской власти какое-то время смог продержаться.
Иркутск, основанный в 1611 году, расположен на слиянии Иркута и Ангары, на правом берегу последней. Два деревянных моста на свайных опорах расположены так, чтобы соединять город с его левобережными предместьями и открываться во всю ширину фарватера, если того требуют нужды навигации. С этой стороны оборона трудностей не представляла. Предместья были покинуты, мосты разрушены. Под огнем осажденных форсировать Ангару, которая в этом месте весьма широка, – задача невыполнимая.
Однако переправиться через реку вблизи от города, выше или ниже по течению, было возможно. Следовательно, атака угрожала Иркутску с востока, где никакие крепостные укрепления его не защищали.
Вот почему все рабочие руки города перво-наперво занялись именно возведением фортификационных сооружений. Трудились день и ночь. Великий князь убедился, что жители с большим рвением взялись за это дело, впоследствии ему предстояло восхищаться и их отвагой при обороне. Солдаты, торговцы, ссыльные, крестьяне – никто не жалел себя во имя общего спасения. Земляные укрепления были готовы за восемь дней до того, как бухарцы появились на Ангаре. Между эскарпом и контрэскарпом прорыли ров, заполнив его водой из Ангары. Теперь взять город стало не так просто. Врагам придется его окружить и вести упорную осаду.
Третья ханская колонна – та, что прошла по долине Енисея, – появиласьу Иркутска 24 сентября. Она незамедлительно заняла покинутые предместья, где и дома были заблаговременно разрушены, чтобы не мешали артиллерии великого князя, к несчастью, недостаточно мощной.
Итак, бухарцы сгруппировались и стали ждать прибытия двух других колонн под командованием эмира и его союзников. Соединение этих корпусов произошло 25 сентября в лагере на берегу Ангары, и вся армия за исключением гарнизонов, оставленных в главных завоеванных городах, сосредоточилась под командованием Феофар-хана.
Иван Огаров нашел, что форсировать Ангару перед Иркутском немыслимо, и большая часть армии переправилась через реку в нескольких верстах ниже по течению на палубах судов, оборудованных с этой целью. Великий князь не пытался воспрепятствовать этой переправе. Не имея в распоряжении полевой артиллерии, он мог разве что затруднить, но не предотвратить ее. А потому он остался сидеть, запершись в Иркутске.
Стало быть, бухарцы оккупировали правый берег реки и двинулись к городу. Попутно они сожгли летнюю резиденцию генерал-губернатора, расположенную на вершине лесистого холма, что высится над Ангарой, и собрались, полностью окружив Иркутск, окончательно выбрать позицию, откуда будут наносить главные удары.
Иван Огаров как опытный строитель военных машин был, разумеется, в высшей степени пригоден для руководства планомерной осадой на всех ее этапах. Но чтобы действовать достаточно быстро, ему не хватало оборудования и боевой техники. Поэтому он надеялся захватить Иркутск, главную цель всех своих усилий, врасплох.
Однако, как мы видим, его расчеты не оправдались, все обернулось иначе. С одной стороны, сражение под Томском задержало наступление ханской армии, с другой – великий князь очень быстро развернул работы по укреплению обороны. Двух таких причин хватило, чтобы первоначальный план Огарова провалился. А значит, ему волей-неволей придется организовать осаду по всем правилам.
Тем не менее эмир, поддавшись его подстрекательствам, дважды пытался захватить город ценой больших людских потерь. Он бросал своих солдат на земляные укрепления, в которых имелось несколько слабых мест. Но обе атаки были отбиты благодаря величайшей отваге защитников города. При этом себя не щадили и сам великий князь, и его приближенные офицеры. Они вдохновляли людей личным примером, увлекая за собой и гражданское население. Горожане и мужики исполняли свой долг с отменным мужеством. При второй атаке нападающим удалось прорваться в одном месте, разломав ворота крепости. Завязался бой в начале улицы под названием Большая, что тянется на две версты и заканчивается на берегу Ангары. Но казаки, жандармы и мирные граждане дали бухарцам такой отпор, что тем пришлось вернуться на прежние позиции.
Тогда Иван Огаров, не сумев победить силой, задумал добиться своего ценой предательства. Мы помним, что он и прежде замышлял проникнуть в город, добиться встречи с великим князем, завоевать его доверие и, когда наступит удобный момент, открыть осаждающим городские ворота. А потом, совершив это, утолить свою жажду мщения, расправившись с братом царя.
Цыганка Сангарра, которая и в лагере на Ангаре оставалась при нем, побуждала его исполнить этот план не медля.
Да и впрямь пора было действовать. Войска русских, приписанные к Иркутской губернии, спешили на помощь осажденному городу. Они собрались в верхнем течении Лены и двинулись к Иркутску по долине этой реки. Шести дней не пройдет, как они будут здесь. Значит, необходимо позаботиться о том, чтобы город к тому времени пал, сраженный предательством.
Иван Огаров больше не колебался.
Вечером 2 октября в большой гостиной дворца генерал-губернатора состоялся военный совет. Здесь же находилась и резиденция великого князя.
Этот дворец высится в конце улицы Большой там, где начинается длинный спуск к реке. Из окон главного фасада открывался вид на лагерь осаждающих, причем их артиллерия, более дальнобойная, чем обычно бывает у бухарцев, грозила сделать этот дворец необитаемым.
Великий князь, генерал Воронцов, градоначальник, глава всех купеческих гильдий, а также кое-кто из высшего офицерства явились сюда, чтобы обсудить и принять ряд важных решений.
– Господа, – сказал великий князь, – вам прекрасно известно наше положение. Я имею твердые основания надеяться, что мы сможем продержаться до прибытия подкрепления. А тогда у нас хватит сил, чтобы прогнать отсюда эти варварские орды, и если это будет зависеть от меня, они дорого заплатят за вторжение на территорию, принадлежащую Москве!
– Вашему высочеству известно, что на отвагу и преданность населения Иркутска можно положиться, – отвечал генерал Воронцов.
– Да, генерал, – великий князь благосклонно кивнул, – я высоко ценю патриотизм нашего народа. Благодарение Богу, он пока не испытывает мук голода и ужасов эпидемий и у меня есть причины верить, что они его не постигнут. Но на стенах крепости я могу только восхищаться храбростью наших людей. Вы поняли мои слова, господин представитель купечества? Я просил бы вас передать их в точности.
– Благодарю ваше высочество от имени города, – отвечал тот. – Но смею ли спросить, какой крайний срок прибытия подкрепления вы предполагаете?
– Дней через шесть, самое большее, – заявил великий князь. – Сегодня утром в город сумел проникнуть ловкий и смелый посланец, он заверил меня, что пятьдесят тысяч русских под командованием генерала Киселева форсированным маршем движутся сюда. Два дня назад они были на берегах Лены, в Киренске, теперь ни стужа, ни снегопады не помешают им прийти. Пятьдесят тысяч хорошо обученных солдат, ударив бухарцам во фланг, быстро освободят нас.
– Хорошо, господа, – одобрил великий князь. – Дождемся, когда наши колонны появятся на холмах, тогда и раздавим захватчиков.
Потом, повернувшись к генералу Воронцову, распорядился:
– Завтра мы с вами пойдем посмотрим, какдвижутся работы на правом берегу. Ангара несет льдины, она скоро замерзнет, тогда бухарцы, возможно, и перейдут ее.
– Не позволит ли мне ваше высочество сделать одно замечание? – спросил глава купеческих гильдий.
– Сделайте, сударь.
– Мне случалось видеть, что Ангара продолжала нести льдины, но полностью не замерзала и тогда, когда температура падала ниже тридцати-сорока градусов. Причиной тому, несомненно, является ее стремительное течение. Если бухарцы не найдут иного способа форсировать реку, готов поручиться вашему высочеству, что таким путем они в Иркутск не войдут.
Генерал-губернатор тотчас с готовностью подтвердил это.
– Отрадное сообщение, – сказал великий князь. – Но, так или иначе, мы будем готовы к любому повороту событий.
Затем он обратился к начальнику полиции:
– А вам нечего сказать мне, сударь?
– Я, – отозвался тот, – должен передать вашему высочеству прошение, адресованное вам через мое посредничество.
– Адресованное кем?
– Изгнанниками, сосланными в Сибирь, их в городе, как ведомо вашему высочеству, пять сотен человек.
Уходя от нашествия, политические ссыльные действительно стекались сюда со всей провинции, как все, подчинившись приказу отойти в Иркутск, покинуть поселки, где они занимались различными профессиями, преимущественно медициной и преподаванием – кто в гимназии, кто в японской школе, кто в училище навигации. Великий князь, как и царь, уверенный в их патриотизме, с первых же дней приказал выдать им оружие, и они показали себя отважными защитниками города.
– Чего же просят ссыльные? – спросил он.
Начальник полиции доложил:
– Они просят у вашего высочества разрешения создать свой особый корпус и в первом бою вне стен крепости выступить как головной отряд.
– Да, – промолвил великий князь с волнением, которого даже не пытался скрыть, – эти изгнанники, прежде всего, русские люди, это их право – сражаться за свое отечество!
– Полагаю, что я вправе заверить ваше высочество, что лучших солдат вы не найдете, – вставил генерал-губернатор.
– Однако им нужен командир, – заметил великий князь. – Кто же возьмется?
– Среди них есть один, который уже в нескольких случаях проявил себя, – отвечал начальник полиции. – Они остановили свой выбор на нем и желали бы получить одобрение вашего высочества.
– Он русский?
– Да, русский из балтийских провинций.
– Его имя?
– Василий Федоров.
Этот ссыльный был отцом Нади.
Как нам известно, Василий Федоров работал в Иркутске врачом. Это был образованный и сердечный человек, к тому же очень храбрый и исполненный самого искреннего патриотизма. Все то время, которое не посвящал больным, он отдавал организации сопротивления. Не кто иной, как он объединил своих товарищей по изгнанию во имя этого общего дела. Тогда ссыльные, до сей поры ничем не выделявшиеся среди населения, своей активностью привлекли к себе внимание великого князя. В нескольких вылазках они щедро оплатили кровью долги святой Руси – святой, о да, и обожаемой своими сынами! Василий Федоров вел себя как герой. Его имя неоднократно упоминалось в этой связи, но он никогда не просил для себя ни милостей, ни льгот, и когда иркутские ссыльные задумали сформировать особый корпус, он даже не знал, что они решили сделать его своим командиром.
Когда начальник полиции назвал это имя, великий князь тотчас ответил, что оно ему знакомо.
– В самом деле, – отозвался генерал Воронцов, – он достойный и храбрый человек, этот Василий Федоров. И для своих товарищей он всегда был очень большим авторитетом.
– Давно он в Иркутске? – поинтересовался великий князь.
– Два года.
– И его поведение…
– Это поведение человека, который подчиняется всем требованиям, возложенным на него законом, – ответил начальник полиции.
– Генерал, – распорядился великий князь, – соблаговолите немедленно представить его мне.
Приказы великого князя неукоснительно исполнялись, так что не прошло и получаса, как Василий Федоров был доставлен к нему.
Это был человек лет сорока, не больше, высокого роста, с лицом суровым и печальным. Чувствовалось, что вся его жизнь сводилась к одному – к борьбе. Он боролся и страдал. Внешне они были поразительно похожи друг на друга – отец и его дочь, Надежда Федорова.
Нашествие задело его больше, чем любого другого, оно нанесло удар его самой дорогой привязанности, разбило самые заветные надежды отца, разлученного с семьей, отправленного в изгнание за восемь тысяч верст от родного города. Из письма он узнал о смерти жены и одновременно – о том, что дочь выехала к нему, получив от правительства разрешение поселиться с отцом в Иркутске.
Надя должна была выехать из Риги 10 июля. Нашествие началось пятнадцатого. Если к тому моменту Надя уже была по ту сторону границы, что с ней случилось среди захватчиков? Легко догадаться, какая тревога терзала несчастного отца, ведь с тех пор он больше не получал известий от дочери.
Представ перед великим князем, он поклонился и молча ждал вопросов.
– Василий Федоров, – сказал великий князь, – твои товарищи по изгнанию просят разрешения создать элитный корпус. Им известно, что в таких подразделениях надо быть готовыми к тому, что убьют всех до единого?
– Это они знают, – отвечал Федоров.
– Еще они хотят, чтобы ты стал их командиром.
– Я, ваше высочество?
– Ты согласен возглавить их?
– Если благо России того требует, да.
– Командир Федоров, ты больше не ссыльный.
– Спасибо, ваше высочество, но могу ли я командовать теми, кто все еще в ссылке?
– Они тоже отныне свободны!
Подумать только, что эту милость всем его товарищам по изгнанию, ставшим товарищами по оружию, оказал брат государя!
Василий Федоров с волнением пожал руку, протянутую ему великим князем, и удалился.
А последний, обернувшись к своим офицерам, с улыбкой сказал:
– Царь не откажется подписать помилование, которое я ему открыто представлю! Чтобы отстоять столицу Сибири, нам нужны герои, и я их только что сотворил.
Эта милость, так великодушно оказанная изгнанникам Иркутска, и впрямь была актом справедливости и доброты, а также умным политическим ходом.
Между тем наступила ночь. Из окон дворца были видны костры, горящие в лагере бухарцев, искры от нихулетали в небо там, за Ангарой. Река несла множество льдин, некоторые из них застревали, наткнувшись на сваи разрушенных деревянных мостов. Те же, что плыли по течению, неслись с поразительной быстротой. Было очевидно, что Ангаре, как утверждал глава купеческих гильдий, очень трудно покрыться сплошным льдом. Итак, защитникам Иркутска можно не опасаться нападения с этой стороны.
Часы только что прозвонили десять вечера. Великий князь собрался отослать приближенных офицеров и удалиться в свои покои, когда за стенами дворца начался какой-то переполох.
Почти тотчас дверь гостиной распахнулась и появился адъютант. Он бросился к великому князю, восклицая:
– Ваше высочество, прибыл посланец государя!
Глава XIII. Посланец государя
Члены совета все разом повернулись к открытой двери. Царский фельдъегерь! Он сумел добраться до Иркутска! Если бы эти офицеры хоть на миг призадумались о том, какова вероятность подобного факта, они, разумеется, сочли бы его невозможным.
Великий князь порывисто шагнул навстречу своему адъютанту:
– Посланец! – вырвалось у него.
Вошел человек. Он выглядел до крайности измученным. Его одежда сибирского крестьянина была сильно поношена, даже изодрана, и в этих дырках угадывались отверстия от пуль. На голове картуз. Лицо пришельца пересекал шрам, еще не вполне зарубцевавшийся. Было совершенно очевидно, что за плечами этого человека долгое мучительное странствие. Состояние его башмаков доказывало даже, что он, по всей вероятности, немалую часть пути проделал пешком.
– Его высочество великий князь? – воскликнул он, входя.
Великий князь подошел к нему.
– Ты послан царем? – спросил он.
– Да, ваше высочество.
– Ты прибыл из?..
– Из Москвы.
– Ты покинул Москву?..
– Пятнадцатого июля.
– Тебя зовут?..
– Михаил Строгов.
Это был Иван Огаров, присвоивший имя и заслуги того, кого, как сам считал, он обрек на жалкое бездействие. Ни один человек в Иркутске его не знал, ни великий князь, ни кто-либо другой не мог разоблачить самозванца, так что даже не было надобности менять свою наружность. Коль скоро у него было средство доказать свою мнимую подлинность, усомниться в ней никто не посмеет. И вот он явился сюда, ведомый своей железной волей, чтобы предательством и убийством увенчать трагедию нашествия.
Получив от Ивана Огарова ответы на свои первые вопросы, великий князь дал своим офицерам знакудалиться. Все повиновались. И он остался в гостиной один на один с мнимым Михаилом Строговым.
Несколько мгновений великий князь с чрезвычайным вниманием вглядывался в лицо Ивана Огарова. Потом спросил:
– Значит, 15 июля ты был в Москве?
– Да, ваше высочество, и в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое я видел его величество государя в Новом Дворце.
– Ты привез мне письмо царя?
– Вот оно.
И Огаров протянул великому князю письмо императора, сложенное так, что оно достигло почти микроскопических размеров.
– Тебе дали письмо в таком состоянии? – спросил великий князь.
– Нет, ваше высочество, но мне пришлось разорвать конверт, чтобы получше спрятать его от солдат эмира.
– Значит, ты побывал у них в плену?
– Да, ваше высочество, я провел там несколько дней, – отвечал Иван Огаров. – Поэтому, выехав из Москвы 15 июля, согласно дате этого письма, я добрался до Иркутска только 2 октября, после семидесяти девяти дней пути.
Великий князь взял письмо. Развернул, узнал подпись царя и предшествующую ей традиционную формулу, написанную его рукой. Итак, не было ни малейшего сомнения в подлинности этого письма, а стало быть, и курьера. Если его свирепая физиономия поначалу и вызвала у великого князя недоверие, которое он сумел безупречно скрыть, то теперь все сомнения разом исчезли.
Какое-то время великий князь молчал. Он читал письмо – медленно, чтобы глубже проникнуть в его смысл.
Потом он снова заговорил:
– Михаил Строгов, тебе известно содержание этого письма?
– Да, ваше высочество. Могло ведь так случиться, что мне пришлось бы уничтожить письмо, чтобы оно не попало в руки бухарцев. Я хотел иметь возможность, в крайнем случае, пересказать его текст вашему высочеству дословно.
– Ты знаешь, что это письмо велит нам лучше умереть в Иркутске, чем сдать город?
– Знаю.
– А о том, что в нем содержатся указания относительно передвижений войск, которые предназначались для того, чтобы остановить нашествие?
– Да, ваше высочество, но эти маневры не удались.
– Что ты хочешь сказать?
– Я имею в виду, что Ишим, Омск, Томск, не говоря о другихзначительных городах Сибири, один за другим захвачены солдатами Феофар-хана.
– Но борьба была? Разве наши казаки не встретились с бухарцами?
– Несколько раз, ваше высочество.
– И они отступали?
– Им не хватало сил.
– Где происходили эти стычки, о которых ты говоришь?
– В Колывани, в Томске…
До этой минуты Иван Огаров не говорил ничего, кроме правды, но теперь с целью поколебать боевой дух защитников Иркутска он добавил, преувеличивая успех, достигнутый войсками эмира:
– Ив третий раз на подступах к Красноярску.
– А эта последняя стычка?.. – выговорил великий князь, с трудом пропуская слова сквозь сжатые губы.
– Там была уже не стычка, а настоящее сражение, ваше высочество, – отвечал Иван Огаров.
– Сражение?
– Двадцать тысяч русских из приграничных провинций и Тобольской губернии вступили в бой со ста пятьюдесятью тысячами бухарцев и полегли несмотря на всю свою отвагу.
– Ты лжешь! – выкрикнул великий князь, который силился, но не смог сдержать свой гнев.
– Я сказал правду, ваше высочество, – холодно отрезал Иван Огаров. – В той баталии под Красноярском я участвовал, тогда и попал в плен.
Великий князь овладел собой и жестом дал Огарову понять, что не сомневается в его правдивости.
– Какого числа произошло это красноярской сражение? – спросил он.
– Второго сентября.
– И теперь все ханские войска сосредоточены вокруг Иркутска?
– Все.
– Сколько же их там, по-твоему?
– Около четырехсот тысяч.
Новое преувеличение, на сей раз в оценке численности вражеской армии, Огаров допустил с той же целью.
– И я не должен ждать никакой помощи от восточных провинций? – спросил великий князь.
– Никакой, ваше высочество, по крайней мере, до исхода зимы.
– Запомни же, Михаил Строгов, вот что: пусть ко мне никто никогда не придет на помощь ни с запада, ни с востока, а этих варваров будет хоть все шестьсот тысяч, но Иркутска я не сдам!
Иван Огаров слегка прищурил свои злобные глаза. Казалось, изменника забавляло, что брат царя в своих расчетах упускает возможность предательства.
Великий князь, имея нервический темперамент, с огромным трудом сохранял спокойствие: столь мрачные новости потрясли его. Он расхаживал взад-впередпо гостиной, останавливался у окон, смотрел на костры вражеского стана, вслушивался в долетавшие оттуда звуки, хотя по большей части это был всего лишь шум, производимый столкновением льдин, плывущих по течению Ангары. А между тем Иван Огаров, предвкушая свою месть, пожирал его глазами, как готовую добычу.
Прошло четверть часа, а он все молчал, не задавал никаких вопросов. Потом снова взял письмо, перечитал один пассаж и сказал:
– Ты знаешь, Михаил Строгов, что в этом письме идет речь об одном предателе, которого я должен остерегаться?
– Да, ваше высочество.
– Он должен проникнуть в Иркутск переодетым, втереться ко мне в доверие, а затем, выбрав удобный момент, сдать город врагам.
– Мне все это известно, ваше высочество. Я также знаю, что Иван Огаров поклялся лично отомстить брату царя.
– Почему?
– Говорят, что великий князь унизил этого офицера, разжаловал его.
– Да… припоминаю… Но он заслужил это, презренный негодяй, который затем нанялся на службу к врагам своей страны, привел на родную землю полчища варваров!
– Его величество государь особенно пекся о том, чтобы предупредить вас насчет преступных замыслов Ивана Огарова против вашей персоны.
– Да-да… в письме он известил меня об этом…
– Его величество государь и меня предостерегал, что во время путешествия по Сибири я должен особенно опасаться этого предателя.
– И ты встретил его?
– Да, ваше высочество. Это было после красноярской баталии. Если бы он заподозрил, что я везу письмо, адресованное вашему высочеству и разоблачающее его планы, он бы меня не пощадил.
– Да, тебе грозила гибель! – воскликнул великий князь. – И как же ты умудрился бежать?
– Я бросился в Иртыш.
– А как ты проник в Иркутск?
– Благодаря вылазке, произведенной нынче вечером, чтобы отогнать подальше отряд бухарцев. Я смешался с толпой защитников города, смог добиться, чтобы меня признали и тотчас отвели к вашему высочеству.
– Хорошо, Михаил Строгов, – отвечал великий князь. – Исполняя эту трудную миссию, ты проявил отвагу и рвение. Я тебя не забуду. Есть ли какая-либо милость, о которой ты хотел бы меня попросить?
– Только одна: я хотел бы сражаться бок о бок с вашим высочеством, – заявил Иван Огаров.
– Быть по сему, Михаил Строгов. Отныне ты будешь состоять при моей персоне и жить в этом дворце.
– А если согласно замыслу, что он лелеет, Иван Огаров явится к вашему высочеству под чужим именем?
– С твоей помощью мы разоблачим мерзавца, ведь ты его знаешь, и я позабочусь, чтобы он умер под кнутом. Ступай.
Иван Огаров по-военному отдал великому князю честь, вспомнив, что он капитан корпуса царских фельдъегерей, и удалился.
Свою бесчестную роль он сыграл с успехом. Теперь ему обеспечено полное и безоглядное доверие великого князя. Он сможет злоупотребить им там и тогда, где и когда ему будет угодно. Он поселится в том же дворце. Секретные планы защитников города будут ему известны. Итак, все в его руках. В Иркутске никто его не знает, нет никого, кто бы мог сорвать с него маску. Стало быть, он решил действовать без промедления.
Да и время поджимало. Город необходимо сдать до прибытия русских с севера и с востока, а это вопрос нескольких дней. Если ханские войска возьмут Иркутск, отвоевать его у них будет не просто. В любом случае, если когда-нибудь им и придется оставить город, то не иначе, как разрушив его до основания, а голова великого князя уж непременно скатится к ногам Феофар-хана.
Получив полную возможность видеть, наблюдать, действовать, Иван Огаров на следующий день занялся осмотром укреплений. Офицеры, солдаты, горожане повсюду встречали его самыми сердечными поздравлениями. Этот царский посланец был для всех, словно живая ниточка, заново связавшая их с империей. Итак, Огаров с апломбом, который никогда ему не изменял, расписывал желающим вымышленные перипетии своего путешествия. Затем ловко, поначалу без особого нажима, заговаривал о серьезности положения, преувеличивая и ее, и успехи противника также, как в разговоре с великим князем. Он создавал у собеседников самое пугающее представление о силах, которыми располагают варвары. Послушать его, так выходило, что ожидаемое подкрепление, если и придет, окажется недостаточным, и есть основания опасаться, что битва, развязанная у стен Иркутска, закончится также плачевно, как сражения под Кдлыванью, Томском и Красноярском.
Иван Огаров не слишком усердствовал, распространяя эти злонамеренные измышления. Соблюдал некоторую осторожность, мало-помалу внедряя их в сознание защитников Иркутска. На расспросы отвечал как бы нехотя, только если уж слишком наседали, и при этом делал вид, будто подавлен скорбью. Причем неизменно заявлял, что следует драться до последнего человека и чем сдать город, уж лучше его взорвать!
Тем не менее он чинил зло всюду, где только мог. Однако гарнизон и население Иркутска были слишком пламенными патриотами, чтобы поддаться запугиваниям. Среди этих солдат и мирных обывателей, запертых в стенах города, отрезанного от мира на дальнем краю азиатского материка, не нашлось ни одного, кто бы осмелился заговорить о капитуляции. Презрение русского человека ко всем этим варварам не знало пределов.
В то же время ни одна душа не догадывалась о том, какую подлую игру ведет Иван Огаров, никому не могло прийти в голову подозрение, что мнимый посланец государя на самом деле предатель.
Между тем по естественному стечению обстоятельств у Ивана Огарова, как только он прибыл в Иркутск, установилось довольно регулярное общение с одним из самых храбрых защитников города – с Василием Федоровым.
Этого несчастного отца, как нам известно, терзало мучительное беспокойство. Если его дочь Надя покинула Россию в тот день, о котором шла речь в ее последнем письме из Риги, что с ней произошло? Может быть, она все еще пытается добраться в Иркутск к отцу через захваченные бухарцами провинции? Или, что более вероятно, она давно уже у них в плену? Василий Федоров находил облегчение своих страданий лишь тогда, когда возникал повод сразиться с захватчиками, но такие случаи подворачивались, как ему казалось, слишком редко.
И вот когда Василий Федоров узнал о неожиданном приезде царского курьера, его охватило нечто вроде предчувствия, что этот человек может сообщить ему какие-то вести о судьбе его дочери. Он понимал, что эти надежды, вероятно, не более чем химера, и все-таки цеплялся за них. Разве этот курьер не побывал в плену, где, может быть, оказалась в то время и Надя?
Василий Федоров отправился к Ивану Огарову, а тот ухватился за такой повод наладить с командующим передовым корпусом повседневное общение. Уж не задумал ли этот ренегат воспользоваться бедой Федорова? Неужели он обо всех людях судил по себе? И мог поверить, что русский, пусть даже политический ссыльный, способен дойти до такой низости, чтобы предать свою страну?
Как бы то ни было, Иван Огаров сумело разыгранной предупредительностью откликнулся на попытки сближения со стороны Надиного отца. Атот уже на следующий день после прибытия мнимого курьера явился к нему во дворец генерал-губернатора. Он в первом же разговоре поведал Огарову о том, при каких обстоятельствах его дочери пришлось покинуть европейскую Россию, и не скрыл, какужасно он теперь о ней беспокоится.
Иван Огаров Нади не знал, хотя встретил ее на почтовой станции в Ишиме, когда она была там с Михаилом Строговым. Но тогда он уже ни на кого не обращал внимания – ни на девушку, ни на двух журналистов, тоже бывших в то время на почтовой станции. А стало быть, он не мог сообщить Василию Федорову никаких вестей о его дочери.
– Но когда именно ваша дочь могла покинуть пределы европейской России? – спросил Иван Огаров.
– Примерно тогда же, когда и вы, – отвечал Василий Федоров.
– Я выехал из Москвы 15 июля.
– Надя должна была покинуть Москву в тот же день. В своем письме она определенно называла эту дату.
– Значит, 15 июля она была в Москве? – уточнил Огаров.
– Да, точно, была.
– Вот как! – пробормотал Огаров. Помолчал, потом заговорил снова: – Да нет, я, наверное, ошибся… Начинаю путаться в датах… Но, к несчастью, ваша дочь, по всей вероятности, успела перейти границу Сибири… Вам остается единственная надежда, что она отказалась от этой поездки, узнав о ханском нашествии!
Василий Федоров опустил голову. Он слишком хорошо знал Надю. Понимал: ей ничто не могло бы помешать, когда она собралась ехать к нему.
Таким образом, Иван Огаров только что совершил по-настоящему жестокий поступок, причем на сей раз бескорыстно. Хотя мы-то знаем, что в силу определенного стечения обстоятельств Надя пересекла границу Сибири, Василий Федоров мог бы, сопоставив даты, решить, что его дочь находилась в Нижнем Новгороде, когда тамошние власти обнародовали распоряжение, запрещающее выезд, и сделать следующий вывод: коли так, Надя была избавлена от всех ужасов нашествия и волей-неволей остается до сих пор в европейской части империи.
Иван Огаров мог бы высказать ему эти утешительные соображения, но, будучи в настоящий момент лишен возможности причинять другим людям страдания, последовал своим природным наклонностям: промолчал…
Василий ушел от него с разбитым сердцем. Этот разговор положил конец его последней надежде.
За два следующих дня, третьего и четвертого октября, великий князь несколько раз призывал к себе мнимого Михаила Строгова и заставлял его повторять все то, что он якобы слышал во время беседы с царем в императорском кабинете Нового Дворца. Иван Огаров, основательно подготовившийся к таким расспросам, неизменно отвечал без заминки. Он умышленно не скрывал, что царское правительство в полной растерянности, нашествие застало его врасплох, восстание готовилось в глубочайшем секрете, прежде чем эти известия достигли Москвы, враги уже овладели долиной Оби и, наконец, в русских провинциях ничто не было готово для немедленного выступления войск, необходимых для того, чтобы дать отпор захватчикам.
Потом Иван Огаров, пользуясь полной свободой передвижения, принялся изучать Иркутск, состояние его укреплений, определять их слабые места, дабы в дальнейшем использовать результаты своих наблюдений в случае, если что-нибудь помешает ему осуществить задуманный акт предательства. Особенно пристально он изучал ворота, ведущие кулице Большой, которые собирался открыть врагу.
Он дважды за вечер выходил на гласису этих ворот. Прогуливался там, не боясь, что осаждающие ненароком пристрелят его, ведь их ближайшие посты находились самое меньшее за версту от укреплений. Знал, что при этом вовсе не подставляет себя под удар, впрочем, был даже уверен, что там его узнают. Однажды он заметил какую-то тень, проскользнувшую у самого подножия стены.
Это Сангарра, рискуя жизнью, пыталась войти в контакт с Иваном Огаровым.
Между тем осажденные последние два дня наслаждались покоем, от которого бухарцы за время осады успели их основательно отучить.
Таков был приказ Ивана Огарова. Сподвижник Феофар-хана хотел, чтобы все попытки с боем захватить город были приостановлены. Поэтому с тех пор, как он прибыл в Иркутск, артиллерия полностью замолчала. Может быть (по крайней мере, он на это надеялся), бдительность осажденных ослабнет? Как бы то ни было, на аванпостах несколько тысяч бухарцев ждали только сигнала Ивана Огарова, готовые ринуться к незащищенным воротам.
Однако медлить было непозволительно. Следовало покончить с этим прежде, чем русские войска появятся в Иркутске. Решение было принято. Этим же вечером с гласиса в руки Сангарры полетела записка.
Через сутки, в два часа ночи с пятого на шестое октября, Иван Огаров решил сдать Иркутск.
Глава XIV. Ночь с пятого на шестое октября
План Ивана Огарова был продуман весьма тщательно и должен был привести куспеху, если не вмешаются какие-либо маловероятные случайности. Было важно, чтобы ворота остались без охраны к тому моменту, когда придет время их открыть. Поэтому в тот момент необходимо отвлечь внимание осажденных, заставить их сконцентрировать силы на другом участке. С этой целью готовилась диверсия, Огаров условился о ней с эмиром.
Диверсию предполагалось учинить со стороны предместий Иркутска, расположенных на правом берегу ниже и выше города по течению. В этих двух пунктах начнется очень серьезное наступление, и одновременно на левом берегу будет разыграна попытка форсировать Ангару. Весьма вероятно, что при этом ворота улицы Большой будут брошены на произвол судьбы, тем более, что ханские посты с той стороны отодвинут подальше, дабы казалось, что они убраны.
Наступило 5 октября. Суток не пройдет, как столица восточной Сибири окажется в руках Феофар-хана, а великий князь – во власти Ивана Огарова.
В лагере за Ангарой в тот день началось непривычное оживление. Из окон дворца и домов на правом берегу было ясно видно, что на противоположном берегу затеваются важные приготовления. Многочисленные полки подтягивались к лагерю, от часа к часу усиливая войско эмира. Это шла подготовка к условленной диверсии, все проделывалось очень откровенно, напоказ.
К тому же Иван Огаров не скрывал от великого князя, что опасается какой-нибудь атаки именно с той стороны. По его словам, ему было известно, что нападения не избежать, по городу будут нанесены удары с двух сторон, от верховьев реки и с ее низовьев. Он советовал великому князю сосредоточить внимание на этих участках, так как они находятся под прямой угрозой.
Приготовления, наблюдаемые с правого берега, подтверждали правильность рекомендаций Ивана Огарова, тем важнее было принять их в расчет. Итак, военный совет, собравшись во дворце, распорядился, чтобы силы защитников сосредоточились на правом берегу Ангары в двух противоположных концах города, где земляные насыпи подходили к самой реке.
Ивану Огарову того и надо было. По-видимому, он не рассчитывал, что ворота, ведущие на улицу Большую, останутся совсем без охраны, однако теперь она будет малочисленной. К тому же Иван Огаров сумел придать диверсии такое значение, что великому князю пришлось противопоставить ей все боеспособные силы.
В самом деле, это столкновение чрезвычайной важности, придуманное Иваном Огаровым, было призвано оказать мощную поддержку в осуществлении его планов. Даже если бы Иркутск не был атакован на участках правого берега реки, удаленных от ворот улицы Большой, этого инцидента было бы достаточно, чтобы вызвать стечение большинства защитников именно туда, куда Огаров хотел их направить. А он в это время подготовит ужасающую катастрофу.
Итак, все шансы были зато, что в ворота, к назначенному часу освобожденные от охраны, хлынут тысячи захватчиков, ждущие этого момента под густым пологом лесов на востоке от города.
В тот день гарнизон и население Иркутска ежеминутно находились в полной боевой готовности. Были приняты все меры, необходимые в предвидении неминуемой атаки на участках, до сей поры спокойных. Великий князь и генерал Воронцов обходили посты, усиленные согласно их приказу. Элитный корпус Василия Федорова охранял северную часть города, но с предписанием перемещаться в самые опасные точки, туда, где потребуется особенно неотложная помощь. Правый берег Ангары украсился теми немногими пушками, которыми располагал гарнизон. Учитывая, что меры благодаря бесценным рекомендациям Ивана Огарова были приняты вовремя, оставалось надеяться, что атака, к которой готовился противник, окажется безуспешной. В этом случае бухарцы, временно утратив прыть, надо полагать, хоть на несколько дней откажутся от новых попыток завладеть городом. Между тем подкрепление, которого ждал великий князь, могло подоспеть с часу на час. Выходит, все висело на волоске – гибель Иркутска и его спасение.
Солнце в тот день взошло в шесть часов двадцать минут и, за одиннадцать часов описав над горизонтом свою ежедневную дугу, скрылось в пять сорок. Вечерним сумеркам предстояло бороться с ночной тьмой еще часа два. Затем непроглядный мрак поглотит окрестности, да и на небе скопились тяжелые тучи, следовательно, ждать появления луны смысла нет.
Такая глубокая тьма станет еще одним фактором, благоприятствующим полному успеху замыслов Ивана Огарова.
Уже несколько дней стояла очень холодная погода, предвещая близость студеной сибирской зимы, а в тот день было особенно зябко. Солдаты, занявшие позиции на правом берегу Ангары и вынужденные скрывать свое присутствие, не зажигали костров. Поэтому они жестоко страдали от такого резкого похолодания. В нескольких футах от них дрейфовали льдины, увлекаемые течением реки. Они весь день стремительно проносились гряда за грядой, теснясь меж двух берегов. Великий князь и его офицеры, обращая внимание на это обстоятельство, расценивали его как благоприятное. Было очевидно, что пока русло Ангары так забито льдом, переправа совершенно невозможна. Ханские воины не умели управлять ни паромами, ни плотами. И допустить, что они смогут перебраться через реку по этим льдинам, если мороз скует их в одно, тоже нельзя: лед, недавно замерзший, недостаточно крепок, чтобы выдержать наступающие колонны.
Однако это явление, которому радовались защитники Иркутска, тем самым должно было бы удручать Ивана Огарова, беспокоить его. Нет же, ничего подобного! Ведь предатель прекрасно знал, что ханские солдаты не собираются форсировать Ангару, эта их попытка – не более чем спектакль, разыгрываемый для отвода глаз.
Так или иначе, к десяти вечера состояние реки, к немалому удивлению осажденных, заметно изменилось, и эта перемена была им нежелательна. Переправа, которая до сих пор казалась невыполнимой задачей, вдруг стала возможной. Русло Ангары очистилось. Льдины, несколько дней подряд проплывавшие здесь во множестве, исчезли, ушли вверх по течению, на всем пространстве от одного берега до другого их виднелось теперь всего пять или шесть. Они даже построению не походили теперь на те, что в обычных условиях образуются под воздействием долговременных заморозков. Теперь это были просто куски, обломки, отколовшиеся от какой-то гигантской льдины, об этом говорили их резкие, четкие грани, в отличие от привычных шероховатых краев.
Заметив эти перемены в состоянии реки, русские офицеры доложили о них великому князю. Впрочем, они объясняли это тем, что, должно быть, в каком-нибудь узком месте Ангары льдины скопились, образовав затор.
Как нам известно, так оно и было.
Итак, переправа через Ангару была теперь открыта для осаждающих. Для русских из этого следовала необходимость смотреть в оба, быть еще бдительнее, чем раньше.
Однако до полуночи ровным счетом ничего не происходило. На востоке, по ту сторону ворот улицы Большой, абсолютно тихо. В чаще леса, вершины которого вдали на горизонте сливаются с обложившими небо низкими тучами, – ни огонька.
В лагере за Ангарой царила суета: бросалось в глаза частое мелькание факелов.
За версту вверх и вниз по течению от того места, где земляной вал доходит до самой воды, слышался глухой ропот: он говорил о том, что враги начеку, ждут какого-то сигнала.
Прошел еще час. Ничего нового.
На колокольне иркутского собора вот-вот прозвонят два часа ночи, а в стане осаждающих все еще тихо, ни одного движения, говорящего о враждебных намерениях.
Великий князь и его офицеры ломали головы, уж не ошиблись ли они, поверив в задуманную бухарцами попытку захватить город врасплох. Ведь эта ночь проходила куда спокойнее предыдущих. Тогда в направлении аванпостов вспыхивали перестрелки, снаряды пролетали со свистом, а на этот раз ничего…
Итак, великий князь, генерал Воронцов и их адъютанты ждали, готовые отдавать приказы, каких потребуют обстоятельства.
Как мы знаем, Иван Огаров занимал комнату во дворце. Это были довольно просторные покои на первом этаже с окнами, выходящими на боковую террасу. Достаточно было пройти всего несколько шагов по этой террасе, чтобы увидеть Ангару внизу, у своих ног.
Полная темнота царила в покоях Огарова.
Сам он стоял у окна и ждал, когда наступит время действовать. Само собой разумеется, что сигнал мог исходить только от него. Когда большинство защитников Иркутска бросятся туда, где неприятель открыто пойдет в атаку, он даст ожидаемый сигнал, выйдет из дворца и отправится исполнять свое дело.
А пока он ждал, затаившись в потемках, словно хищник, готовый броситься на добычу.
Но когда до двух часов оставалось всего несколько минут, великий князь приказал, чтобы к нему привели Михаила Строгова – Ивана Огарова он знал только под этим именем. Адъютант подошел кдверям его комнаты, но там было заперто. Он стал звать…
Огаров, неподвижно застывший у окна и невидимый в потемках, предпочел не отзываться.
Таким образом, великому князю доложили, что царского посланца в настоящее время во дворце нет.
Пробило два часа. Настало время развязать диверсию, о которой он договорился с бухарцами, чтобы создать условия для штурма.
Иван Огаров распахнул окно своей комнаты, а сам занял позицию в северном углу боковой террасы.
Прямо под ним в темноте несла свои воды Ангара, она ворчала и билась о выступы свай.
Иван Огаров достал из кармана запал, поджег его, потом поднес огонь к небольшому пучку пакли, пропитанной пороховой мукой, и бросил его в реку…
Это по его приказу потоки нефти были направлены в русло Ангары так, что слой горючей жидкости покрыл всю ее поверхность!
Источники нефти находились на правом берегу выше по течению, там имелись нефтяные разработки. Иван Огаров решил использовать это чудовищное средство, чтобы подпалить Иркутск. Он захватил гигантские резервуары с горючей жидкостью. Достаточно было проломить стенку, чтобы нефть широкими потоками хлынула в Ангару.
Вот что было сделано в ту ночь, вот почему спустя несколько часов плот, на котором плыли настоящий посланец царя, Надя и беженцы, оказался посреди нефтяной реки. Вырвавшись наружу сквозь бреши в тех резервуарах, где хранились тысячи кубометров горючего, нефть потекла по земле, естественно, под уклон, попала в реку, всплыла, поскольку она легче воды, и растеклась по ее поверхности.
Так Иван Огаров понимал войну! Став союзником варваров, он действовал, как варвар, да к тому же против своих соотечественников!
Горящая пакля была брошена в Ангару. Мгновенно, как если бы вместо воды там тек спирт, вся река вверх и вниз по течению воспламенилась с быстротой электрического разряда. Языки голубоватого пламени, завиваясь, метались от одного берега к другому. Над ними всплывали огромные клубы пара и копоти. Льдины, которые плыли по течению, таяли в этой огненной влаге, словно воск на раскаленной печи, а вода превращалась в пар с оглушительным свистом.
Тотчас же в северной и южной оконечности города одновременно вспыхнула перестрелка. Полевые батареи над Ангарой палили вовсю. Несколько тысяч ханских солдат ринулись на штурм земляных насыпей. Деревянные дома на берегу занялись со всех концов. Ночные тени растаяли в свете огромного пожара.
– Наконец! – вскричал Иван Огаров.
И он был воистину вправе гордиться собой! Диверсия, задуманная им, была ужасна. Защитники Иркутска оказались между нападающими бухарцами и кошмаром разгорающегося пожара. Колокола звонили, и все жители, способные противостоять беде, бежали туда, где атаковали захватчики и горели дома, этот огонь угрожал целому городу.
Ворота улицы Большой остались почти без охраны. Там оставалась лишь жалкая горстка защитников. И к тому же предатель устроил так, чтобы эти несколько человек были выбраны из членов маленького корпуса ссыльных, чтобы, когда все совершится, можно было остаться в стороне, объяснив случившееся политической ненавистью.
Иван Огаров вернулся в свою комнату, теперь ярко освещенную пламенем подожженной Ангары, которое взметалось выше балюстрады террасы. Затем он собрался выйти.
Но едва он отворил дверь, как туда ворвалась женщина с растрепанными волосами, в мокрой одежде.
– Сангарра! – воскликнул Иван Огаров, не сдержав изумления – что это может быть кто-то, кроме цыганки, ему в голову не пришло.
Но это была не Сангарра, это была Надя!
В то мгновение, когда девушка, плывя на льдине, вдруг закричала, увидев, как русло Ангары заполняется огнем, Михаил Строгов подхватил ее на руки и вместе с ней канул в воду, ища в ее глубине спасения от пламени. Как нам известно, от льдины, на которой они плыли, до ближнего причала, расположенного выше по течению, к тому времени оставалось три десятка саженей, не больше.
Проплыв это расстояние под водой, Михаил Строгов сумел выбраться с Надей на причал.
Наконец-то цель была достигнута! Он в Иркутске!
– Во дворец губернатора! – скомандовал он Наде.
Не прошло и десяти минут, как оба подошли к дворцу, каменное основание которого лизали языки огня, охватившего Ангару, но подняться выше огонь не смог.
А все прочие дома на берегу уже пылали.
Михаил Строгов и Надя беспрепятственно вошли во дворец, открытый для всех. Среди общей суматохи их никто не замечал, хотя вода капала с их одежды.
Офицеры пробегали то туда, то сюда в чаянии распоряжений, солдаты со всех ног мчались их исполнять, огромная зала первого этажа была заполнена народом. Когда вся эта толпа неожиданно ринулась куда-то, Михаила и Надю разлучили, оторвав друг от друга.
Девушка металась вне себя по низким залам, то зовя своего спутника, то прося, чтобы ее провели к великому князю.
И тут дверь, ведущая в залитую светом залу, распахнулась перед ней. Она вошла и внезапно оказалась лицом к лицу с тем, кого она видела сначала в Ишиме, затем в Томске, с тем, чья подлая рука через мгновение сдаст город врагам!
– Иван Огаров! – закричала она.
Услышав свое имя, негодяй содрогнулся. Если он будет узнан, все его планы провалятся! Выход оставался один: прикончить это создание, кем бы оно ни было.
Огаров бросился на Надю, но девушка выхватила ножи отскочила к стене, полная решимости защищаться.
– Иван Огаров! – снова закричала она, понимая, что это ненавистное имя может привлечь внимание, заставит кого-нибудь прийти ей на помощь.
– Ты замолчишь! – прорычал предатель.
– Иван Огаров! – в третий раз крикнула неустрашимая девушка, и ненависть придала ее голосу небывалую звучность.
Шалея от ярости, Огаров выхватил из-за пояса кинжал, бросился на Надю, а она, отскочив, забилась в угол залы.
Тут бы ей и конец, как вдруг негодяй, какой-то неодолимой силой оторванный от земли, рухнул на пол.
– Миша! – закричала Надя.
Да, это был Михаил Строгов.
Он услышал крик Нади. Бросился на голос, добрался до покоев Ивана Огарова и вошел, ведь дверь так и осталась открытой.
Ах, брат, берегись!.. Предатель вооружен!.. И он-то все видит! – воскликнула девушка.
– Ничего не бойся, Надя, – сказал он, заслоняя ее от Ивана Огарова.
Тот уже вскочил на ноги и, полагая, что со слепым справиться не штука, бросился на Михаила.
Однако слепец одной рукой схватил зрячего за плечо, другой отвел направленный на него удар кинжала и во второй раз сбил противника с ног.
Иван Огаров, бледный от бешенства иунижения, вспомнил, что при нем шпага. Он выхватил ее из ножен и приготовился пустить в ход.
Теперь он тоже узнал того, кто перед ним. Михаил Строгов, слепой! В конечном счете он имеет дело всего-навсего с жалким слепцом! Его положение самое выигрышное!
Девушка, придя в ужас при мысли об опасности, грозящей ее спутнику в таком неравном поединке, бросилась кдвери, зовя на помощь!
– Закрой дверь, Надя! – сказал Михаил Строгов. – Не зови никого, предоставь мне действовать! Здесь царскому посланцу нечего бояться этого ничтожества! Пусть подойдет ко мне, если посмеет! Я жду.
В ответ на это Иван Огаров, напружинившись по-тигриному, не проронил ни слова. Он старался заглушить звук своих шагов и дыхания, чтобы обмануть слух слепого. Рассчитывал нанести удар прежде, чем тот почует его приближение, и собирался бить наверняка. Не о дуэли думал предатель, просто хотел убить того, чье имя украл.
Надя, полная ужаса и веры одновременно, взирала на эту ужасную сцену с чувством, похожим на восхищение. Казалось, ее особенно пленяло спокойствие Михаила Строгова. Он был вооружен всего лишь сибирским охотничьим ножом и не видел своего противника, у которого была шпага, все так. Почему же он казался сильнее, и настолько сильнее? Что за непостижимая милость небес даровала ему такое превосходство? Как получалось, что он, почти не шевелясь, всем существом был неизменно обращен туда, откуда ему угрожало острие вражеского клинка?
Иван Огаров с заметным беспокойством вглядывался в своего странного противника. На него действовало это сверхчеловеческое спокойствие. Он тщетно взывал к своему рассудку, напоминая себе, что в этой неравной схватке все преимущества на его стороне! Сама неподвижность слепца так ужасала его, что кровь стыла в жилах. Он искал глазами место, куда вернее всего можно поразить свою жертву… И он его нашел! Да кто ему мешает закончить все одним ударом?
Он направил свою шпагу прямо в грудь Михаила и наконец бросился вперед.
Неуловимым взмахом ножа слепец парировал этот выпад. Не получив ни царапины, Михаил Строгов хладнокровно, словно бы даже без вызова, ждал второй атаки.
Холодный пот выступил на лбу Ивана Огарова. Он отступил на шаг, потом снова метнулся к противнику. Но и второй удар, подобно первому, не достиг цели. Строгову опять хватило его широкого ножа, чтобы одним скупым движением отвести бесполезный клинок предателя.
Последний, обезумев от злобы и страха перед лицом этой живой статуи, уставился полным ужаса взглядом в широко открытые глаза слепого. Эти глаза, казалось, смотрели в самую глубину его души, читали там, как в открытой книге, но не видели, не могли видеть! Какое-то пугающее очарование было в этих глазах.
Вдругу Ивана Огарова вырвался крик. Словно нежданный свет полыхнул в его сознании.
– Он видит! – кричал Огаров. – Он видит!
И подобно хищнику, что пытается улизнуть в свое логово, он стал шаг за шагом в страхе пятиться, отступать к середине просторной залы.
Тогда статуя ожила. Слепецдвинулся прямиком к Огарову, встал передним:
– Да, – сказал он, – я вижу! Вижу след от кнута, которым я заклеймил тебя, предателя и труса! Вижу, куда нанесу тебе смертельный удар! Защищайся! Я готов снизойти до поединка с тобой! Мне хватит ножа против твоей шпаги!
«Он видит! – прошептала Надя. – Господи милосердный, это возможно?!»
Иван Огаров чувствовал, что гибнет. Но, последним усилием воли подстегнув свое мужество, все же бросился со шпагой наперевес на своего невозмутимого противника. Клинки скрестились, и шпага, натолкнувшись на нож, направляемый опытной рукой сибирского охотника, со звоном отлетела прочь, а негодяй с пронзенным сердцем рухнул на пол.
В этот момент дверь залы распахнулась. На пороге возник великий князь в сопровождении нескольких офицеров.
Он вошел и увидел на полу труп того, кого считал посланцем государя.
Великий князь грозно вопросил:
– Кто убил этого человека?
– Я, – отвечал Михаил Строгов.
Один из офицеров приставил к его виску пистолет, готовый выстрелить.
– Твое имя? – спросил великий князь, желая удовлетворить свое любопытство прежде, чем прикажет разнести ему череп.
– Ваше высочество, – отвечал Михаил Строгов, – сначала спросите меня, как зовут человека, распростертого у ваших ног!
– Его я знаю! Это слуга моего брата! Царский фельдъегерь!
– Этот человек, ваше высочество, не царский фельдъегерь! Это Иван Огаров!
– Иван Огаров? – возопил великий князь.
– Да, Иван-предатель!
– А ты, кто же тогда ты?
– Михаил Строгов!
Глава XV. Заключение
Михаил Строгов не ослеп. Он никогда не был слепым. Чисто человеческий феномен, одновременно духовный и физический, нейтрализовал воздействие раскаленного клинка, который палач Феофара поднес к его глазам.
Как мы помним, в момент казни там присутствовала Марфа Строгова, она простирала руки к своему сыну. Михаил смотрел на нее, как может сын смотреть на мать, зная, что видит ее в последний раз. Слезы, идущие из самого сердца, подступили к глазам приговоренного, вся его гордость была не в силах удержать их, они скапливались под веками и, испаряясь на роговице, спасли ему зрение. Этого слезного пара, пелена которого возникла между раскаленной саблей и глазами, оказалось довольно, чтобы смягчить воздействие жара. Такой эффект можно сравнить с тем, что происходит, когда рабочий-сталевар, смочив руку водой, безнаказанно задевает ладонью струю расплавленного металла.
Михаил Строгов мгновенно смекнул, насколько опасно было бы доверить этот секрет кому бы то ни было. Он, напротив, чувствовал, что сможет извлечь из сложившейся ситуации немалую пользу для исполнения своих замыслов. Ведь его отпустили на свободу только потому, что считали слепым. Следовательно, ему надлежало таковым и оставаться для всех, даже для Нади, короче говоря, постоянно и всюду. И он ни разу ни одним движением не выдал себя, не вышел из роли, в подлинности которой никто не мог усомниться. Его решение было неизменно. Чтобы доказать всем свою полную слепоту, ему приходилось рисковать даже своей жизнью, и мы помним, как он ею рисковал.
Одна лишь мать знала правду, он тогда же, на площади в Томске, в потемках склонившись над упавшей Марфой и целуя ее, успел шепнуть пару слов ей на ухо.
Теперь понятно, что когда Иван Огаров с жестокой насмешкой развернул письмо императора перед его глазами, которые считал навеки потухшими, Михаил Строгов смог прочесть и прочел письмо, разоблачающее гнусные намерения предателя. Отсюда неукротимое рвение, которое он проявлял на последних этапах своего путешествия. Отсюда неколебимая решимость добраться до Иркутска: ему надо было успеть передать на словах содержание письма, которого он теперь не мог вручить великому князю. Он знал, что иначе город будет сдан! Знал, что жизнь великого князя в опасности! Стало быть, спасение брата государя и заодно всей Сибири по-прежнему находилось в его руках.
Эта история была в нескольких словах пересказана великому князю. Михаил Строгов поведал также – и с каким волнением! – о том, какое участие во всех этих событиях принимала Надя.
– Кто эта девушка? – спросил великий князь.
– Дочь ссыльного Василия Федорова, – отвечал Михаил Строгов.
– Дочь командующего корпусом Федорова, – возразил великий князь, – перестает быть дочерью ссыльного. В Иркутске ссыльных больше нет!
Надя, в минуты радости не такая сильная, какой она показала себя в испытаниях, упала к ногам великого князя, который одной рукой поднял ее, другую же протянул Михаилу Строгову.
Час спустя Надя смогла обнять своего отца.
Михаил Строгов, Надя и Василий Федоров теперь были вместе. Их счастье не знало предела.
Двойная атака бухарцев была отбита. Василий Федоров со своим маленьким войском разгромил первых осаждающих, когда те ринулись к воротам улицы Большой, рассчитывая, что они откроются. Необъяснимое предчувствие побудило Федорова настоять на том, чтобы их защиту поручили ему и его товарищам.
К тому времени, когда бухарцы были отброшены, осажденным удалось справиться и с пожарами. Тонкий слой нефти, покрывавшей поверхность Ангары, быстро выгорел, а огонь, ополчившийся на прибрежные дома, пощадил другие кварталы города. Еще до рассвета все подразделения эмирского войска вернулись в свой лагерь, оставив на откосах городских укреплений немало своих мертвецов. Среди них была и цыганка Сангарра, тщетно пытавшаяся пробраться к Ивану Огарову.
В течение двух дней осаждавшие не предпринимали новых попыток штурма. Гибель Ивана Огарова обескуражила их. Этот человек был душой нашествия, он один со своими кознями, которые столь долго изобретал, мог иметь достаточно влияния на ханов и их орды, чтобы побудить их пуститься на такую авантюру как завоевание Сибири.
Тем не менее защитники Иркутска держались настороже, и осада все еще не была снята.
Однако седьмого октября с первыми лучами рассвета на склонах гор, окружающих Иркутск, раздался гром пушек. Это прибыло подкрепление под командованием генерала Киселева, канонада была сигналом, сообщающим великому князю о его прибытии.
Бухарцы медлить не стали. Они не хотели испытывать судьбу, затевая сражение под стенами города, и лагерь за Ангарой тотчас снялся с места.
Наконец-то Иркутск был свободен!
Вместе с первыми русскими солдатами в город вошли друзья Михаила Строгова, они тоже были здесь, неразлучные Блаунти Жоливе. По ледяному затору выбравшись на правый берег Ангары, они вместе с другими беглецами успели спастись прежде, чем огонь, пронесшийся по реке, достиг их плота. О чем Альсид Жоливе не преминул сделать в своем блокноте следующую запись:
«Едва не кончили, как лимон в чаше с пуншем!»
Велика была их радость, когда они нашли Надю и Михаила Строгова целыми и невредимыми, а главное, узнали, что их бесстрашный спутник не ослеп. Это побудило Гарри Блаунта записать такое замечание:
«Раскаленного докрасна железа, может быть, недостаточно, чтобы лишить глазной нерв чувствительности. Внести коррективы!»
Затем корреспонденты, с удобством обосновавшись в Иркутске, стали приводить в порядок свои путевые впечатления. Следствием этого стали два интересных репортажа, посвященных бухарскому нашествию и отправленных в Лондон и Париж. Редкий случай: они противоречили друг другу лишь в некоторых абсолютно несущественных подробностях.
В дальнейшем сибирская кампания приняла скверный оборот для эмира и его союзников. Это нашествие, бесполезное, каклюбая атака на русского колосса, стало для них роковым. Вскоре царские войска преградили им дорогу. Захваченные города один за другим были отвоеваны. К тому же зима выдалась кошмарная, так что из этих орд, истребленных лютым морозом, лишь небольшая горстка смогла вернуться в родные степи.
Итак, дорога от Иркутска до Уральских гор была открыта. Великому князю не терпелось вернуться в Москву, но он отложил свой отъезд, пожелав присутствовать на трогательной церемонии, состоявшейся через несколько дней после прихода русских войск.
Михаил Строгов явился к Наде и в присутствии ее отца сказал ей:
– Надя, все еще сестра моя, скажи: когда ты покидала Ригу, собираясь в Иркутск, ты, кроме печали о матери, испытывала какое-либо иное чувство?
– Нет, – отвечала девушка. – Та разлука обошлась без сожалений.
– Значит, никакая частица твоего сердца не осталась там?
– Нет, брат.
– В таком случае, Надя, – сказал Михаил Строгов, – я полагаю, что если Бог послал нам встречу в пути и заставил пережить вместе столько жестоких испытаний, он сделал это не иначе как затем, чтобы соединить нас навек.
– Ах! – И Надя упала в его объятия.
Но тотчас, опомнившись и вся зардевшись, обернулась к Василию Федорову и пролепетала:
– Папа?..
– Надя, – отвечал Василий, – я буду счастлив назвать вас обоих своими детьми!
Церемония бракосочетания состоялась в иркутском кафедральном соборе. Она была очень простой, без роскоши и вместе с тем воистину прекрасной благодаря огромному стечению народа. Все, военные и штатские, желали засвидетельствовать свою глубокую благодарность двум молодым людям, чья одиссея уже стала легендой.
Альсид Жоливе и Гарри Блаунт, разумеется, присутствовали на этой свадьбе, полные решимости поведать о ней своим читателям.
– Это зрелище не рождает в вас желания последовать их примеру? – спросил коллегу Альсид Жоливе.
– Гм! – фыркнул Гарри Блаунт. – Если бы я, подобно вам, имел кузину…
– Моя кузина вышла из брачного возраста! – смеясь отвечал француз.
– Тем лучше, – заметил британец. – Ведь поговаривают о сложностях, возникших в отношениях между Лондоном и Пекином. Не хотите ли отправиться туда, посмотреть, какие там дела?
– Черт возьми, мой дорогой Блаунт! – вскричал Альсид Жоливе. – Я как раз собирался вам это предложить!
И неразлучная парочка отбыла в Китай.
Через несколько дней после свадьбы Михаил и Надежда Строговы, а с ними и Василий Федоров пустились в обратный путь, в Европу. Дорога скорбей, так недавно пройденная ими, повторилась в противоположном направлении, став дорогой счастья. Они ехали как нельзя более быстро в санях, способных мчаться по ледяной сибирской степи, словно экспресс.
И все же когда достигли берега Динки, они на один день остановились.
Михаил Строгов отыскал место, где он похоронил бедного Николая. Там был установлен крест, и Надя в последний раз помолилась над могилой скромного и героического друга, которого они оба никогда не смогут забыть.
В Омске, в маленьком доме Строговых, их ждала Марфа. Она горячо прижала к груди ту, кого в сердце своем уже стократно называла дочкой. Теперь-то отважная сибирячка имела право узнать своего сына и не скрывать того, как она им гордится.
Проведя несколько дней в Омске, Михаил и Надежда Строговы вернулись в Европу. Василий Федоров обосновался в Санкт-Петербурге, и ни его новоявленный сын, ни дочь больше не имели иных причин расставаться с ним, кроме необходимости порой навещать старую сибирячку.
Молодой фельдъегерь был принят государем, который проникся к Строгову исключительной благосклонностью и вручил ему высокую награду – крест Святого Георгия.
Впоследствии Михаил Строгов занял высокое положение в империи. Но мы рассказываем историю не его успехов, а испытаний, достойных того, чтобы о них поведать.