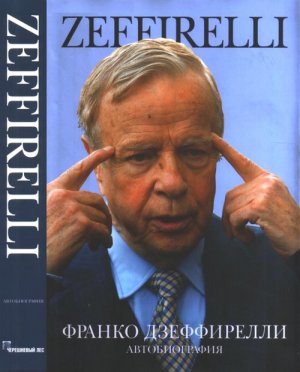
Помните, как зачарованно каждый из нас в детстве впервые знакомился с действием компаса? Мы и вращали его, и потряхивали. Кружились сами. А стрелка неумолимо показывала в одну сторону. Нам говорили, что на Северный полюс: потом мы узнали, что на магнитный, но тоже недалеко.
Мой компас действовал так же, пока я и вся моя семья не попали в магнитное поле удивительного человека — Франко Дзеффирелли. Стрелка начала перемещаться: то в Рим, куда так чудесно успеть заехать перед самолетом из Фьюмичино, полакомиться замечательным печеным a rosto мясом (рыбу там не едят), всерьез обсуждая постановку, задуманную маэстро, — действо на Большом Каменном мосту через Москву-реку; то в Верону на сюрреалистический вечер премьеры «Мадам Баттерфляй» — с проливным дождем, мистическими поклонниками, с тортом, негаснущей свечой и вспыхнувшей скатертью; то на «Три Виллы» в Позитано, где сам хозяин в этот момент физически отсутствует, а метафизически присутствует везде — и я, проходя вверх и вниз, и снова вверх, явственно ощущаю его оклик: «Не ленись! Заглянул ли ты в резную Белую гостиную Нижинского? А сюда?.. И вообще, пора худеть и больше двигаться!» Или стрелка вдруг поворачивается в сторону Израиля, где Дзеффирелли то ли ставит спектакль, то ли лечится, но определенно и ясно, что он концентрируется.
За то не слишком продолжительное время, что мне выпало счастье следовать за этой стрелкой, она приводила меня и в Москву на «Тоску» в Большом, и на замечательную художественную выставку в Пушкинском музее, и в Милан на самую громкую премьеру сезона — «Аиду» в «Ла Скала», и в кинозал на «Чай с Муссолини», и, наконец, к своему книжному шкафу, где стоит написанная маэстро и подписанная его твердой рукой книга того давнишнего итальянского издания, подаренная и прочитанная еще во время нашего первого знакомства.
Конечно, я не мог себе представить тогда, что этот Великий, скорее. Великолепный голубоглазый человек доверит нашему «Черешневому лесу» издать Новую Книгу для русскоязычных читателей. Но Дзеффирелли не скупится делиться магнетизмом и — доверил.
Он — не полюс. Он — пространство.
И стрелка больше не вздрагивает. Мы просто читаем и кружимся.
И за это спасибо, маэстро!
Михаил Куснирович
Театр жизни Франко Дзеффирелли
Я не знаю, писал ли он когда-нибудь в своей жизни стихи, — об этом в его книге нет ни слова, но, конечно, Франко Дзеффирелли — это Поэт милостью Божьей. Поэт, в восемьдесят пять лет сохранивший юношескую порывистость, легкость и максимализм. Он все время что-то сочиняет, придумывает, воспевает или с не меньшей страстью клянет.
Дзеффирелли — романтик чистой воды. Может быть, последний на этой земле, умеющий, как никто, превращать свои тайные мечты и порывы в ослепительную реальность оперных постановок, а лирические излияния — в полнометражные художественные фильмы. Вся его история, рассказанная в этой книге, — цепь великих озарений и чудес, мистических пророчеств и тайных знаков судьбы. Чудо, что он родился и выжил в католической Италии, будучи внебрачным ребенком. Чудо, что остался жив во время Второй мировой войны, хотя несколько раз был на волосок от гибели. Чудо, что стал режиссером с мировым именем, ни дня специально не обучаясь этой профессии. Чудо, что его спектакли идут на лучших сценах мира по двадцать и тридцать лет с неизменным аншлагом.
По ходу книги Дзеффирелли пытается найти разгадку этих чудес или дать хоть какое-то правдоподобное объяснение, но какое там! Гром гремит, молнии сверкают, в оркестре бушует пятибалльный шторм, грозя затопить музыкой не только подмостки сцены и зрительный зал, но и все прилегающие к театру улицы. Хор падших женщин, незаконнорожденных детей и египетских воинов исполняет что-то грозное и душераздирающее из Вагнера или Верди, а на авансцене, нечеловеческим, сверхъестественным усилием удерживая заветное ля бемоль, умирает от любви и печали несравненная La Divina. Это, в сущности, и есть Театр жизни Франко Дзеффирелли, разыгранный им на почти пятистах страницах собственной «Автобиографии». Театр пафоса и жеста, театр великих голосов и необыкновенных судеб, мощных сценических эффектов и оглушающей, проникновенной тишины.
Для меня, как и для большинства моих сверстников, Дзеффирелли начался с фильма «Ромео и Джульетта». Он тогда нас потряс. В нем была внезапность какого-то первого, нестерпимо приятного опыта вроде поцелуя в губы или объятий в подъезде. От экрана шла волна откровенного желания, молодой жажды секса, кажется, только для отвода глаз декорированной в исторические одежды итальянского Кватроченто. В «Ромео» мы как будто впервые услышали стихи Шекспира. Впервые увидели эти лица, их яркую, смуглую, свежую красоту. Восхитились прозрачными пейзажами Умбрии и Тосканы, влюбились в меланхоличную музыку Нино Рота, звучавшую потом на всех наших школьных дискотеках. Если бы Дзеффирелли ничего, кроме «Ромео и Джульетты», в своей жизни больше не сделал, он все равно стал бы великим. Но в его жизни было еще столько всего! Поэтому когда на него в стотысячный раз обрушивают запоздалые восторги по поводу его шедевра сорокалетней давности, он не скрывает раздражения и спешит перевести разговор на другую тему. Особенно часто эти faux pas почему-то происходят с русскими поклонниками маэстро, которые, как правило, никаких других его работ не знают, зато всегда готовы поделиться с ним воспоминаниями о трудностях собственного пубертатного периода, так удачно совпавшего с выходом «Ромео и Джульетты» в отечественный прокат.
Что-то подобное произошло и со мной при нашей первой встрече. Маэстро многозначительно безмолвствовал, лукаво поглядывая на меня своими льдистыми голубыми глазами, как будто ждал, когда же можно будет поговорить о чем-то более занимательном, чем мои полудетские воспоминания. Ему интересна новая Россия, ее новые люди, искусство, политика. Он терпеть не может, когда с ним обращаются, как с музейным экспонатом. Он любит пафос на сцене, но не выносит пустословия и высокопарности в жизни. На римской вилле маэстро с ним за одним столом всегда обедают его садовник, секретарь, водитель, вся многочисленная прислуга. В Дзеффирелли есть широта настоящего патриция, позволяющая на равных общаться и с президентами, и с простой уборщицей.
…Я хорошо помню нашу первую встречу. Ноябрь, дождь — в это время года в Риме всегда дождь. Ворота открыты, но меня никто не встречает. Повсюду стоят стремянки. Пахнет краской и свежим цементом. Наверное, ремонт, думаю я. Боясь наследить, иду через сад к застекленному окну террасы. Там сквозь струи дождя, стекающие по стеклу, вижу его. Какое-то время просто стою и смотрю, не решаясь постучаться и войти. Очень старый человек перекладывает бумаги на столе и, кажется, о чем-то говорит сам с собой. Потом я понял, что у него такая манера общаться с собаками, расположившимися тут же, на диване и креслах. Эта сцена была похожа на финальные кадры «Соляриса» Тарковского: дождь, дом, старик отец, не видящий, кто стоит и смотрит на него за окном… В какой-то момент наши взгляды встретились. Собаки истошно залаяли. Но, похоже, он ничуть не удивился ни их лаю, ни моему появлению. «Ну что ты там стоишь, входи же наконец», — махнул он мне рукой.
В доме было тихо и зябко, хотя топился камин. Он пригласил сесть за обеденный стол, покрытой вязаной кружевной скатертью. Нам подали чай («Русские всегда пьют много чая»), С самого начала разговор пошел такой, будто мы знаем друг друга всю жизнь. У маэстро есть дар мгновенно устанавливать контакт и одним своим рукопожатием упразднять скучные формальности. Дзеффирелли так велик, что может себе позволить забыть о собственном статусе небожителя. Он так проницателен, что не нуждается в дистанции, соответствующей его возрасту и положению. Как идеально воспитанный человек, он всегда дает первым высказаться собеседнику, а не спешит обрушить на него заготовленные монологи «о доблести, о подвигах, о славе». В том, что он говорил, в самом тембре его красивого актерского баритона, и в тихом сиянии лампы под кремовым абажуром над столом, и в едва слышном сопении спящих собак, и в легком потрескивании дров в камине — во всем было что-то завораживающее. Все было наполнено таким подмосковным дачным уютом, что в какой-то момент я даже позабыл, зачем сюда пришел. Мне было хорошо, Дзеффирелли, надеюсь, тоже.
Иногда я ловил себя на том, что мы говорим о тех, кто давно стали легендами и мифами XX века, как если бы они были нашими соседями по лестничной клетке. «Ну ты же помнишь похороны Феллини? — восклицал он. — Правда, это было ужасно? Джульетта все время с ним громко разговаривала. Мы не знали куда деваться. „Фредери, ты только не волнуйся. Тебе нельзя волноваться… Фредери, я скоро к тебе приду…“ Она даже пыталась шутить. Идет заупокойная месса, а она чуть ли ни смеется в полный голос. Бедная, у меня прямо мурашки по коже. Ну ты же помнишь!»
Конечно, я ничего этого не помню, потому что не был на похоронах Феллини, как не был на последней «Норме» Марии Каллас в парижской «Гранд-опера», где ее партнерша, «эта сукина дочь Кассотта», зная, что Марии не вытянуть сложнейший дуэт во втором акте, специально передержала верхние ноты, чтобы добить соперницу, чтобы все убедились: Каллас кончилась… «Ну ведь скажи, сука!» Он неистово колотит по столу кулаком, и глаза его загораются голубым пламенем. И было это не сто лет назад, а вчера: и Мария, и Феллини, и Тосканини, и Шанель, и Анна Маньяни, и Лоуренс Оливье, и Ричард Бартон, и, конечно, Лукино… Лукино Висконти. Его вечное божество, его первый учитель и ревнивый соперник. Любовь и драма всей его жизни. «Нельзя перестать любить тех, кого любил однажды. Это неправда, что от любви до ненависти один шаг… Нет, даже если тебя предали, любовь, что когда-то была, остается в душе навсегда — не из-за человека, которого ты любил, а из-за себя самого, из-за того незабываемого счастливого времени…»
В «Автобиографии» эти слова вложены в уста мадемуазель Шанель, но на самом деле это любимая мысль самого маэстро, главный кредо его жизни и творчества — надо любить, надо любить… Любовь — путеводный инстинкт, ведущий всех героев его опер и фильмов через дебри архаичных сюжетов и по-старомодному обстоятельных декораций. Уже никто так не ставит, не рисует, не снимает, только одному Дзеффирелли позволено быть таким наивно восторженным и прекрасно романтичным. Он — последний в мировом театре, кто умеет согреть изнутри самое ходульное действо энергией большого чувства и большого стиля. Потому что знает, что его публика никогда не перестанет лить слезы над судьбой «Травиаты», никогда не изменит его любимым Тоске и Лючии де Ламмермур, никогда не перестанет стремиться увидеть своими глазами венецианский карнавал, версальские придворные празднества и разные фараоновские шествия. По части режиссуры народных праздников и массовых сцен Дзеффирелли нет равных. Поэтому на его спектаклях всегда аншлаг, и, как правило, кислые, через губу, рецензии. Критики Дзеффирелли не любят с давних пор. Для них он — слишком большой консерватор, скучный традиционалист и ретроград. Никакого простора для скандальных концепций и шокирующих трактовок. Всегда все очень обстоятельно, в точном соответствии с духом музыки и авторскими ремарками. В ту нашу первую встречу я спросил, неужели ему не надоедает по несколько раз ставить одну и ту же оперу, возвращаться к одним и тем же композиторам и героям. «Нисколько, — возразил маэстро. — Каждый раз все происходит по-новому. Ты просто подхватываешь прерванный разговор. И иной раз открываешь столько всего нового. Со временем все мои постановки улучшались. Может быть, кроме „Травиаты“, которую я поставил с Каллас в 58-м году. Ну, с этим уже ничто никогда не сравнится».
В роли защитника культуры Дзеффирелли чувствует себя наиболее органично. Он умеет бороться, умеет дать сдачи. Недаром одним из его любимых фильмов с детства была голливудская мелодрама о боксере «Чемпион» (в 1979-м он сделает его ремейк с Джоном Войтом в главной роли).
В послевоенной Италии Дзеффирелли был, наверное, единственным из больших режиссеров, кто никогда не скрывал своих откровенно правых, антикоммунистических взглядов. Его бойкотировали, ему не давали работать, его триумфы в Англии и США обходили молчанием, огульно обвиняли в фашизме, но он не сдавался. Этот эстет, тонкий знаток и любитель всего прекрасного демонстрировал редкий дар полемиста и неукротимого борца, как только речь заходила о любой попытке компромисса с всесильными партийными мафиози, контролировавшими итальянский кинематограф. С самого начала именно Дзеффирелли одним из первых разглядел в левацкой идеологии те силы зла и разрушения, которые способны привести западную цивилизацию к неминуемой катастрофе. Он будет грозить, атаковать, проклинать всех, кто посмеет поднять руку на ценности западного мира. И пощады тут никому ждать не приходится. Именно с позиций последовательного христианина, католика он и снимал в середине 70-х свой знаменитый библейский цикл «Иисус из Назарета» и фильм-притчу о Франциске Ассизском «Брат Солнце, сестра Луна» (1971).
Даже крушение коммунистического режима в России он воспринял не иначе как Божье знамение, которого ждал всю жизнь. Об этом в «Автобиографии» написано много и проникновенно.
От себя добавлю, что у «русского романа» Дзеффирелли имеется своя давняя предыстория: тут и памятная инсценировка «Преступления и наказания», с которой началась его театральная карьера, и знаменитые чеховские «Три сестры» в постановке Лукино Висконти, где он дебютировал в качестве сценографа, и страстная влюбленность в роман «Анна Каренина», который он так и не рискнул экранизировать («Кино — слишком слабый вид искусства для гения Толстого»). И целая галерея русских звезд, начиная с Галины Улановой, которую он видел еще подростком на фестивале «Музыкальный май» во Флоренции («Я хорошо запомнил ее имя, потому что Galina по-итальянски означает „курица“»), до ее знаменитых учеников Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, снявшихся у него в «Травиате». Наконец, летняя резиденция Дзеффирелли в Позитано под Неаполем, некогда принадлежавшая русскому купцу Михаилу Семенову, где подолгу гостили звезды балетной труппы Дягилева. На склоне лет они со сладким вздохом вспоминали: «О, Позитано!»
Но это лишь исторический фон. Куда важнее, что на девятом десятке Дзеффирелли именно в России обрел новых поклонников и верных друзей. Инициатором его первых гастролей с «Травиатой» в Большом театре стал Александр Гафин, в то время вице-президент «Альфа-Банка», большой знаток и ценитель оперного искусства. Все тяготы по организации этих и последующих гастролей который год подряд берет на себя компания «Постмодерн театр» во главе с неутомимой Ирадой Акперовой. А знаменитая компания «Bosco di Ciliegi» просто стала для него вторым, русским, домом. «Мне надо позвонить Мише. Я должен посоветоваться с Мишей. Это в два счета уладит Миша…» Дзеффирелли произносит имя владельца «Bosco» Михаила Куснировича с той горделивой верой в его абсолютное могущество, с которой престарелые родители говорят о своих успешных и влиятельных детях. За всю свою жизнь Дзеффирелли не удостаивался таких почестей, как на фестивале «Черешневый лес», организованном «Bosco de Ciliegi» в 2005 году: тут и персональная выставка в Музее частных коллекций, и ретроспектива его фильмов, и награждение орденом в Кремле, врученным самим Президентом России. Стоит ли удивляться, что каждый раз приезжая в Москву, маэстро как будто сбрасывает лет двадцать: глаза сверкают, элегантнейший смокинг наутюжен, белый шарф небрежно наброшен на шею, как у опереточного Бони в «Сильве»… Дзеффирелли неотразим, когда вместе с Михаилом Куснировичем сажает вишневые деревья во дворе Пушкинского музея, или когда прямо на пресс-конференции предлагает Ирине Александровне Антоновой выйти за него замуж, или когда с насмешливой учтивостью склоняет седую голову, чтобы российскому Президенту Владимиру Путину было удобнее надеть на него орденскую ленту. Или — совсем недавний эпизод — когда, отбросив ненавистную палку, он вышел на сцену Кремлевского дворца под овацию вставшего зала. Это бесстрашная эскапада Дзеффирелли, смертельный номер напоследок, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто есть кто. Чтобы знали, как выглядят настоящие звезды, и было что рассказать детям.
…А потом, нагруженный подарками и радостными впечатлениями, он возвращается к себе в Рим, на виллу на виа Волумнио, в сонную тишину всегда зеленого сада, долгих сиест и неторопливых променадов по беговой дорожке. У него — очередная «Тоска» в Римской опере, благотворительный концерт памяти Лучано Паваротти, его собственный гала-вечер в «Метрополитен-опера»… Мы снова сидим с ним за обеденным столом. Он спрашивает меня, понравилась ли мне его книга.
— Очень.
— Тебя не покоробила глава про секс?
— Нисколько.
— Не надо ничего стыдиться в своем прошлом, но я постарался никого не задеть. Правда?
— Вам это удалось.
— Если там есть длинноты или какие-то скучные места, давай их сократим. Никому не интересно читать про всякие забытые спектакли и потухших звезд. Как тебе кажется?
— Это ваша жизнь. Почему она должна быть сокращена или приспособлена под чьи-то вкусы?
— Ну, знаешь, если совсем не думать о читателе, этот «эпос» никто не осилит.
Мы обсуждаем судьбу его огромного архива. У Дзеффирелли он хранится в идеальном состоянии. На стеллажах собраны материалы по каждому его спектаклю, по каждому фильму. От первого варианта сценария до последней газетной рецензии, от первой зарисовки до выставочных эскизов. Все пронумеровано, разложено по папкам, переложено пергаментной бумагой. Огромное количество подготовительных материалов: альбомов, книг, гравюр, фотографий. Все это богатство он собирается передать родной Флоренции — городу своего детства. Им задумано что-то вроде Института искусств. Он не хочет, чтобы материалы бесцельно пылились на архивных полках. Они должны быть доступны, они должны работать, приносить пользу. В них вся его жизнь.
— Я там и место себе присмотрел, — как бы невзначай замечает маэстро.
— Какое место? — вздрагиваю я.
— Маленькое кладбище на горе, рядом с храмом Сан-Миниато. Я туда уже всех своих перенес: и маму, и тетю Лиде, и мою сводную сестру Фанни. Получилось что-то вроде семейного склепа.
— Да, я знаю это место. Оттуда открывается самый красивый вид на Флоренцию.
— Ну вот, придешь полюбоваться, а заодно и меня навестишь.
И без всякого перехода вдруг декламирует чуть нараспев:
— Чтоб ты знал, это Данте сочинил про Сан-Миниато. Он тоже там бывал и любовался видом на Флоренцию.
— А вы знаете, маэстро, мне и тут неплохо, — пытаюсь я отвлечь его от Данте и от грустных мыслей. — Сюда удобнее добираться, и вообще, почему бы нам не назначить следующую встречу, например, в Позитано?
— Позитано больше нет. Я все продал. Не могу больше содержать призраки былого счастья. Да и смысла не вижу. Эти бесконечные лестницы, переходы. Все время вверх-вниз, вверх-вниз. И столько воспоминаний… Зато теперь у меня появились деньги. Представляешь, первый раз в жизни мне не нужно о них думать.
— Ну, тогда нам надо договориться о встрече в Москве. Там вы быстро все прокутите.
Дзеффирелли нравится эта перспектива, и он готов отправиться в Москву прямо сейчас. Вот только надо «Тоску» закончить…
Мне пора. Такси ждет. Он хочет меня проводить. Я прошу этого не делать, но маэстро настаивает. Вместе с нами, оглашая лаем весь дом, спешат к дверям собаки. Объятия в прихожей, клятвенные обещания непременно звонить, приветы Мише, Кате и всем, всем, всем… Машина медленно выезжает по гравию на Аппиеву дорогу. Впереди Рим, позади удаляющаяся в темноте фигура, прощальный жест худой руки в стылом воздухе ноября. До свидания, маэстро! Живите долго.
Сергей Николаевич
АВТОБИОГРАФИЯ
Предисловие
За всю свою жизнь я по меньшей мере трижды оказывался перед лицом смерти: бомбежка, расстрел и автомобильная катастрофа.
Поэтому никого не должно удивлять, что я твердо верю в Бога и суеверно отношусь к судьбе. Хотя все мы знаем, что за жизнью следует смерть, я не готов признать, что однажды умру; как многие, в глубине души надеюсь на какое-то бессмертие и веду себя соответственно. Поэтому рассказывать о собственной жизни как о чем-то законченном и завершенном мне до сих пор кажется бессмысленным.
К тому же у меня вызывают недоверие причины, которые приводят к написанию такого рода книг: хотят ли их авторы отразить дух времени, в котором жили, или «истинное лицо» известных людей, с которыми сталкивала их судьба, с всевозможными байками, сплетнями и другими, на их взгляд, достойными внимания мелочами. Само собой, мемуары, переписка и автобиографии — не менее важная составляющая исторического бытописания, чем работы о политике, театре, истории, литературе и прочем, но часто это самооправдание постфактум. И еще один существенный момент: никто и никогда не скажет о себе всей правды. Более того, мы изо всех сил пытаемся ее скрыть и вспоминаем только то, что приятно вспомнить, а остальное старательно подкрашиваем и лакируем. Каждый из нас — это настоящее «чудо сочинительства», и в прошлое мы пляшем от настоящего: чем успешней мы в жизни, тем больше «салонных» анекдотов образуют коралловый риф фантазии вокруг крохотного ядрышка правды, пока вообще становится невозможно различить, где правда, а где вымысел. Ну и как тогда прикажете оценивать дневники или саму историю?
Так вот, только когда я это понял и смирился с тем, что я рассказчик баек, а не писатель, то допустил мысль об автобиографии. Но рассказывать жизнь — как?
Вначале воспоминания о знакомых людях были сильно искажены сегодняшними моими чувствами, но, копнув глубже, я понял, что те, кого я сегодня терпеть не могу, когда-то были мне очень дороги, и наоборот. Надеюсь, что кое-что из этого в книге отразилось. Она стала для меня возможностью еще раз взглянуть на свою жизнь и пересмотреть ее, как перелистать страницы романа, построенного на моей собственной памяти.
В последние годы меня все больше интересуют явления, которые выходят за пределы нашего земного измерения. Почему случается то или иное? Из-за чего? За свою жизнь я получил много знаков и сигналов такого рода, но только недавно «обернулся» и взглянул на события по-новому, хоть и не без тревоги.
Еще до моего рождения многое указывало на то, что я буду жить: мать твердо воспротивилась мысли об аборте, хотя ей предстояло выдержать скандал из-за моего появления на свет. Выше я говорил, что несколько раз в различных обстоятельствах был на волосок от смерти. И если я жив, то это не просто прихоть фортуны: мне все яснее и яснее, что моя жизнь — часть высшего замысла. Встречи с людьми, определившие мою судьбу, идеи, сопровождавшие меня в работе, чудеса, спасшие мне жизнь во время войны (и потом), — все это должно было произойти и произошло с определенной целью. Я чувствую прикосновение руки, которая направляет меня и пишет историю моей жизни. Я верю, что душа моей матери каким-то образом находилась рядом. Твердо знаю, что она не покинула меня насовсем, как будто ее дух и силы задержались на время здесь, на Земле, чтобы сохранить сына, которого она так желала и которого ей так рано пришлось оставить.
Это не языческое суеверие. Напротив, это полное понимание того, о чем Шекспир говорит устами Гамлета: «И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Горацио»[1]. Ибо нам надо хорошо помнить о главном, о венце всего, как просто выразила Мать Тереза: «Жизнь — это не бег к смерти. Напротив, смерть — это источник жизни».
Ну что же, друзья мои, вперед, и да будет наш земной путь ярко освещен этой надеждой.
Франко Дзеффирелли Рим — Позитано, 2006 г.
I. N. N.
Вижу себя мальчиком лет восьми или девяти в начальной школе, во Флоренции. После уроков я победно спускаюсь по лестнице среди других ребят. У выхода нас ожидает привычная толпа родителей и слуг — они пришли забрать детей. За мной никто не приходит, потому что мы с тетушкой живем всего в двухстах метрах от школы, и дорога занимает у меня не больше двух минут. В тот день на противоположной стороне улицы я вижу в толпе незнакомую женщину, которая очень странно на меня смотрит. На ней коричневая меховая шубка и черная шляпка с вуалью. Она сильно накрашена по моде тех лет, и вид у нее какой-то безумный. До сих пор отчетливо помню, как сверкают ее глаза из-под густо намазанных ресниц. Слегка встревоженный, я шагаю домой по узенькой средневековой улочке и скоро замечаю, что женщина следует за мной. Она бормочет себе под нос слова, которых я не могу разобрать, пока не слышу: «Ублюдок!» Она ухмыляется, хихикает: «Вот увидишь, ублюдок, увидишь у меня рано или поздно!»
Я сворачиваю в проулок, но странная женщина по-прежнему идет за мной. Перепугавшись, мчусь со всех ног к дому и взбегаю по лестнице с криком: «Тетя Лиде, тетя Лиде!» Но когда тетушка выходит на лестничную площадку, от испуга я не могу рассказать ей, что случилось.
«Кто это? Что сказала?»
Слово за слово тетушке удается вытащить из меня все об этой женщине. Я рассказываю, как она была одета и что назвала меня ублюдком. Тут моя тетушка свирепеет — такой я еще никогда ее не видел, хватает пальто и шляпку и пулей уносится прочь. Возвращается лишь вечером, но у меня не хватает духу спросить, где она была.
Ночью я в страхе просыпаюсь и плачу. В детстве меня преследовали ночные кошмары. Помню часто повторявшийся сон, в котором мир катится в ужасающую бездну, в кромешную, все пожирающую тьму, от которой я со всех ног пытаюсь убежать… В ту ночь мне приснилось, что за мной гонится женщина с черной вуалью. Я напрасно пытался понять, почему она так меня ненавидит и кто она вообще такая. Только много позже я узнал, что это жена моего отца. В тот день тетушка отправилась прямо к ней. «Только посмей еще раз, — набросилась она на нее, — и я задушу тебя собственными руками».
С того дня женщина никогда больше за мной не ходила, хотя иногда я замечал ее около школы. Она откидывала назад голову и разражалась безумным скрипучим хохотом.
Любой другой ребенок был бы, наверно, потрясен таким происшествием, а для меня оно стало просто еще одной странностью, которые в те годы заполняли мою жизнь.
Кто твоя мама? Кто твоя тетя? Что это за девочка с твоим отцом? А кто эта странная дама? Я никогда не знал, как отвечать на такие вопросы. Несмотря на внимание и любовь, которыми я был окружен, меня постоянно преследовало непреодолимое чувство неуверенности, ощущение неловкости и страха. А моя тетушка понимала это и очень страдала. Я часто подслушивал за дверью, как делают все дети, и однажды услышал, как она делится с кем-то переживаниями о том, что я такой скрытный.
Постепенно из разрозненных кусочков у меня сложилась цельная картина, хотя она всегда казалась мне ненастоящей, точно все это не имело ко мне никакого отношения. К тому же я видел, насколько моя жизнь отличалась от жизни других детей — у них были мамы, папы, и их семьи вместе проводили праздники и каникулы.
Свидания с отцом, который раз в неделю, по субботам, приезжал на фиакре в парк, где мы встречались, сопровождались очень серьезными приготовлениями. Тетя мыла меня с головы до ног, надевала лучший костюмчик и белые носочки, причесывала и прыскала одеколоном.
Я очень скоро понял, что отношения с отцом, красивым, ласковым и хорошо воспитанным господином, весело трепавшим меня по щеке, никогда не будут простыми. Мой отец Отторино Корси был очень привлекательным мужчиной: невысокого роста, но физически сильный и ладно сложенный, с обворожительной улыбкой, оживлявшей пронзительные голубые глаза. Еще в молодости он начал терять волосы и к моменту моего рождения почти полностью облысел, что для такого честолюбивого человека было большой неприятностью. Но, наверно, кто-то сказал ему в утешение, что мужские достоинства лысых куда лучше, чем обладателей густых шевелюр, потому что очень скоро он со своей лысиной смирился. Во Флоренции у него было бесчисленное множество друзей: отец в совершенстве владел искусством всем нравиться и ни у кого не вызывать зависти. Он был уважаемым коммерсантом, который начал дело с нуля, лишившись солидного наследства из-за безумств своего отца, моего деда.
Семейство Корси было одним из самых богатых в Винчи — родине Леонардо да Винчи. Отец был еще несовершеннолетним, когда в конце XIX века унаследовал все имущество семьи. Его бабка, старая графиня Браччи, решила, что ее единственному сынку Олинто, отцу моего отца (и, соответственно, моему деду) нельзя доверять. Любая попытка его образумить терпела поражение, и, наконец, на смертном одре графиня лишила его наследства и отписала все внучку, моему отцу.
Тогда-то Олинто и начал позволять себе всякие чудачества, как будто говоря: «Раз вы сочли меня сумасшедшим, я и буду сумасшедшим». С той самой минуты с упорством, свойственным всему роду Корси, благодаря которому одни достигли успеха, а другие потерпели полный крах, он вовсе перестал заниматься делами семьи и воспитанием сына. Он обожал музыку, с детских лет музицировал и мечтал стать профессиональным дирижером. Мечту эту он осуществил, на свой лад, разумеется: перевез из Апулии, кажется, из Корато, в Тоскану целый духовой оркестр — пятьдесят музыкантов с женами и детьми, которые поселились в Винчи. До сих пор в тех местах встречаются южные фамилии, явно потомки тех самых музыкантов из Корато. Осталось невыясненным, кто же оплатил эти астрономические расходы. Можно себе представить, как на Олинто и моего отца, тогда еще мальчика, коршунами набросились разного рода посредники, бессовестные управляющие и прочие, которые мало-помалу прибрали к рукам все имущество семьи и довели ее до краха. Таких историй полным-полно в литературе XIX века. Но чудачества деда на этом не кончились. Он, к примеру, начал есть только куриную кожу. В те годы курятина считалась роскошью, а он ее выбрасывал, потому что ему нравилась только кожа, неважно, вареная или жареная. А еще, куда бы он ни шел и что бы ни делал, его верной спутницей стала бутылка красного кьянти. Даже когда дед дирижировал своим оркестром, в одной руке была дирижерская палочка, в другой — бокал с вином. В конце концов водой он даже умываться перестал.
Для него это были годы безумного веселья. Он катался со своим оркестром по всей Тоскане, давал концерты на городских площадях и даже как-то выступал в Монтекатини, где, как он с гордостью вспоминал, его похвалил сам Верди. Но хорошенького понемножку: долги выросли до колоссальных размеров, кредиторы сомкнули ряды и осадили деда. Дело быстро шло к развязке. Рассказывали даже, что однажды судебный пристав прервал концерт, чем вызвал большой скандал. Короче говоря, когда отцу исполнилось двадцать и он стал совершеннолетним, разразилась неминуемая катастрофа. Оказалось, не так уж трудно убедить молодого человека, что если он не заплатит долги отца и отправит его в тюрьму, то покроет себя позором на всю жизнь. Ему подсунули на подпись какие-то бумаги, и прекрасные, богатые поместья Корси на дивных холмах вокруг Винчи перешли к кредиторам. Отец остался без гроша и должен был все начать с нуля.
Когда много позднее отец рассказал мне историю семьи, я не смог скрыть возмущения. Как он мог пойти наперекор воле бабушки, которая хорошо знала сына и не хотела пустить по ветру фамильное состояние? «И ты отправил бы меня в тюрьму, чтобы спасти состояние? — с изумлением спросил он. — Ты поищи-ка собственную дорогу в жизни, как я искал свою».
Он, безусловно, рассуждал правильно. Да и что стало бы с моей жизнью, сделайся я наследником огромного состояния? Вероятно, превратился бы в сельского барина, унылого и самодовольного, ничего бы не делал с утра до ночи, только тратил деньги и плодил идиотов. За всю жизнь я не встречал ни одного художника или артиста, родившегося богатым или не имевшего денежных затруднений.
Вообще-то я не могу сказать, что в самом деле сожалею о честности отца по отношению к полоумному Олинто. Это один из редких случаев, когда мой эгоист отец проявил великую щедрость и душевное благородство.
Итак, Отторино Корси совсем молодым остался без гроша за душой, но не пал духом. В Винчи он познакомился с красивой девушкой скромного происхождения по имени Коринна, которую сразу же и обрюхатил. Он, не раздумывая, женился и, прихватив старого безумца, которого не знал куда деть, оставил Винчи и переехал во Флоренцию. О предвоенных годах знаю только, что вначале отец нашел работу на почте (об этом он позже с гордостью рассказывал, добавляя, что нельзя стыдиться никакой честной работы), а потом, кажется, одолжил денег у семьи Коринны и занялся торговлей. Как ни странно, успех пришел к нему благодаря войне. В 1913 году, при не очень ясных обстоятельствах, он упал с лошади (в действительности лошадь его лягнула, но это звучит не так благородно) и сильно повредил позвоночник. Поэтому в то время как граждане всех возрастов отправлялись на фронт, отец был комиссован и остался во Флоренции, где его торговля тканями неожиданно стала процветать благодаря военным поставкам, на которые он удачно получил подряд.
К тому же вокруг оказалось множество женщин, чьи мужья были на фронте. Он как сыр в масле катался среди одиноких, стосковавшихся по любви женщин. Замужние дамы были его коронным номером. После истории с Коринной отец почти никогда не охотился на девочек. Его женщины должны были соответствовать следующим требованиям: высокие, пышные, страстные, а главное, замужние.
Он терпеливо ждал, когда мужья приедут домой на побывку и затем вновь вернутся на фронт, тут и вступал в игру. Таким образом, вероятный отпрыск относился на счет законного супруга. Уж не знаю, сколько сводных братьев и сестер наплодил отец во Флоренции и ее окрестностях в те годы, между 1915-м и 1918-м. Все его дети родились и выросли, ничего не подозревая, в почтенных городских семействах — Герардини, Мартелли, Гори, Вентури, Пиккарди… И лишь одному Богу известно, о скольких никто ничего не знает!
Нет сомнений, что Коринна прекрасно понимала, что за человек достался ей в мужья, но она принадлежала к тому типу женщин, которым льстит мысль, что муж пользуется таким успехом у других. Она просто закрывала на это глаза. Пока он не встретил мою мать — и началась совсем другая история.
Моя мать, Алаида Гарози, была известной во Флоренции портнихой и владела дорогим ателье в самом центре, на площади Витторио Эмануэле II. Она была замужем за адвокатом Альберто Чиприани, который по болезни был вынужден оставить практику и подолгу лечиться в дорогих санаториях и частных клиниках. Думаю, у него был туберкулез. Маме пришлось самой зарабатывать на все и на всех, прежде всего на троих детей: Адриану, совсем юной вышедшую замуж за биржевого брокера из Милана, Убальдо, рослого парня, который только и мечтал, чтобы стать футболистом, и очаровательную малышку Джулиану, по-домашнему Буби. Мама работала с утра до вечера. Она была красива и обаятельна, любила музыку и прекрасно играла на фортепьяно. Ее любимым композитором был Моцарт, и я помню, как она пела, чтобы отвлечься от работы, отрывки из «Дон Жуана» и «Женитьбы Фигаро». Она никогда никому не жаловалась на пустоту, образовавшуюся в ее женской жизни из-за неизлечимой болезни мужа. Клиентки ее обожали, и в ателье постоянно собиралось живописное и пестрое общество флорентийских дочерей Евы, от аристократок высшего света до дам сомнительных добродетелей. Мой отец поставлял в мамино ателье самые дорогие и модные ткани — шелка с озера Комо, английскую шерсть. Она была его любимой клиенткой, а вскоре стала объектом пристального внимания другого рода. Отец настойчиво и молчаливо ухаживал за ней — он понял и ее одиночество, и тоску по любви. Очень скоро они страстно влюбились друг в друга. Судя по всему, оба потеряли голову и стали совершать безрассудные и вызывающие поступки. Хватало и пикантных историй, быстро сделавшихся достоянием городских сплетников. В тридцать девять лет мать забеременела, и все знали, что дитя, которое она носит, вовсе не от мужа, который в это время умирал в больнице в Пратолино. Ее дочь Адриана, еще совсем молоденькая, тоже готовилась стать матерью, вот и получилось, что Алаида ждала рождения ребенка как раз тогда, когда вот-вот должна была стать бабушкой и вдовой.
Это известие хоть и вызывало у многих смех, в конце концов, всколыхнуло волну ханжеского возмущения. В закрытом флорентийском обществе разразился скандал, от мамы стали отворачиваться клиенты и даже друзья. А те, кто ее любил и остался верен, советовали «для ее же блага» немедленно прервать все отношения с Корси и, главное, избавиться от «бастарда», которого она носила под сердцем. Ее собственная мать даже привела к ней в дом акушерку, чтобы тайно и «безопасно» сделать аборт. Но мать была непреклонна.
Это дитя было прямым доказательством ее любви к моему отцу, и она предавалась туманным и невероятным фантазиям о том, как отец разведется, женится на ней, и они втроем будут настоящей семьей.
— Алаида, да ведь в Италии нет развода, — убеждали ее друзья.
— Пока нет. Но Муссолини обещал скоро его ввести. Я буду за него голосовать. И не говорите мне про аборт, я на это никогда не пойду.
Один за другим ее оставили почти все друзья. Среди немногих оставшихся была тетя Лиде, чье семейное положение тоже оставляло желать лучшего — она жила с женатым мужчиной. Тетя Лиде была кузиной отца и знала их историю с самого начала. Она посоветовала матери не терять мужества и рожать. «Прими волю Божью, — говорила она. — Он знает больше нашего».
Итак, Алаида, чтобы произвести меня на свет, бросила вызов предрассудкам и неприятию всего общества. Подарив жизнь мне, на собственной она поставила крест. Я благодарен матери за ее мужество. Стоит ли удивляться, что я убежденный противник абортов?
На последних месяцах беременности мать овдовела. Я так и не смог узнать, как отреагировало семейство Чиприани, когда мать явилась на похороны с животом, но могу себе это представить: стыд, возмущение и ярость. Перед родами мама уехала в небольшую клинику на окраине Флоренции. Роды ожидались тяжелые, она очень страдала. И отец, говорят, тоже. Прячась в машинах друзей, он караулил возле клиники день и ночь в ожидании известий или курил и пил кофе в барах неподалеку. Наконец я появился на свет. Когда отец узнал, что родился мальчик, он откупорил шампанское: мальчик, о котором он всегда мечтал, дитя любви!
Сразу возник вопрос о моей фамилии. Я не мог называться Чиприани, потому что семья покойного мужа угрожала скандалом и судом. Про фамилию Корси и говорить было нечего. Вот мне и записали, что родители неизвестны. Все знали, кто мои родители, но в документах нельзя было написать ничего, кроме «N.N.», то есть nescio nomen — фамилия неизвестна. Уже потом мне рассказали, но это неточно, что согласно средневековому правилу во Флоренции фамилия незаконнорожденного ребенка должна была начинаться на букву алфавита, которая падала на день, когда тот родился, — каждый день новая буква, а затем заново весь алфавит. На день моего рождения пришлась Z. Мать вспомнила арию из оперы Моцарта «Idomeneo», где упоминались zeffiretti — порывы легкого ветерка (зефира)[2]. Это слово ей необычайно понравилось. Так мне была выбрана фамилия, но переписчик сделал в книге записей ошибку, и вместо Дзеффиретти я стал Дзеффирелли.
Такую фамилию на всем белом свете ношу только я, как память о безумстве матери…
После моего рождения отец и мать стали более осторожны. В надежде успокоить бурю мать решила не выкармливать меня сама и не оставлять во Флоренции. Меня отправили в деревню километрах в сорока от Флоренции к кормилице Эрсилии Инноченти, крестьянке, которую отыскала тетя Лиде. Семья Эрсилии была очень бедна, они жили в старых домишках, стоявших высоко на холмах дивной долины Помино. Чистый воздух, оливковые деревья, виноградники, вековым трудом отвоеванные у неблагодарной природы. Мама навещала меня каждую неделю, обычно по воскресеньям. Она приезжала в экипаже, пряча лицо под вуалью, чтобы защититься от пыли, но, скорее всего, чтобы не быть узнанной.
«Госпожа приехала! Приехала госпожа!» — возбужденно перешептывались крестьянки, когда появлялась эта прекрасная и загадочная женщина. Мама целый день проводила со мной, веселилась как девочка, подкидывала на коленях, целовала и напевала песенки. Она подолгу беседовала с Эрсилией и ее домочадцами, дарила всем подарки, а к вечеру садилась в экипаж и с грустью возвращалась во Флоренцию. Обнимая Эрсилию, она всякий раз вздыхала: «Как бы мне хотелось остаться с вами…»
Не знаю, навещал ли меня отец, но считаю это вполне вероятным: он гордился мной. Его жена родила ему только дочь, Фанни, и потом уже не могла иметь детей. Основной причиной его разлада с женой была ее неспособность родить ему сына, которому бы он передал «почтенную» фамилию Корси. Для матери это имело первостепенное значение из-за ее безумных фантазий о разводе и о семье, которая будет построена вокруг меня — наследника.
Когда мне исполнилось два года, меня привезли обратно во Флоренцию. Для матери настали тяжелые времена. Мир катился к кризису конца двадцатых годов, клиентов у нее поубавилось, в том числе и из-за сплетен и скандала. Адриана, ее старшая дочь, вместе с мужем и ребенком переехала в Милан, чтобы начать новую жизнь. Так постепенно мы остались одни. Отец появлялся все реже и реже. Единственным светом в окошке для нас оставалась тетя Лиде, с прекрасной улыбкой и сияющими голубыми глазами. Она всегда поддерживала мать и первая заметила, что мама больна. Тетя отвела ее к хорошему врачу и быстро устроила операцию.
Все это я узнал много лет спустя. Воспоминаний о тех временах осталось немного, но все они очень ясные. Помню, как играю в прятки среди платьев в мамином ателье, а швеи, которые относились ко мне с большой нежностью, меня ищут. Память сохранила их взволнованные лица, когда они уходили от нас, — работы становилось все меньше, и маме приходилось постепенно увольнять одну за другой. Они часто навещали нас и дарили мне всякую мелочь, пока не исчезали окончательно с моего детского горизонта. Еще помню, как впервые увидел фашистов на площади Витторио Эмануэле: море черных рубашек и эмблем. Пение, крики, громкие аплодисменты. Наверно, это была демонстрация солидарности Муссолини после убийства Маттеотти[3]. Мать стояла рядом со мной у окна, но не помню, чтобы она разделяла всеобщий энтузиазм. Она вздыхала и качала головой — этот Муссолини разочаровал ее, главным образом потому, что ни о каком разрешении разводов он больше не заговаривал и даже произносил громкие слова о святости и целостности семьи и собирался помириться с Папой Римским. Я стоял на подоконнике и размахивал бумажным флажком, не предполагая, что прощаюсь с эпохой, которая уходит навсегда.
Вскоре мама узнала, что отец опять начал волочиться за женщинами. Ей стало известно о его новых романах, и она догадалась, что это только вершина айсберга. Всякий раз, когда отец приходил, между ними случались чудовищные ссоры, и он сократил свои визиты. В свое оправдание он говорил тете Лиде, что Алаида, к сожалению, сильно изменилась из-за болезней и операций, которые ей пришлось перенести… Ему стало трудно с ней… и это вполне понятно. Одним словом, он ее разлюбил, хотя продолжал испытывать к ней большую привязанность. Тетя на такие слова только и смогла ответить: «Пожалей ее, подумай о малыше».
Мать действительно ужасно страдала. Все вокруг неумолимо катилось под откос, она слабела, почва уходила у нее из-под ног. Наверно, над ней уже нависла тень смерти, и поэтому она бросилась к гадалкам и колдунам. Какие-то ужасные старухи жгли овечье сердце на углях прямо в кухне, при свечах, в клубах ладана — его запах проникал во все уголки дома — бормоча заговоры и заклинания, которые должны были вернуть отца… И он и в самом деле иногда возвращался, может потому, что испытывал угрызения совести, а может потому, что все-таки продолжал ее любить. Он приходил по вечерам, когда я уже крепко спал в большой материнской кровати.
Иногда он не появлялся неделями: только короткие телефонные звонки с объяснением, что завален делами, в отъезде, одним словом, находились разные предлоги. Однажды мать повела меня к знакомой, которая жила с мужем и двумя маленькими детьми в хорошеньком домике на берегу Арно. Когда та открыла, мать, едва поздоровавшись, взяла меня за руку и вывела вперед со словами:
— Это сын Отторино, он для меня все.
Женщина побледнела.
— Советую тебе немедленно прекратить грязную возню с его отцом, — пригрозила ей мать. — Не вынуждай меня говорить с твоим мужем. Сама понимаешь, мне терять нечего. — Потом схватила меня на руки и ушла, не сказав больше ни слова.
Узнав про сцену в доме любовницы, отец отказался видеться с матерью и даже перестал отвечать на ее телефонные звонки. Как-то зимой среди ночи мать встала, оделась, одела и меня, едва проснувшегося. Мама завернула меня в свою шубу, прижала к себе и так несла по пустынным, продуваемым ледяным ветром улицам. Мы подошли к дому на виа Орьоло, где жил отец, и спрятались в нише между колоннами здания Банка Италии. Было около полуночи, мы ждали, я хныкал, сонный и замерзший. Наконец появился отец, закутанный в меховое пальто. Мать вышла из-за колонны ему навстречу. Придя в себя от удивления, отец резко велел ей отправляться домой и прекратить заниматься глупостями — сколько можно! Но она, казалось, не слышала и отчаянно хваталась за него. Отец сделал попытку высвободиться, ударил ее по лицу, я заплакал и закричал. Мама совершенно обезумела, выдернула из шляпы длинную булавку и попыталась его заколоть. Она промахнулась, отец отделался парой царапин, но наши крики перебудили все округу, и кто-то вызвал полицию. Они записали наши имена и, увидев рыдающего от ужаса и дрожащего пятилетнего ребенка, отправили домой. Ну просто сцена из мелодрамы. Кто знает, может, она-то и повлияла на мою любовь к громким постановкам, к мизансценам, которые так нравились Масканьи и Леонкавалло, и мне, признаюсь, тоже? Что ж, я бы не стал сбрасывать это со счетов…
После этого случая между отцом и матерью произошел окончательный разрыв. Они больше никогда не встречались. Последние вопросы улаживались через адвокатов, полицейских чиновников и немногих верных друзей, в том числе тетю Лиде. Мама больше ничего не требовала, ее здоровье ухудшалось день ото дня. Она согласилась оставить Флоренцию, где после продажи за гроши ателье и расставания с отцом ее ничто не удерживало. Отец передал ей через тетю Лиде небольшую сумму, которую она вначале не хотела принимать, но потом взяла, потому что деваться было некуда. Незадолго до Рождества 1928 года мы уехали в Милан к ее дочери Адриане.
После прекрасных комнат на площади Витторио Эмануэле мы оказались на окраине, в маленькой комнатке обшарпанной квартирки, где даже мне все казалось крошечным. В силу жестокого каприза судьбы муж Адрианы тоже был болен туберкулезом, и появление тещи с «бастардом» стало источником постоянных скандалов, и довольно грубых. Вдобавок ко всему разразился экономический кризис — Великая депрессия, потрясшая весь мир. О терпимости и жалости и речи не было. Каждый заботился только о собственном выживании.
Та зима была очень тяжелой. Ледяная квартира, без отопления. Деньги закончились, и только Адриана подкидывала маме какие-то гроши. Мы спали вдвоем на узкой кровати, и мне это нравилось, потому что всю ночь я был с мамой, а она прижималась ко мне, словно пыталась получить толику тепла и надежды из рожденного ею с таким мужеством тельца. По утрам я ходил в детский сад к английским монахиням, а когда вечером возвращался домой, мама казалась еще бледнее. Однажды весной я пришел из детского сада и не обнаружил ее дома. Сначала мне сказали, что она поехала за город к друзьям, но через несколько дней отвели к ней. Я и сейчас помню тот день. Меня оставили играть в саду позади городской больницы; потом Адриана пришла за мной, глаза у нее были красные. Она проводила меня в палату, где лежала мама и еще много женщин. Я ее еле узнал и сразу понял, что она тяжело больна. Я взял ее за руку. Она покачала головой, улыбнулась, прошептала, что я должен быть хорошим мальчиком, учиться, а она скоро вернется домой.
8 мая 1929 года… Ко мне подходит монахиня и шепчет: «Пойдем в часовню, помолимся об упокоении твоей матушки». Сначала я не осознал, какое ужасное горе на меня обрушилось — я понятия не имел, что такое смерть, только понял, что почему-то стал особенным. Все дети в тот день молча и серьезно смотрели на меня, и я даже был горд тем, что вдруг стал объектом всеобщего внимания. Но, вернувшись домой, я почувствовал себя одиноко — все остальные были заняты делами, связанными с похоронами, и им было не до меня. Маленький шестилетний мальчуган, охваченный страхом и отчаянием, никому не нужный и не понимавший, за кого ухватиться… К счастью, из Флоренции сразу приехала тетя Лиде, и в ее объятиях я смог забыть о своем горе.
Два дня спустя маму похоронили, и в тот же вечер тетя Лиде собрала мои вещички, все мамины фотографии и увезла меня к себе во Флоренцию.
Оказалось, что отец, потрясенный смертью женщины, которую он все-таки очень любил, и мучимый угрызениями совести, отправил Лиде в Милан за сыном — во Флоренции он всегда сможет заботиться о мальчике. Не иначе как на него снизошел дух святой, раз вместо какого-нибудь приюта он решил поручить меня заботам тети Лиде. А может, она и сама ему это предложила в память о любимой и несчастной подруге. У нее детей быть не могло, и она приняла дитя чужой любви.
Тетя Лиде, Алаида Бекаттини, твердо знала, чего хочет. Молоденькой девушкой она едва не вышла замуж за богатого человека, который был в нее влюблен. Они подготовили документы и назначили день свадьбы, но в последний момент Лиде отказалась от этого замужества. Она безумно влюбилась в другого и поняла, что не сможет лгать до конца своих дней.
Лиде решила все бросить ради Густаво Соччи, хотя он был женат и имел двух взрослых детей. Никакой надежды узаконить их отношения не было. «Да и потом, — говорила тетя, — что значит жениться? Любовь — это ежедневная битва, и побеждать надо всегда, женат ты или нет». И действительно, любящая и преданная, она осталась с Густаво, «дядей Густаво», на всю жизнь. Густаво почти все время жил с нами. С женой он изредка обменивался парой слов, их брак рухнул давно, а по какой причине — мне неизвестно. Он жил с нами, свои вещи, одежду, книги держал у нас. Но это тоже выглядело странным, и вот все эти странности вокруг меня накапливались, пока не стали нормой.
Я был травмированным ребенком, со мной с самого рождения происходили ужасные вещи. Тетя знала это, и я рос, окруженный любовью и вниманием ко всем мелочам моей жизни. Иногда я сидел у себя в комнате и горько плакал. Тогда тетя сажала меня на колени, обнимала и прижимала к себе. «Ты пока не понимаешь, но поверь, — шептала она мне на ухо, — мама здесь, она рядом. Мы не слышим и не видим ее, не можем к ней прикоснуться, но она здесь. Она слышит и видит нас. А мы можем только молиться, чтобы душа ее упокоилась в мире, а ее любовь была с нами».
Ей всегда удавалось утешить меня. И очень часто, лежа в кровати, в темноте, я говорил с мамой так, будто она была рядом со мной.
Как я уже говорил, по субботам мы встречались с отцом. Это для меня было целое событие еще и потому, что, уходя, он давал мне на прощание монетку в пять лир. Мне казалось это огромной суммой, да так в те времена и было. Суббота стала для меня «днем орла» — орла на реверсе драгоценной серебряной монетки, а отец — приятным господином, который монетку приносит, благодаря чему я чувствую себя с друзьями богачом. Я испытывал непреодолимую неловкость перед словом «отец», которым тетя просила его называть. У нас не было близости, какая бывает между отцом и сыном, и я не знал, о чем с ним разговаривать. Он расспрашивал меня о школьных делах, о друзьях, одним словом, о моей жизни, а я отвечал односложно или чаще просто молчал. В результате говорил он один, а что рассказывал, я не запомнил.
Куда больше мне нравились визиты деда, чудаковатого, очень милого старика. Он по-прежнему дирижировал воображаемым оркестром и размахивал руками, как будто держал палочку. Когда мы выходили на прогулку со старым блохастым английским сеттером по кличке Лорд — мой отец ходил с ним на охоту, он и на улице держался так же. Помню, что дед всегда приходил к тете к пяти, и она подавала ему полдник — хлеб с чесночной колбасой. Ровно в пять, хотел он есть или нет, дед указывал на часы и восклицал: «Пять, начинает хотеться есть». Тетя над ним подшучивала. Например, переводила настенные часы на час назад, и он не мог понять, в чем дело. Он яростно тряс своими часами и в конце концов объявлял: «Пять или не пять, а я хочу есть. Давай полдник».
По-моему, именно он принес в мой мирок, который ширился с каждым днем, музыку, классическую музыку — симфонии, оперы. Он напевал что-то из них с утра до вечера, мурлыкал, изображал все инструменты подряд, от скрипки до кларнета и тромбона. Но даже в таком виде, а может, и благодаря этому старому безумцу удалось открыть мне волшебный мир музыки. Я очень переживал его смерть от пневмонии зимой 1933 года.
Таким было мое раннее детство, пора первых открытий и первых ответов на тайны и откровения жизни. Когда в семь лет я пошел в школу, то только-только научился жить без мамы. Это было нелегко.
Помню первый день в школе, все нарядные, в черных фартуках с белыми бантами. Учительница стала записывать наши имена в школьном журнале. Каждый должен был встать и назвать дату рождения, имя отца, имя матери. Она вызывала по алфавиту, я был последним и слушал, что говорили все дети передо мной.
— Имя отца?
— Карло.
— Имя матери?
— Луиза.
— Отец?
— Джованни.
— Мать?
— Элена.
— Отец?
— Франческо.
— Мать?
— Катерина.
Имена шли одно за другим, дети вставали и садились. За именами отцов и матерей я представлял счастливые, нормальные, правильные семьи и ждал своей очереди со все возрастающим страхом. И вот настал мой черед.
— Дзеффирелли Джан Франко.
Кое-кто из детей захихикал, потому что такое имя никто никогда не слыхал, оно казалось смешным.
— Отец?
Я не знал, что отвечать. Снова раздалось хихиканье, учительница нетерпеливо повторила вопрос. Я стоял опустив глаза и не мог решиться ответить. Потом нашел в себе силы и сказал:
— N.N.
Мои одноклассники не поняли и захихикали еще сильнее. Но учительница сразу прикрикнула на них и быстро сказала, чтобы сгладить мою неловкость:
— Хорошо. А мама?
Ответ пришел сам собой.
— Ее звали Алаида. Она умерла.
В классе стало тихо, даже самые шумные дети замолчали и стали рассматривать меня с уважением, как будто я какой-то особенный. Из-за того что у меня умерла мама. И снова, как это уже было в детском саду в Милане, я почувствовал, что не такой, как другие дети.
Это вполне естественно, если вспомнить все потрясения первых лет моей жизни. У меня было три матери: настоящая мама, Эрсилия, моя кормилица, а теперь Лиде, тетушка. Я целиком отдавал свое сердце каждой из этих женщин, а потом мне приходилось забирать его назад. Так я научился предельной осторожности, перестал приносить свою любовь в дар и искать ответной, начал замыкаться в себе. До сих пор, дожив до глубокой старости, я испытываю ту же неловкость, что и в детстве, когда мне предлагают любовь. Я по-прежнему ищу любовь и буду искать, пока жив, но, найдя, не могу принять ее целиком или поверить в ее долговечность.
II. Первые волнения
Только рядом с Эрсилией Инноченти, моей кормилицей, я испытывал ощущение постоянства и уверенности. Я переживал его всякий раз, когда на Рождество и Пасху она приезжала проведать меня во Флоренцию, и особенно когда отправлялся на лето к ней в деревню. Она жила в деревне Борселли километрах в сорока от Флоренции. Жители Борселли, как и все тосканские крестьяне, были крайне бедны, многие уже в преклонном возрасте и с кучей болезней, заработанных за долгие годы тяжкого труда. Образ жизни тогдашней деревни, ее устои, обычаи и ритм мало изменились со времен Средневековья. Это тоже был мой дом, может, отсюда и берет начало моя сильная привязанность к давно ушедшему миру, с которым наша реальность не имеет ничего общего.
Обычно я приезжал в Борселли после окончания учебного года, в июне, и первое, что делал — подальше забрасывал башмаки. Башмаки здесь не носил никто, все ходили босиком. Обувались, идя в лес, потому что по лесу ходить можно было только в башмаках из грубой кожи. Мы вставали с зарей или еще раньше, при свете масляной лампы, а спать ложились, когда небо багровело на закате и становилось темно. Я помогал пасти свиней и овец или ходил с другими ребятишками на источник за водой. Каждый раз, поднимаясь по склону холма с наполненным медным кувшином и касаясь босыми ногами земли, я чувствовал, что становлюсь ее обладателем, что теперь она моя на веки вечные.
Конечно, я не был ровней остальным крестьянам. Я был для них синьорино — молодой господин, потому еще, что мать, а позднее тетушка щедро платили Эрсилии за мое содержание. Но я всегда остро чувствовал, что мои корни глубоко уходят в тосканскую деревню. До сих пор обожаю ломоть хлеба с куском помидора и «серпиком» оливкового масла — так это называли потому, что в деревенских семьях могли позволить себе лишь полить кусок хлеба золотистой тоненькой струйкой масла и посолить-поперчить сверху. Я уплел бесчисленное множество таких ломтей, и даже сейчас при его виде во мне оживают воспоминания о тосканской деревне — о тамошних крестьянах, о детстве, о той настоящей Италии, которую я знал и которая нынче безвозвратно исчезла.
Хлеб пекли раз в неделю по пятницам. До сих пор помню дивный аромат свежевыпеченного хлеба. Понедельник был «днем стирки», для которой женщины использовали печную золу, куда добавляли едкого натра, и выдерживали эту смесь в больших фаянсовых тазах. Потом белье стирали на реке и развешивали сушить на солнце. Чистое белье пахло свежестью — тоже незабываемый запах.
А еще в середине недели был «день штопки». Портному заказывали только подвенечное платье, а всю остальную крестьянскую одежду шили дома и вечно ее латали и штопали. Молодые люди привозили из армии военную форму. Разве можно забыть мундир берсальера и красную фуражку с голубой кисточкой, которые Туридцу из «Сельской чести» привозит домой и щеголяет в них по улочкам Виццини. Сколько раз я пытался раздобыть такую одежду для театра или кино! Не удалось: эти вещи живут с теми, кто их носит или носил раньше — дедами и прадедами.
В те летние месяцы у кормилицы я впервые столкнулся с театром. К нам в деревню почти каждую неделю приезжали колоритные персонажи, любимцы деревенских жителей. По вечерам они, в компании здоровенного пса, садились к очагу и рассказывали всякие занимательные истории, в которых фантастические и трагические события перемешивались с сюжетами классической литературы, реальными происшествиями и последними новостями. Например, помню историю, где речь шла о совершенном в те самые дни громком убийстве. Актеры разыгрывали события одно за другим, причем делали это с необычайной страстью: они рыдали и вопили, изображая убийц или их жертв. У каждого было свое амплуа и целый арсенал трюков. Запомнились развеселый рыжий парень с подвижным, гуттаперчевым лицом, умевший строить смешные рожи, и другой — тощий и страшный. Среди них встречались настоящие виртуозы драматических эффектов. Например, один из них ставил возле себя на пол зажженную лампу так, что на стене отражались огромные жуткие тени. Позднее в постановках я нередко использовал этот прием. Никакой театр не внушал мне такого безусловного доверия, как вымыслы этих бедолаг. Они умели полностью завладеть нашим воображением: у нас замирали сердца и глаза наполнялись слезами, а в следующий момент мы уже беззаботно хохотали над забавными сценками, обычно завершавшими вечерние представления, и отправлялись спать, забыв все страхи, с легким сердцем… До сих пор не устаю ими восхищаться — ведь это были не радиопостановки и не телеспектакли, а сценки, разыгранные простыми бродячими актерами, как будто перенесшимися из эпохи Боккаччо, да Порто и Банделло[4].
Но лето кончалось, и я возвращался во Флоренцию, переполненный фантастическими историями этих бродяг. Я был поглощен сочинением сюжетов для игрушечных театров — teatrini — моего собственного изготовления. Дядя Густаво обратил внимание на мое растущее увлечение театром и подарил мне кукольный театр с множеством деревянных кукол, в который сам он играл в детстве. Никогда в жизни не получал подарка лучше! Вернувшись из школы, я проводил все время, придумывая сценки и вырезая из цветного картона актеров и декорации.
Густаво страстно любил оперу и водил знакомство со многими певцами. Они с тетей часто ходили в городской театр. Этот театр, где у Лиде и Густаво пополам с друзьями была ложа, был единственным местом, где они имели возможность вместе появляться на публике. Почему-то даже записные сплетники Флоренции считали городскую оперу нейтральной территорией, и там моя тетушка могла не нервничать и ощущать себя законной спутницей своего кавалера. Когда мне было лет восемь, они впервые повели меня в оперу.
Один из друзей Густаво, баритон Джакомо Римини, который бывал у нас, пел партию Вотана в вагнеровской «Валькирии», и тетушка с Густаво не могли это пропустить. Но поскольку в тот вечер со мной некому было остаться, им пришлось взять меня с собой (о няньках на час тогда и речи не было). Прямо скажем, «Валькирия» не совсем годится как первая опера для ребенка, но тетя Лиде решила, что в худшем случае я просто засну где-нибудь в углу ложи.
Усну? Какое там! Их ложа располагалась прямо над оркестровой ямой, и меня буквально заворожили музыканты во фраках, инструменты и дирижер, тоже во фраке, прямой и подтянутый — ну просто командующий на поле боя. А потом свет погас, и зазвучала музыка.
Я был потрясен звуками, которые издавали эти необыкновенные инструменты, они показались мне райским пением. Занавес поднялся, я увидел лес — совершенно настоящий. Хористы представлялись мне дикими зверями, а ужасающие валькирии, которые носились по сцене, напоминали обезумевших животных, и так до самого конца, когда Вотан наводит на Брунгильду чары с помощью огня, языков пламени и клубов дыма. На протяжении всех пяти часов я сидел, затаив дыхание, не в силах оторвать глаз от сцены.
— Нравится? — спросила тетя Лиде, которая сама, видно, устала от такого длинного спектакля. У меня и ответа не нашлось, я так и сидел с открытым ртом, как современный ребенок перед какими-нибудь «Звездными войнами».
— Смотри-ка, он любит музыку, — заметила тетушка дяде Густаво.
Нет, не музыку — мне полюбилось чудо оперы!
После спектакля мы пошли за кулисы поприветствовать Римини. В общей суете я отошел в сторону и вдруг оказался посреди сцены, еще наполненной дымом, и так и остался стоять среди поднимавшихся и опускавшихся задников и полуразобранных декораций. Передо мной открылся фантастический мир, и дома я попытался воссоздать его в игрушечном театре.
Задумываясь о своем длинном театральном пути, я понимаю, что все началось именно в тот вечер.
Говорят, в школе я был непоседлив и проказлив, и по поведению у меня были плохие отметки, но я неплохо успевал по истории, географии и поэзии. Мой отец настоял, чтобы три раза в неделю я брал частные уроки английского языка. Он закупал шерсть у многих компаний в Манчестере, но ему было трудно вести с ними дела, поэтому он решил, что его сын должен выучить английский и помогать ему в деловой переписке. Его настойчивость оказалась великим благом для моего будущего.
Он договорился, что трижды в неделю я буду заниматься с Мэри О’Нил, пожилой англичанкой, которая переводила отцу письма. Очаровательная строгая дама принадлежала к английской диаспоре, для которой Флоренция стала родным городом: это были леди без возраста, большей частью одетые и причесанные так, словно ничего не изменилось со времен их английской юности. Весной и летом они производили фурор своими белоснежными кружевами, нарядами в кремовых и сиреневых тонах, парасольками и соломенными шляпками, которые вызывали у жителей Флоренции особую нежность. Я прямо-таки вижу, как они шествуют по центральным улицам, направляясь на файф-о-клок в английскую чайную «Даниз». Они приходили парами и небольшими стайками, появляясь на виа Торнабуони со стороны моста Санта-Тринита или из средневековых улочек по соседству. Они обожали Италию, но были весьма скупы на похвалы в ее адрес и постоянно давали понять, что мы, флорентийцы, недостойны своего города. Горожане относились к этим дамам снисходительно и, вероятно, и любили-то их именно за неприступность и экстравагантность. Они были частью города, но за спиной их называли «скорпионами с виа Торнабуони».
Спустя много лет (Господи, ох как много!) я изобразил их в своем фильме «Чай с Муссолини».
Эти щебечущие старые девы были просто покорены дуче: их восхищала его тяжелая челюсть и исходящая от него энергия настоящего мачо. И они, естественно, пришли в негодование, когда в середине 1930-х он повздорил с Англией: наши дамы не могли согласиться с реакцией Чемберлена и Идена и сочли, что британцы просто плохо информированы о положении дел в фашистской Италии. Они как ни в чем не бывало попивали свой пятичасовой чай у «Даниз» и шпыняли официантов, стараясь убедить самих себя, что все обойдется.
Мир Мэри О’Нил был мне в новинку, и я его полюбил. Она жила в небольшой темной комнатушке, заставленной старой мебелью и всевозможными безделушками, все стены были завешаны старыми портретами и репродукциями. На крохотном столике рядом со статуэткой Шекспира стояла фотография ее отца, капитана британской армии, а рядом — молодого английского солдата, жениха Мэри О’Нил, погибшего в 1917-м. Над столиком-консолью на стене висела цветная репродукция портрета актрисы Эллен Терри в роли леди Макбет кисти Сарджента.
Престарелая леди, верно, хорошо отзывалась обо мне отцу, потому что он стал относиться ко мне более ласково и внимательно, чем прежде, и время от времени просил отнести ей цветы или сладости. Однажды я видел, как Мэри О’Нил, разодетая как леди с картины Гейнсборо, входила под руку с моим отцом в чайную «Даниз». В молодости она, должно быть, была очень хороша. Впрочем, несмотря на обаятельную внешность, пепельные волосы и голубые глаза, мне она спуску не давала.
В ее комнате стояли старинные часы, и она сердилась, если я не появлялся точно в назначенный час. Не дозволялось даже минутное опоздание. А для меня это была главная загвоздка: ведь даже теперь я не могу похвастаться пунктуальностью.
Я проходил в учениках у Мэри О’Нил чуть больше четырех лет. Она познакомила меня с английской грамматикой и поэзией, театром и историей, и я, овладев языком довольно сносно, начал штудировать сонеты и пьесы Шекспира. Мы с ней вместе разыгрывали сцены из его великих пьес. Сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» была ее любимой. Мэри О’Нил передала мне оставшуюся на всю жизнь любовь к британской культуре, такой близкой нам, флорентийцам. Однако политическая ситуация в стране становилась все более опасной, и в конце концов наши уроки прекратились.
В известном смысле главным авторитетом для меня в те годы был Густаво. Он не только ввел меня в мир оперы, но и рассказывал о происходящих в мире потрясениях, не докатывавшихся до улиц и площадей Флоренции. Фашизм утвердился в Италии после марша Муссолини на Рим в 1922 году, за год до моего рождения. В школе нас обязали по субботам носить черную рубашку, а учителя, хотя я это уже плохо помню, как попугаи вдалбливали в нас «линию партии». Мне было двенадцать, когда в октябре 1935 года Италия вторглась в Эфиопию. Густаво, резервист флота, был мобилизован и отправлен в Ливорно, и тетушка, взяв меня, поехала за ним. Мы вернулись во Флоренцию в мае следующего года и ожидали, как обычно, приезда Эрсилии, но она не приехала. Оказывается, пока мы отсутствовали, она тихо — слава Богу — умерла. Я еще раз потерял мать! Теперь уже у меня не будет деревенского лета, я больше не увижу неповторимую древнюю Италию, которая вот-вот исчезнет с лица земли. Ведь Эрсилия была плоть от плоти феодальной Тосканы, где крестьяне, можно сказать, принадлежали своему хозяину, живущему в городе в палаццо. Как-то не верится, что это было совсем недавно, в середине XX века.
Та Флоренция, которую я знал, устояла перед крайностями модернизации, сумев сохранить практически в неприкосновенности свой средневековый облик и шедевры Возрождения, хотя старинный центр довольно сильно пострадал, когда Савойская династия сделала Флоренцию столицей Италии. Мало изменился и стиль жизни. Автомобилей почти не было, народу на улицах немного, магазины изысканы, а горожане одеты просто и со вкусом. Город тогда еще не осаждали орды туристов, и приезжали туда, главным образом, знакомиться с итальянским искусством или учиться.
Английская диаспора Флоренции не имела ни малейшего намерения покидать город из-за вульгарных политических неурядиц. Однако после санкций 1936 года[5] антибританские настроения в стране усилились, плохо отзываться об англичанах по любому поводу стало, как теперь говорят, политкорректно, а когда мы связались с Гитлером, это превратилось прямо-таки в национальную фобию. К несчастью, в Италии нашлось очень немного трезвых умов, сознававших, чем грозит союз с Гитлером: большинство считали его чем-то вроде могучего щита, который укроет нас от ненавистных демоплутократов.
Не знаю почему, но я почувствовал что-то неправильное в тот день 1937 года, когда впервые увидел Гитлера. Он прибыл в Италию с государственным визитом и посетил Венецию, Флоренцию, Неаполь и Рим с целью укрепления союза между нацистской Германией и фашистской Италией. Нас, детей, вывели на улицы в парадной форме маленьких фашистов, чтобы поприветствовать «этого немца с усиками». Меня подняли в пять утра, чтобы я со своим «батальоном» занял назначенное место у железнодорожного вокзала. Вся Флоренция была увешана национальными флагами, улицы и площади разукрашены транспарантами в честь итало-германской дружбы. Сквозь блеск маленького штыка, который я держал прямо перед собой, мне удалось разглядеть двух вождей, когда они проезжали мимо в открытом «мерседесе».
Попыткам фашистского режима взять под свой контроль наши умы и души противостояла церковь. Я получил католическое воспитание и проживал свою веру как нечто само собой разумеющееся, даже прислуживал за обедней в монастыре Сан-Марко. Моим друзьям и мне быстро наскучили бесконечные марши и политические речи: нам мало что было в них понятно, да и понимать-то там было нечего. Нам больше нравилось ходить в Католический клуб, организованный братьями монастыря Сан-Марко, — в его старинных внутренних двориках мы играли в футбол и пинг-понг — его я люблю до сих пор. Нашим излюбленным занятием были велосипедные прогулки по выходным: подобрав подол рясы, монахи вместе с нами жали на педали, и мы ехали на холмы долины Арно. Летом, отправляясь в многодневные походы, мы добирались до Сиены и Ареццо и ночевали в доминиканских монастырях. По сравнению с монахами фашисты казались серыми и противными занудами.
Кроме того, в Католическом клубе у меня было еще одно увлечение — драматический кружок, в те годы, естественно, только для мальчиков, который ставил по разным приходам пьесы на исторические и библейские темы. Думаю, именно эти первые опыты и повлияли впоследствии на мой выбор.
Важную роль в моей дальнейшей судьбе сыграли также почти ежедневные походы в кино с тетушкой Лиде и Густаво. Я свято верил всему, что видел на экране. Не могу сейчас вспомнить, как назывался самый первый фильм, который я увидел, думаю, что-то с Родольфо Валентино — тетушка и все наши знакомые дамы просто с ума по нему сходили. Я по-прежнему принимаю кино очень близко к сердцу: даже сегодня я смеюсь и плачу, не стыдясь, и всей душой верю всему, что происходит на экране.
Одна картина в те далекие времена особенно потрясла меня. Фильм назывался «Чемпион» с Уоллесом Бири в роли боксера-неудачника, который в одиночку воспитывает сына — мальчика играл Джекки Купер, — когда его бросает жена. Потом она возвращается, и мальчик буквально разрывается между ними; отец делает попытку вернуться на ринг и умирает в финальном раунде решающего боя. Я посмотрел эту картину в 1931 году, вскоре после смерти матери, и поэтому она так сильно травмировала мою психику: плакать от нее хочется каждому, но на меня она произвела просто ошеломляющее впечатление.
В домашней библиотеке у Густаво я находил десятки книг по искусству и биографии великих художников разных эпох. Вообще же дух Возрождения буквально витал в воздухе. У нас в доме были два складных стула в стиле эпохи Ренессанса, которые назывались «Савонарола», и когда к тетушке Лиде приходили гости, она просила меня: «Франко, достань Савонаролу и принеси сюда!» Так что в моей детской голове Савонарола[6] разгуливал взад-вперед по нашим комнатам…
А настоящий Джироламо Савонарола проповедовал как раз в монастыре Сан-Марко, где мы гоняли в футбол и куда частенько захаживал Лоренцо Великолепный[7], потому что этот доминиканский монастырь пользовался щедрым покровительством семьи Медичи. Там хранились бесчисленные сокровища: библиотека Микелоццо, творения Фра Бартоломмео и Фра Анджелико[8], повседневные встречи с которыми были для нас привычными. Так, чуть ли не все кельи были расписаны кистью Фра Анджелико, а стену лестничной площадки второго этажа украшала изумительная фреска Благовещения, которая несколько веков благословляла монахов, спешивших из монастыря в церковь и обратно.
Доминиканский орден всегда славился своей благородной традицией внимания к искусству и культуре, и большинство монахов-доминиканцев были высокообразованными людьми. Среди них встречались и художники. Один из них, отец Спинилло, руководил нашим молодежным кружком. Весьма одаренный живописец, он превратил монастырский чердак в студию, где мы часто занимались с ним.
В то время мне довелось познакомиться с художником Пьетро Аннигони. Он расписывал одно из монастырских помещений потрясающей фреской распятия, и я подглядывал за ним сквозь приоткрытую дверь. Отец Пьетро представлялся мне живым воплощением старых мастеров, его рисунки словно были работами Леонардо или Микеланджело. Я искренне восхищался его мастерством, хотя кое-кто из интеллигенции и критиков считал его бессовестным passatista[9]. Но я не мог взять в толк, что же дурного в том, если он пытается писать так же хорошо, как великие мастера прошлого. Тогда, наверное, я и начал задумываться о неразрешимом и необъяснимом конфликте между художником и критиком.
А еще в те годы в монастыре Сан-Марко я познакомился с другим незаурядным человеком — профессором Джорджо Ла Пира, который преподавал в университете историю римского права. Профессор Ла Пира был мирянин, но жил в одной из монастырских келий. После войны он стал мэром Флоренции, лучшим за всю ее историю. Это был уникальный человек, апостол милосердия и веры, посвятивший всю жизнь защите бедных и обездоленных. Он да отец Койро, угрюмый и вспыльчивый приор монастыря, этакий Савонарола наших дней, вне всякого сомнения, оказали на меня в детстве самое сильное влияние. Они, разумеется, не занимались политикой, их путь освещала вера, их призванием были забота и утешение. Однако именно через них до моего сознания доходила правда о социальной и политической ситуации, и воздействие этих людей я ощущал всю свою сознательную жизнь.
Был у меня еще один источник, где я мог утолить жажду знаний, — милейший профессор Фучини, преподаватель химии в художественном лицее, который обрушивал на наши юные головы ураганы понятий. Его уроки были для нас интересней и увлекательней любой переменки. Профессор Фучини, как никто другой, был настоящим мастером искусства преподавать просто и весело. Внук знаменитого тосканского писателя Ренато Фучини, ученика Джиусти и закадычного друга моего деда Олинто, который знал его с юных лет, он тоже был родом из Винчи.
У Ренато Фучини был прекрасный и очень колоритный стиль — «тосканский диалект, на котором изъясняются ангелы и бесы». Его лучшее творение — сборник новелл «Бессонные ночи в Нери» — было исключительно приятным семейным чтением, источником веселья для больших и маленьких. А внук великого писателя, мой учитель, вместо того чтобы удовлетвориться жизнью богатого сельского барина, неожиданно занялся химией и стал преподавать науку, которая была полной противоположностью гуманитарному миру деда. Слышали бы вы, как объяснял он эту химию, которая стала у нас, школьников, любимым предметом. Он делал это ясно, хотя и несколько оригинально, умело подводя нас к самым загадочным вещам. Тайны, которые, казалось, раскрыть вообще невозможно, профессор разворачивал на наших глазах, как конфетки, и сопровождал это репликами или рассказами, сразу становившимися легендой. Для начала он упразднил все нормы приличного поведения. Входил, например, в класс со словами «юнцы-пердунцы!», и мы покатывались со смеху.
Дома мы слово в слово с хохотом пересказывали его выходки. Дядя Густаво, который хорошо знал тексты Ренато Фучини и читал их нам вечерами, смеялся от души: «Еще бы!.. С таким дедом!» Находились, однако, родители, которые возмущались и даже пожаловались директору. И тот, хоть и смеялся в душе, как мы, дети, над выходками учителя, был вынужден при взбешенных родителях одернуть его. Профессор Фучини возмутился: «Да если не смешить их, они вырастут такими же тупицами, как их родители». Обещал, правда, быть сдержаннее.
Когда он вернулся в класс, мы повскакали с мест в ожидании привычного приветствия.
— Юнцы! — сказал учитель, по привычке потирая руки, и остановился. Он поднялся на кафедру и повторил: — Юнцы… — и больше ни слова.
Тогда один из мальчиков осмелился спросить:
— Профессор, что же дальше?
Фучини открыл учебник и, сделав неопределенный жест, сказал:
— Все как раньше, все как раньше.
Уроки профессора Фучини нас завораживали не только благодаря шуткам. Такой сухой предмет, как химия, был для него поводом для разговоров на любую тему. Одна из таких увлекательных тем касалась способностей и возможностей человека, которыми тот перестал пользоваться из-за технического прогресса.
— Сегодня человек мало и плохо думает, ему вполне достаточно пережевывать то, что уже продумали немногие мыслящие, — говорил он. А затем, обращаясь к свойствам «прежнего человека» — так он выражался, вдруг спрашивал: — Так зачем же в нашем мозгу семьдесят процентов клеток, которые вообще не используются, раз нам хватает трети?
Для нашего неокрепшего сознания это были неведомые просторы.
— Чтобы творить чудеса, — ответил один.
Профессор Фучини радостно захлопал в ладоши, спустился с кафедры и сел рядом с мальчиком.
— Но, — таинственно сказал он, — чудеса — это совсем не то, что мы под этим понимаем. Это те способности, которыми были наделены все и которые можно вернуть.
Профессор перечислял те возможности, которые человек, этот «тупица», считающий себя Богом благодаря тому, чем Бог его наделил, потерял из-за своего самолюбия. Тут он приоткрывал нам тайны людей, которые владеют якобы удивительными дарами, но на самом деле они есть у человека с самого сотворения. Иногда потухшие клетки вновь загораются в чьем-то мозгу, и все считают это чудом. И что же происходит? Происходят чудеса вроде переноса материи, телепатии, левитации; кто-то ходит по горящим углям и не обжигается, вгоняет себе иголки под кожу без всякого следа, случаются и всякие прочие вполне естественные вещи, которые кажутся нам «чудесами».
— А Иисус? А святые? — не удержался кто-то.
Профессор отреагировал сразу же:
— Стоп! Это совсем другое дело! Иисус, воплощенный Сын Божий, совершенный человек, обладающий всеми теми дарами, которыми Бог наделил человека… — Тут он остановился и уточнил, что отправил бы всех попов пахать землю за то, что они сделали из Иисуса «чудо-человека», а как раз им-то Он быть и не хотел. — Достаточно прочитать Нагорную проповедь, чтобы понять, кем был Иисус.
— Но если активны всего тридцать процентов клеток мозга, — не унимались мы, — то что же с остальными?
— Они становятся меньше, соответственно и мозг наш тоже уменьшается в объеме, — ответил он.
— Но ведь наши черепа еще не уменьшились, — возразили мы.
— А почему? — парировал он.
Но мы уже начали анализировать и хором ответили:
— Потому что это произошло недавно, времени не было сделать нам маленькие головки. — И ну смеяться, представив, как придется выбрасывать шапки и фуражки, падающие с голов.
Мой одноклассник Рауль Анкона задал каверзный вопрос:
— А когда у нас будет маленькая головка, каким нам покажется «Давид» Микеланджело? Головастиком?
— Вы что думаете, через сто тысяч лет «Давид» еще будет существовать? Не обратится в прах? — поставил нас на место учитель.
Такие оживленные дискуссии на уроках химии велись у нас часто, и нам становилось все интереснее.
Милый профессор Фучини… Даже память о нем завораживает. Рядом с ним время летело, звонок на перемену вызывал досаду.
Однажды он рассказал, что человек придумал согласные (губные, межзубные и другие), что животным они не нужны и людям тоже нужны не были, пока они сами были животными. Это открытие изменило мир. Гласные как были, так и остались. В одних языках их пять, в других десять, но вообще им несть числа, и они никогда не бывают совершенно определенным законченным звуком. Недаром евреи (еще одно открытие профессора), которые первыми изобрели буквенное письмо, обозначали только согласные — вполне определенные звуки, а для гласных Тора оставляла свободный выбор. Вот слово «красота» можно написать как «крст».
Между прочим, для сегодняшних евреев это проблема не из последних. Особенно для подростков, которые, отмечая бармицву[10], впервые должны прочитать текст из Торы. Как же смеются взрослые, конечно, со всей благожелательностью, над их ошибками, когда они не сразу понимают смысл группы согласных и вместо «красота» читают «корсет».
— Правда? — ошеломленно спрашивали мы.
— Сущая правда! Можете сходить в синагогу, если найдете хоть одну действующую.
Вот какими были горизонты, которые открывал нам безумный профессор Фучини, доводивший свои рассуждения до абсурда, утверждая, например, что уж лучше продолжать мычать и рычать, в особенности политикам, чем так пользоваться языком, как это делают сегодня. Это была эпоха Муссолини, который взывал к толпе на площадях, и Гитлера с его злобными, как рев дикого зверя, речами, обращенными к разросшемуся нацистскому племени. Мы прекрасно понимали, что Фучини имел в виду: люди вернулись в первобытный мир — слово больше не нужно, можно лаять и рычать, и тебе будут слепо следовать.
Как часто я вспоминаю вас, милый профессор Фучини… Шутя, вы ставили все с ног на голову. Но решением плыть против течения, выбирать нестандартный вариант и свободно мыслить я обязан и вам, дорогой профессор.
Было очевидно, что рано или поздно какой-то вид искусства станет делом моей жизни. Густаво посылал отцу мои рисунки, и в итоге они пришли к общему мнению, что меня следует отдать в художественную школу, чтобы в дальнейшем я занялся архитектурой. Мое поступление туда в октябре 1938 года могло бы стать исполнением самых заветных желаний, но к тому моменту политическая ситуация в Италии настолько обострилась, что даже такому мечтательному пятнадцатилетнему юнцу, как я, отрешиться от происходящего в стране было просто невозможно. Записи в моем чудесным образом сохранившемся дневнике свидетельствуют, как бурные события тех лет удивительно вторгались в замкнутый мир моих личных переживаний.
9 февраля 1939 года. Спал плохо. Всю ночь снилась маленькая белая рука, которую мы накануне рисовали на уроке анатомии[11]. Никак не мог выкинуть ее из головы. Вместо того чтобы рисовать другие предметы, я на протяжении двух часов раз за разом рисовал эту ручку. Она была тонкой и изящной, и учитель Фадзари сложил белые пальцы очень естественно, словно они готовы были взять цветок или бабочку. Как заметил мой приятель Строкки, она и вправду напоминала руку работы Рафаэля. Меня пугало и вместе с тем притягивало, что кисть заканчивается у самого запястья — там, где ее отсекли от трупа. Учитель Фадзари, видимо, догадываясь о жутком эффекте, который произведет на учеников отрезанная рука, задрапировал ее голубой тканью.
Но меня все равно преследовало ощущение, что там лежит только кисть, а остальной руки нет, как нет и вообще человеческого тела, той женщины или девушки, кому эта отрезанная рука принадлежала, то есть человека, который еще вчера был жив. Мысли унесли меня куда-то очень далеко, когда учитель Фадзари предложил мне сменить тему, но я упросил его позволить мне опять сделать рисунок этой руки. Я пытался снова и снова нарисовать руку — и не мог. Я то и дело ошибался в пропорциях (хотя именно рисунок руки мне всегда удавался очень хорошо). Было такое ощущение, что я опять стал неумелым первоклашкой. Два часа я только зря изводил один за другим листы бумаги.
Всю ночь я вертелся в постели без сна, а сегодня сделал нечто совершенно абсурдное: пошел к Реголи (это сотрудник академии, который приносит из больницы материал для наших анатомических классов) и спросил, вернули ли ту белую руку обратно в больницу. Он не ответил прямо, но из его намеков стало понятно, что руку унесли, и я решил отправиться в морг на виа Альфани.
В той части, где содержатся трупы бедняков, стояли гробы — пять или шесть. В самом углу я увидел простой гробик с тельцем девочки. Около гроба сидела только маленькая старушка, проводившая с мертвой девочкой последние несколько часов перед погребением. Вероятно, это была бабушка. Увидев, как я во все глаза гляжу на ее внучку, она улыбнулась сквозь слезы и спросила, не был ли я с ней знаком. А я не мог отвести взгляда от маленькой белой ручки, воссоединившейся со второй ручкой — теперь они обе сжимали маленькие перламутровые четки. Ручка, которую я безуспешно пытался нарисовать весь день накануне, вернулась наконец к своей хозяйке. А сегодня я лег в кровать, переполненный мрачными и жуткими мыслями. Меня сильно знобило, возможно, начинается грипп. Мне очень хочется заболеть и не ходить завтра в школу. Если учитель Фортини вызовет меня по математике, будут неприятности, потому что весь сегодняшний день я не притрагивался к учебнику. К счастью, послезавтра праздник — день Примирения[12].
10 февраля 1939 года. Умер Папа! Утром у нас был урок архитектуры. Вместо того чтобы выполнять задание по рисунку, я спрятал под парту учебник математики и в спешке пытался хоть что-нибудь выучить. Вдруг с улицы донеслись громкие крики: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» Мы повскакали с мест, распахнули все окна и выглянули на улицу. Учитель отправил Джунти купить газету. Папа умер. Пий XI умер. Когда принесли газету, мы узнали подробности: Папа скоропостижно скончался прошлой ночью. Все были сильно возбуждены, опечалены, и никто уже не работал; уроки отменили по случаю национального траура. Занятия возобновятся лишь послезавтра. Но это мало что меняет, потому что завтра все равно праздник, и мы говорили друг с другом о странном совпадении, что Папа умер в канун годовщины Примирения, то есть еще день — и он умер бы прямо в праздник. А теперь мне надо все описать по порядку, потому что произошедшее сегодня я бы хотел хорошо запомнить.
Из школы мы вместе с Кармело и Альфредо пошли в монастырь Сан-Марко помолиться за Папу. Он нам нравился тем, что всегда говорил, что думал. В церкви было очень трогательно. Отец Доменико накрывал все черной и фиолетовой тканью и сразу же попросил нас помочь установить на главном алтаре большой портрет Папы, который обычно висит в ризнице. Потом появился отец Спинилло, бледный и словно на десять лет постаревший. Он едва взглянул на нас и быстро поднялся по лестнице в жилые покои. Закончив работу, мы отправились во внутренний двор, не зная, что делать дальше. Потом мы услыхали в коридоре голоса. Я отчетливо различил слова одного монаха: «Говорю тебе, его убили!» Другие стали ему слабо возражать, но он только повысил голос: «Его отравили, я знаю, я чувствую! Слишком многим он стоял поперек дороги!» Вместо того чтобы отравлять других, как когда-то делали Папы, он сам стал жертвой отравления, подумалось мне.
Мы спрятались за угол, чтобы лучше расслышать. Вот что, по-видимому, случилось, во всяком случае, в это верит большинство монахов. Папа не одобрял альянс дуче Муссолини с немцами, потому что не мог простить Гитлеру преследование церкви в Германии (а еще говорили о евреях и о законах против них). Поэтому Папа хотел разорвать отношения между Ватиканом и нашим правительством до тех пор, пока Муссолини каким-то образом не поставит Гитлера на место. Пий XI вознамерился выступить с публичным осуждением примирения Ватикана с итальянским государством и решил сделать это как раз в десятую годовщину Примирения 1929 года. По-видимому, он уже созвал десятки кардиналов и епископов в Рим и подготовил речь, которая должна была наполнить страхом многих.
Монахи были уверены, что накануне ночью фашисты убили его, отравив ядом. Голова у нас шла кругом. Доводы монахов казались настолько убедительными, что я решил пойти к отцу Койро, но он заперся с двумя монахами и велел мне подождать. Я попытался подслушать их беседу, но не смог понять смысла разговора. Потом монахи вышли, и отец Койро позвал меня к себе. Он сказал, что сейчас мы не в силах разобраться в происшедшем, но наступит день, и, с Божьей помощью, мы прозреем. Иными словами, мне следует запомнить этот день — вот и все. 10 февраля 1939 года.
11 февраля 1939 года. История смерти Папы и впрямь весьма странная и загадочная. Сегодня днем в гимнастическом зале я даже слышал, как Рауль Анкона говорил об этом, а он еврей, и вся эта история не должна бы его так волновать, как нас, католиков. Но Рауль и его единоверцы убеждены, что Папу убили по приказу Гитлера. Муссолини к этому никакого отношения не имеет. Правда, Анкона вообще всегда на стороне Муссолини: при нем нельзя даже рассказывать анекдоты про фашистов. Однако хоть он и фашист, но просто багровеет от ярости, когда кто-то упоминает имя Гитлера.
Тетушка повела меня в Сан-Марко на поминальную мессу по Папе. Проповедь отца Койро произвела неизгладимое впечатление на присутствующих. Не помню случая, чтобы его голос звучал так горестно, так тихо и проникновенно. Тетушка плакала, она была уверена, что скоро начнется война, и насколько она поняла, именно об этом отец Койро и хотел нас предупредить в своей проповеди. Затем все прочитали общую молитву за упокой души Папы, но я постоянно отвлекался и все думал о той белой ручке и о личике умершей девочки, которую видел в морге. Мысленно я посвятил свою молитву «Requiem aeternam» памяти не Папы, а той девочки. Завтра мы опять идем в школу, и завтра мой день рождения. Тетя испекла торт-сюрприз.
Мы все верили, что Папу убили, хотя о причинах его смерти так ничего и неизвестно. Когда я перечитываю эти страницы дневника, ко мне возвращается ощущение, что вот-вот должно произойти что-то ужасное, и страх, которым, казалось, было пронизано буквально все, от личных забот до крупных общественных событий.
1939 год стал, бесспорно, годом кризиса. Фашистская Италия перешла в наступление, и стремительно растущая антианглийская пропаганда достигла кульминации. Студентов и школьников собирали группами и устраивали на улицах Флоренции демонстрации против «плутоиудейских демократий» Запада. Все эти марши обычно заканчивались на виа Торнабуони, где было расположено британское консульство и проживала британская колония.
Старые английские дамы не желали считаться с реальностью и, выходя из своей чайной «Даниз», как ни в чем не бывало, радостно глядели на наши флаги и эмблемы и махали нам кружевными платочками, точно не замечая оскорбительных пропагандистских плакатов. Но им пришлось столкнуться с жестокой действительностью, когда однажды на них набросилась озверевшая колонна демонстрантов. Некоторые из них почувствовали опасность и сделали попытку уйти, но безуспешно. Кончилось тем, что кружева на их платьях были порваны, а зонтики поломаны. Какой-то школьник сорвал с одной из несчастных леди соломенную шляпку с бантом, нахлобучил себе на голову и для всеобщего развлечения стал выкрикивать непристойности с характерным английским акцентом. Обезумевшие глаза демонстрантов напомнили мне глаза жены моего отца Коринны, когда она в исступлении кричала мне в лицо оскорбления. За кордоном полицейских, которые еле сдерживали толпу, я узнал некоторых знакомых англичанок, среди которых была бледная, но не потерявшая самообладания Мэри О’Нил. Мне не удалось к ней прорваться, полицейские стояли плотной стеной. С того дня я ее больше не видел. Флоренция потеряла своих верных друзей: «скорпионы» стали «врагами».
Эти эксцентричные старые девы, так верившие Муссолини, дорого заплатили за свою наивность, как и мы сами в последующие годы.
10 июня 1940 года я поехал на велосипеде за город вместе с Кармело Бордоне, моим лучшим школьным другом. Ближе к вечеру на обратном пути мы остановились во Фьезоле и там услышали по радио голос Муссолини, который объявил, что Италия вступила в войну на стороне Гитлера.
III. Про жизнь, смерть и чудеса
Наверно, утверждение, что великие события не так для нас важны, как наши личные дела, звучит обывательски. Но думаю, мы все готовы признать, что обратное справедливо только для политиков и военных. С началом войны нарастало ощущение тревожного ожидания. На первый взгляд, дела Муссолини и его союзника Гитлера шли очень хорошо. Франция оккупирована, Англия вот-вот сдастся под бомбежками и нарастающей агрессией «Оси Берлин — Рим»[13]. Но мы, молодежь того поколения, отлично понимали, что прежде чем наступит спокойное время, нас захватит водоворот ужаса и кровопролития, который неминуемо разрушит тот мир, который едва-едва стал нам приоткрываться. На третьем году обучения в художественной школе мы с моим другом Кармело приняли решение посмотреть как можно больше неизвестных нам уголков юга Италии. Долгими зимними вечерами мы составляли план большого велосипедного путешествия, чтобы познакомиться с теми городами и произведениями искусства юга, которые мы изучали. Мы выпросили у родных разрешение на поездку, если успешно, с первой попытки, сдадим экзамены сразу за третий и четвертый год обучения. Они, вероятно, надеялись, что перепрыгнуть год нелегко, и нам это не удастся, но мы сдали двойной экзамен на высшую отметку и получили аттестат — это был настоящий рекорд!
Однако за это время политическая обстановка существенно изменилась: Германии не удалось стремительно завоевать Россию, в Италии начались бомбежки, и вера в скорую победу «Оси» таяла с каждым днем. Но нам с Кармело ни за что не хотелось отказываться от нашего плана. Ему стоило большого труда уговорить родителей, осторожных и мудрых сицилийцев. Его отец был полковником медицинской службы в войсках карабинеров и предупреждал нас об опасности. К тому времени план союзников был очевидным: завоевать Северную Африку и захватить Европу с юга. «Все может случиться», — говорили нам. «Ну да, да, только когда еще это будет?» — отвечали мы.
Кармело и я стояли на своем, и это не было детским упрямством: чем чернее и страшнее нам рисовали будущее, тем сильнее в нас зрело убеждение, что если мы не поедем сейчас, то не поедем никогда и всю жизнь будем об этом жалеть. Велосипеды были готовы, поездка разработана до мельчайших подробностей: расстояния на каждый день пути, маршруты, ночевки, привалы.
Повсюду были родственники, друзья, однокашники. По всей Италии стояли доминиканские монастыри, где мы всегда могли найти ночлег и кусок хлеба. В конце концов, отец Кармело был побежден нашим энтузиазмом, видно, затронувшим в нем какую-то потайную струну, а может, напомнившим о юношеских мечтах, и он дал благословение на поездку.
Мы оказались единственными путешественниками на пустынных дорогах. Денег у нас было мало, по тысяче двести лир на брата на всю поездку. Италию еще не настиг экономический крах, хотя он уже приближался, и можно было прожить на несколько лир в день.
После длительного пребывания в Риме мы двинулись на юг и прибыли в Неаполь утром 19 июля 1941 года. Там у меня разболелся живот: накануне в Гаэте я съел что-то явно не то и не мог ни ехать, ни даже стоять на ногах. Мы остановились в гостинице недалеко от вокзала, оставили документы и послали, как обычно, открытку во Флоренцию: «Благополучно добрались до Неаполя». Кармело хотел сразу отправиться осматривать город, и хотя мне было очень паршиво, мы все-таки поехали. Однако вместо того чтобы двинуться в сторону центра, мы по ошибке повернули в южном направлении, к Везувию. Думали, что едем в центр, а оказались в районе малопривлекательных окраин. Дорога становилась все более разбитой и ухабистой, а боль в животе вовсе невыносимой. Кармело довел меня до аптеки. Аптекарь определил у меня пищевое отравление, дал таблетки и посоветовал побыстрее лечь в постель. Он-то и сказал, что мы едем в противоположном направлении. У нас были с собой рекомендательные письма в несколько доминиканских монастырей, расположенных на нашем пути, и мы знали, что один из них находится как раз неподалеку от Везувия — монастырь Пресвятой Девы Марии у Арки.
«Да вот он!» — указал нам аптекарь на белый монастырь на вершине зеленого холма прямо над нашими головами.
Монахи дали мне лошадиную дозу аспирина и уложили в постель в келье, хорошенько укрыв одеялами. Я тут же заснул, а когда очнулся среди ночи, в распахнутое окно увидел небо, сначала оранжевое, а потом багровое. Подумал, что брежу, но тут услышал испуганные голоса и увидел белые силуэты пробегающих по галерее монахов. С этой галереи открывался вид на город и залив. Завернувшись в одеяло, я выполз туда, обливаясь потом, и понял, что Неаполь подвергся воздушному налету. Небо над Неаполитанским заливом озарялось вспышками. Мне был виден весь залив, темное, как чернила, море, берег и город, освещенный потусторонним оранжевым светом.
Монахи опустились на колени и стали молиться чудотворному образу Божией Матери, а с ними и жители деревни. Они зажгли все свечи, какие могли, как будто наступил конец света.
Я стоял и трясся в лихорадке.
Вдруг наступила тишина, все звуки стихли, слышалось только бормотание молившихся. А затем донесся медленно нарастающий свист. Над водой пронеслись стаи бомбардировщиков, и тут же загремели оглушительные разрывы бомб, небо исчертили вспышки зенитной артиллерии. Везде полыхало, это был настоящий ад. Я потерял сознание, кто-то поднял меня и перенес в постель.
Проснувшись на следующее утро, я почувствовал себя намного лучше. В этом возрасте здоровье быстро восстанавливается. Я снова вышел на галерею — ничего не было видно. Весь Неаполитанский залив был окутан сплошным облаком дыма и пыли, над которым выступал только пик Везувия. Мы с Кармело решили пойти в город — посмотреть, что там произошло. Везде кареты «Скорой помощи», обезображенные трупы, обезумевшие люди, ищущие родных. Мы видели искалеченных детей, взрослых, которые разгребали завалы окровавленными пальцами. Помню старика, который в отчаянии тянул руку, торчащую из-под развалин, под которыми кричал ребенок.
Мы были слишком потрясены, чтобы принять участие в спасательных работах, и в панике поехали к гостинице, где оставили документы. Все улицы были завалены дымящимися развалинами. Бросив велосипеды, мы решили пробираться пешком. Добрались до вокзала, стали искать гостиницу — напрасно! Ее больше не было, на этом месте лишь одни руины. Около ста человек, укрывшихся в гостиничном подвале, погибли. И нас постигла бы та же участь, если бы по ошибке мы не сбились с пути и не заехали в монастырь, а так под развалинами остались лишь наши документы. Похоже, еще одно чудо Пресвятой Девы Марии у Арки.
От ужаса мы не могли ни говорить, ни даже думать. Забрав велосипеды, двинулись на юг, как можно дальше от кошмара Неаполя. Нам никогда не забыть этих часов, но мы так хотели жить, мечтать, надеяться и видеть, как мечты и надежды сбываются!
Стоял солнечный июльский день, море сверкало, равнодушное к человеческому горю. С хребта Сорренто мы в последний раз обернулись посмотреть на прекрасный Неаполитанский залив, где только что разыгралась чудовищная трагедия. Почти на одном дыхании мы промчались до самого Амальфитанского побережья. Вот за поворотом прямо под нами открылся Позитано. Заколдованный уголок, не тронутый пагубой цивилизации, он прислонился к горе, нависающей над синим морем, таким синим, какого мы никогда не видели. Мы шли по улочкам этого рыбацкого селения, где время остановилось много веков назад и столетиями ничего не менялось. Говорят, с поры Одиссея, который устоял против пения сирен. Здесь не было туристов, никто не приезжал, мы были единственными чужаками.
Мы остались в Позитано на неделю, а может, и больше, забыв обо всем на свете. Даже не помню, сколько там пробыли, полностью утратив чувство времени, будто неведомые чары перенесли нас в земной рай. Жили у рыбака, который сдал нам свою единственную комнату. Ели только что выловленную рыбу, фрукты и овощи с огородов, отвоеванных у горы, плавали в синем море от зари до зари и загорали голышом на скалах, наслаждаясь последними беззаботными деньками.
Мы позабыли всех и вся, даже собственные семьи, которые пребывали в ужасной тревоге, о чем мы и не подозревали. На последних дошедших до них открытках стояло 19 июля, день бомбежки Неаполя, и пришли они во Флоренцию с последним поездом, прежде чем всякое сообщение между югом и севером прервалось. То есть дома знали, что в день бомбежки мы были в Неаполе, но не знали, живы мы или нет, потому что открытки, отправленные позднее, не доходили. А мы посылали их из каждого пункта, и из Сорренто, и из Позитано. В Неаполе под бомбами погибло более трех тысяч человек, вся Италия носила траур. Можно себе представить, как терзались наши родные, не имея от нас никаких известий.
После Позитано наш путь лежал к Амальфи, который ничуть не изменился со времен своей громкой славы — и собор, и Райский дворик, и очаровательная Мельничная долина… Затем Салерно, Эболи, а оттуда вглубь материка, в ту малоизвестную часть Италии, где так много великолепных монастырей, среди которых восхитительный картезианский монастырь Ванвителли с тридцатью четырьмя внутренними дворами. Оттуда мы добрались до местечка Сант-Арсенио, где жила семья нашего дорогого отца Спинилло. Как всегда, он проводил там отпуск и, встретив нас, просто не поверил своим глазам, точно увидел привидения. Однако быстро пришел в себя и отвел нас позвонить родным, которые стали требовать, чтобы мы немедленно возвращались. Нам с трудом удалось убедить их, что фактически мы уже на пути к дому. Разумеется, это была ложь, потому что предстояло знакомство с Апулией и ее прекрасными соборами и еще много интересного.
Мы упрямо продвигались по намеченному маршруту. Для нас это была возможность проявить твердость характера и выиграть битву с внутренними страхами и с судьбой, которая поставила на нашем пути такое апокалиптическое препятствие, как война. Мы испытывали, можно сказать, мистическую гордость при мысли, что можем выдержать все удары.
Все вокруг радовало глаз. Великолепные апулийские соборы, необычные круглые известковые домишки в Альберобелло, величественный Кастель-дель-Монте, замок, построенный императором Фридрихом Вторым… Нам очень хотелось проехать через Сан-Джованни-Ротондо и получить благословение падре Пио[14]. Слишком велик был соблазн, вернувшись во Флоренцию, сказать: «Мы его видели, мы его касались».
Стояла знойная ночь, и мы решили переночевать возле сыроварни недалеко от поселка, прямо под открытым небом. Мы очень волновались накануне великого дня, встали до рассвета, умылись в источнике, привели себя в порядок и заняли очередь перед церковью. И правильно сделали, потому что начала собираться огромная толпа. Мы оказались рядом с двумя девушками нашего возраста из Милана, совершившими очень трудное путешествие.
К тому же они удрали из дому, оставшись в Милане под предлогом подготовки к экзаменам, пока родители были в деревне. Они просили разрешения отправиться к падре Пио, но получили резкий отказ: «Еще чего! Смотрите, что творится в Италии, а вы, две девчонки, одни. И речи быть не может». Но девочки, вопреки всякому здравому смыслу, совсем как мы, двинулись в путь с твердой решимостью добиться своего. И им это удалось.
Церковь открылась, мы заняли заслуженные томительным ожиданием места. Это была даже не месса, а скорее длинная раздача Святых Даров, которую совершал сам падре Пио. Наконец мы увидели его. Он шел неуверенно, поддерживаемый двумя монахами. Скажу без смущения: глядя на него, мне стало страшно. Он выглядел как некоторые ужасные персонажи Гойи: скрюченное тело, горящие глаза, руки болтаются так, будто кости в них переломаны. А трясущиеся губы шепчут приказания сопровождающим.
Началось причащение. Все в церкви опустились на колени. Из нас четверых Кармел о стоял первым, потом девушки и последним я. Порывистым движением падре Пио высоко поднимал облатку и произносил положенные слова, которые звучали как рычание. Он причастил Кармело, в большом возбуждении повторив жест и слова и, уже готовый причастить первую девушку, неожиданно застыл с облаткой в руке. В церкви воцарилось испуганное молчание. Наконец падре Пио громко, чтобы все слышали, произнес: «Прежде всего послушание родителям». Обратившись ко второй девушке: «Это и тебя касается!», он прошел мимо них. Облатка, которую он держал в руке, досталась мне, а я от изумления не мог ее проглотить. Мы вышли вместе с потрясенными и плачущими девушками. Еще бы, приехать так издалека за благословением падре Пио, который вместо этого, можно сказать, выгнал их из церкви.
Мы не знали, что делать. Обратились к монаху, который присутствовал при этой сцене и, видно, позабавился. Он посоветовал девушкам позвонить родителям в Милан и успокоить их, а главное, получить то самое разрешение. Ведь они же не хотели поступить плохо. «Ах, если бы мальчишки убегали из дому за благословением», — с улыбкой сказал он.
Девочки послушались его совета. На следующее утро мы снова все вместе пришли в церковь причаститься и стояли затаив дыхание, но падре Пио на этот раз обошелся с ними, как с остальными.
Не скрою, что и сам эпизод, и в особенности атмосфера вокруг падре Пио произвели на меня глубокое впечатление. Я видел его в первый и последний раз, но он оставил в моей душе неизгладимый след.
Мы вернулись во Флоренцию в первых числах сентября, состоянием духа и характером мало напоминавшие тех, кто уезжал из дома двумя месяцами раньше.
В октябре начались занятия в университете на архитектурном факультете, но к этому времени жизнь в Италии сильно изменилась. Большинство преподавателей были призваны в армию, новости становились все хуже, несмотря на беззастенчивую самоуверенность официальных заявлений. Меня удручали тяжелые мысли: Рауль Анкона и многие школьные друзья исчезли. Что с ними? Где Леви? Все пропавшие были евреями. Слухов ходило много, говорили даже, что Гитлер собирается всех уничтожить. Невероятные, неясные слухи, но даже старшие не могли дать вразумительного ответа и сразу переводили разговор на другую тему.
Я переживал глубокий внутренний кризис, душевный и нравственный, потому что стал понемногу осознавать то, что происходит в мире. Мы тайно слушали трансляции из Лондона и радиостанцию «Свободная Европа» у приятеля на чердаке, и хотя фашисты всячески старались глушить радиопередачи, мы не пропустили ни одной. Нам удалось услышать знаменитые речи Черчилля по Би-би-си — я переводил их приятелям. Чувствовалось, что Италия на грани катастрофы. Мы стали всерьез задумываться о ближайшем будущем. Мне было почти девятнадцать, и я уже мог стать «поколением пушечного мяса», как мы себя называли. Большинство из нас не желали участвовать в почти проигранной войне и сражаться за идеалы, в которые никто не верил.
Как студент университета, я избежал призыва в армию, но не за горами было время, когда все отсрочки должны были отменить. Постепенно нам удалось кое-что узнать о наших друзьях евреях: Рауль Анкона сумел скрыться в Швейцарии, зато сына флорентийского аристократа, прятавшегося в потайной комнате фамильного палаццо, фашисты обнаружили и расстреляли, несмотря на вмешательство кардинала Элия Далла Коста. Что же оставалось нам — уходить в горы? Бежать в Швейцарию? Одеть рясу? Но и послушников теперь отправляли на фронт.
Мы долго жили в такой неопределенности, но, наконец, 18 июля 1943 года союзные войска высадились на Сицилии. Через неделю, 25 июля, Муссолини был свергнут, однако иллюзия свободы и демократии продержалась всего сорок дней. Нам надо было встречать союзников с распростертыми объятиями, но наши генералы и король медлили в идиотской надежде удержать хотя бы кусочек власти. А к этому моменту немцы успели подтянуть дивизии и вторглись в Италию.
Не забуду немецкие танки на родной площади Сан-Марко в день оккупации Флоренции 11 сентября. С этой минуты они стали врагами, а друзьями — союзники, по давнему уже зову сердца. Всем юношам было приказано вступить в республиканские войска под угрозой военного трибунала и расстрела.
Мои лучшие друзья Альфредо и Кармело, 1922 года рождения, то есть на год старше меня, уже получили повестки. Мы много говорили с ребятами, которым, как и мне, грозила опасность, и решили спросить совета у профессора Ла Пира. Он принял нас с не свойственным ему унынием. Мы рассказали ему о своих заботах и сомнениях. Профессор ответил не сразу. Он открыл в своей келье окно и, указав на горы к северу от Флоренции, сказал, что может посоветовать лишь одно — уйти в партизаны. «Только учтите, — добавил он с горькой усмешкой, — между фашистами, нацистами и коммунистами никакой разницы нет. Они будут пытаться задурить вам голову. Но если вы будете внимательны и осторожны, то поймете, как против них устоять!» Простые и очень жесткие слова, которые я никогда не забывал и не забуду.
Партизанское движение тогда было еще плохо организовано, и мы о нем мало что знали. Но меня увлекла перспектива вольной жизни в горах, да и присоединение к партизанам было единственной возможностью сражаться с немцами и фашистами.
И мы решились. А сделать это оказалось до смешного просто. Нашу немногочисленную группу привезли на автобусе в небольшую деревеньку близ горы Морелло к северу от Флоренции, где уже ждали двое ребят нашего возраста. Нас было всего пятеро, все студенты. Один не выдержал. Он все время плакал, ныл и портил нам настроение. Партизаны, говорившие односложно, стали проявлять нетерпение. В итоге дальше пошли без него, он вернулся к мамочке.
Мы поднялись по каменистой тропинке и оказались на лужайке, где были и другие партизаны — в основном рабочие и крестьяне разного возраста. Прием новичкам был оказан не очень-то теплый, но первый экзамен мы выдержали. Нам выдали оружие и показали палатку, дали одеяла и какую-то утварь. Они обращались с нами довольно-таки грубо, что поначалу нас удивило и разочаровало. Полагаю, я тогда совсем не догадывался, что мы попали в самое пекло войны, где ставкой была человеческая жизнь. Это были не игрушки для маменькиных сынков из хороших семей. Потихоньку до нас дошло, что многие из этих людей оказались в отряде совсем по другим причинам. Большинство партизан, которых мы встречали поначалу, были ребятами нашего возраста, детьми крестьян и рабочих, но командирами были члены запрещенной тогда коммунистической партии, которые откровенно презирали тех, кто присоединился к их борьбе в последнюю минуту, избалованных отпрысков фашистского капитализма, «грязных буржуа».
Правда, и среди них встречались исключения, например, человек, которого партизаны называли Сила, невысокого роста, со светлыми волосами и серыми глазами. Он тоже был командиром, но, в отличие от других, разговаривал всегда вежливо. Силе было чуть больше тридцати, но он уже успел стать легендой. Его настоящее имя — Алиджи Бардуччи, он родился в рабочей семье во Флоренции, успешно учился на бухгалтера, но в 1939 году его призвали в армию «черных рубашек», и он отличился на югославском фронте. А затем из ревностного фашиста Сила превратился в последовательного коммуниста. Как «обращенный», он имел более широкие политические взгляды, не такие категорические и сектантские, как остальные. На самом деле под всей идеологией скрывалась любовь к родине и приверженность великим идеалам справедливости и свободы, не чуждым и многим фашистам.
Партизаны стали расспрашивать нас, кто мы и каковы наши политические взгляды. Я рассказал про монахов, про отца Койро и профессора Ла Пира, но это только усилило их недоверие. Мы решили уйти в партизаны, веря в те же идеалы, что и Сила, но с первой минуты поняли, что попали к убежденным сталинистам.
Вскоре после нашего появления в отряде мы встретили пленных англичан и американцев, которые бежали из немецких лагерей и присоединились к партизанам. Поскольку я владел английским, их поселили в нашу палатку, но при этом велели не очень-то с ними откровенничать. Наши командиры-коммунисты, за исключением Силы, не доверяли союзникам, и я очень хорошо запомнил, как один из них говорил: «Вот покончим с Гитлером, а потом разберемся и с ними. Грязные капиталисты, весь мир думают купить за свои доллары». У меня мурашки по спине побежали, профессор Ла Пира об этом и говорил. И впрямь, что ли, фашисты и коммунисты — одно и то же? Стало быть, и среди фашистов есть приличные люди вроде коммуниста Силы. При каждом удобном случае мы выказывали сбежавшим военнопленным свою благодарность и солидарность.
Условия жизни в горах не были легкими, особенно в ноябре. Но в городе они были ненамного лучше. Наш отряд стоял на покрытой темным сосновым бором горе Морелло над Флоренцией. Разумеется, немцы знали о партизанах, но им хватало проблем с союзниками, которые заняли Неаполь и двигались вверх по полуострову. Однажды мы все-таки совершили роковую ошибку. Моя группа жила в лесу в одной из первых палаток. С нами были два американских летчика, бежавшие из лагеря военнопленных в Рифреди. Стоял погожий ноябрьский день. Мы чистили оружие и разжигали костер, чтобы приготовить поесть. Вдруг снизу, с каменистой тропки, до нас донеслись веселые голоса, и мы заметили двух молодых немецких солдат, которые вышли прогуляться. Должно быть, они решили провести день в горах, не подозревая об опасности. Мы немедленно затушили огонь и спрятались с оружием в руках.
До сих пор помню улыбающиеся лица этих немецких пареньков, которые приближались к нам и пели. Увидев нас, они не остановились, возможно, решили, что мы тоже просто гуляем по лесу, один из них поднял руку в знак приветствия. Я хорошо его разглядел: голубые глаза и светлые, коротко подстриженные волосы. Очень быстро они поняли свою ошибку, но уже прозвучал сигнал тревоги, и партизаны бросились к ним со всех сторон. Немцы пустились бежать вниз по склону горы, но было слишком поздно. Они упали, изрешеченные выстрелами. Издалека я увидел искаженное болью лицо светловолосого, его затухающие глаза. Он был как мы. Партизаны сразу же похоронили их среди камней. Мы смотрели, замерев от ужаса. Старый партизан грубо сказал: «А вы что хотели? Чтобы они вернулись с эсэсовцами?» Убитым вывернули карманы — документы, мелочь, несколько фотографий родных, друзей и их самих, улыбающихся, не подозревающих о подстерегавшей их трагедии. Партизаны сожгли все — следы оставлять было нельзя.
На другой день из соседней деревни пришел священник узнать, не известно ли нам что-нибудь о двух пропавших солдатах. Он был очень встревожен.
— Ко мне приходили немцы, — сказал он. — Надеюсь, они живы, иначе всем придется худо.
Один из командиров с каменным лицом ответил, что мы никого не видели и ничегошеньки не знаем.
— Верно, ребята?
Все уверенно закивали. Священник смотрел на нас умоляющими глазами и все не мог решить, как поступить.
— Понимаете, я не могу вернуться к немцам и сказать, что не нашел их ребят. Я обещал сделать все, чтобы вернуть их. Они хотели прийти сюда и поджечь лес, но я сказал, что тут кругом полно крестьянских домов и я попробую что-нибудь сделать. А теперь мои надежды рухнули.
Он двинулся было назад, но вдруг остановился и резко спросил:
— Где вы их похоронили? — Мы оцепенели. — Не бойтесь, дайте мне хоть панихиду отслужить. — Он вынул из кармана все необходимое для панихиды и остановился, держа в руке маленькое кропило. — По воскресеньям они всегда приходили в церковь. Они были добрыми христианами, мы не можем обойтись с ними, как со скотиной, только потому, что они уже умерли.
Мы не в силах были пошевельнуться, даже у самых крепких комок стоял в горле. Наконец один из людей Силы, ни слова не говоря, пошел к кустам, где была могила, и пока священник служил панихиду, он кратко приказал быстро свернуть лагерь. Плакали все. Мы молились вместе со священником. Потом он благословил нас и ушел по тропинке вниз.
Теперь наш путь лежал к горной цепи на северо-востоке от Флоренции, рядом с горой Фальтерона, откуда берет начало река Арно. По пути нам предстояло пересечь магистраль, соединяющую Флоренцию с Болоньей и идущую дальше в сторону Германии. Это была главная дорога, по которой шли немецкие войска и все снабжение, дорога на Бреннеро. С нами были два американца, один англичанин и семь поляков, и наш отряд окрестили «иностранный легион».
Поляки бежали из концлагеря на равнине. Им удалось украсть у немцев двух лошадей, и это придавало им вид рыцарей из сказки. Когда они пришли, мы решили, что они тепло одеты, в свитера с высоким воротом и рабочие куртки, но они тряслись от холода. Они говорили только по-польски, и нам приходилось общаться с одним из них, Збышеком, знавшим немного французский. По его просьбе поляки расстегнули куртки, и мы увидели, что вместо свитеров у них лишь куски шерсти на шее и запястье, а все тело голое. Поляки ненавидели немцев больше, чем все остальные. Когда они бросались на врагов, в них закипала вековая ненависть.
В горах они оказались очень полезными, но их пристрастие к доброму вину, которое у нас можно найти везде, было чрезмерным. Это было их проклятием — они вечно были пьяны. Как-то раз двое из них спустились в деревню выпить и, когда пьяные возвращались назад и орали песни, их убили. Еще одному удалось затащить в постель крестьянскую девушку, но ее братья прознали об этом и расправились с ним на месте. За поляками невозможно было уследить, но при этом их отличали необыкновенная отвага и бесстрашие. Той зимой все они погибли, один за другим. В живых остался только Збышек. У меня сохранились кое-какие документы ребят, которые я после войны отослал генералу Андерсу, главе польского правительства в изгнании, с отчетом об их подвигах. Дружба со Збышеком продолжалась до его отъезда. Много лет спустя в Риме я услышал от одного поляка, что он был на подозрении как немецкий шпион. Трудно в это поверить, но из всех выжил только он один. Это бросило тень на наших «любимых безумцев», которых я часто вспоминал, и на сами воспоминания о них. Вообще-то есть даже старая пословица: «Поляк, если хороший, то хороший, а если плохой, то плохой».
Однажды наш «иностранный легион», весь день просидев в укрытии, собрался на закате перейти шоссе Флоренция — Болонья. Наша очередь была последней, и когда она подошла, мы увидели, что по направлению к Флоренции движется «мерседес» с откидным верхом. Были отлично видны пассажиры — четыре немецких офицера. Мы сидели в укрытии в полном молчании и ждали, что они проедут, но поляки не устояли перед искушением: один из них с диким криком выскочил из кустов, выхватил гранату и швырнул в ненавистных немцев, а потом еще и еще. Все четыре офицера были разорваны на куски. Остальные поляки бросились к машине, выкрикивая на родном языке ругательства, что-то вроде «курва, курва его мать», возбужденные и жаждущие крови. Но мы не знали, что в нескольких сотнях метров за «мерседесом» движется целый батальон противника. Первыми показались два мотоциклиста, а за ними длинная колонна бронетранспортеров. На наше счастье, быстро смеркалось, и прежде чем немцы развернули силы для контратаки, стало настолько темно, что мы смогли удрать. Мыто удрали, а другим, увы, пришлось платить. Немцы расстреляли сто восемьдесят невинных людей, в основном крестьян и беженцев из окрестностей. Погиб и священник, который приходил искать двух пропавших солдатиков.
С тех самых пор указание было одно — выжить, проявляя благоразумие. Партизанское движение набирало силу. Зимой 1943 года к нам присоединились сотни дезертиров и патриотов разного толка, и мы образовали мощную и опасную романьоло-тосканскую бригаду, которая сильно усложнила жизнь немцам вблизи шоссе на Бреннеро. Вспоминаю Рождество 1943 года. Наш отряд насчитывал уже несколько сотен человек. Мы тряслись от холода и голода, но были живы и уповали на лучшее. Немало вновь пришедших с гордостью носили на фуражке красную звезду. Когда мы решили на Рождество устроить вертеп в хлеву у одного старика крестьянина, кто-то из коммунистов изо всех сил попытался этому помешать. Но старик, совсем простой человек, быстро нашелся: «Я ставил вертеп еще ребенком, и вряд ли тогда это было мне так нужно. А сейчас пора Богу молиться, помочь сможет только Он».
Сталинисты ушли, пожимая плечами, а мы в умилении молились вокруг яслей, окруженные несколькими овечками бедного стада, совсем как Франциск Ассизский.
В первые недели нового года произошло ужасное событие, самое трагическое из всех. Однажды ночью прозвучала тревога: нас со всех сторон окружали немцы и итальянские фашисты, поступил приказ как можно быстрее отступить. «Старики» отлично знали, что надо делать и как исчезнуть в лесу, но многие недавно к нам пришедшие молодые ребята в суете отстали. Напрасно мы кричали, чтоб они бросали оружие и все остальное и бежали за нами: они запаниковали и были схвачены.
На следующее утро мы осторожно, скрываясь за кустами, поднялись на холм над деревней. В жизни не видел ничего более жуткого. На деревьях вдоль главной деревенской улицы, прямо под нами, висели трупы ребят, повешенных на проволоке или на мясных крючьях. До нас долетали вопли и плач родных. Я насчитал девятнадцать тел. Никакими словами не выразить, как потрясло меня это страшное зрелище. Позднее, много позднее, я часто искал в памяти картины, которые мог бы использовать в работе. Когда я снимал сцену распятия для своего «Иисуса», сердце мое вновь переживало ужас того утра: простершаяся на земле мать оплакивает сына, тоже висящего на древе, а немецкие солдаты маршируют как ни в чем не бывало, что твои центурионы.
Целых две немецкие дивизии стали зажимать в кольцо этот район Апеннин между Флоренцией и Болоньей, чтобы разделаться с партизанскими отрядами, среди которых был и наш. Отряды эти стали серьезной помехой передвижению войск по дороге на Бреннеро, а ее важность возрастала по мере медленного, но неуклонного наступления союзных войск. Эсэсовцы были везде, идеально организованные и безжалостные. Они жгли и уничтожали все на своем пути. Целые деревни исчезали с лица земли. Фашисты сжигали дома тех семей, которые оказывали нам помощь. Они стремились загнать партизан в такое место, где можно будет их уничтожить. Всем было известно, что немцы пленных не берут. Сила отдал приказ разбиться на маленькие группы, чтобы легче было выходить из сжимавшегося кольца. Наш отрядик спустился в долину и засел в овраге, ровно под тем самым местом, где немцы поставили свой грузовик. Мы затаились в ожидании. Нас увидел молодой крестьянский парень, испугался и удрал. Мы боялись, что он нас выдаст, но той же ночью он вернулся вместе с дедом. Они сели рядом с нами, и старик печально и важно рассказал, что один из его сыновей погиб на войне, другой пропал без вести Бог знает где на юге. Они принесли нам хлеба, который мы с жадностью съели. А на следующую ночь старик принес барашка. «Это вам, — сказал он. — Надеюсь, кто-нибудь сделал то же самое и для моего сына».
У барашка был такой кроткий вид, он был белоснежный, без единого пятнышка… Однако нам ужасно хотелось есть, мы понимали, что если хотим выжить, должны его зарезать. Мы бросили жребий, к счастью, убивать бедняжку досталось не мне. Но с тех пор я ни разу в жизни не ел баранины.
Мы просидели в овраге еще два дня. Немцы продолжали подниматься в горы, уничтожая все на своем пути.
Ночью мы перебрались через дорогу, перебегая от оврага к оврагу, поднялись по склону холма и оказались в лесу. Внезапно меня охватило странное чувство. Мне показалось, что я могу ориентироваться, «видеть» в абсолютной темноте, как будто обрел дополнительное зрение, и вспомнил, что говорил профессор Фучини. Я уже рассказывал о нем и о том, что он распахнул перед нами новые горизонты. Поэтому, само собой, что в ту ночь 1944 года, когда я без труда ориентировался в темноте, мне припомнилось, чему он учил нас и что неожиданно получило такое необыкновенное подтверждение. В кромешной тьме я различал дерево перед тем как на него налететь, останавливался на краю пропасти или перед валуном на пути.
При этом под тьмой я подразумеваю полную темноту. Февральская ночь в лесу в тосканских горах… В небе ни звездочки, нигде ни огонька, ни костерка, если пробивался из какого-нибудь домика свет, его сразу надо было гасить — затемнение военных лет. Сплошная темень, все окутавшая непроглядная ночь. И при этом мне удавалось вести отряд. Постепенно и шаги товарищей становились увереннее, наверное, и в их мозгах пробудились те «спящие клетки», которые давно заменило электричество и другое освещение.
А еще во мне проснулась какая-то родовая память, будто я шел по знакомым местам. На рассвете мы вышли к крестьянским домам. Да, они были мне знакомы, знаком запах печного дыма: мы оказались в Борселли — деревне, где в детстве я проводил идиллические летние месяцы. Неужели это не сон? Мы нашли приют в пещере, полной соломы и утвари, коза стояла на привязи. Потом мы услыхали шаги и скрип отворяемой двери. Это был мой «братец» Гвидо, сын Эрсилии. Мой одногодок, он, подобно мне, уклонился от призыва в армию и был в бегах. В первое мгновение Гвидо меня не узнал и собрался было бежать, но постепенно невероятная правда дошла до него, и мы радостно обнялись.
Весной 1944 года Сила попытался навести порядок среди разрозненных гарибальдийских бригад и начал внедрять партизан к фашистам, которые тогда призывали поголовно всех молодых людей, оставшихся во Флоренции. Мне было приказано вернуться к родным, которые жили в эвакуации в Кьянти, и ждать приказа от Комитета национального освобождения.
Майским вечером я тронулся в путь, мне нужно было переправиться через Арно около Реджелло. За мной увязался бездомный песик. Когда я приблизился к мосту Фильине, мне стал о понятно, что его не перейти, — кругом немцы. Назад пути тоже не было. Я подхватил песика на руки и, собрав все свое мужество, зашагал к мосту. Вытащил окурок и попросил прикурить у немецкого солдата, крепкого светловолосого парня. Он внимательно рассмотрел сначала меня, потом собаку, протянул мне спичку и погладил песика. Я понял, что он меня оценивает. Должно быть, он решил, что одетый в лохмотья парнишка с собакой на руках не представляет опасности. Он протянул мне две сигареты и, пока я шел по мосту, крикнул другим солдатам, чтобы они пропустили меня. Часовой на другой стороне тоже погладил песика. Мне было трудно поверить, что передо мной враги: двое парней моего возраста, только и мечтавших, чтобы попасть домой.
— Как зовут твоего пса? — спросил солдат на плохом итальянском. Я на секунду запнулся и с невинной улыбкой ответил:
— Муссолини.
Немец расхохотался и закричал приятелям на другом берегу:
— Муссолини! Ха-ха-ха!
Перейдя мост, я двинулся проселками, которые хорошо были мне знакомы. Наконец запах родного дома! Вечером я уже был в Луколене, куда перебрались мой отец и сестра Фанни с сыном. Какая это была радостная встреча! Мы не могли наговориться, рассказывая о том, что произошло за месяцы разлуки.
Спустя неделю мне пришлось вернуться во Флоренцию. Приятель из Комитета национального освобождения, во главе которого стоял граф Медичи Торнаквинчи, передал мне приказ связаться с партизанами в городе и проникнуть в новое подразделение Compagnia della Morte — «полка смерти». Правительство «Республики Сало»[15] обратилось ко всем юношам с призывом вступать в армию, чтобы остановить союзные войска. Говорили, что немцы вот-вот пустят в ход новое секретное оружие — страшное, ни на что известное не похожее. Нацистская пропаганда твердила о нем без передыха: речь шла о водородной бомбе. Фронт в районе Монте-Кассино был прорван, немцы отступили, союзники вошли в Рим. Итальянские фашисты отчаянно цеплялись за напрасную надежду, что немецкое оружие сможет в последнюю минуту их спасти.
Утром 5 июня я поймал груженную овощами колымагу и на ней поехал в город. Забравшись в кузов, я стал обсуждать положение дел с попутчиками, которых водитель подбирал на дороге. Мы, не таясь, беседовали о последних событиях. Грузовичок ненадолго остановился в Страда, хорошенькой деревушке района Кьянти, где к нам подсел странный тип с горбом. А мы в возбуждении продолжали говорить об освобождении Рима, которое произошло накануне. Горбун за всю дорогу не проронил ни слова.
На следующее утро я направился в фашистский штаб, располагавшийся в старинном палаццо в центре города. Я болтал с другими ожидающими, когда кто-то меня окликнул, и увидел перед собой горбуна. Он напомнил мне, что мы накануне проделали вместе путь из Страда во Флоренцию. Я не отрицал. У меня был приказ всячески избегать любых столкновений и скорее признаваться, чем пытаться бежать.
— Ну, ехали вместе. А что?
— Тебя послушать, так ты на стороне англичан и американцев, — заметил он. — Причем это еще мягко сказано!
— Что ты такое говоришь? — беспокойно ответил я. — Неужели я бы пришел сюда, если бы не был фашистом?
Но он запомнил все, что я говорил в грузовике, в точности повторил мои слова и пошел позвать часового. Я сначала думал бежать, но шансов у меня не было. Да и потом, такая попытка только подтвердила бы его подозрения. Меня отвели в командование штаба. Там паковали вещи перед отъездом. Они хотели заполучить последних призывников и убежать на север. Вид у них был жалкий — небритые, еле стоящие на ногах. После долгого ожидания в кабинет вошел молодой чернорубашечник лет на пять постарше меня с холодными глазами стального цвета. Он быстро и очень жестко начал меня допрашивать.
— А до сих пор ты что делал? Почему не явился по повестке год назад? Знаешь, что за это полагается смертная казнь?
Я сказал, что у меня был нервный срыв.
— Я скрывался в деревне, но теперь мне лучше, и я хочу помочь родине, — заявил я, призвав на помощь все свои актерские способности.
Тут еще один фашист, тоже небритый, подошел ко мне и влепил звонкую пощечину.
— Хватит ломать комедию, тварь! — заорал он на меня. — Мы тебя живо приведем в порядок!
Я снова сделал попытку отвертеться:
— Все так непонятно. Только теперь мы увидели, на что они способны, эти гады… После Монте-Кассино…
Я надеялся убедить их в своей невиновности, напомнив о трагическом уничтожении знаменитого аббатства, которое мы когда-то посетили вместе с Кармело. Но тут пришел горбун, пересказал им слово в слово все, о чем я болтал в грузовике, и заявил, что готов привести свидетелей в подтверждение этого.
Фашисты ответили, что в этом нет необходимости: они и так поняли, что я лгу. Один из них приказал мне спустить штаны, нацелился, и я ощутил прикосновение холодного ствола к гениталиям.
— Ты шпион, а значит, сейчас мы тебя отправим на виллу Тристе! Ты знаешь, что это?
Я знал это отлично. На вилле Тристе по виа Болоньезе к северу от Флоренции располагался штаб итальянских СС. Оттуда никому еще не удалось вернуться живым.
Тут появился еще один фашист с бумагой и пером.
— Как твое имя?
Я сказал.
— А как зовут твоего отца?
— Отторино Корси.
Фашист со стальными глазами подошел ко мне и попросил повторить имя отца. Я повторил и заметил, как он сразу встревожился. Приказал не спускать с меня глаз и сказал, что ненадолго выйдет. Меня заперли в какой-то комнатенке. Я совсем не представлял, что будет дальше, но мне становилось страшно. Прошло часа два, ужасно долгих. Наконец дверь открылась, это вернулся начальник — к моему немалому изумлению, вместе с моим отцом.
— Да, это он, — подтвердил отец. — Он у нас малость не в себе. Часто не соображает, что делает и что несет. Доктор тоже очень волнуется.
— Мы собираемся отправить его для допроса на виллу Тристе, — настойчиво сказал начальник. — Надо выяснить, не от партизан ли он и кто его сообщники.
Отец горько рассмеялся, услыхав предположение, что я могу быть партизанским шпионом. Для таких дел я слишком глуп. Фашист поглядывал то на меня, то на него в полном недоумении. Отец подошел ко мне и со слезами на глазах стал меня трясти, приговаривая, что я его несчастье, что я сведу его в гроб. Наконец фашист принял решение: на виллу Тристе, за неминуемой смертью, меня посылать не будут. Вместо этого меня отправят в организацию Todt — группу принудительного труда, находящуюся в ведении вермахта. Велика была вероятность, что я окажусь в Германии и никогда не вернусь домой, а отец теперь сможет спокойно доживать оставшиеся годы.
Мой отец крепко обнял его, поцеловал в щеку и многократно поблагодарил.
— Я это делаю только ради тебя, — важно сказал фашист. Потом обернулся ко мне и сказал ледяным тоном: — Ты позор для рода человеческого. Надеюсь, больше никогда тебя не увижу. А если увижу, задушу собственными руками.
— Спасибо, спасибо, — машинально повторял отец. — Если что-нибудь будет нужно, все что угодно, только дай знать. — И еще раз расцеловал его в обе щеки.
Домой мы вернулись вместе. Отец был совершенно без сил. Он прошел в кабинет и рухнул в кресло.
— Стар я стал, не поспеваю за вами, — пробормотал он.
Он стал складывать бумаги, и все повторял: «Стар я…»
Мы все догадывались, что Флоренцию ожидает ад. В Риме немцев уже обвели вокруг пальца, и они явно собирались отыграться на нас. По договору с Кессельрингом в Риме — открытом городе — не должно было быть военных действий, но союзники договор нарушили и заняли мосты через Тибр, чтобы окружить и захватить отступающие немецкие дивизии. Понятно было, что нацисты не собираются снова попадаться на ту же удочку. Отец заговорил об участи Флоренции, но мне надо было во что бы то ни стало раскрыть тайну.
— Откуда ты знаешь этого парня?
— Забудь о нем! — отрезал отец.
— Но он же фашистский преступник, а ты его поцеловал!
— Не надо так говорить. Ты должен быть ему благодарен: он спас тебе жизнь.
— Знаю, но все равно он фашистская свинья.
Отец на несколько минут погрузился в свои мысли.
— Чудный был мальчик, — он грустно улыбнулся, — сам не знаю, что с ним произошло.
— Этот фашист, этот гад? Чудный мальчик?
— Забудь, — сказал отец.
— Не понимаю, почему он меня отпустил… Все равно его убьют. И всех фашистских гадов вместе с ним.
Отец промолчал. Он не хотел раскрывать тайну. Я завопил:
— Он обещал расправиться со мной. Не выйдет! Это я увижу, как он сдохнет!
К моему удивлению, отец подскочил ко мне со словами:
— Не говори так! Когда-нибудь ты раскаешься, что пожелал ему смерти!
От пережитого я перестал соображать. Пистолет у гениталий, побои. Я схватил отца и затряс, возмущенный, что он может защищать этого мерзавца.
— Да кто же это? Откуда ты его знаешь?
Отец тяжело вздохнул и закрыл глаза.
— Не хотел тебе говорить, но видно придется. Коррадо твой брат, — и он упал в кресло, будто сбросил тяжкую ношу. Значит, этот мерзавец был еще одним из детей, которых он наплодил по всей Флоренции.
Сейчас, когда я вспоминаю эту сцену, мне смешно. Ну прямо Верди — он обожал такие сцены. Например, финальная сцена «Трубадура», когда старая цыганка Азучена открывает графу ди Луна, что он только что казнил родного брата… «То… — и раздается страшный барабанный бой. — То брат твой!»
А мой «брат» и впрямь погиб. Его схватили партизаны и расстреляли на площади Санто-Спирито.
На следующее утро я, как мне было велено, явился в организацию Todt. В силу необъяснимого бюрократического идиотизма мне выдали денежное довольствие за пять предыдущих месяцев и велели подождать на улице. Я преспокойненько ушел. Никто не обратил на меня внимания.
Тем же вечером я добрался до Луколены, а там по всему чувствовалось, что союзники в двух шагах. Они уже подошли к Сиене, которая совсем близко от Луколены. Я шел два дня, встретил друзей партизан из старого отряда, и мы пошли впятером. Нам надо было перейти линию фронта. На другой день мы оказались на нейтральной полосе между противниками и укрылись в овражке. Стоял чудесный июльский день, в это время года местность Кьянти особенно прекрасна. Но тогда в неподвижном воздухе висела странная тишина: даже птицы умолкли. Вдруг до наших ушей донесся грохот артиллерийской канонады и угрюмый рокот приближающихся грузовиков и танков. По мере того как рев двигателей становился все громче, мы, к своему ужасу, поняли, что оказались в самой гуще танкового боя: немецкие танки ползли всего в нескольких метрах от нас. Над нашими головами прожужжали «штуки» и «мессершмитты», а за ними — английские и американские истребители.
Если молитвы что-нибудь значат, то в считанные секунды мы стали истовыми христианами. Я вспомнил о годах, проведенных рядом с монахами-доминиканцами Сан-Марко, и ничто так не утешило меня, как воспоминание о чуде Пресвятой Девы Марии у Арки.
Прошло несколько минут, показавшихся мне вечностью, и немецкие танки отошли на север, а за ними устремились машины с неизвестными мне опознавательными знаками; позднее я узнал, что это была южноафриканская танковая дивизия британской армии. Потом опять оглушающий рев моторов, разрывы, и снова мертвая тишина, озадачившая нас вконец. Неужели мы перешли через линию фронта? Или, точнее, линия фронта переместилась через наш овражек? Мои друзья считали, что мы все еще на немецкой стороне и вскоре бой разгорится с новой силой. Напряжение и ожидание были невыносимы. Прошло уже часов десять или двенадцать, я страшно проголодался, хотел пить, и хотя мои друзья считали, что лучше не высовываться, выпрыгнул из укрытия и завопил: «Лучше сдохнуть, чем гнить в овраге!»
Никто за мной не пошел, и я оказался в одиночестве на холме. Птицы снова беззаботно запели на все лады. Я поднимался по цветущему склону, а сердце сильно стучало от волнения. В кустах на вершине холма раздался шорох, и я заметил стальной отблеск. Солдаты! Поспешно поднял руки вверх, набрал полную грудь воздуху и зашагал к ним.
— Are you English? — прокричал я, не осознавая, что даже заговорить на английском языке было опасно и если они окажутся немцами, мне конец.
Наступила тягостная пауза, и наконец один из них ответил:
— No!
Я снова закричал:
— Are you English?[16]
Никакого ответа. Я закрыл глаза и попрощался с жизнью. Мои ноги стали как ватные, я с трудом удерживал ослабевшие руки над головой.
Выставив ствол автомата, солдат подошел ко мне и, почти вплотную приблизив свое лицо к моему, прошипел с притворной злостью:
— Мы не английские ублюдки, браток, мы шотландские сукины дети!
Еще одно чудо!
IV. Зло разрушает, благо созидает
Это были солдаты 1-го батальона Шотландской гвардии. Они обыскали меня в поисках оружия, с полным равнодушием к бурлящим в моей душе эмоциям при мысли, что я вне опасности. Они удивились, что я говорю по-английски, и когда мы сели в их джип, стали меня допрашивать. Только в джипе я наконец в полной мере осознал, что произошло: я обрел свободу! Я свободен! Впервые в своей жизни действительно свободен! Я родился и вырос под властью фашизма, но теперь все кончилось.
По мере того как мы продвигались к линии фронта, я понял, что нахожусь в самом центре наступления союзников. Все так хорошо выглядели — обмундированы, накормлены, совсем не похожи на нас и на наш всеобщий развал. Когда джип доехал до штаба, меня направили на допрос в палатку к молодому шотландскому джентльмену с трубкой в зубах. Увидев перед собой смуглого от солнца блондина, он, видимо, заподозрил, что я немец.
— Ты в самом деле итальянец? — спросил он.
Я засмеялся и сказал:
— Не совсем итальянец, я флорентиец, — и пустился в долгий сбивчивый рассказ о своих приключениях, подробно поведав, где выучил английский, и выложил историю про Мэри О’Нил. Шотландец улыбнулся. Видно, я затронул какую-то струнку, рассказывая, как Мэри О’Нил варила яйца и подавала чай в маленькой съемной комнате во Флоренции. Наконец он представился:
— Лейтенант Кийт. — И добавил: — Как это ни печально, но несколько дней назад мы под Сиеной потеряли переводчика — парень наступил на мину. Не хочешь поработать на нас?
В полном потрясении я кивнул. Он подозвал шофера, здорового толстого парня по имени Джимми Ридделл, спокойного и сдержанного. Лейтенант Кийт говорил с ним на совершенно непонятном языке[17].
— Между собой мы говорим по-своему. Это чтобы сохраниться среди всех остальных.
И началось мое преображение. Мне выдали полное обмундирование: рубашку, шорты, ремень, фуражку и полковой шеврон. Джимми отвел меня к парикмахеру, который сбрил наголо едва отросшие волосы. Из грязного и оборванного итальянского партизана я превратился в настоящего шотландского гвардейца и стал неотличим от остальных.
Меня сразу привлекли к работе. В штаб попадала самая разношерстная публика, но главным образом крестьяне в поисках пропавших родных. Местные жители жаловались на большую нужду — немцы забрали у них все. Я точно переводил все, что они говорили. Гарри Кийт внимательно меня слушал. Он сказал, что несколькими днями раньше они захватили грузовик, автомагазин немецкого батальона, набитый сигаретами, мылом, шоколадом и всяким другим добром, а его люди к этой дряни не притронутся. Поэтому я могу брать, что надо, и раздавать нуждающимся.
В ту ночь я расположился на ночлег возле джипа лейтенанта Кийта. Мы с Джимми завернулись в одеяла, однако я был слишком взволнован и всю ночь не мог уснуть. Но мне не хотелось, чтобы это заметили, — боялся, вдруг они подумают, что у меня есть причины не спать. С какой стати им доверять чужаку?
На следующее утро меня разбудил запах еды: яичница с беконом и сосисками, жареный тост — тот самый английский завтрак, о котором твердила мне Мэри О’Нил. Масла я не видел уже несколько месяцев. Принесли чай и какие-то хлопья. Сержант Мартин, здоровенный шотландец с густыми усищами, который руководил раздачей завтрака, заметил, что я к ним даже не притронулся, и хмуро, почти обиженно, спросил:
— Не ешь овсянку? Не нравится? Как же ты собираешься стать нам другом?
— Ну что же, — и я взялся за ложку. Овсянка была абсолютно безвкусной, но когда я добавил молока и сахара, она оказалась вполне съедобной. На другое утро я положил в тарелку с овсянкой сливочного масла, соли и помидоров — получилось подобие ризотто. Еще через день я раздобыл у крестьян немного оливкового масла — вместо сливочного, плюс пара листочков базилика — и стало даже вкусно. Двое солдат последовали моему примеру и заявили, что каша получается очень даже неплохой. Сержанта Мартина это взбесило, и он набросился на меня, тыча пальцем, как пистолетом.
— Ты что, парень, хочешь подорвать наши добрые шотландские традиции? Разве не знаешь, что на овсянке с молоком, маслом и сахаром выросли десятки поколений здоровых и сильных шотландских и английских парней! — порычал он, но в конце дружелюбно похлопал меня по плечу.
В последующие недели я ближе познакомился с подчиненными лейтенанта Кийта. Большинство из них были выходцами из рабочих и крестьянских семей, а офицеры казались прямо карикатурами на «молодых английских аристократов» типа «ломается, но не гнется», но все готовы были выполнить свой долг. И поскольку каждый день мог стать для них последним, я не уставал повторять себе, что эти отважные парни рискуют жизнью ради победы над Гитлером и Муссолини, чтобы вернуть нам попранное достоинство. Я испытывал к ним огромную благодарность, как к ангелам Божьим.
К концу июля мы были уже в двадцати километрах от Флоренции. Тут я действительно мог оказаться полезным шотландцам — ведь это был мой дом.
Я хорошо знал дороги в окрестностях города, которые изъездил на велосипеде, и показал им места, где можно переправиться вброд через речки в обход больших мостов, так, чтобы застигнуть врасплох отступавших немцев.
Немецкие войска построили новую линию обороны вдоль берега Арно. Мое подразделение заняло очень красивую виллу на дивных холмах к югу от Флоренции, принадлежавшую известному банкиру Гуалино.
Немцы велели эвакуироваться всем флорентийцам, проживавшим в районе укреплений. Позже я узнал, что люди уходили, оставив все как есть, — птичек в клетках, политые цветы в горшках — они были уверены, что вернутся через несколько дней. Никому даже в голову не могло прийти, что найдется тот, кто осмелится поднять руку на их родной город. Люди уносили только ценности. Мало кто сообразил, что река Арно стала линией фронта и по обе ее стороны располагаются две воюющие армии. А англичане были уверены, что бои неизбежны и Флоренцию не пощадят. Агенты доносили: немцы минируют мосты. Тогда шотландцы решили выслать патруль, чтобы узнать, что же происходит на самом деле, и приказали мне его вести.
— Думаю, в твоем родном городе тебе не надо указывать, куда идти, — сказал с улыбкой Гарри Кийт.
Я повел нашу пятерку через горы к саду Боболи за палаццо Питти, откуда были хорошо видны мосты над рекой. Действительно, казалось, что немцы выгружают большие ящики со взрывчаткой. Мы дождались вечера, чтобы подняться над Коста-Сан-Джорджо. Но немцы заметили нас и открыли стрельбу из автоматов. Мы бросились к укрытию. Двоих тяжело ранило — второго и четвертого — мы шли гуськом. Оставшиеся двое солдат и я — первый, третий и пятый — остались невредимы.
Много раз я думал о том, какое милостивое решение судьбы пощадило меня и на этот раз. Не единожды я уже различал знаки Блага и Любви. Не устаю повторять, что много раз ощущал рядом душу матери, всегда готовую встать на мою защиту. Но меня охватила невероятная тоска, потому что я своими глазами увидел, что родной город очень скоро станет полем битвы.
В три часа утра 4 августа 1944 года в долине Арно воцарилась тревожная тишина, напомнившая мне о той жуткой ночи бомбежки в Неаполе три года назад. По-видимому, никто из командования не мог уснуть. Офицеры обнаружили в погребах виллы Гуалино отличную коллекцию вин — просто академический курс по лучшим образцам продукции Кьянти.
Обстановка была странной еще и благодаря вину, а оно лилось рекой. В конце концов все напились, стали шутить, смеяться, посыпались грубые остроты. Всеми овладело ощущение чудовищной трагедии, которая вот-вот разразится в любимом англичанами городе, и было похоже, что никто не желает встретить ее на трезвую голову.
Я держался в стороне и пытался поспать. После тяжелого дня я чувствовал безумную усталость в душе и в теле. Однако заснуть не удавалось из-за громких веселых криков, доносившихся из погребов. Чтобы хоть немного собраться с мыслями и успокоиться, я вышел в сад. Кто-то сидел на скамейке и курил трубку. Это был Гарри Кийт, который нервничал так же как и я: он твердо знал, что ночью немцы взорвут все мосты Флоренции. Шотландец знаком подозвал меня и указал на место рядом с собой. Я сел, он обнял меня за шею и прижал к себе. Мне вдруг показалось, что он ждет любви. Нет, ничего подобного, он просто хотел поддержать меня в минуту, когда мне, флорентийцу, предстояло тяжкое испытание. Весь дрожа я прижался к нему. Сначала раздались звуки артиллерии, затем полная тишина, которая, казалось, длилась целую вечность, а потом из долины стал нарастать глухой пронизывающий звук, словно небеса разверзлись для Страшного суда. Меня вновь парализовали ужас и бессильное отчаяние, которые я пережил в Неаполе.
Гарри Кийт со злостью пробормотал, по-прежнему крепко держа меня:
— Взорвали все-таки… Взорвали-таки мосты. Сволочи.
Разрывы были слышны еще часа два, в голове моей водоворотом кружились мысли. С первыми проблесками зари я поднялся на крышу виллы и увидел под собой город, окутанный пеленой дыма и пыли. Так было и в Неаполе после бомбежки. Из-за холмов Сеттиньяно поднималось солнце, но разглядеть можно было лишь купол собора Брунеллески, башню Джотто и палаццо Веккьо. Стояла непривычная тишина. По берегам не осталось ничего. Немцы взорвали не только мосты, но и здания вдоль реки. Многочисленные памятники архитектуры, дворцы и церкви были обращены в руины, центр города разрушен. К счастью, жертв было немного, не то что тогда в Неаполе.
На следующее утро на виллу ворвался Сила с группой партизан. Они узнали меня, и мы обнялись, хотя на английскую форму они поглядывали с неприязнью. Сила хотел, чтобы союзное командование поручило партизанам какое-нибудь дело в освобождении Флоренции, но офицеры 5-й американской армии и слышать об этом не хотели. Он не сдался и пришел попытать счастья в 8-ю армию. Я с большим волнением переводил англичанам страстную речь партизанского командира, в которой он просил, чтобы его люди, итальянцы, вошли во Флоренцию первыми, чтобы город понял, что оказался наконец в дружеских, братских руках.
Шотландский командующий с пониманием отнесся к этой благородной и законной просьбе и сказал, что если бы это был Эдинбург, а не Флоренция, то он испытывал бы те же чувства, что и партизаны. Но он напомнил, что немцы продолжают удерживать другой берег, и форсировать реку без прикрытия союзных войск — безумие, самоубийство. Верховное командование дало очень четкие указания. Терпение и благоразумие — вот что требовалось. Флоренцию скоро освободят, и партизаны будут сражаться бок о бок с союзниками. Однако Сила не принял этих доводов и ушел, готовый на все. Нам рассказали потом, что он пробовал перебраться на другой берег Арно возле Кашине с маленьким отрядом, но немецкий огонь смел их. Сила получил тяжелые ранения в живот и в грудь. Хотя его очень быстро доставили на джипе в госпиталь Греве в тридцати километрах от Флоренции, три часа спустя он умер.
Нужно отдать должное англичанам: они похоронили Силу со всеми воинскими почестями. Я тяжело переживал его смерть. Как коммунист, он, наверно, был противником тех демократических ценностей, которыми дорожил я, но это был редкостный человек. Сила считал, что родной город должен освобождать он сам, пусть ценой собственной жизни, а не чужестранцы.
Экзальтированный честолюбивый патриот? Вероятно. Но разве героям не свойственно безумие?
11 августа Флоренция была освобождена. Союзные войска переправились через Арно, но немцы, уходя, полностью разрушили город. Англичане сразу же навели мосты — их знаменитые металлические Bailey Bridges. Они казались мне игрушкой, конструктором, с которым я возился в детстве. Всего за несколько часов связь между двумя половинами города была восстановлена. Но освобождение вовсе не было таким же радостным событием, как в Риме, где жители высыпали на улицы и плясали от счастья, забрасывая освободителей цветами. В Риме не было сражения, не проливалась кровь. А во Флоренции кое-где оставались немцы, и перестрелки продолжались еще несколько дней после вступления в город союзников. Фашисты, которых ожидала неминуемая смерть, были свирепее диких зверей: они стреляли с крыш по женщинам, шедшим за водой к городским фонтанам, по очередям за продуктами. Партизаны охотились на них, настигали даже в церкви и безжалостно с ними расправлялись. Эта братоубийственная война напоминала древнюю вражду гвельфов и гибеллинов.
Через несколько дней лейтенант Кийт решил выехать в город, и я попросился с ним. Мне хотелось вернуться в родную Флоренцию, взглянуть, что стало с моим домом. Но чем ближе мы подъезжали, тем сильнее меня охватывало отчаяние. Я уже был наслышан о разрушениях, но не мог даже вообразить, что откроется моим глазам: бесконечная гряда руин вдоль берега реки — трудно забываемое зрелище.
Немцы пощадили единственный мост — Понто Веккьо, но сотни метров средневековых улочек по обоим берегам Арно были уничтожены, превратившись в груды камней. Среди развалин фашисты оставили смертельные ловушки — невинные игрушки, вещички, которые привлекали внимание, но стоило к ним притронуться, и они разрывали человека на куски. Я был поражен, увидев, что Галерея Уффици не пострадала. По этому поводу существуют две версии. По первой немцы заминировали Уффици, как и все остальное, но партизаны напали на них как раз тогда, когда они собирались ее взорвать. По второй некий немецкий офицер, влюбленный во Флоренцию и ее шедевры, в последний момент отказался отдать приказ о разрушении Галереи. Мне всегда приятно было думать, что именно эта версия — правда и вовсе не все немцы были чудовищами.
Шотландскую гвардию направили на север для соединения с другими войсками союзников, которые по пятам преследовали отступающих немцев. Мы встали в деревушке над Вернио, возле шоссе на Болонью, вдоль так называемой Готской линии обороны — последнего оплота немецких войск. Наступление зимы и легкость, с какой противник получал подкрепление с севера, тогда как у нас за плечами оставались только разрушенные дороги и минированные мосты, создали временное преимущество немцев и приостановили продвижение союзников. Но, вероятнее всего, тогда еще не наступило время окончательно зажать Германию в тиски. Следовало дождаться, когда союзники освободят Францию, а русские, с боями продвигающиеся на Берлин, подойдут ближе, — как потом стало известно, так было решено в Ялте.
Той зимой война повернулась к нам самой жестокой стороной. У меня от нее остались тягостные воспоминания. Например, ферма, где все жители — дети, старики и даже собаки — были перебиты немцами за несколько недель до нашего прихода, и когда мы открыли дверь, нас встретил тошнотворный запах разложения.
Дни пронзительного холода и томительного ожидания чередовались с опасными вылазками. Ближе к Рождеству я попал в очень сложное положение. В полку поползли слухи, что среди нас затесался немецкий шпион. К тому времени у меня уже установились братские отношения со всем батальоном, и я не подозревал, что все, включая лучших друзей, не спускают с меня глаз. Но состояние всеобщей тревоги я хорошо ощутил. Потом однажды ночью мои шотландцы окружили церковь в городишке, где мы стояли. Я ни о чем не подозревал, никто ничего мне не рассказывал. На колокольне нашли радиопередатчик и трех прятавшихся там фашистов, а священник оказался их сообщником. Все были расстреляны. Атмосфера вокруг меня мгновенно переменилась. Джимми обнял меня и признался, что они все ужасно переживали из-за того, что пришлось меня подозревать. От радости он в тот вечер напился.
Сержант Мартин все повторял, что оказался единственным, у кого варит котелок: «Я всегда знал, что этот парень нас никогда не предаст». И с большим теплом, совершенно ему не свойственным, он обнял меня, как обнимают вновь обретенного друга.
В начале апреля Готская линия треснула под ударами союзников, которые, не встречая сопротивления, уже заняли равнины Ломбардии и Эмилии. Еще несколько дней, и война закончится. Долгие изнурительные годы, наполненные смертью и разрухой, подошли к концу. Однако для моих друзей из Шотландской гвардии мир еще не наступил. После освобождения Италии их направили в Палестину, где положение обострялось с каждым днем: евреи прибывали со всех концов земного шара, чтобы претворить в жизнь великую мечту, и между ними и арабами начались первые столкновения. После столетий чудовищных лишений, рассеяния и преследований евреи жаждали собственной страны, родины, государства — Израиля. Но англичане, которые первыми предложили поделить Палестину между арабами и евреями, считали, что время еще не пришло. Их богатый опыт в этой части света говорил, что привести два народа к согласию будет нелегко. (Кстати, события последующих лет это подтвердили.) Палестинцы во главе с муфтием Иерусалима, другом и почитателем Гитлера, были полны решимости выдворить даже тех евреев, которые жили в Палестине с незапамятных времен. Так что для дорогих моему сердцу шотландцев война продолжалась. Именно им предстояло держать под контролем эту острейшую ситуацию. Было очевидно, что наши пути расходятся.
Заканчивался удивительный период в моей жизни. Настало время прощания. Сдержанные шотландцы, которым пришлось навеки расстаться со многими своими товарищами, ограничились просто похлопыванием по плечу. Кто не мог скрыть огорчения, так это Джимми, который обнял меня и заплакал. Гарри Кийт, может, для собственного утешения, сказал:
— Надо принимать жизнь и в радости, и в горе. Но дружба всегда с нами, — и крепко пожал мне руку. — Good luck, my boy.
Мы были в Брешии в тот апрельский день, когда узнали, что Муссолини казнен и война в Европе по сути дела закончилась. Невероятное возбуждение и безумное желание вернуться домой — такой была атмосфера в штабе союзного командования, куда я попал в ожидании окончательного увольнения. Туда-сюда сновали англичане, отовсюду прибывали партизаны. Появился американский капитан и бесцеремонно потребовал в Operation Secret Service (OSS), где я еще работал, дать джип для поездки в Милан, но в царящей суете никому не было до него дела.
— Мне к кому обращаться? — завопил он. — К самому Эйзенхауэру, что ли?
Он представился как Доналд Даунс, военный корреспондент ряда американских газет.
— Муссолини шлепнули, — громовым голосом заявил он, — мне срочно надо в Милан. Нужен водитель и переводчик. — Его тон не допускал никаких возражений, пришлось дать все, что он требовал. Мне было велено поехать с ним на джипе, который вел австралийский солдат.
В пути Доналд решил все обо мне выяснить. Я рассказал ему о жизни в горах, о трудном флорентийском детстве. Он хорошо знал Флоренцию — бывал в Италии регулярно еще с тридцатых годов. Какой-то велосипедист едва не угодил под колеса нашей машины, водителю пришлось резко вырулить, и Даунс обрушил на голову несчастного поток отборной брани на прекрасном итальянском языке.
— Зачем же вам переводчик? — поинтересовался я.
— Уважающий себя журналист всегда должен иметь переводчика, — ответил он.
Это был очень колоритный человек. Он во многом напоминал мне профессора Фучини: в том же странном стиле излагал свою точку зрения, всегда неожиданную и непривычную. В конце концов, как бывало с Фучини, суть сказанного убеждала и завораживала. Даунс обрушил на меня целую лавину новых взглядов на известных людей, на события, на историю и время, в котором мы жили. Я зачарованно слушал его рассуждения об идиотизме фашистского режима, но демократию он считал ничуть не лучше. Доналд терпеть не мог Рузвельта и уверял, что мы все еще сильно пожалеем, что заключили союз со Сталиным. Настоящий враг свободного мира — это Советский Союз, сказал он и преподал мне краткий курс истории русской революции, со всеми чистками и процессами, до самой Ялты. Сегодня это история, а тогда мы обо всем знали мало, и этот удивительный человек открывал передо мной один за другим новые горизонты. Даунс совершенно не боялся открыто высказывать свое мнение: в 1936 году его, тогда еще молодого парня, арестовали в Риме за то, что он швырял гнилые яблоки в выложенную из черного и белого мрамора карту фашистской империи, которую по приказу дуче соорудили на только что построенной виа делл’Имперо — улице Империи. «Империя — курам на смех!»
Он отлично знал Милан и говорил, куда ехать. Мы проехали по корсо Буэнос-Айрес, теперь представлявшую собой тропинку среди развалин, до площади Лорето, на которой собралась огромная злобная толпа. С краю площади на балке бензозаправки висели вниз головой трупы Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи. Верная Клара осталась до конца со всеми преданным дуче, хотя могла спастись. Когда полковник Валерио (или кто там) стал стрелять, она закрыла возлюбленного своим телом.
А теперь их изувеченные тела висели, как освежеванные говяжьи туши, в клубах летевшей по ветру желтой пыли. Доналд разглядывал трупы в бинокль и делал записи в блокноте. Обстановка была гнетущая, совершенно варварская. Мы слышали угрозы в свой адрес, потому что были теми, кто безжалостно разрушил Милан, нам показывали кулаки и грозили, что до нас еще доберутся. Доналд приказал возвращаться.
— Поехали скорее, а то я потеряю к вам, итальянцам, последние крохи уважения.
Кругом слышались зверские выкрики, рев, плач, улюлюканье.
— Людоеды, звери! — продолжал Доналд с гримасой отвращения. — Только подумать, что вам достался такой прекрасный язык.
По дороге в центр я сказал Даунсу, что ребенком почти год прожил в Милане, хотя мало что запомнил. Он стал задавать вопросы, и в конце концов я рассказал ему о смерти мамы и о том, как за мной приехала тетя Лиде. Доналд проявил живейший интерес к моей истории и совершенно не обращал внимания на хмурого и молчаливого водителя. Печальные события моего детства, казалось, звучали в унисон с мрачной картиной разрушения. Из-под развалин ветер продолжал вздымать клубы желтой пыли, сквозь которые едва виднелись очертания замка Сфорца и Собора. Мы подъехали к театру «Ла Скала», Мекке моего детства, тому чудесному источнику, из которого Густаво всегда черпал свои бесконечные истории о великих операх и знаменитых певцах.
Я всегда мечтал о том дне, когда смогу, наконец, увидеть этот «храм оперы». Фасад здания не был поврежден, но когда нам удалось толчками открыть парадную дверь, перед нами предстала гора обломков. Цепляясь руками и ногами, мы буквально вскарабкались к остаткам королевской ложи. Нашим глазам открылась леденящая душу картина разрухи, напоминавшая сцену из потустороннего мира.
«Ла Скала» стал гигантским двором под открытым небом — все было разрушено бомбежкой. Огромные обгоревшие перекрытия крыши рухнули поперек сцены, ложи пожрал огонь. Уже были сделаны кое-какие попытки сохранить немногое оставшееся: в огромные кучи собрали обломки, над сводом натянули какие-то тряпки.
Доналд с глухой яростью смотрел на людей, которые рылись среди обломков в поисках неизвестно чего.
— Дрездена больше нет, — сказал он с глубоким отвращением. — А теперь и этот ненужный разгром. Пропади пропадом эта война, пропади пропадом все! — Он помолчал и добавил: — Может, Муссолини не зря нас проклял…
Мы вышли и сели в джип.
— Я остаюсь в Милане. Мне надо писать, — сказал Доналд. — Отгони джип назад и возвращайся домой, во Флоренцию. И постарайся как можно скорее забыть эту войну. — Он похлопал меня по щеке. — Ты славный паренек и заслуживаешь мира посчастливей, чем наш.
Я проводил его в гостиницу, конфискованную американцами. На прощанье он сказал:
— Мы еще встретимся, вот увидишь. Я обычно никогда не сижу на одном месте.
Я никогда не забуду того, что увидел в тот день. Вид повешенного за ноги Муссолини сквозь клубы слепящей желтой пыли заставил меня задуматься о годах, когда он был безраздельным хозяином наших жизней, когда в расцвете сил приветствовал ревущие от восторга толпы, как несгибаемый победитель. Я припомнил, какие нас постигли беды из-за этой упоенной собой и своими бредовыми идеями посредственности. А еще «Ла Скала» — казалось, что вместе с театром навсегда исчез волшебный мир оперы, который был мне так дорог.
К счастью, он не исчез. Год спустя, 11 мая 1946 года двери «Ла Скала» вновь распахнулись, открыв новую эпоху славы и триумфов. Был дан грандиозный концерт под управлением Артуро Тосканини. Как могло произойти это чудо? Можно ответить удивительными словами Матери Терезы: «Зло разрушает, Благо созидает». Не спрашивайте, как в Милане, городе, где не осталось никакой промышленности, жители нашли силы и возможности меньше чем за год вернуть «Ла Скала» былой блеск. Настоящее чудо, никаких сомнений, и оно в очередной раз показывает, на что способен человек, ведомый духом творчества, которым наградил его Бог. В нашу эпоху «золотая нить» мастерства в сочетании с благим стремлением к Божественному порогу, увы, утрачена.
Миланцы, восстановив свой театр, вытянули за собой всю страну. Так из праха восстал мир, который, казалось, был навсегда потерян. То же сделали англичане, немцы, японцы, подняв из руин свои города. Мне бы очень хотелось, чтобы хоть иногда мы сердцем возвращались к этим примерам. Я все видел своими глазами, и это позволяет мне надеяться, что «золотая нить» не оборвана навсегда.
Вот теперь и впрямь пришла пора возвращаться во Флоренцию, как советовал Доналд.
Уже начало смеркаться, когда вдали проступили очертания родного города. Нервы не выдержали: меня затрясло точно в лихорадке, и я разрыдался. Я понял, что за несколько месяцев стал другим человеком. Как же мне искать «золотую нить»?
Следующие дни внесли некоторую ясность, но одновременно вогнали меня в тоску — предстояло все начинать с нуля. Война сильно изменила всех, однако надо было продолжать жить… Коринна, жена отца, ужас моих детских лет, умерла, и отец по настоянию моей сестры Фанни решил признать меня законным сыном. Поэтому теперь по документам я числился Джан Франко Корси. Но я любил фамилию, которую придумала мама, и продолжил свой жизненный путь как Франко Дзеффирелли.
Я поселился с отцом и Фанни, ангелом и другом, и возобновил учебу на архитектурном факультете университета. Но это оказалось почти невозможным — слишком многое стало другим. Похоже, единственный, кого война ничуть не изменила, был мой отец. Он, как и раньше, носил в петлице белый цветок, обычно гардению, и никогда не забывал класть в нагрудный карман надушенный платок. Наряжался даже для ежевечернего похода в клуб. Мне говорили, что он по-прежнему заводит любовниц, разбивает сердца и, вероятно, плодит детей. Как будто годы войны он провел под стеклянным колпаком; то же самое происходило, наверно, и в Первую мировую.
Я находил утешение в компании Фанни. Ни с кем, кроме нее, я не мог говорить и делиться мыслями о жизни. Мы словно наверстывали потерянные годы, она стала для меня матерью и сестрой.
Тетя Лиде вместе с Густаво тоже вернулась во Флоренцию и надеялась, что после войны наша жизнь вновь потечет, как прежде. Но это уже было невозможно — я жил с отцом и сестрой. Это доставляло тете одновременно радость и огорчение, но она знала, что Густаво такое положение вещей устраивает. Я уже не был ребенком, нуждающимся в любви и заботе, я вырос, возмужал за время войны. Молодой человек в доме? Да и вообще, пришло время отцу жить со мной, ведь он сам так решил.
В сентябре 1945 года произошло событие, которое определило мое будущее, — я посмотрел «Генриха V» с Лоуренсом Оливье. Эту лучшую по тем временам экранизацию Шекспира привезла в Италию Ассоциация национального управления исполнительских искусств[18]. Сеансы Ассоциации были открытыми, я пришел пораньше, чтобы занять хорошее место, и, дожидаясь начала сеанса, стал свидетелем поразительной картины. В зрительный зал гуськом вошли пожилые английские дамы в старомодных кружевах и соломенных шляпках и, точно призраки прошлого, прошествовали на свои места. И вдруг я понял, чего мне так не хватало во Флоренции! Где же они были? Я разговорился с одной из них, которую смутно помнил по тем временам, когда Мэри О’Нил давала мне уроки английского. Она рассказала о мрачных днях в концлагере, о том, как на первых порах презираемые ими американки помогли им выжить, хотя моя собеседница дала понять, насколько унизительны были эти благодеяния. А потом, когда Соединенные Штаты вступили в войну, американки тоже исчезли. К сожалению, Мэри О’Нил умерла вскоре после отправки в лагерь. Но многие остались живы, и им удалось вернуться в город. Это был вечер Шекспира, Лоуренса Оливье и Англии. Мне хотелось встать и аплодисментами поблагодарить этих милых дам просто за то, что они еще здесь, попросить прощения за все зло, что им причинили, и сказать, как они нам нужны. Ведь без них Флоренция не была бы Флоренцией…
Когда в зале снова зажегся свет, я уже знал, чем займусь в будущем — театр, кино. Глядя на удалявшихся по вечным улицам своего города англичанок, я осознал, что моя война окончена.
А может, она только начинается?
V. Лукино
В XV веке из каменоломни в Карраре был извлечен цельный блок мрамора размером пять с половиной на три метра. Его отправили во Флоренцию и поместили в городское хранилище мрамора, где скульпторы отбирали материал для работы. Многие мечтали высечь что-нибудь из этого грандиозного и ценного монолита. Наконец за работу взялся Нанни ди Бартоло[19]. Он успел вырезать лишь один угол и оставил свою затею, после чего заготовка пролежала в хранилище еще долгие годы. Именно из нее Микеланджело изваял статую Давида. Что могло бы произойти — или почти произошло — с этим куском мрамора, не имеет значения: фактом истории стало то, что реально случилось. История — это «Давид» Микеланджело, остальное несущественно.
Жизнь — это сеть, сотканная из массы связанных между собой событий. Все, что происходит, есть следствие множества действий, дающих в совокупности нежданный-негаданный результат. Когда сегодня я перелистываю страницы дневников прошлых лет, они кажутся мне кусочками мозаики, ожидающими своего часа, чтобы «случиться». Работая с мозаикой в Академии художеств, я всегда поражался, когда для выражения определенной мысли удавалось наконец найти форму из разрозненных цветных кусочков, как будто мозг сам выбирал те, что были нужны. В моем представлении жизнь сродни груде таких отдельных фрагментов, которые ожидают приложения разума, чтобы могла возникнуть цельная форма, наполненная смыслом. К тому же жизнь полна множества незначительных, на первый взгляд, происшествий и встреч, способных в будущем резко изменить ход событий.
Помню, когда я был еще ребенком, тетушка Лиде однажды взяла меня в «Монте-Домини» — дом престарелых, где она часто навещала свою старую служанку. Густаво отговаривал ее брать меня с собой, потому что считал, что печальный серый мир беспомощных, утративших надежду стариков может меня ранить. «Нет, пускай с детства знает, какой бывает жизнь», — возразила ему тетя, и мы поехали. Если бы она не повела меня в тот дом престарелых, возможно, много лет спустя мне в голову не пришла бы мысль, имевшая поворотное значение для моей судьбы.
Когда после войны я вернулся во Флоренцию, то понял, насколько изменился я сам и все вокруг. Во мне все бурлило, я не мог ни к чему отнестись со вниманием, не мог принять и пережить случившееся со мной. Я был еще полностью погружен в те события и одновременно переживал их как что-то происшедшее с другими, прочитанное в книгах и в газетах, рассказанное людьми. Какое-то инстинктивное отторжение. Когда меня просили рассказать о моих необыкновенных приключениях, я испытывал нечто вроде недоверия к самому себе и почти готов был сказать: «Да что вы, я пошутил, придумал все это, отсиживаясь в погребе в Кьянти». Но призраки настойчиво возвращались, насмехаясь над моим желанием все забыть, как кошмар, который пытаешься прогнать, а он не уходит.
Надо было начинать работать, учиться, делать что-то, все равно что, лишь бы не превратиться в вечного певца собственных подвигов. Я вновь занялся архитектурой (вернулся на второй курс), впрочем, сильно сомневаясь, что мое призвание именно в этом. Во мне по-прежнему жила неизменная склонность ко всему, что связано с театром, включая постановочную часть — можно сказать, родную дочь архитектуры.
Для заработка я нанялся в «Театро делла Пергола» подмастерьем, смешивал краски и мыл кисти у талантливого художника-оформителя Парравичини. Помещение мастерской примыкало к галерее, нависавшей прямо над сценой, и я, когда выдавалась свободная минутка (а потом под любым предлогом), любил выходить туда. Облокотясь на перила галереи, наблюдал за ходом репетиций спектакля, который должен был идти в Милане, — «Табачной дороги» Эрскина Колдуэлла. Я узнал нескольких известных актеров и знаменитого режиссера — Лукино Висконти.
Как часто впоследствии случалось с другими знаменитостями, я впервые увидел этого человека в приступе чудовищной ярости, когда он изрыгал потоки грубой брани. Я просто обомлел, и не в последнюю очередь оттого, что эти площадные ругательства сыпались из уст представителя одной из почтеннейших и родовитых семей Италии — графа Лукино Висконти ди Модроне. Висконти был потомком Карла Великого, его далекие предки некогда правили Миланом, а семья даже в послевоенные годы пользовалась немалым влиянием в городе. Отец Висконти имел титул герцога, а мать была наследницей крупнейшей фармацевтической компании «Эрба».
Самому Висконти тогда было сорок лет. Элегантный, красивый, богатый аристократ, он играл в ту пору видную роль в культурных событиях Италии. Светским скандалам и сплетням о его личной жизни и разнообразных сексуальных подвигах не было конца. Через знаменитую модельершу Коко Шанель, с которой у него, по слухам, был бурный роман, он познакомился с французским кинорежиссером Жаном Ренуаром, известным своими левацкими взглядами, и в 1935 году работал у него ассистентом на съемках фильма «Загородная прогулка» по мотивам произведений Г. Мопассана. Общаясь с Ренуаром, Висконти стал убежденным коммунистом. Первый его фильм — «Наваждение» (1942), снятый, вопреки тогдашним традициям, на натуре, а не в павильоне, принес в кинематографический оборот термин «неореализм».
Картина эта по своим интонациям была явно левацкой, но фашистским цензорам пришлось выпустить ее на экран, потому что сам Муссолини считал кино Искусством с большой буквы и выше политики, хотя тогдашние итальянские фильмы были орудием самой откровенной фашистской пропаганды. После войны Висконти создал театральную труппу и познакомил итальянских зрителей, изголодавшихся по зарубежным новинкам, с современными драматургами — Жаном Кокто, Джоном Стейнбеком и Жан-Полем Сартром.
Посмотрев сверху несколько репетиций «Табачной дороги», я, наконец, уяснил причину его раздражения. У Висконти возник замысел ввести новый образ, не предусмотренный пьесой Колдуэлла, — старушку, постоянную безмолвную свидетельницу жизни других персонажей. Висконти с негодованием отверг всех предложенных на эту сложную роль актрис. Он хотел заполучить самую настоящую сумасшедшую старуху. Вот уж действительно неореализм, доведенный до крайности.
Я почему-то сразу вспомнил про стариков — обитателей «Монте-Домини», куда меня много лет назад возила тетушка Лиде. Я не сомневался, что именно там можно найти нужную старуху… Монахиня-сиделка, невозмутимо выслушав мою просьбу, ушла, ни слова не говоря, и вскоре вернулась с крошечной старушкой, напоминающей скачущую птичку. Видно было, как под серой одежкой богадельни в ней кипит жизнь.
Я спросил, не приходилось ли ей выступать на сцене, и старушка тотчас пустилась трещать без умолку: «Меня зовут Вирджиния Гараттони, а вы знаете, что я работала в цирке? Я выступала на арене с девяти лет, со львами и тиграми… Сейчас мне восемьдесят пять, да, да, но я могу скакать на лошади, лазать по деревьям, танцевать на шаре и показывать фокусы. Хотите, покажу, как вещи исчезают?» Она вытащила из кармана платочек, свернула в комок, повертела в руках — и он исчез!
Я сразу повел ее в театр и стал дожидаться, когда Висконти закончит репетицию. Ассистент режиссера сообщил ему, что появилась очередная претендентка на роль старухи, и я вытолкнул Вирджинию на сцену. Я уже объяснил ей, что делать, и она вдохновенно исполнила все свои номера: сплясала, спела песенку, прикрываясь шалью, как пьяная, продекламировала отрывок из какой-то пьесы, изобразила марионетку на ниточках и мяукающую кошку.
Все были ошеломлены. Висконти умолк, заворожено глядя на нее. Наконец он произнес единственное слово:
— Фе-но-ме-наль-но! — Потом огляделся по сторонам и спросил: — Кто ее нашел?
Ассистент режиссера собрался было присвоить себе лавры, но я опередил его.
— Это я! — с этими словами я шагнул на середину сцены и помог Вирджинии подняться на ноги.
— А кто ты такой?
Я, вполне понятно, растерялся:
— Сам не знаю… Знаю, что мне очень нравится театр: постановка, игра…
— Так, так, — не без интереса сказал Висконти. — И кто же тебя надоумил сюда ее привести?
И мне пришлось сказать ему про мастерскую и верхнюю галерею, откуда я наблюдал за его репетициями.
— Да за мной тут шпионят! — воскликнул Висконти отчасти возмущенно, отчасти весело. Но обрадованный, что наконец-то ему нашли подходящую актрису, он потрепал меня по щеке и сказал: — Если ты играешь так же, как ищешь таланты, тебя ждет блестящая карьера.
Мы вместе подошли к группе актеров и рабочих, толпившихся вокруг Вирджинии, которая все никак не могла успокоиться и продолжала показывать новые трюки. Я то и дело поглядывал на Лукино, который веселился от души. Часто я ловил на себе его взгляд. Но когда наши глаза встречались, он сразу переводил взгляд на полоумную Вирджинию.
Было уже поздно, пора было вести уставшую старушку назад в богадельню.
— Спасибо, Вирджиния, до завтра, — сказал Висконти, проводив нас к выходу, и повернулся ко мне. — Ты тоже приходи завтра к концу репетиции. Что-нибудь приготовь. Покажешь, что умеешь, — на прощание он пожал мне руку. — Хочу получше с тобой познакомиться.
Разумеется, я был на седьмом небе. Прослушивание у самого знаменитого итальянского режиссера! Я побежал к своему приятелю Альфредо Бьянкини, который первым узнавал все мои новости, поделиться невероятным известием. Он очень внимательно выслушал мой бесконечный рассказ и в конце в обычной манере флорентийца, говорящего ровно противоположное тому, что думает, произнес:
— Ну-ну, отлично, поздравляю, — и, качая головой, повторил: — Ну-ну!
Потом попросил, чтобы я рассказал ему о Висконти с мельчайшими подробностями: как он на меня смотрел, сколько удерживал в пожатии мою руку. Я не понимал, к чему он клонит, но Альфредо, наконец, сказал:
— А ты вообще знаешь про Висконти? Неужели ты ничего не слышал?
Я разозлился:
— Я что, по-твоему, с Луны свалился? Я, между прочим, воевал, пока ты в подвале отсиживался. Завтра у меня прослушивание у лучшего в мире режиссера, и это единственное, что имеет значение. И мне нужна твоя помощь.
Альфредо тут же переменил тон.
— Конечно, само собой. — Хотя время от времени он и пытался острить: — Что он сказал? Что хочет лучше тебя узнать? Узнать или познать? В Библии-то познать значит переспать…
Я готов был его убить, но вместо этого мы, оба страшно взволнованные, отправились к нему готовить мое прослушивание.
На другой день я явился в театр задолго до назначенного времени и в большом возбуждении, захватив на всякий случай папку со всеми своими проектами и набросками по постановочной части.
Обстановка на сцене была очень напряженной. Мне показалось, что Висконти сильно раздражен — он все время перебивал актеров, иногда очень грубо. У меня сложилось впечатление, что все его боятся, а он вообще не обращает внимания на тех, с кем имеет дело. Позже я понял (тогда еще не знал), что это была самая обыкновенная репетиция, и актеры давно привыкли к его манере работать. Они бы скорее забеспокоились, если бы он был вежлив и тих. Вспоминаю юного Витторио Гассмана, очень красивого и очень талантливого, который ходил за ним по пятам, как верный пес, и слушался во всем.
Я сам не заметил, как прождал два часа — ведь до этого я никогда не бывал на репетициях драматических спектаклей. Наконец после последних стычек и споров актеры спокойно ушли, причем все казались довольными проделанной работой.
Лукино уже давно заметил меня за кулисами. Он попросил виски и сделал мне знак подойти. Усталым он не выглядел, был по-прежнему напряжен и полон адреналина. Улыбнувшись, извинился, что заставил ждать.
— Это была очень сложная сцена, а когда работаешь над новым текстом, всегда трудно.
Он выпил глоток, спустился вместе с ассистентом в партер, сел в первый ряд и закурил. Я остался один. На пустой сцене стояли только стул и стол. Я воззвал ко всем моим ангелам-хранителям и прежде всего к маме.
Лукино подал мне знак и посмотрел на часы.
— Можешь начинать…
Чтобы начать «как следует», я, по совету Альфредо, выбрал Песнь пятую «Ада». Лукино, казалось, был удивлен, но дал мне дочитать до конца. Гробовое молчание. Еще глоток виски. Ассистент спросил, есть ли у меня еще что-нибудь.
— Да. Монолог Макдуфа.
Лукино и ассистент обменялись парой слов, и ассистент сказал:
— Давай.
Я очень любил этот отрывок из «Макбета» и прочитал его в полном забытьи, пытаясь передать поэзию. Лукино опять поглядел на часы. Он вел себя очень профессионально: поднялся на сцену, не высказывая никакой оценки, только положенные «молодец» и «спасибо». Потом он открыл папку, которую я принес с собой. Внимательно рассмотрел один за другим рисунки, задавал вопросы и вообще проявил интерес.
— У тебя неплохая рука, где ты учился?
— Здесь, в Академии.
— Ну да, вам, флорентийцам, легко, прекрасное у вас в крови. — Он улыбнулся. — Хочешь быть актером или режиссером? Знаешь, ты еще молодой и можешь поглядывать в разные окошки, но настанет день, когда придется выбрать из всех одно.
Он замолчал и посмотрел на меня.
— Выбирать будет нелегко. Для меня выбор — это целая трагедия. Я любил лошадей. Но путеводная звезда должна быть одна, об остальных приходится забыть.
Я был очень смущен, ждал более конкретного приговора.
— Не беспокойся. Время само все решит. — Он потушил сигарету и спросил, пришла ли машина. Привычным жестом, как мимолетная ласка, потрепал меня по щеке и посмотрел в глаза. — Молодец, продолжай в том же духе.
Он вытащил из нагрудного кармана очень надушенный платок. Этого запаха я не знал и спросил, что это.
— «Амман-Буке», его производят в Англии. Нравится? Я пришлю тебе флакон.
Лукино поднес платок к носу жестом влюбленного. Мне показалось, что ему хочется еще со мной поговорить, но он, двинувшись к выходу, произнес только:
— Когда-нибудь расскажешь о себе. — У двери он обернулся. — Я свяжусь с тобой. Оставь адрес. — И исчез.
Когда Лукино уехал в Милан на премьеру «Табачной дороги», мой мир сразу опустел. Альфредо был сдержан и сказал только: «Поживем — увидим». Увидели — когда после премьеры в Милане я получил от Лукино телеграмму: «Пьеса понравилась, но настоящий триумф — твоя Вирджиния, потрясающие отзывы, примадонна. Твоя заслуга. Еще раз спасибо. До встречи, надеюсь. Лукино».
Вирджиния Гараттони стала звездой и почти год гастролировала по всей Италии, затмевая знаменитых актеров. Вся труппа ухаживала за ней, она была счастлива как никогда. А потом она вернулась в свой дом престарелых с набитым кошельком и приятными воспоминаниями, которыми делилась с менее удачливыми подругами.
Летом 1946 года я поехал в Сиену проведать кузину моей матери Инес Альфани Теллини. В свое время она была одной из любимых певиц Тосканини, а утратив голос, стала преподавать пение. Каждое лето она приезжала в Сиену в Музыкальную академию Киджиана, где вела курс сценического мастерства для молодых музыкантов и певцов со всего мира. Там собирались лучшие преподаватели и многообещающие ученики. Центральным событием сезона всегда была оперная постановка, как правило, какое-нибудь редко исполняемое произведение. В тот год Инес попросила меня приехать в Сиену и помочь с оформлением постановки «Гордого пленника» Перголези[20].
Хотя у меня были музыкальные способности, а оперу я любил с детства, со времени моего знакомства с «Валькирией», я совсем не чувствовал связи с этим миром. Но несколько дней, проведенные в Сиене, стали для меня подлинным откровением. Я вдруг понял, каким образом можно соединить театр и музыку. Надо сказать, что до войны такое совмещение происходило крайне редко: оперы, как правило, ставились специально для знаменитого певца или певицы, поэтому оперные постановки были этакими костюмированными концертами. А ведь именно опера — средоточие театра, ибо соединяет все жанры — музыку, пение, драму, постановку и хореографию. Вроде лужайки посреди Олимпа, где все музы, взявшись за руки, водят волшебный хоровод. В Сиене, получив возможность вплотную поработать с певцами, музыкантами, танцовщиками и дирижерами, я начал это понимать. А еще я уяснил, что благодаря декорациям и костюмам полузабытые оперные произведения могут возродиться к новой жизни, и это мне очень пригодилось в последующие годы в театре «Пиккола Скала».
После Сиены я вернулся во Флоренцию, где меня ждало письмо от Лукино. Он сообщал, что набирает новую труппу, с которой будет ставить «Преступление и наказание» Достоевского, сценический вариант Гастона Бати. Премьера намечена на ноябрь, и для меня есть небольшая роль. Это и был случай, которого я ждал и о котором мечтал, но надо было преодолеть кое-какие препятствия, и в первую очередь — уговорить отца.
В последнее время я иногда играл в нашем университетском театре, иногда выступал по радио. Отец знал об этом и терпел только потому, что это было своего рода хобби среди прочих культурных университетских развлечений. На этот раз речь шла совсем о другом — о выборе жизненного пути, и это означало оставить семью, Флоренцию и учебу. «И ради чего? Чтобы стать клоуном в балагане?» Отец даже слышать об этом не хотел, говорил, что жизнь на меня положил и все такое прочее. Но я решил во что бы то ни стало воспользоваться этой потрясающей возможностью. Мы страшно поругались, весь дом был усыпан осколками битой посуды. В конце отец обрушился и на Фанни, которая приняла мою сторону. С этим я и уехал.
Я часто думаю о том, какая мне угрожала опасность. Ведь будь отец менее напорист и более разумен, выбери он путь убеждения — давай вместе пораскинем мозгами, это ведь твоя жизнь — возможно, ему и удалось бы погасить полыхающее во мне «пламя приключений». Наверно, я стал бы архитектором, а в театр ходил с женой и тещей поглядеть, как играют другие. Так что меня спасла вовсе не собственная сила воли, а некоторая ограниченность отца. Мир праху его.
В Рим я приехал в начале октября с очень скромной суммой, которую мне смогли наскрести тетя Лиде и Фанни. Не считая Лукино, в городе у меня был только один знакомый — Пьеро Теллини, сын моей тетки Инес Альфани Теллини. Пьеро обитал в убогом пансионе, где за несколько лир снял комнату и для меня. Теперь это шикарный отель «Англетер», едва ли не самый модный в центре Рима. С Лукино мы виделись во время репетиций, нечасто, потому что у меня была очень маленькая роль. У нас установились рабочие отношения, никакого особого внимания он мне не уделял. Я испытывал гордость оттого, что работаю вместе с тогдашними звездами итальянской сцены, и ни к чему другому не стремился. У меня была крошечная роль одного из двух маляров, красивших квартиру, где Раскольников убил женщин, но по замыслу Лукино все действие разыгрывалось на открытой площадке, поэтому я постоянно был на сцене и с восхищением наблюдал игру потрясающей труппы, где были Рина Морелли, Паоло Стоппа, Витторио Гассман, Мемо Бенасси, Татьяна Павлова — «сливки» итальянского театра.
С актерами у Лукино сложились хорошие дружеские отношения (не говоря о взаимном уважении). Он всегда обсуждал с ними постановку с таким видом, будто речь шла о домашних делах. Сейчас мне кажется невероятным, что ни он сам, ни актеры никогда не становились на скользкий путь выворачивания наизнанку текста и ролей — позже это стало для театра настоящим бичом. В театре, который я знал тогда, речь всегда шла о чем-то конкретном; ничего похожего на соблазн поискать скрытое содержание, перевернуть текст с ног на голову и выявить какие-то еще не открытые ходы. Более того, существовало распространенное неприятие актера-интеллектуала, «философа театральной игры», которых потом стало так много (это пришло в Милан из Северной Европы). Режиссер поправлял, само собой, советовал, поощрял, иногда сам проговаривал реплики, как правило неважно, но это и не имело значения. Его задачей было донести до актеров то, что им надо делать. Сара Феррати, которая уже тогда очень много играла и считалась хорошо знающей театральные тенденции Европы, никого не смущала своими слишком передовыми идеями. С этой актрисой я потом часто и успешно работал. Именно она помогла мне определить «состояние ума», как она выражалась.
«Мы, актеры, — сказала она однажды, успокаивая меня во время тяжелейших репетиций „Вирджинии Вульф“, — просто профессионалы, которые отдают режиссеру в пользование все, что умеют и что собой представляют, чтобы он мог показать, что видит в своем воображении. А мы должны приложить все усилия, чтобы его мечта стала нашей собственной. Мы — инструменты в оркестре, которым он дирижирует, у каждого своя партия, но цель — единый звук, совершенная гармония».
Все актеры того поколения думали так же. Их инструменты были отлично настроены и никогда не звучали сами по себе, даже если они были знаменитостями. Напротив, они поддерживали друг друга и делились опытом с новичками, передавая собственные достижения новому поколению театральных актеров. Мемо Бенасси, которого считали в свое время ни на кого не похожим и настоящим гением, научился играть у Дузе, которая много ему советовала и подсказывала. А он, в свою очередь, вывел в люди потрясающего актера Энрико Мария Салерно, с которым познакомился, когда тот был рабочим сцены театра «Пиккола Скала» и из-за кулис наблюдал за происходившим на сцене. Бенасси обнаружил, что тот знает наизусть все роли, и передал ему накопленные за долгие годы актерской карьеры знания. Таким образом, Салерно, которому однажды повезло, и он вышел на сцену заменить заболевшего актера, очень быстро стал самым необычным итальянским актером своего времени.
Этот пример прекрасно подтверждает одну из моих теорий: человек рождается, чтобы сначала учиться, потом чтобы добавить от себя к тому, чему научился, и наконец, чтобы передать весь свой багаж тем, кто придет после него. Это, конечно, просто схема, но именно так происходит развитие любого искусства, дела или профессии, становление и движение культуры.
Сколько же всего, что могло мне только сниться, я открыл на репетициях у Лукино! Он показал мне, что действительно важно. Не выходки, не капризы, не наглость баловня судьбы — нет, а именно то, что помогает познать самого себя и ведет по жизни.
Я не буду касаться событий, произошедших в театре в последующие пятьдесят лет. Но хочу все-таки высказать пару личных замечаний, хотя бы потому, что я один из последних оставшихся свидетелей того поколения. Наверно, это даже мой долг.
Я видел игру великих актеров, наблюдал последовавший за их уходом развал. Как это произошло? С точностью сказать трудно. У меня на этот счет есть теория, и ее подтверждают факты. Примем за аксиому, что в Северной Европе образовались, с позволения сказать, революционные тенденции в культуре, но прежде чем выходить с ними на сцену, нужно было создать новые тексты; они так и поступили. А в Италии на нашем родном языке после Пиранделло для театра не было написано ничего достойного. Таким образом, актеры начали уделять меньше внимания профессиональной подготовке, которая всегда давала прекрасные результаты, и стали играть, как Бог на душу положит, забыв обо всех правилах. Неслучайно (но как именно, я не понял) безобразная манера играть и выискивание смысла между строк, чтобы прикрыть недостатки обучения, пришла к нам из театральных училищ, от тех, кто должен был стать надеждой итальянского театра.
Назову несколько имен для примера: Джорджио Стрелер, Лука Ронкони, Джорджио Де Лулло, Габриэле Лавия. Что общего у этих четырех актеров, которые несут ответственность за извращение искусства актерской игры? Я уже говорил, это были многообещающие молодые актеры с большим дарованием. Но у них было еще кое-что общее: как актеры, они великолепно играли, если же выступали в качестве режиссеров, то заставляли своих актеров играть совсем в другой манере, произвольно расставляя смысловые ударения, изобретая особые ритмы, требуя скандировать слова, растягивать слоги, прибегать к ненужным запятым, вопросительным и восклицательным знакам. Одним словом, отрицали и отвергали все законы ремесла.
Ноябрьская постановка «Преступления и наказания» имела большой успех, хотя сейчас я уже не вспомню, как все прошло. Наверное, меня уже тогда обуревали мысли о дальнейшей судьбе, в частности, о ближайшем будущем. Лукино готовился ставить «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, в котором были заняты лишь четыре актера. Впрочем, мне и так повезло: я оказался в труппе, которая была центром итальянской театральной жизни, и какое имело значение, что я пару раз останусь без обеда или не найду, чем платить за комнату!
Через Пьеро Теллини, который с возрождением итальянского кинематографа постепенно становился известным сценаристом, я получал подработки, дублируя бесконечные американские фильмы, потоком хлынувшие в Италию, или рисовал рекламные плакаты.
Если я проводил время не с Висконти и его труппой, то до глубокой ночи просиживал с Пьеро, всегда окруженным такими людьми как Роберто Росселлини и Витторио Де Сика. Фильм Росселлини «Рим — открытый город» стал продолжением направления фильма Висконти «Наваждение», покончившего с прилизанной фашистской эстетикой. Было удивительно видеть Анну Маньяни, актрису, которая до «Рима» была любимицей публики в роли простушек, в образе, никогда раньше на экран не попадавшем и одновременно старом как мир, — «настоящей женщины» из народа.
Это и было важнейшим завоеванием неореализма. Но только намного позднее я понял, до какой степени итальянский неореализм был именно актерским, а не режиссерским кинематографом.
Как-то раз мы с Пьеро ужинали в траттории, где часто собирались люди искусства. Вдруг он увидел американца, который мог быть мне полезным.
— Это большой друг Италии и всегда готов помочь, — сказал Пьеро.
Я сразу его узнал: это был Доналд Даунс.
— Черт побери! — воскликнул Доналд. — Да мы же с тобой не виделись с самых похорон Муссолини!
На нас обернулся весь ресторан. Это была моя вторая встреча с ним. Даунс был действительно удивительным человеком, который искал любой предлог, лишь бы пожить в любимой Италии. Своими статьями в американской прессе он пробудил живой интерес к новому итальянскому кино, и очень скоро Голливуд бросился на поиски таких типажей, как Анна Маньяни. Он также пробовал себя в качестве сценариста и написал сценарий для Чарлтона Хестона[21]. Но истинное призвание Доналда было в том, чтобы «бодрствовать, когда остальные спят»: он обладал крайне редким даром распознавать только еще зарождавшиеся новые веяния в искусстве и нераскрытые таланты и знакомить с ними публику.
Он поужинал вместе с нами и, как всегда, высказывал острые независимые суждения о событиях в мире. Доналд был очень критически настроен по отношению к собственному правительству, говорил, что оно ставит под угрозу мир, не желая понимать, в какой опасности окажутся страны вроде Италии, с трудом удерживающие равновесие между демократией и диктатурой. В результате первых послевоенных выборов в 1946 году правительство сформировали христианские демократы, но в 1948 году намечались новые выборы, и коммунисты готовились взять власть в стране в свои руки. Все средства были хороши, любые прикрасы шли в ход, чтобы придать блеск и достоверность обещаниям. Мир культуры и особенно нового кино стал для коммунистов плодородной почвой. А Висконти, со всеми своими противоречиями, был самым лакомым кусочком. Его заполучили, а остальные попадали за ним, как кегли. Может, в глубине души они и сохраняли идеалы свободы и демократии, но не устояли перед пением коммунистических сирен. Решающим ударом стал знаменитый рисунок Пикассо: голубь мира с оливковой ветвью в клюве.
План, задуманный в Москве еще задолго до войны, во время революции в Испании, не встретил никакого сопротивления. И начался триумф «эры политкорректности». Доналд говорил, что было бы честнее называть эту политкорректность просто конформизмом, который пустил глубокие корни после падения фашизма и до сих пор управляет законами «планеты культура», хотя тех, кто его посеял и вырастил, давно уже нет на свете.
В те годы быть коммунистом означало обеспечить себе неплохую жизнь и сделать карьеру. И сегодня, шестьдесят лет спустя, все то же, поскольку само явление, поменяв кожу и имя, по-прежнему остается очень заразным.
Доналд сразу это понял и был полон глубокого отвращения, хотя и не терял надежды: «Итальянцы мудрый и терпеливый народ. В конце концов они поймут».
Это слово «конец» пока так и не появилось на экране.
Даунс тесно общался с молодыми итальянскими кинематографистами, а точнее, выполнял для них, так сказать, функцию deus ex machina[22]. Он сотрудничал с рядом американских агентств новостей и попросту «крал у богатых и раздавал бедным». Такие режиссеры, как Росселлини, постоянно испытывали трудности с кинопленкой, и в этом смысле на Доналда можно было положиться: когда запасы истощались, он всегда ухитрялся где-нибудь стащить несколько бобин пленки Дюпон-1 или Дюпон-II. В то время дюпоновская негативная пленка была лучшей в мире, американские съемочные группы запасались ею впрок и бесконтрольно расходовали километрами. «Да на хрена им сдалась эта пленка! — гремел Доналд. — Все равно в их кинорепортажах одна брехня!»
Дюпоновская пленка обладала высокой светочувствительностью, чем и объясняется отличное качество контрастного черно-белого изображения в большинстве неореалистических лент — между прочим, этот факт обычно не упоминается.
Летом 1947 года через моего кузена Пьеро я получил контракт на оформление рекламного плаката для фильма «Достопочтенная Анжелина», снятого по его сценарию режиссером Луиджи Дзампой с Анной Маньяни в главной роли. Я принес эскизы на студию, где шли съемки, и впервые увидел эту гениальную актрису послевоенных лет. Она выходила из грим-уборной неприступно элегантная, в тонком черном платье и наброшенной на плечи норковой шубке, с вечной таксой на руках — живая легенда!
Для итальянцев, да и для зрителей всего мира Анна Маньяни была архетипическим воплощением простой римлянки, настоящей «римской волчицы». Необыкновенно талантливая и противоречивая, она и впрямь вступала в перебранки с таксистами, как заправская лавочница торговалась на базарах, а когда фашисты были еще у власти, не жалела в их адрес грубоватых шуток. Как это уже было с Лукино, я впервые увидел ее в разгар чудовищной ссоры: вопли, оскорбления, ругань. Она учинила жуткую выволочку Дзампе по поводу молодого актера, совершенно бездарного, которого назначили на главную роль по блату. Анна отказывалась сниматься если ему не найдут замену.
— Я не могу вот так ни с того ни с сего менять актера! — терпеливо возражал ей Дзампа. — Мы сняли с ним уже много сцен, а я вот так возьми да замени его! И кем же?
— Да посмотри ты вокруг, елки-палки! Новых лиц полно! — кричала она, наводя ужас на всех в павильоне. — Разве не это суть вашего кино, что сыграть может любой, лишь бы внешность была подходящая?
Она оглядела всех, и ее глаза остановились на мне.
— Вон тот придурок! Проверь, может он связать два слова? Внешне годится… А нет, так иди ищи на улице, — и ушла в свою уборную, возмущенная.
Дзампа в тоске подозвал меня и поинтересовался, откуда я взялся. Тут вмешался Пьеро:
— Это мой кузен. Он наш художник-оформитель.
— Ты когда-нибудь играл? — спросил Дзампа, пристально глядя на меня.
Прежде чем я успел раскрыть рот, Пьеро врезал мне ботинком по щиколотке. Я сразу понял, что это значит: в мире неореализма обладание актерскими навыками — непростительный грех.
— Играл? Боже сохрани.
Дзампа решил сразу же провести кинопробу. Я страшно испугался и попросил дать мне мою роль. А может, загримироваться? Дзампа тяжело вздохнул и велел не терять времени на глупости. Потом он резко приказал встать перед камерой. Он сам будет говорить мне, что делать, звук потом все равно надо накладывать.
Начали снимать. Я следовал его указаниям: посмотри туда, посмотри сюда, расскажи, что ел, что ты хочешь получить в подарок… куда хочешь поехать…
Я немного осмелел и, держась свободно, стал пространно и с готовностью отвечать на вопросы.
Когда мы закончили, в павильоне повисла гробовая тишина. Дзампа вполголоса разговаривал с оператором. Мне показалось, что они чем-то смущены и даже разочарованы, и задрожал от волнения. Вернулась Маньяни и спросила, как дела. Дзампа не стал скрывать сомнения:
— Внешне он ничего, выглядит умно, вот только…
— Что только?
Дзампа поделился с ней сомнениями:
— Выглядит ненатурально… играет, и неплохо… умеет играть, ясно?
Маньяни взорвалась:
— Играть, значит, умеет? Внешностью подходит и к тому же умеет играть! Скажите пожалуйста, какая трагедия!
Она еще долго проезжалась по поводу «вонючего веризма», а потом как закричит прямо ему в лицо:
— Это мы, актеры, делаем кино! — И ушла.
Лучшей роли для себя я не мог и желать: мечтательный юноша из богатой семьи разыгрывает душераздирающую сцену, когда ему приходится идти наперекор своему алчному папаше. Для пущего реализма вспомнил даже яркие сцены семейных скандалов. Но Маньяни сразу принялась расспрашивать меня, где я учился актерской игре, и в перерывах ей удалось выпытать всю мою историю. Так началась наша дружба. Маньяни привыкла поздно ложиться и терпеть не могла одиночества, так что мы проводили с ней в беседах ночи до рассвета или шли кормить бродячих котов на пьяцца Арджентина. Как-то раз она сказала:
— А ты честолюбив. Такие, как ты, или залезают на самый верх, или проваливаются в тартарары. Это точно. Будь осторожен. Хоть я и люблю Лукино, но он настоящая змея! Тебе, может, и удастся добраться до того хорошего, что у него в глубине души, но для этого понадобится особый буравчик…
Она рассмеялась собственной скабрезности, а я не мог проронить ни слова.
Поначалу я старался помалкивать при Лукино об участии в фильме, подозревая, что он будет сердиться, но они с Маньяни были большими друзьями, и все прошло гладко.
Теннесси Уильямс приезжал на премьеру «Стеклянного зверинца». Он был очень рад, что уступил Лукино права на итальянскую постановку «Трамвая „Желание“», который прямо перед этим произвел фурор на Бродвее. Лукино думал пригласить Маньяни на роль Бланш. Теннесси, который просто боготворил Анну, часто приходил на съемки со своим давним знакомцем Даунсом. Я сразу понял, что Доналд не испытывает к Лукино ни малейшей симпатии: да, большой талант, но при этом «коммунист из модной лавки» — его слова.
Вскоре римская жизнь стала меня тяготить, поэтому летом я сбежал в Позитано, рыбацкую деревушку, которую мы с Кармело открыли еще во время нашего велосипедного путешествия в 1941 году. С тех пор я несколько раз приезжал туда, иногда вместе с приятелями, которым хотел показать нетронутую красоту узких улочек вокруг величественной церкви, зажатого между двух высоких утесов чудесного побережья, где всегда полно рыбацких лодок. Деревушка сохранила свое очарование, главным образом, благодаря недоступности.
На пляже я завел себе немало друзей, в том числе двух братьев, приходившихся родней герцогине Виллароза. Ее дом стоял на другом берегу бухты, напротив Позитано, в самом красивом месте залива, откуда открывался потрясающий вид на деревню. Однажды мы с братьями решили перебраться вплавь с пляжа на виллу, тогда-то я впервые и увидал место, с которым потом будет связана значительная часть моей жизни. Мы вышли на галечный пляж, куда из ущелья вырывался водопадик, вращавший деревянное колесо старинной мельницы. Братья громко прокричали приветствие странному старику с длинной седой бородой, должно быть, там и обитавшему. Они рассказали, что это Семенов, русский, бывший владелец всей недвижимости на мысе, которого нужда заставила распродать один за другим дома, виллы, участки. Сохранил он только старую мельницу, где и поселился.
Герцогиня Виллароза приобрела три стоящие рядом на склоне холма виллы, и местные жители стали называть ее владения «Виллой Три виллы». Архитектурный облик самой нижней, розовой виллы выдавал ее римское происхождение, а те, что повыше, были выстроены в XVIII веке какими-то неаполитанскими аристократами. Скалы были покрыты густой средиземноморской растительностью — пиниями, кактусами, опунциями. То там, то сям сквозь листву открывался фантастический вид на Позитано, сказочный, невероятный, величественными горами на горизонте напоминающий декорации в парижской «Грандопера».
Герцогиня, не прерывая светской беседы с гостями, пригласила меня на обед. Она была настоящей аристократкой, то есть прикладывала все усилия, чтобы ею не казаться. Сидя под огромным белым тентом, в соломенной шляпе и больших темных очках, она говорила по-английски с сильным, мне показалось, славянским акцентом. Из беседы я понял, что она устала от «Трех вилл» и мечтает ее продать.
— Слишком много солнца, — жаловалась она. — Слишком много моря и скал, лестниц и лестничек. Слишком много всего!
Впоследствии я узнал, что у нее был бурный роман с молодым неаполитанцем, владельцем дома в Позитано, но она обнаружила, что он изменяет ей с множеством женщин. Она потеряла терпение, устала ждать, что молодой человек одумается и подарит ей немного внимания.
— Нет, нет, — повторяла она. — Слишком много солнца, слишком много всего.
Наверно, ей хотелось еще добавить: «Слишком много шлюх!» Одним словом, она собиралась уехать в Кортину или в Венецию, я не понял.
Это и был как раз один из тех моментов, которые впоследствии, когда все уже произошло, кажутся чересчур простым совпадением для дела такой важности. Я сразу вспомнил, что Доналд и его состоятельный друг Боб Уллман, тоже бостонский интеллигент, подыскивают дом на Амальфитанском побережье — они оба страшно любили эти места. И вот, вернувшись в Рим, я рассказал им о герцогине и ее трех виллах — открытии, которое потом и для меня оказалось очень ценным. Но я даже не мог себе представить, каким невероятным образом жизнь еще переплетет наши судьбы.
Доналд был по-прежнему связан с кино, и вскоре после моего возвращения в Рим он познакомил меня с Хелен Дойч, очень милой и умной американкой, незадолго до того написавшей сценарий для «Кармен», в которой блистала Рита Хейворт. Хелен приехала в Италию по заданию киностудии RKO[23] для встречи с Анной Маньяни, которая после грандиозного успеха фильма «Рим — открытый город» стала объектом пристального внимания в Голливуде. Хелен показали последний фильм Маньяни, нашу «Достопочтенную Анжелину», и на нее произвел большое впечатление молодой актер, исполнивший роль мечтательного сына богача. Доналд говорил мне, что Хелен обладает в RKO большой властью, но я просто ушам своим не поверил, когда однажды она, пригласив меня на ужин, предложила пятилетний контракт со студией по полторы тысячи долларов в неделю — целое состояние по тем временам! Правда, предложение Хелен было небескорыстным, как обычно бывает в жизни, потому что она довольно прозрачно намекнула, что не прочь «познакомиться со мной получше». В общем, я ей очень нравился. А я был в таком восторге от полученного предложения, что мне даже в голову не пришло отказаться от оплаты «натурой», тем более что перспектива была весьма приятной. Хелен была очень милой моложавой женщиной, энергия так и била из нее. Не думаю, что оправдал ее надежды на «средиземноморскую страсть». Я вспомнил свой первый опыт в Виареджо с матерью девушки, за которой ухаживал. Абсолютная ясность и сознательная отстраненность. Она этого не почувствовала, а может, не ждала ничего другого, и все прошло гладко. Обоим было приятно, а я уже сделал для себя вывод, что таков, вероятно, обычный пропуск в Голливуд: спать с людьми, которые могут составить тебе протекцию. Ну что же, могло быть и хуже.
Я решил посоветоваться с Доналдом, и его ответ был очень резким:
— Да ты сошел с ума! — сухо сказал он. — Даже не думай о такой ерунде. Они тебя используют, а потом выбросят на помойку. Я знаю Хелен, она хорошая баба, но у нее тоже есть слабости. Тут речь идет о твоей жизни, о будущем. — Он скривился. — Им что, нужен новый Родольфо Валентино? Одного им мало?
Это невероятное предложение я получил как раз в тот момент, когда меня начали мучить сомнения относительно наших отношений с Лукино. Для меня не было тайной, что он увлечен мной, но увлекался он и другими, и его интерес не шел дальше осторожного флирта. Во время совместной работы в театре я не раз ловил на себе его особенный красноречивый взгляд. Иногда, исправляя мои сценические ошибки, он вдруг начинал ужасно злиться, а я никак не мог или не хотел понять причину его внезапного гнева. Иногда же он был очень ласков и внимателен: просил показать мои эскизы костюмов и оформления сцены или советовал, какие книги стоит прочитать: «Война и мир», «Дьявол во плоти»[24] и «Принцесса Клевская»[25]. Но думать, что он испытывает ко мне чувства другого рода, не хотелось, хотя это было очевидно.
Я все знал о его романах. Его личная жизнь была полна секретов полишинеля: всем было известно о его связях с актерами и о скандальных приключениях с женщинами — от американки, фоторепортера журнала «Харпере базар», которая была от него без ума, и до писательницы Эльзы Моранте, которая посвятила ему свои лучшие стихи и заполонила весь дом персидскими кошками. У него были знаменитые любовники в Париже… В общем, сплетням и слухам не было конца.
Но со мной Лукино вел себя безупречно. Возможно, он понимал, что отношения со мной станут развиваться иначе. Не знаю.
Однажды я пошел к Лукино и рассказал о голливудском предложении. Эта затея ему совершенно не понравилась. В это время он занимался поиском денег для фильма «Земля дрожит», и у него в этой связи возникла масса проблем: будущий фильм был пронизан коммунистическим пафосом и накануне всеобщих выборов мог стать орудием политической борьбы. Услышав про «американскую историю», Лукино возмутился.
— Ты что, спятил? — злобно закричал он. — Если хочешь продать свою задницу американцам, ради бога! Проваливай! Мне это неинтересно! — И разразился потоком язвительных комментариев, в которых животная ненависть коммуниста к Америке соседствовала с личной душевной драмой.
— Я не вижу большой беды в том, чтобы попытать счастья.
— Попытать счастья? — заорал он. — Да они из тебя все соки выжмут! Если повезет, получишь крохотные роли в их дерьмовых фильмах! И в конце концов превратишься в толстого дурака, еще тупее, чем сейчас. Впрочем, поступай, как знаешь, это твоя жизнь. Если тебе так хочется работать в Голливуде, валяй, но не надейся когда-нибудь еще работать со мной.
В его словах было что-то напоминающее болезненное прощание с учеником, на которого возлагались большие надежды.
Поразмыслив над его словами, я понял, что он все-таки прав. И Доналд, и Лукино, один американец, а другой коммунист, категорически возражали против моей поездки в Голливуд. А с другой стороны, мне не хотелось упускать такую возможность. Я чувствовал себя так, словно на карту поставлена жизнь, и никак не мог принять решение.
Тем временем Хелен терпеливо дожидалась моего ответа. Ее римские каникулы подходили к концу, и беспокойство росло. Она тоже не очень представляла себе будущее. Я начал догадываться, что она относится к нашей связи чересчур серьезно; Хелен была страстной и нежной и одновременно резкой и грубой. В общем, моя нерешительность портила жизнь всем.
Через несколько дней мне позвонил Лукино. Он сообщил, что наконец нашел деньги для фильма и планирует начать съемки в октябре.
— Жалко, ты уже тогда будешь в Голливуде. Но, видно, судьба сама за тебя решила. Будь здоров, — сказал он и повесил трубку.
Прошло еще несколько дней, и он позвонил снова. На этот раз он говорил совсем другим тоном. Я почувствовал, что он сильно переживает мой возможный отъезд. Но какое будущее ожидает меня, если я ради него откажусь от Голливуда? Лукино предложил мне работать у него ассистентом. Неужели он и впрямь считал, что я смогу помочь ему на съемках, или с его стороны это была просто уловка, чтобы заставить меня махнуть рукой на Америку?
— Мы можем увидеться? — спросил я.
— Приходи сегодня вечером, — сразу ответил Лукино.
Я знал, что, еще нюхая платок, надушенный «Амман-Буке», во время нашей первой встречи во Флоренции, Лукино испытывал ко мне особое влечение. «Любви без влюбленности (coup de foudre) не бывает», — писал Александр Дюма. Но только когда Лукино понял, что может меня потерять, он, наконец, осознал всю глубину своих чувств ко мне.
VI. Секс: шестое чувство
Наверно, над сексом тяготеет какое-то проклятие, недаром мысль о нем вызывает чудовищное чувство вины, он источник болезней, через него передаются инфекции, от него и умереть можно, да и вообще секс прямой дорогой ведет нас в ад. Но материя, из которой мы состоим, в нем нуждается, требует его настойчиво и безжалостно, и все живое на земле ему предается — лягушки, львы и муравьи. Исключение — несколько отшельников в Трансильвании, но они под конец сходят с ума.
В пору моего детства и отрочества единственное, о чем не принято было распространяться вслух, был секс. Запретный плод, но это-то и вызывало любопытство. К тому же католическая церковь считала его грехом. Никто и никогда даже не делал попытки рассказать нам, что это такое, и разгадку этой тайны приходилось искать самостоятельно.
Если у меня в детстве и имелось смутное понятие о сексе, то ассоциировалось оно с любовью и нежностью, вниманием, подарками, взаимным чувством между мужчиной и женщиной, но не более того. Мои первые представления о сексе связаны с любовью, потому что мать была необычайно любящей и страстной женщиной. Отец обычно навещал ее поздно вечером, и помню, что в дни его визитов мать вела себя очень странно. Я слышал, как она вдруг начинала мурлыкать по телефону — мать была одной из немногих во Флоренции, у кого в доме был телефон, — и после разговора с ней происходило что-то непонятное: ее настроение внезапно менялось, она становилась оживленной и взволнованной.
Дети похожи на животных: они могут не понимать смысла происходящего, но очень чутко улавливают эмоциональную атмосферу; так, я сразу ощущал переполнявшее ее радостное возбуждение. Теперь, когда мне хорошо известны эмоции и страсти, связанные с сексуальным влечением, я способен понять чувство предвкушения, которое испытывала мать: предвкушения не только сексуального наслаждения, но и всего того, что предшествует этим сладостным мгновениям.
Мать перестилала постель, набрасывала шелковые платки на лампы, отчего комната погружалась в теплый полумрак и купалась в мягких бликах света и тенях. Она принимала ванну с какими-то особыми солями, затем надевала один из самых красивых халатов и становилась необычайно привлекательной. Сильный аромат ее духов струился по всей квартире, а она садилась к фортепьяно и погружалась в музыку, пытаясь преодолеть волнение ожидания.
Обычно мама брала меня к себе в кровать, где я и засыпал в чудесном ощущении тепла и безопасности, но в те особые ночи она укладывала меня в стоящую рядом детскую кроватку.
Иногда я просыпался среди ночи, разбуженный странными стонами и вскриками, и видел, как этот человек, мой отец, безжалостно нападает на мою обнаженную мать, очевидно, желая причинить ей боль. Но она не звала на помощь: она сжимала его в объятиях и покрывала поцелуями, как будто испытывала непонятное мне удовольствие и трепет. Когда среди ночи он вставал и уходил, мать брала меня на руки и нежно переносила к себе. Я чувствовал, какая она умиротворенная, теплая, счастливая, и мирно засыпал у нее на груди под биение ее сердца.
Я никогда не видел отца в дневное время. Для меня он долгое время оставался незваным гостем, который по ночам нападает на мать и, уж не знаю как, ею обладает. В моем восприятии его существование исчерпывалось вот этой странной близостью с матерью. Я никогда не жил с ним полноценной жизнью семьи. Только после смерти матери отец стал в моей жизни отдельной личностью. Мы виделись раз в неделю по субботам в городском парке. Он всегда был щеголевато одет, пахнул одеколоном и вовсе не казался извергом, который истязал маму. Но в какой-то мере образ отца в моем воображении так и остался связанным с грубым обладанием, и я даже побаивался, что он нападет на меня, как нападал на мать.
Фрейд наверняка гораздо лучше объясняет, каким опытом раннего детства обусловлен наш сексуальный выбор.
Таково было мое первое знакомство с «тем самым», но я, разумеется, не знал, что это такое. Однажды на улице я видел, как кобель оседлал суку, и ужасно был шокирован тем, что столпившиеся вокруг взрослые хохотали и шутили:
— Ну-ка задай ей, парень, по первое число! Браво! Ай, молодец! — кричали люди, подбадривая пса. Собаки не обращали внимания на веселящихся зрителей.
— Ну что, хорошо было? — кричали мужчины, когда кобель закончил свое дело. — Славно потрахался?
И хотя мамаши уводили детей подальше, по реакции зевак я понял, что происходит что-то веселое, а вовсе не ужасное. Я рассмотрел, что кобель вонзал в суку что-то торчащее из его живота, но мне тогда и в голову не пришло связывать пенис с сексом: для меня это было приспособление, чтобы писать. Позже я узнал о других отчетливых половых признаках. Например, что девочки отличаются от мальчиков, хотя в возрасте семи-восьми лет они были точно такие же, как мы, плоские худышки.
Не забывайте, речь идет о начале тридцатых годов. Сегодня все гораздо проще. Детям рассказывают про секс уже с двух-, трех-, четырехлетнего возраста, хотя можно сожалеть, что их лишили волнующих мук постижения тайны, как было в древнем обряде посвящения.
Когда я переехал жить к своей тетушке, у нее только-только начался роман с Густаво, и они, едва могли улучить минуту, спешили заняться любовью. Моя тетушка была красивая, обаятельная женщина, а Густаво — необычайно привлекательный мужчина с атлетической фигурой. Он приходил к нам каждый день, они с тетушкой наспех обедали и отправлялись в спальню «вздремнуть». Меня распирало любопытство: чем же они там занимаются за запертой дверью. Я просверлил дырочку и стал за ними подглядывать. Затаив дыхание, я смотрел на них, совершенно обнаженных, и видел налитый желанием член Густаво — с экипировкой у него было все в порядке. Я смотрел, как Густаво вонзает в тетушку эту огромную штуковину, и по их поведению понимал, что занятие доставляет им все большее наслаждение по мере того, как они приближаются к финалу, испуская радостные вопли. Это и был секс? А что именно при этом испытывают? А где он держит эту огромную твердую штуку целый день, в брюках, что ли? Но ведь ничего не было видно, а спрятать такую вещь нелегко. Все детство это оставалось для меня тайной.
В том возрасте нас с приятелями интересовали наши «крантики»: мы играли с ними, сравнивали, трогали друг друга. Мальчики постарше, одиннадцати-двенадцати лет, считали, что знают про это дело все, и мы им беспрекословно верили, потому что они были опытнее, они были нашими учителями. Они могли делать с нами все, что хотели: велели бы встать на колени и целовать им «эту штуку» или раздвинуть ноги, чтобы они попытались — безуспешно — в нас войти, мы бы подчинились в полном упоении.
Но и они пребывали в почти полном неведении. В монастыре Сан-Марко был один монах, который мне очень нравился: что и как он говорит, его манеры и даже как на нем сидит облачение. Ко мне этот монах тоже относился с большой любовью: он был всегда внимателен, обнимал меня и ласково гладил, давал читать хорошие книги, брал с собой на пешие и велосипедные прогулки. Я частенько наведывался к нему в монастырскую келью, и он беседовал со мной не только о христианстве, но и о жизни, о политике и музыке. Монахи вообще сыграли огромную роль в формировании и развитии нашего духовного мира и вели себя с нами, мальчишками, совершенно безупречно. Но иногда мне что-то начинало казаться, а воображение угодливо дорисовывало. Теперь-то я понимаю, как сильно страдал этот монах, потому что его, безусловно, снедало искушение заняться со мной сексом. Однажды я стоял у окна в его келье и смотрел на ребят, играющих в монастырском дворе, он тоже подошел, встал сзади и обнял меня. Вдруг я почувствовал, как в меня уперлось что-то горячее и твердое. Мы долго так простояли, пока он не содрогнулся, застонал и издал вздох облегчения. Он расслабился, удовлетворив свое оставшееся тайным желание простым прикосновением ко мне. Монах сразу же поспешил в молитвенный угол и, пав на колени, зарыдал от раскаяния и стыда. Мне он сказал, что должен помолиться, и попросил вернуться к друзьям.
Поле этого случая он всегда вел себя корректно и осторожно. Перестал целовать и гладить меня, как раньше.
Мы не в силах осознать, какую великую жертву приносят те, кто, как тот монах, посвящают свою жизнь Господу и дают обет целомудрия. Для меня непостижимо, как молодой человек может отказаться от такой важной части жизни, как секс. Иисус ни разу не упоминает про секс, в Евангелиях на него нет даже намека, за исключением Марии Магдалины и женщины, взятой в прелюбодеянии[26]. И хотя я глубоко восхищаюсь теми, кто блюдет целомудрие и приносит такую нечеловеческую жертву ради веры, их подвиг по-прежнему сильно меня озадачивает.
Развлечение, на которое никогда не проходит мода, — это игра фантазии, основанная на предположении «а что если бы». В ней мы все попробовали свои силы. Сколько страниц посвящено исследованию вопроса, что произошло бы, если бы в день битвы при Ватерлоо у Наполеона не случился понос? И все такое прочее.
Я тоже люблю в нее поиграть, но не захожу дальше безобидных фантазий и вымыслов, потому что твердо убежден (и люблю повторять), что История — это только то, что состоялось. Всего остального нет, потому что оно не состоялось. Однако если в вымысел попадает та часть реальности, которая еще может воплотиться, игра меняется, выходит за рамки простого развлечения и переходит в разряд гипотез и реальных предположений.
Я часто задумываюсь, какой была бы церковь без целибата для священников. Что было бы в приходе, будь у священника жена и дети? Наверно, все бы привыкли, ведь священник уже перестал быть фигурой, окруженной ореолом святости, хотя и сохраняет роль почетного посредника между нами и тем Богом, в вере в которого мы так отчаянно нуждаемся.
Верующие встречали бы жену священника в супермаркете или возле школы, где учатся их дети. Они обменивались бы новостями и сплетнями. И разве те остатки благоговения пред божественным, которые еще теплятся в сердцах, исчезли бы окончательно? Полагаю, что эту новую действительность рано или поздно приняло бы большинство. Протестантизм? Решение проблемы старым способом?
Я часто вспоминаю несчастного монаха, который однажды не устоял в своей слабости ко мне. Упокой, Господи, его душу, ведь он совсем не желал мне зла, напротив, он хотел телом выразить свою любовь. Сегодня я думаю, что если бы в тот день он попросил у меня чего-то больше обычной привязанности, я бы ему не отказал.
Едва ли я забуду тот день, когда впервые испытал оргазм, потому что начало моей сексуальной жизни совпало, как ни странно, с кончиной Пиранделло в 1936 году. Радио в нашем доме никогда не выключалось, и однажды жарким летним днем я услышал сообщение о его смерти, как раз когда занимался мастурбацией. Тогда я испытал совершенно новое удовольствие, и это произошло. Какое это было чудесное открытие!
Жаль, конечно, что приходится ставить рядом два события такого несопоставимого значения, но это только для того, чтобы установить точную датировку моего «сексуального крещения».
Совершенно не могу понять, почему секс не принято считать самым настоящим шестым чувством наряду с пятью другими. Только когда ты, наконец, открываешь его, тебе становится понятно, почему он оказал столь огромное влияние на развитие нашей цивилизации, на историю человечества и все творение. Так или иначе, все и всегда крутилось вокруг секса. Бог даровал нам это великое наслаждение для продолжения рода. Это звучит банально, но я и хочу быть банальным, потому что без секса нас бы просто не было.
После моего первого оргазма я почувствовал соблазн пережить его не в одиночку, а с другими. Для нас с друзьями мастурбация в парке была своего рода игрой — мы сравнивали, у кого член больше, чья струя брызнет дальше. Потом настал период, когда мне показалось, что пора обратить внимание на девчонок. Только было непонятно, что надо делать и хватит ли терпения учиться этому. Я играл с девочками, заглядывал им под юбки, трогал их маленькие грудки, но не открывал для себя ничего нового.
Мне было шестнадцать лет, когда я впервые переспал с женщиной. Это была мать девочки, за которой я ухаживал, и однажды вечером в Виареджо, к моему огромному смущению, она затащила меня в постель. Я понятия не имел, что надо делать, с чего начать, но она оказалась весьма искушенной соблазнительницей. Это была красивая еще женщина, очень опытная, и ей нравилось обучать мальчиков эротическим играм. Надо признать, у нее отлично это получалось, но хотя она призывала меня за лето много раз, ей не удавалось добиться от меня ничего, кроме рассеянного участия. Мне нравилось, и даже очень, но казалось, что я сплю с собственной матерью. При выборе жены сын ищет замену матери, что особенно характерно для латинской и греческой культур, то есть в жене он ищет воплощение образа матери. Возможно, это и есть одна из причин моего замешательства: я ощущал острую потребность в матери, которой не было, и не мог заменить ее ни одной женщиной. В моих глазах женщина, любая женщина, была в первую очередь матерью и поэтому просто не могла стать любовницей. Я даже никогда не предавался фантазиям о любовных отношениях с женщинами. Но к тому времени я уже начал интересоваться разными вариантами секса — активного и пассивного, в зависимости от того, на чьем месте я себя воображал — матери или отца.
Потом у меня было несколько случаев гомосексуального опыта, связанного, вероятно, с великой культурой Возрождения, которая окружала меня с младенчества. В XV веке, в эпоху Ренессанса, однополая любовь была очень распространена во Флоренции. Каждый третий житель мужского пола в возрасте от четырнадцати до сорока лет имел опыт однополой связи, потому что тогда не существовало иного способа заняться сексом. Девушки оставались девственницами до замужества, проститутки требовали денег, старухи вызывали отвращение. Оставались замужние женщины и юноши. В те времена гомосексуалистов в Германии даже называли «флорентийцами».
Да и в годы моей юности секс вовсе не был легкодоступен. Большинство девушек вступали в брак девственницами, как и многие мужчины, кстати. Для основной части юношей моего возраста настоящая сексуальная жизнь начиналась поздно — только в армии, после двадцати лет, где представлялась масса возможностей заниматься сексом. Вот я и предавался фантазиям о сексе, мастурбировал, испытывал во сне оргазм или постоянно думал о своих приятелях. Нас обуревали сильные страсти, но на деле не происходило ничего или почти ничего. Порой кажется просто невероятным, как изменился наш мир.
В годы моего отрочества гомосексуализм во Флоренции был достаточно распространен, но где-то «на глубине», как подземная река. Действовать нужно было очень осторожно, любой намек на то, что ты «не такой как все», грозил презрением общества. А с другой стороны, в нем была сладость запретного плода. Во всяком случае, лично для меня этот период вовсе не был богат событиями сексуального характера. Голова была занята массой других вещей, хотя нередко одной только улыбки приятеля было довольно, чтобы пробудить дремлющие желания.
Кармел о Бордоне, наверно, был самой большой любовью моей юности. Мы учились в одном классе в художественной школе и сходили с ума друг по другу. Вели себя как влюбленные, устраивая сцены ревности и демонстрируя друг другу любовь и нежность. Но ни он, ни я не знали, как точно расшифровать природу наших чувств, и не осмеливались сделать следующий шаг — к сексу. Поэтому мы переживали наш необычный роман (а это был настоящий роман), сами того не сознавая. У нас чуть было не возникли серьезные проблемы, потому что Кармело, неосторожный в своей невинности, постоянно писал мне любовные письма и записки, которые иногда обнаруживала моя тетушка. Одну из них прочитал Густаво и хотел отлупить меня. Но тетю Лиде письмецо совершенно не смутило.
— Да они ничего такого не имели в виду! — заявила она решительно. — Просто эти славные мальчики очень друг друга любят. Смотреть на них — одно удовольствие.
Я не сомневаюсь: она была уверена, что мы с Кармело любовники, жаль только, что тетя не сделала следующего шага — не обучила нас, что делать.
Велосипедная поездка на юг, которую мы с Кармело совершили, стала прекрасной возможностью побыть вдвоем и вместе пережить удивительные, потрясающие приключения. Но одновременно эти пятьдесят дней были наполнены невероятным напряжением, потому что мы не осмеливались дать выход нашей сексуальности. Такое положение дел не могло остаться без последствий и неизбежно привело к психологическому конфликту.
Мы начали ссориться и раздражаться, целыми днями не разговаривали, а потом мирились, потому что поездка привязывала нас друг к другу. Но нашим отношениям явно недоставало завершенности, которую настойчиво требовала наша дружба, — любви, то есть секса. И это было ужасно.
Постоянные ссоры окончились только после того, как мы вернулись во Флоренцию. Отец Кармело получил новую должность на Сицилии, и он уехал туда с родителями. Разлука оказалась удачным решением всех проблем. Мы продолжали переписываться до тех пор, пока он не сообщил, что встретил девушку и хочет забыть все, что между нами было.
Все — а что именно?
К счастью, у меня в школе был еще один друг, Альфредо Бьянкини, вероятно, тоже не очень уверенный в своей сексуальной ориентации. Он часто говорил об «ужасном пороке», поразившем Флоренцию. Он вертелся вокруг нас с Кармело в художественной школе и отпускал по нашему поводу колкие замечания, насмешливо гадая, кто из нас «муж», кто «жена». Альфредо то и дело подначивал нас, называя меня «синьора Бордоне», а Кармело — «леди Дзеффирелли», и так до бесконечности. После отъезда Кармело он стал моим ближайшим другом. Альфредо обладал острым умом, любил музыку, театр, пение, мы вместе ходили в оперу, на концерты и на выставки.
Через него я познакомился с одной из колоритнейших фигур «запретной Флоренции» — крупным торговцем антиквариатом, выходцем из богатой семьи предпринимателей. После череды скандалов и сплетен он стал ходячим символом флорентийского гомосексуализма. Он жил в пригороде, на очаровательной вилле среди холмов, и имел обыкновение каждое утро приезжать к себе в галерею на набережной в элегантной старинной двуколке, запряженной белой кобылой. Он категорически отказывался от автомобиля и всячески призывал запретить их въезд в центр, разрешив только фиакры и велосипеды. К сожалению, его не послушали, и в конце концов автомобильное движение затопило весь город.
Между пятью и семью вечера, перед закрытием галереи, он принимал приятелей — живописную толпу известных и неизвестных лиц, и не было лучше места во Флоренции, чтобы узнать все мировые новости. Он говорил о последних антикварных находках, обсуждал городские сплетни, щедро пересыпая речь французскими цитатами. Он гордился тем, что знал чуть не наизусть «В поисках утраченного времени» Пруста.
Когда Альфредо привел меня туда во второй раз, один из его друзей с большим удовольствием рассказывал, как ему удалось затащить в постель известного во Флоренции донжуана, и это привело хозяина в негодование.
— Это он впервые, а теперь благодаря мне ему понравилось! — хвастался приятель, необычайно веселясь.
«Символ» взорвался:
— Раз уж тебя, грязную потаскушку, удостоил внимания настоящий мужчина, то тебе надо на коленях благодарить Боженьку да хранить тайну! — гремел он. — Это же дар, милость, которой надо гордиться, а не превращать в отвратительную сплетню!
Его ярости не было предела, все остальные кивали головами в знак полного согласия. «Грязная потаскушка» ушел в слезах и, судя по всему, двери дома перед ним захлопнулись навсегда. «Символ» успокоился, отпил чаю и обратил внимание на меня.
— А ты, красавчик, зачем пришел? — поинтересовался он, глядя мне в глаза. — Ты ведь здесь во второй раз, верно?
Альфредо сразу же заявил, что привел меня, потому что хотел, чтобы я познакомился с этим удивительным салоном, salon particulier, что я не в силах сам разобраться в своих ощущениях, и, возможно, он сумеет дать мне дельный совет.
— Никаких советов! — воскликнул «символ». — Учиться всему надо на своих ошибках, даже если иногда приходится дорого платить. Ошибки надо любить! Mais, comme disait Proust, Il ne suffit pas de les aimer, il faut les adorer[27].
Он отпил еще глоток и изрек с вдохновенным пафосом:
— Быть теми, кто мы есть, — это ответственность, это миссия. Мы нужны человечеству. Кем стали бы Леонардо или Микеланджело, не будь они как мы? А чем была бы без них Флоренция, весь мир?
Присутствующие единодушно согласились с ним и вернулись к беседе, забыв про меня. Да и кто я был для них, в конце-то концов? Не молодой же лев, которого надо укрощать, скорее, симпатичный кролик, погрязший в собственных проблемах. А уж проблем в тот момент хватало.
Я никогда не любил распространяться про свою сексуальную жизнь — не потому, что хотел ее скрыть, а потому, что она касается только меня и очень немногих. Лишь однажды, лет десять назад, давая в Сан-Франциско интервью о гомосексуальной жизни города, я вполне откровенно и публично признался, что у меня были связи с мужчинами. Это был единственный раз, что я заговорил об этом вслух. Как правило, я избегаю этой темы. Если людей интересует мое творчество, пусть его и обсуждают. И надо признаться, именно так они всегда себя и вели.
Кроме того, я терпеть не могу словечко «гей», как по-дурацки называют гомосексуалистов[28]. Может, чтобы показать, что они в нашем обществе дурачки, этакие скоморохи, с которыми можно мириться только потому, что они всех потешают, а их глуповатые повадки и привычки безвредны и забавны. Еще более оскорбительными я считаю так называемые гей-парады, эти непристойные шоу, на которых родители рукоплещут сыновьям в женском платье, выставившим себя на всеобщее посмешище. Если это попытка оправдать жизненную позицию, которая всегда считалась постыдной и двусмысленной, то она ошибочна. Быть гомосексуалистом — это нелегкое бремя и для нас самих, и для общества, в котором мы живем, и чем меньше об этом говорят и выставляют напоказ, тем лучше. Лишь Господь знает, сколь тяжек этот удел для верующего. Так что все что угодно, любое оскорбление, но только не «гей», ибо ничего «веселого» в нем нет.
Традиция однополой любви восходит к древности, она неотделима от цивилизации Древней Греции и Рима, от эпохи Возрождения, других исторических периодов, когда гомосексуалисты были активной и уважаемой частью общества. Героические легенды о мужских парах олицетворяли высокие благородные идеи. В греческой культуре войско всегда особо чтило воинов любовников-друзей, потому что они сражались не только за родину, но и друг за друга. Гибель Патрокла, вызвавшая гнев Ахиллеса, — не только потеря друга и любовника, но и утрата части собственной души и тела.
Интерес Лукино ко мне возрастал. Это проявлялось в том, что он давал мне много работы. В то же время я рос и становился неотъемлемой частью его личной и профессиональной жизни. Мы обнаружили, что нас связывает удивительная мифологизация материнского образа. Он тоже был влюблен, буквально одержим памятью о матери. У него было нелегкое детство из-за бесконечных конфликтов между родителями, которые, не стесняясь, постоянно изменяли друг другу.
На посторонних Лукино производил впечатление деспота, но ему были присущи и совершенно иные качества: узнав его глубже, я открыл совсем другого человека — ранимого, тонкого, всегда открытого для нежности и любви.
VII. В Париже с Шанель
В сентябре мы с Лукино уехали на Сицилию выбирать натуру для его нового фильма «Земля дрожит» — первой и единственной части кинотрилогии по мотивам шедевра Джованни Верги «Семья Малаволья»[29], одного из значительных произведений итальянской литературы, повествующего об обездоленных жителях рыбацкой деревушки на Сицилии, которых нищета вынудила поднять восстание. Вообще-то в романе о восстании не было ни словечка, но времена пошли совсем другие, пламенно убеждал Лукино, и теперь уже победа бедняков в извечной борьбе с богачами не за горами. Он твердо верил, что на выборах 1948 года победят коммунисты, и боялся показаться несовременным, обратившись к истории о поражении пролетариата именно тогда, когда он так близок к победе.
Лукино хотел довести до абсолюта свою идею о «правде жизни»: никаких профессиональных актеров, только обычные люди, играющие самих себя в реальной обстановке. Они и разговаривать должны были на чудовищном местном диалекте, который ближе к греческому и арабскому, чем к итальянскому, хотя никто, кроме самих местных жителей, его не понимал. Мне было поручено найти будущих исполнителей в деревушке Ачитрецца, так же мало затронутой цивилизацией, как и любезный моему сердцу Позитано. Надо было познакомить их с персонажами и составить на диалекте соответствующие реплики. Дело непростое. Но было кое-что и посложнее: эти бедняги рыбаки, их жены и дети, очутившись перед камерой, сразу переставали вести себя естественно и начинали играть, как в дрянных фильмах, заполонивших экраны, кроме которых они ничего не видели. Одним словом, никакой правды жизни.
В общем, я снова столкнулся с той же проблемой, что и в «Достопочтенной Анжелине». Лукино требовал правды во что бы то ни стало. Никакой игры, и неважно, хорошо это или плохо.
Вот вам наглядный пример: Лукино требовал, чтобы роль старшины карабинеров Ачитреццы исполнял сам старшина. И пока тот играл в сценах, которые касались его служебных обязанностей, все шло отлично. А потом, по сценарию, этот добропорядочный семьянин должен соблазнить и обрюхатить младшую дочь рыбацкого семейства. Так он даже слышать об этом не захотел и еще пригрозил, что подаст на нас в суд. Таким образом, на той правде, ради которой и снимался фильм, пришлось поставить жирный крест.
Очень быстро я понял, что вообще вся идея новорожденного неореализма полностью противоречит искусству создания образа, которое требует участия «мастеров актерского искусства».
Без профессиональных актеров неореализм был неизбежно обречен на провал. Лукино тоже это понимал, хотя продолжал настаивать на поисках правды. Он, великий театральный режиссер, жил в болезненном противоречии. Вот тогда я и начал задумываться над тем, насколько «реальной» может быть художественная действительность и каковы пределы использования неореалистического принципа абсолютной достоверности. Скажем, итальянский неореализм обрел мировую известность главным образом благодаря Анне Маньяни, актрисе, игравшей «реальных» персонажей так, как никакая реальная женщина не смогла бы сыграть. Честолюбию режиссеров следовало уступить место игре актеров, как великих, так и просто опытных и профессиональных.
Лучшие творения неореализма связаны именно с Анной и другими большими актерами, истинными служителями правды искусства. Недаром впоследствии Анна отказалась играть у Феллини, а позже Каллас боролась с «всеядным» фон Караяном и доказывала, что из двух примадонн в одном спектакле одна лишняя.
Я могу вспомнить очень немногих непрофессиональных участников тогдашнего кино, по-настоящему взволновавших меня: это учитель из «Умберто Д.» и мальчик из «Похитителей велосипедов». Как ни странно, именно старики и дети лучше всего умеют изображать самих себя (как я потом убедился в «Чемпионе») — первые, может быть, потому, что уже избавились от честолюбия, а вторые еще не знают, что это такое.
Я глубоко убежден, что «достоверное» должно быть пропущено сквозь актерский талант. Пиранделло утверждал, что театр и кино являются величайшей реальностью и вместе с тем величайшей иллюзией — вот почему между реальностью и иллюзией всегда находится игра актера. Только выдающиеся актеры могут заставить публику содрогнуться от прикосновения к реальности.
Пока мы снимали в Ачитрецце, в октябре 1947 года к нам приехали погостить Доналд Даунс и Теннесси Уильямс. Друзья совершили перелет из Рима на Сицилию на аэроплане, грозившем развалиться прямо в воздухе, и чудом приземлились живыми и невредимыми. Теннесси, который и так терпеть не мог летать, выпил на борту целую бутылку шотландского виски и был совершенно не в себе. Так что впервые я увидел его висящим как мешок с картошкой на плече у Доналда, потому что на ногах он не держался.
— Эта сукина дочь, — заорал нам Доналд, — обделалась от страха, вопила на весь самолет, что хочет выйти, прижалась к пилоту так, что всем угрожала серьезная опасность! Пришлось привязать ее к сиденью ремнями безопасности!
В их отношениях часто чередовались личные местоимения (он, она, эта). Когда вечером мы вместе пошли в ресторан, Теннесси был абсолютно трезв и просто покорил меня невинным видом, который так противоречил славе о его похождениях.
Он как ребенок с любопытством разглядывал эстампы с изображением памятников архитектуры итальянских городов, висевшие по стенам ресторана: миланский Собор, римский Форум, Венеция, Флоренция… Теннесси был в восторге.
— Наверно, Катания чудесный город! — воскликнул он. — Завтра же хочу все это осмотреть.
Это Доналд привез Теннесси в Катанию к Лукино, потому что после прекрасного «Стеклянного зверинца» он мечтал, чтобы Лукино («в политическом смысле умственно отсталый, но режиссер — блеск») поставил «Трамвай „Желание“». Соглашение об авторских правах было подписано прямо в Катании, причем Доналд указал мой адрес:
— Я тебе пришлю уйму информации по Новому Орлеану, может, пригодится.
Еще как пригодилась.
Мы ненадолго прервали съемки и вернулись в Рим на выборы. Лукино был убежден, что успех Народного фронта во Франции[30], который так вдохновлял его в молодые годы, повторится и в Италии. Доналд придерживался другого мнения.
— Итальянцы слишком разумны, чтобы их могли сбить с панталыку выходки богатых псевдоинтеллигентов, которые корчат из себя революционеров, — сказал он мне накануне выборов, добавив, что по Ялтинскому договору русские обязались не содействовать приходу к власти коммунистических правительств в странах Западной Европы. — А в Риме с этим вашим Папой им точно не пролезть.
Христианские демократы, а с ними и все правые партии, одержали на выборах ошеломительную победу. Левые потерпели сокрушительное поражение — нанесенная тогда рана не затянулась и сейчас, шестьдесят лет спустя. Как один из немногих не коммунистов в нашей съемочной группе, я, вернувшись на Сицилию, старательно скрывал свою радость. Лукино и остальные коммунисты ходили как в воду опущенные. В последние недели съемок работа явно не клеилась. В итоге фильм продолжительностью в два часа сорок минут получился каким-то неровным: местами очень удачным, прекрасно поставленным и снятым, но совершенно не соответствующим поставленным целям. Даже самые рьяные поклонники Лукино отзывались о нем довольно сдержанно. На Венецианском кинофестивале вокруг фильма развернулась настоящая битва, но в конце концов победа оказалась не на его стороне. Откровенный политический заказ, ради которого, в частности, старался Лукино, обернулся против него. Тогда-то я и понял, насколько рискованно связывать исход нашей работы с политическим выбором.
Несмотря на очевидную разницу между нами, за многие месяцы совместной работы мы очень сблизились. Вернуться в то состояние неуверенности и закрытости, которое было до начала съемок, казалось невозможным. Лукино еще больше привязался ко мне: я стал для него ближайшим другом и правой рукой, и вполне естественно, что, вернувшись в Рим, я переехал в его великолепный особняк. Мы с Лукино не афишировали наши отношения, но постепенно они перестали быть тайной. А настоящие друзья только порадовались — ведь это было хорошо для обоих.
Итак, я собрал пожитки и переселился в уже хорошо мне знакомый дом на виа Салария. Я и раньше работал в башенке на последнем этаже, а теперь окончательно там обустроился. Но сразу возникли осложнения: у меня был песик, первый из целой вереницы собак, любовь к которым я пронес через всю жизнь. Этого черно-белого кокера мне подарил Доналд, причем с таким видом, будто преподносит какую-то драгоценность, вовсе не подумав о связанных с этим неудобствах. Я же сразу влюбился в малыша, но разве можно было его привести к Лукино?
До сих пор я, по-моему, не рассказывал о младшей сестре Лукино Уберте, милейшей женщине, страстной, щедрой, на редкость доброй. Жила она в основном в Черноббио, на берегу озера Комо, где все утопало в пьянящей зелени. Там находилась фамильная вилла Эрба, старая и помпезная. А рядом располагались старинные конюшни, которые вторая сестра, Нан Гастель, со вкусом и роскошью, свойственными всем Висконти, переделала в очаровательный летний дом. Но Уберта предпочла самый настоящий барак, который построили немецкие солдаты, а уходя, не тронули. Она сразу же решила жить в нем, причем почти ничего не стала переделывать. В основном он нужен был для стаи собак, которых Уберта подбирала везде, и для множества друзей и волонтеров, которые помогали за ними ухаживать.
Примерно полгода Уберта проводила в Риме у любимого брата потому еще, что очень любила кино и театр.
Естественно, она немедленно подобрала пару дворняг и притащила их на виллу. Так вот к чему вся история. Уберта, разумеется, влюбилась в моего Билли и сразу произвела его в ранг собак семейства Висконти — Лукино и глазом не успел моргнуть. Билли остался со мной, к сожалению, ненадолго.
Мы работали целый день, и вечером я возвращался на виа Салария совершенно без сил. Но Билли бросался мне навстречу, и, несмотря на усталость, я вел его побегать в соседний парк.
Однажды вечером он меня не встретил. Я вошел в дом, и Уберта бросилась мне на шею с рыданиями, будто сама ждала утешения. Днем Билли выскочил в открытую дверь и попал под машину.
На другой день я отправился на работу совершенно убитый. А когда вернулся, Уберта вышла ко мне с напряженным выражением лица, держа что-то на руках. За день она объехала, обзвонила и замучила пол-Рима, но нашла мне черно-белого кокера, такого же, как Билли, но с одним симпатичным отличием: один глаз у него был голубой, а другой черный — whitch eye, говорят англичане и считают, что это приносит удачу. Я назвал его Мартином. Он стал первым из длинной череды, слава Богу, вполне благополучных Мартинов. Последний мирно умер несколько месяцев назад в возрасте пятнадцати лет.
Вот такой была Уберта, истинный друг в большом и в малом. Друг на всю жизнь.
Особняк Лукино на виа Салария был настоящим дворцом аристократов. Его построил отец Лукино, Джузеппе Висконти де Модроне рядом с парком виллы Савойя, практически на пустыре, каким был тогда этот римский квартал. Говорят, герцог был возлюбленным королевы Елены, и она хотела, чтобы он поселился по соседству. В юные годы Лукино был частым гостем в семействе Савойя, и по поводу его отношений с молодым принцем Умберто тоже ходили разные слухи.
Лукино переехал в этот красивый, удобный особняк после смерти отца и превратил его в рабочую резиденцию сначала для кино, потом и для театра. Дом был построен и обставлен со вкусом, а Лукино сделал из него настоящую кунсткамеру: он собирал всевозможные коллекции и редкости, у него была богатейшая, постоянно пополнявшаяся библиотека — на это тратились огромные деньги. Именно библиотека, украшенная великолепным камином с делфтскими изразцами, была сердцем дома, где мы главным образом и проводили время. Сколько идей, сколько новых планов родилось и расцвело в тепле этого камина! Сусо Д’Амико, верный друг и сотрудница Лукино, всегда вспоминает его с неизбывной грустью. Вся жизнь Лукино, его друзья, любовники, сотрудники, звезды прошли через этот волшебный уголок.
Чтобы поскорее забыть неудачу фильма «Земля дрожит» и крах политических надежд, Лукино решил упрочить свое положение в театре сразу двумя серьезными постановками: пьесы Шекспира и вслед за ней — шедевра Теннесси, авторское право на который он получил при поддержке Доналда. Осенью 1948 года начались репетиции «Как вам это понравится» Шекспира (итальянское название «Розалинда») с потрясающими исполнителями: Морелли, Руджери, Гассман, Стоппа и другими, с принципиально новым сценическим оформлением, для которого ему удалось привлечь великого художника XX века Сальвадора Дали. Постановка должна была обойтись в целое состояние, но до меня дошли слухи, что это сотрудничество предложила его давняя подруга Коко Шанель, которая и бралась оплатить огромные счета Дали.
Как можно было предположить, Дали сразу забросал нас совершенно невероятными идеями, и все Висконти, в особенности милейшая Уберта, включились в финансирование постановки, стараясь ради престижа семейства.
Дали в самом деле был великим художником. Все, что он создавал, было оригинальным, причудливым и притом выполнено рукой совершенного, безупречного мастера. Никогда не встречал человека, который бы так искусно владел кистью и красками. Я получил образование во флорентийской Академии художеств, умел ценить живопись и был покорен Дали, настоящим колоссом. Висконти поручил мне очень ответственное дело — помогать Дали в качестве ассистента художника-постановщика. Просто сказка. Я целых два месяца проработал, набираясь уникального опыта, рядом с этим безумным, одержимым каталонцем, который сумел бы прочистить мозги даже самым упрямым противникам искусства.
Каждое утро я заезжал за ним в гостиницу. Не успевал он сесть в машину, как обрушивал на меня водопад рожденных за ночь идей, и всю дорогу говорил, не давая вставить ни словечка. Правда, иногда вдруг останавливался, словно сомневаясь, что я успеваю за всеми его бредовыми идеями.
— Может случиться что угодно. В искусстве все возможно, — говорил он, наставив на меня палец. А потом вдруг спрашивал: — Тебе не кажется это чересчур нелепым?
— Нет, не кажется, — весело отвечал я, — это именно то, чего я от вас и ожидал.
Услышав такой ответ, Дали давал полную волю своей могучей фантазии, но не сводил с меня глаз, будто я был для него лакомым кусочком. Он залезал в невероятные дебри, может быть, чтобы показать, что не зря я возлагаю на него такие надежды. Ему не хотелось меня разочаровывать. Работать с ним было одно удовольствие, и я понимал, что если смогу переварить этот уникальный опыт, потом мне будет по плечу все, что угодно.
По замыслу Дали, шекспировские персонажи-изгнанники жили в самом настоящем Арденнском лесу, но не без роскоши. Он предложил создать что-то вроде гостиной, где бы происходили встречи, а удобными диванами должны были служить белоснежные овцы в зимних шубах. Понятно, что найти живых овец для этой роли было невозможно. Это и стало моей первой серьезной проблемой. Разрешить ее удалось благодаря потрясающему таксидермисту, который сделал для нас настоящую гостиную из овечьей шерсти, больше того, с помощью простых, но таинственных приспособлений эти овцы кивали в знак согласия, открывали рот и даже блеяли.
Для актеров, публики и самого Дали спектакль был сплошным весельем. А для меня овцы стали первыми в череде испытаний. Дали при поддержке Лукино хотел, чтобы сценическое действие сопровождалось сильными порывами осеннего ветра и листопадом. Листопад еще можно было имитировать, но порывы ветра… Я попробовал установить за кулисами мощные вентиляторы, но все актрисы, как одна, возмутились: «Вы что, хотите до пневмонии нас довести?» — и не снимали норковые шубки, а шеи кутали в теплые шерстяные шарфы. В конце концов от вентиляторов пришлось отказаться, но Дали во что бы то ни стало хотел, чтобы у зрителей создавалась иллюзия ветра, треплющего одежду, шляпы и парики актеров, и он сделал чудные наброски актрис в платьях, развеваемых ветром. У кого только я ни консультировался! Я бы скорее перерезал себе вены, чем сказал Дали «нет». Я предложил протянуть проводки от подолов платьев к запястьям актрис, чтобы они сами двигали свои юбки, но и эта затея была отвергнута. Тогда Дали сжалился надо мной и избавил от этого кошмара, произнеся несколько слов на своем фантастическом языке — смеси каталанского, американского и французского, звучащем так же абстрактно, как и его живопись. Принцесса Маргарет, выходя однажды в полном смущении с выставки Дали, произнесла: «Боюсь, что живопись Дали легче понять, чем его речь». Мне показалось, что он сказал примерно следующее: итальянцы были великой нацией, но сегодня они совершенно не в состоянии понять Новое искусство; это отличная идея, и я использую ее где-нибудь в другом месте, где мозги еще не так высохли, как ваши.
Но я уже научился его понимать и догадался, что он попросту забавляется, ставя нас в дурацкое положение. И я придумал, что делать: почти на каждую очередную его идею заявлял, что реализовать ее невозможно, и у него рождались новые варианты. В конце концов игра в невозможное зашла в тупик, и мы поставили великолепный развеселый спектакль по чудной комедии Шекспира, который публика приняла на ура. Это было значительное событие подходившего к концу десятилетия и триумф Дали с его провокациями, которых очень ждали, хотя и не все удалось воплотить на сцене. Следующим в планах Лукино стоял долгожданный «Трамвай» Теннесси.
Но сначала я хочу рассказать об удивительном случае, который не могу забыть. Он произошел незадолго до премьеры «Розалинды».
За несколько дней до генеральной репетиции я отправился в пошивочную мастерскую. К моему удивлению, швеи, заваленные горами ярких шелков и шифонов, были заняты совсем другими костюмами. Старшая стала виновато объяснять, что принесет графу Висконти письменные извинения, но, к сожалению, сегодня срочно понадобился туалет для потрясающей певицы, исполняющей Кундри в «Парсифале». Вчера на генеральной репетиции эта дама буквально разорвала свое платье, крича — и каким голосом! — что если ей не сделают такой наряд, какой она хочет, она вообще петь не будет. Отсюда вся срочность.
Я сразу же проникся к этой даме глубокой антипатией. Мне сказали, как ее зовут, — странное греческое имя, которого я раньше не слыхал.
— Вроде Каласси, — произнесла старшая швея неуверенно. Но женщина помоложе, очарованная новой певицей, поправила с глубоким вздохом влюбленного:
— Ее зовут Мария Каллас, — и улыбнулась.
Когда я рассказал о случившемся Лукино, он отреагировал совершенно иначе:
— Поет Кундри с Серафином? Надо пойти послушать.
В тот же вечер мы отправились на премьеру. При моей безумной усталости только что-то из ряда вон выходящее могло заставить меня не уснуть во время оперы Вагнера. Должен сказать, этот голос захватил нас, как волшебство, как чудо, которое никак нельзя было понять, его можно было только слушать, поддавшись чарам и испытывая ни с чем не сравнимое волнение. Невозможно передать словами бурю чувств, которую он вызвал, когда мы услышали его впервые! Мое сердце неистово билось, будто меня поразила любовь с первого взгляда. Этот голос навсегда останется необъяснимым чудом.
Лукино был дружен с дочерью маэстро Туллио Серафина, и скоро нас пригласили к нему на коктейль, чтобы познакомить с Марией Каллас. Мы испытали ужасное разочарование. Огромная женщина, в которой все было большим — рот, полный крупных белоснежных зубов, нос, глаза, плечи, руки. А ноги! — даже не толстые — жирные. Одета она была так, словно специально хотела показать свои недостатки. Зеленый бархатный костюм подчеркивал ну просто все дефекты фигуры, в особенности гигантскую грудь. Шляпа в стиле Возрождения вишневого цвета, вроде тех, что носят художники в опере «Богема», довершала картину. Я уж не говорю о грубом акценте американки из Бруклина (ею она и была, пока не вышла замуж за итальянца Менегини). В общем, картина была удручающая. При этом ей было всего двадцать пять лет, как мне, совсем молоденькая; мы оба 1923 года рождения, я февральский, она декабрьская. Серафин заметил наше смущение и позвал ее к фортепьяно. Он вел себя с ней как строгий и бдительный отец. Он взял аккорд, и Мария запела ариозо Виолетты. В одно мгновение все переменилось, ее голос заставил забыть обо всем на свете. В опере мы были потрясены, но услышать этот голос в тридцатиметровой гостиной богатого римского квартала казалось просто невероятным. Я бросил взгляд на Лукино и увидел, что он ошеломлен, как и я. Сейчас, вновь переживая эту историю, я понимаю, что все в ней было предопределено, всему было отведено место, как алмазу, который сияет по ту сторону времени в вечности. Много позже, через двадцать пять лет после смерти Марии, сняв о ней фильм, я понял, что назвать его могу только «Callas Forever» — «Каллас навсегда», потому что она — дар Божий вне времени. Мария всегда была и будет.
Тем временем Лукино уже готовился к постановке «Трамвая „Желание“». «Розалинда» стала для меня прекрасным уроком того, как можно от души повеселиться, работая с гениальным текстом. А теперь, приступая к работе над пьесой Уильямса, Лукино подошел с совсем другой стороны. Он вскрыл те переживания и озарения, которые испытал сам автор, попав в Новый Орлеан, где в его воображении произошла встреча с Бланш Дюбуа. Его метод заключался в том, чтобы побольше узнать об авторе, о его личных впечатлениях. Это главное, чему я у него научился, это и есть принцип «относительного реализма», который до сих пор управляет моей работой и ведет за собой.
Памятуя о моей успешной работе с Дали, Лукино решил, что я уже могу сам оформить декорации для постановки. Когда он это объявил, я чуть с ума не сошел от счастья. Лукино был рад (нечто подобное он ожидал), но быстро охладил мой пыл, заметив, что путь долог и работы будет по горло. Я сразу принялся собирать всю возможную информацию о Новом Орлеане: атмосфера в городе, кованые железные решетки на фасадах, фонари, мебель, улицы — каким все это было, и в этом большую помощь, естественно, мне оказал Доналд. За очень короткий срок я собрал массу материала. Даже сделал первый эскиз мизансцены и, страшно волнуясь, показал Лукино. Но ему рисунок совершенно не понравился.
— Только не спеши, а то шею сломаешь, — холодно посоветовал он.
В течение месяца мы упорно работали с собранным материалом, пока не перебрали все возможные варианты. Лукино всем был недоволен, и я уже начал опасаться, как бы он не решил, что такая ответственность мне не по плечу и не заменил меня другим художником-постановщиком.
Я вернулся к самому первому своему эскизу, и он мне показался совсем неплохим. Он помогал преодолеть многие проблемы постановки и подходил для места действия драмы Бланш Дюбуа и Стэнли Ковальского. Мне пришло в голову, что эскиз не понравился, потому что Лукино не сам его придумал. Значит, надо внушить ему, что это его идея. И вот после целого дня набросков и прочих бесплодных попыток я сказал:
— По-моему, мы зря теряем время. В самом начале у тебя возникла очень удачная идея, может, поглядим еще раз?
В общем, он «вернул себе» эту идею и описал ее мне во всех подробностях. Забот у него хватало — и с деньгами, и с актерами, и терять время со мной он просто не мог.
— Поработай-ка над этим и принеси поскорей эскиз, не то…
На другой же день принес я ему тот, первый эскиз месячной давности. Лукино посмотрел и остался доволен.
— Отлично! — обрадовался он. — Вот так и должно это выглядеть!
Теннесси Уильямс вместе с Доналдом был на премьере, и ему очень понравились мои декорации, куда больше, чем декорации Джо Милцинера в бродвейской постановке. «Трамвай» имел грандиозный успех. Постановка Лукино была великолепной, игра актеров Морелли и Гассмана — незабываемой. Спектакль вполне мог соперничать с фильмом Элиа Казана с Марлоном Брандо и Вивьен Ли.
Акции Лукино сразу же пошли вверх. О кино и речи не было, разве что неопределенные планы, так никогда и не воплощенные, но в театре он стал величайшим режиссером, и одно только его участие приносило успех. Флорентийский фестиваль «Музыкальный май»[31] предложил ему поставить спектакль под открытым небом — «Троила и Крессиду» Шекспира[32] в саду Боболи. После успеха «Трамвая „Желание“» Лукино снова пригласил меня художником-постановщиком. Это был спектакль-гигант: стометровая открытая сцена, в два раза больше веронской Арены. Но главное — актеры, настоящий парад звезд, и среди них те, кто очень скоро прославился: Мастроянни, Де Лулло, Альбертацци. Спектакль сразу сделался культовым, и сейчас, полвека спустя, по-прежнему остается легендой. Достаточно взглянуть на афишу.
Для меня это стало триумфальным возвращением в родной город, который я покинул три года назад, и поводом примириться с отцом. Он крепко обнял меня и взволнованно сказал: «Я горжусь тобой!» Сказано это было очень искренне, но я знал, как он переживает, что в афише указано Франко Дзеффирелли, а не Франко Корси.
Как бы то ни было, мы помирились. Я даже пригласил Лукино к нам на обед, и они с отцом сразу нашли общий язык. Я глазам своим не верил. Отец, вообще-то человек прижимистый, буквально осыпал Лукино подарками. Он подарил ему огромную скатерть с двадцатью четырьмя салфетками из тончайшего флорентийского льна с вышивкой ручной работы. Она очень понравилась Лукино, и всякий раз, как ее накрывали в его римском доме, он с благодарностью вспоминал об отце.
Тетушка Лиде приготовила на обед несколько отменных тосканских блюд, впоследствии прославивших ее среди моих друзей. Она сразу же повела себя с Лукино как старая приятельница, и между ними установилось полное взаимопонимание в смысле: «я знаю, что ты знаешь, что я знаю», — она буквально светилась радостью и гордостью за меня. Только много лет спустя Лиде рассказала мне такую историю. После нашего ухода к отцу зашел приятель и стал выражать беспокойство по поводу моих взаимоотношений с Лукино. Он сообщил, что о графе Висконти ходит дурная слава развратного человека, и посоветовал держать ухо востро. Мой отец буквально потерял дар речи.
— Это как понимать? — наконец спросил он.
— Ну, как-как… — ответил гость. — Совершенно очевидно, что граф Висконти предпочитает общаться с юношами.
— И что с того? — резко перебил его отец. — Чем таким могут заниматься двое мужчин? Было бы о чем беспокоиться, если бы Франко был девушкой, а не юношей!
Услышав такое, тетушка Лиде, по ее словам, не удержалась от хохота, и отец воспринял это как комплимент его остроумию.
В следующем месяце, в конце июня 1949 года, я впервые посетил Париж. Лукино задумал экранизировать роман Васко Пратолини «Повесть о бедных влюбленных»[33]. Поскольку планировалось совместное франко-итальянское производство, он предложил мне поехать в Париж, чтобы отобрать французских актеров. В последний момент какие-то важные семейные обстоятельства задержали его в Италии, и он, снабдив рекомендательными письмами к своим старым друзьям Жану Кокто, Коко Шанель и актеру Жану Марэ, велел мне ехать одному и начинать работу вместе с французскими партнерами.
Париж меня ужасно разочаровал — он показался мне серым, грязным. Его еще не успели почистить, и он совершенно не походил на тот Париж, к которому мы привыкли сегодня.
Но его очарование чувствовалось везде. Это была великая эпоха Синьоре и Монтана, Пиаф, Жуве[34], Сартра, Барро[35] и Жида, и все вокруг жаждало обновления. Первым делом я связался с Жаном Марэ, с которым уже был знаком по Риму, и он тут же пригласил меня на премьеру нового шоу в «Лидо». На следующий день я отправился на встречу с Шанель в отель «Риц», где она тогда жила, но сначала мне пришлось объясняться с ее подругой Мэгги ван Цойлен, которая отвечала на телефонные звонки. Коко Шанель была во Франции женщиной номер один, она изменила все — от духов до образа мысли и понятия женской красоты. Она была возлюбленной сильных мира сего и сердцем культурной и артистической жизни Франции, от Дягилева с его Русскими балетами и Пикассо до Кокто с его поэзией и Стравинского и так далее. Если сегодня меня спрашивают, кто, на мой взгляд, величайшие женщины XX столетия, я без колебания ставлю ее имя рядом с Матерью Терезой, Марией Каллас и Маргарет Тэтчер. Я застыл в изумлении, попав в роскошный номер-люкс «Рица» в самый разгар перебранки двух дам, осыпавших друг друга грубой бранью:
— Шлюха!
— Сука!
— Скотина!
А потом появилась Шанель — такая, какой я ее рисовал в своем воображении: в неповторимом маленьком черном платье, в шляпке и со знаменитыми жемчугами на шее — подарком герцога Вестминстерского. В руке она почему-то сжимала хлыстик и нервно им помахивала. Может, он тоже понадобился в перебранке: слово за слово, непристойность за непристойность.
Шанель попросила меня прочесть вслух письмо Лукино, в котором тот просил ее оказать мне помощь, объяснял, что я его близкий друг и в Париже впервые, и обещал, что скоро появится сам.
— Он не приедет! — заявила Шанель. — Это такой врун!
Она спросила, где я остановился, и пообещала позвонить. Не позвонила, но на другой день я получил от нее несколько писем, адресованных важным деятелям кино, с которыми мне предстояло встретиться. Среди них был Роже Вадим[36], тогда ассистент Жака Беккера[37]. Когда-то он вместе с Лукино работал у Жана Ренуара помощником режиссера на съемках «Загородной прогулки». На другой день я встретился с Вадимом, и он познакомил меня с прелестной молоденькой актрисой по имени Брижит Бардо, которую предлагал на одну из женских ролей.
А в тот вечер я нарядился в синий пиджак, повязал лучший галстук и отправился в «Лидо». Там я представился гостем Жана Марэ, и меня усадили за столик, отведенный знаменитостям. Шоу уже началось (кстати, я впервые в жизни увидел на сцене полуобнаженных женщин), а мой гостеприимный хозяин так и не появился. Наконец метрдотель принес бутылку шампанского и записку: Марэ не придет из-за неожиданных дел, но желает хорошо провести вечер и обещает позвонить на другой день. Метр поинтересовался, не буду ли я возражать, если он усадит за мой столик очень важных гостей. Я согласился, и он привел молодую красивую пару, с которой мы сразу нашли общий язык. До сих пор помню их южноамериканский, наверно, бразильский, выговор. Она красавица, он красавец, и оба очень славные. Как на следующее утро я очутился на ступеньках своего отеля, до сих пор для меня загадка, потому что не помню ничего, кроме какого-то невнятного и очень приятного сна. Сплетение красивых тел, чьи-то губы и руки, ласкающие меня… Ясное дело, они что-то подсыпали мне в бокал и, наверное, позабавились на славу — я был весь в синяках и укусах и совершенно без сил. Сожалел я только об одном: что они просто не предложили мне составить им компанию. С удовольствием бы согласился — ведь это был Париж!
На другой день в тревоге позвонила Шанель — консьерж рассказал ей о моих приключениях. Она отправила ко мне верную Мэгги ван Цойлен, которая посоветовала на будущее не слишком доверять Жану Марэ: «Он чудный, но совсем потерял голову из-за своей новой пассии». Вот что за дела его задержали!
Шанель была полна сочувствия ко мне. Как же, брошенный посреди города на волю всех искушений юноша! Я уже принялся за работу и занялся прослушиванием молодых актеров, которые требовались Лукино для нового фильма. Я позвонил Коко поблагодарить за помощь и поддержку, и она пригласила меня на следующий день на обед. Это была суббота, и я не работал.
Коко была ходячей легендой: мне рассказали, что парижане долго не могли простить ей роман с немецким офицером во время войны. Она по-прежнему старалась не появляться в общественных местах, хотя правительство давно закрыло дело, но в свое время оно нашумело в Париже еще и потому, что бесстрашная Коко громко заявила о своем праве любить по зову сердца. Она свободно выбирала возлюбленного, кем бы он ни был. Однако модельеры и звезды нового времени уже поставили на Шанель крест. Однажды мы шли по чудным парижским улочкам к знаменитому ресторану на Елисейских Полях, и мимо нас прошли две известные манекенщицы, только что от Диора, в туго стянутых на талии широких юбках клеш, в туфельках на высоченных шпильках и шляпах с широкими полями, которые приходилось придерживать от ветра, — одним словом, «нью лук» Диора.
Болтавшая без умолку Коко остановилась на полуслове.
— Ты только взгляни на них! — прошипела она так громко, что ее слова разнеслись по всему бульвару. — Эти бедняжки — просто заложницы придурочных гомиков, которые мечтают стать женщинами и хотят, чтобы нормальные женщины были похожи на трансвеститов!
Вообще-то Шанель ничего не имела против гомосексуалистов, если они не начинали одевать женщин в неестественные и вычурные вещи, разрушающие очарование женского тела. Единственным современным модельером, которого Коко признавала, был Баленсиага, всех же прочих, а в особенности Диора, на дух не переносила.
Позднее, когда в 1954 году она триумфально вернулась в мир моды, к ней поначалу отнеслись как к обломку старины, но скоро ее возвращение стало одной из самых громких сенсаций в истории моды. Новую коллекцию, основанную на тех же классических линиях, которые всегда отличали ее стиль, французские и английские журналисты и эксперты встретили ядовитыми насмешками, а вот американцы пришли в полнейший восторг и скупили все на корню. Шанель тонко почувствовала, что после искусственных излишеств «нью лука» настал момент для возврата к элегантной простоте. Стиль Шанель снова завоевал весь мир и еще много лет считался «настоящим шиком». Например, в день убийства президента Кеннеди в 1963 году на его жене Жаклин был розовый костюм от Шанель.
Я звонил Лукино каждый день, но он все откладывал свой приезд. За несколько недель я сделал все, что было в моих силах, а свободное время проводил в обществе Коко, совершенно меня покорившей. Мне очень хочется когда-нибудь написать книжку только о ней и о тех парижских неделях. А еще лучше — снять фильм, вроде того, где «участвовали» любимые мною флорентийские англичанки. Особый интерес вызывали у меня ее отношения с Лукино. Шанель всегда старалась узнать о нем побольше, буквально засыпала меня вопросами, и, хотя никогда не объясняла причину своего любопытства, все было ясно без слов.
— Нельзя перестать любить тех, кого любил однажды, — печально заметила она как-то раз. — Это неправда, что от любви до ненависти один шаг или что любовь превращается в отвращение, в злость. Нет, даже если тебя предали, любовь, что когда-то была, остается в душе навсегда — не из-за человека, которого ты любил, а из-за себя самого, из-за того незабываемого счастливого времени…
Как-то жарким июльским днем, когда мы сидели в ресторане «Фуке» на Елисейских Полях, в зал вошел Андре Жид, и Шанель представила меня этой еще одной живой легенде. Нимало не смущаясь, Жид завязал узелки по краям носового платка и водрузил себе на макушку, время от времени поправляя. Мне уже доводилось слышать, что он позволяет себе разные выходки. Вот и в тот раз он вел себя с бесцеремонностью, граничащей с хамством. Когда он ушел, Шанель заметила сквозь зубы:
— По правде говоря, это самый неприятный тип из всех, кого я знаю. Надеюсь, тебе не нравятся его книги.
Я неохотно признался, что нравятся. Шанель тяжело вздохнула и сказала, что терпит его только по одной причине: он — гений. Это единственное, что она готова была уважать. Если Шанель считала кого-то талантливым, то могла простить этому человеку почти все.
Тогда, в Париже, я искренне полагал, будто достиг вершины своей честолюбивой мечты. Мне было двадцать пять лет, я работал с Висконти, подружился с Шанель, сидел за столиком кафе с Андре Жидом… Можно ли мечтать о большем!
Незадолго до моего отъезда из Парижа в городе с большой помпой праздновали 14 июля — День взятия Бастилии. Мы вместе с Шанель и Мэгги ван Цойлен отправились на площадь Бастилии, место проведения основных торжеств. Шанель арендовала лимузин с шофером, и когда машина пробиралась сквозь ликующую толпу, мы ощутили ее враждебный настрой: в окна начали стучать, выкрикивая оскорбления и обзывая богачами. Коко принялась поспешно снимать с себя ювелирные украшения.
— И что я тут делаю, среди этих хамов коммунистов!
Решив, что спрятать драгоценности в сумочке будет ненадежно, она отдала их мне, и я в полном смущении и большом беспокойстве засунул их в карманы плаща. Тут пошел дождь — обычная летняя парижская гроза. Стемнело, начался праздничный салют и уличные танцы. Ближе к полуночи Шанель вдруг заявила:
— Едем домой. Франко, ты такого еще не видел, оставайся. Ты молодой, а я уже слишком стара, надоели мне эти толпы.
Слов нет, мне ужасно хотелось поглядеть на народное гулянье, но когда они скрылись из виду, я вдруг с ужасом понял, что у меня в карманах остались драгоценности Шанель на тысячи и тысячи долларов! Вечер был испорчен, я ходил, придерживая карманы обеими руками. Вернувшись в отель, я ощущал себя как персонаж новеллы Мопассана: бедный юноша с несметным богатством в карманах, который воспринимает как возможную опасность любой стук в дверь, тихие шаги в коридоре, промелькнувшую в окне тень. Я уставился на эти бриллианты и жемчуга и не мог сомкнуть глаз, потом запрятал их под матрас. Утром я первым делом позвонил Шанель, но она, похоже, совсем не тревожилась за судьбу своих сокровищ.
— Ну что ты так беспокоишься, — сказала она. — Драгоценности — самая обычная вещь.
На самом деле то, что я считал драгоценностями, оказалось бижутерией, которую Шанель ввела в моду, чтобы облегчить женщинам жизнь. Иногда эти фальшивые украшения были так хороши, что знатоки получше меня принимали их за подлинные.
— А когда я могу их вам вернуть?
Наступила короткая пауза, прежде чем она ответила:
— Когда угодно…
— Кроме того, — добавил я, — мне бы хотелось с вами попрощаться. Завтра я возвращаюсь в Рим.
— В таком случае приходи сегодня на ужин на рю Камбон, тридцать один.
Так я попал в святая святых Шанель над ее мастерскими, куда приглашались лишь избранные. Сквозь щели между задернутыми шторами струился слабый сумеречный свет и смешивался с мерцанием свечей. Там я впервые в жизни увидел знаменитые коромандельские ширмы[38], вошедшие в моду благодаря Шанель: расписанные золотом и серебром черные лаковые ширмы эпохи Людовика XIV. Все остальное было выдержано в бежевых тонах, за исключением двух китайских газелей из какого-то редкого вулканического материала. Шанель заговорила о Лукино, который так и не выбрался в Париж.
— Я прекрасно знаю его, это настоящий предатель, — вздохнула Шанель и рассказала мне историю про молодого фотографа по имени Хорст: в конце тридцатых годов она познакомила с ним Лукино, а потом узнала, что они стали любовниками.
Мне стало очень неловко — я не хотел обсуждать с ней Лукино. В конце вечера она подошла к книжной полке и сняла альбом в кожаном переплете.
— Это тебе на память о твоей первой поездке в Париж.
Под переплетом я обнаружил двенадцать репродукций балерин, подписанных Матиссом.
— Поцелуй от меня Лукино, — продолжала она. — Ему всегда будет трудно, потому что он настоящий аристократ, и этого ему не простят до самой смерти, зато устроят пышные государственные похороны. Никогда не теряй к нему уважения, даже когда узнаешь о его предательстве.
Рекомендательное письмо Лукино к Жану Кокто вернулось со мной в Рим.
Как только я увидел Лукино, то сразу понял: стряслось что-то серьезное. Даже зная своенравный характер Лукино, я ужасно расстроился, когда он и не вспомнил о фильме, для которого я проводил отбор актеров в Париже. Он уклонялся от разговоров о нем, и стало ясно, что у него появились совсем другие планы на будущее.
По сей день для меня остается загадкой, что же тогда произошло, хотя подозреваю, что финансовые решения семьи не совпали с его ожиданиями. Не исключено, что родственники отказались вкладывать деньги в его новый фильм, а он не сумел найти продюсера.
Как-то вечером Лукино вручил мне ворох бумаг, имеющих отношение к «Повести о бедных влюбленных» — рабочие заметки, эскизы декораций, куски сценария. Попросил упаковать и убрать подальше. Мне стало так больно, будто я держал в руках мертвое дитя.
В то лето мы жили на вилле Лукино на острове Искья. Как-то утром, когда я купался в море, он появился на скале, служившей для нас причалом, и окликнул меня. Я вылез из воды. Ласково обняв меня, Лукино сообщил, что отец серьезно болен и мне нужно немедленно ехать во Флоренцию. Я подумал, что он при смерти, но не учел его неукротимую жизненную энергию. Больной отец походил на запертого в клетке зверя: его дух метался в плену у отказавшегося слушаться тела. Едва он увидел меня — здорового, ходячего, как его словно обуяла ненависть ко мне. Я поселился в доме, чтобы помогать Фанни носить отца в ванную, мыть. Заботился о нем, как подобает сыну. Я даже не догадывался, какие силы таятся в нас — темная энергия, готовая вырваться наружу в минуту слабости или опасности. Моя помощь разъярила отца. Он стал говорить оскорбительные вещи о матери, стараясь побольнее уколоть меня за то, что я молод и полон сил, а он впал в такую жуткую немощь.
Казалось, сама судьба наказывает его. Жадно ища любовных утех в том возрасте, когда большинство мужчин уже давно вышли из игры, он стал принимать какое-то омолаживающее лекарство, что и послужило причиной инсульта. И все равно он не желал сдаваться. В конце концов несколько месяцев спустя отец уже сам доходил до своей конторы, преодолевая ступенька за ступенькой четыре этажа. Он никогда не пользовался лифтом, проявляя необычайное упорство.
По возвращении в Рим мы с Лукино стали работать порознь — впервые с тех пор, как я переехал к нему. Он поставил «Смерть коммивояжера» Миллера, а я устроился ассистентом режиссера у Антонио Пьетранджели. Летом 1951 года Лукино снял «Самую красивую» по произведению Чезаре Дзаваттини — его единственный по-настоящему популярный фильм. Анна Маньяни блистательно и трогательно сыграла роль матери, которая мечтает вырваться из рутины повседневной жизни и сделать из своей маленькой дочери кинозвезду. Полмира рыдало над этой картиной.
Фильм «Самая красивая» был кинематографическим дебютом Пьеро Този, молодого художника по костюмам, позднее ставшего признанным мастером. Он тоже был родом из Флоренции и прошел примерно тот же путь, что и я. Мы познакомились во Флоренции в ходе работы над «Троилом и Крессидой», и меня настолько поразил его портфолио, что я сразу предложил Лукино взять его мне в помощники. Тот согласился, но с условием, что я буду платить Пьеро из своего кармана. На тех же условиях Пьеро работал художником по костюмам и на съемках «Самой красивой».
Вскоре после окончания съемок «Самой красивой» к нам приехала погостить сестра Лукино с мужем. Однажды утром меня разбудил слуга и взволнованно сообщил, что ночью в дом залезли грабители. Ущерб оказался значительным: из спальни Лукино были украдены золотые блюда и картины, а также коллекция наручных часов известных марок. Полиция приказала собрать всех домочадцев для допроса в большом зале. Лукино и оба его родственника стояли в стороне, и меня удивило, что он сразу не заявил полиции, что я вне подозрений. Он упорно молчал, и я с ужасом понял, что меня сейчас заберут в полицейский участок вместе со всеми остальными — дворецким, слугами, горничными и поваром. Когда меня уводили, Лукино не проронил ни слова.
В полицейском участке нас развели по разным помещениям, грязным и убогим. Пришел старшина и начал меня допрашивать. В Италии вас считают виновным до тех пор, пока вы не докажете обратное, и Бог знает, как отчаянно я пытался убедить его в своей невиновности. Во время допроса с меня сняли отпечатки пальцев, которые, наверно, до сих пор лежат в каком-нибудь архиве. На другой день по ходатайству адвокатов Лукино нас выпустили.
Ночью, сидя в одиночестве в камере, я пытался подвести итоги прошедших пяти лет. Я порвал с семьей. Судьба подарила мне счастливую возможность работы. Я жил на таком уровне, о котором в юности не смел даже мечтать. Но в итоге оказалось, что я всего лишь любовник известного человека, который мне даже не доверяет и не собирается по-настоящему впустить в свою жизнь. Ничего своего у меня нет. Я был счастлив, потому что не сомневался в его привязанности ко мне. А теперь у меня открылись глаза на реальное положение вещей.
VIII. Расставание
Вернувшись из тюрьмы, я нашел Лукино совершенно невозмутимым, как будто ничего не случилось. Единственной темой для разговоров была его будущая постановка — комедия Гольдони «Хозяйка гостиницы», которой он был очень увлечен. Он задавал вопросы, а я рассеянно отвечал. Я был в состоянии душевного потрясения, а Лукино этого не видел или не хотел видеть, как будто считал, что в наших отношениях все остается по-прежнему.
С момента ограбления и до очередного отъезда Лукино на Искью прошло несколько недель. Грабителей поймали, и большая часть похищенного была возращена. Тем не менее, этот инцидент стал сигналом происходящих перемен. Я уже начал к тому времени понимать, что Лукино постепенно от меня отдаляется, наши отношения вернулись на исходную позицию, какими были в самом начале. Он уже не требовал, чтобы я всегда был рядом, присутствовал на всех его встречах с политиками, бизнесменами и в особенности с актерами, красивыми и знаменитыми. Раньше, по нашему молчаливому уговору, я искал предлог удалиться, только когда он был в семейном кругу. Теперь же Лукино гораздо чаще и по разным поводам давал мне понять, что я лишний. Возможно, наши отношения были чересчур уж близкими. Расставание не было драматическим, более того, он всячески поддерживал меня в поисках свободы — стремлении чаще встречаться с друзьями, моими, а не его, «дышать полной грудью».
После истории с ограблением я тоже начал понимать, что наши отношения должны измениться, и стал с большей охотой видеться со своими флорентийскими друзьями. С одной стороны, меня по-прежнему окружало великолепие особняка на виа Салария, а с другой — все больше привлекала скромная богемная жизнь друзей — Пьеро Този, Анны Анни и Данило Донати, которых Лукино тоже знал и уважал. Он нередко использовал их талант.
— Ох уж эти флорентийцы, — с веселой иронией говорил Висконти. — Вечно путаются под ногами. Но без них никуда.
Главная профессиональная трудность Лукино состояла в том, что, обладая изумительным творческим видением (особенно в театре), он не знал, как его выразить на бумаге, потому что совсем не умел рисовать.
Лукино требовалось наше участие, потому что мы учились в Академии художеств и умели держать в руках кисточку и карандаш. В награду он дарил нам бесценные возможности для творчества — правда, гомеопатическими дозами. Сколько раз «флорентийцы» готовили эскизы, а он их подписывал как автор, не испытывая никаких угрызений совести. По правде сказать, со мной было иначе: Лукино доверял мне в работе, причем больше, чем я того заслуживал. Но и отношения у нас были совсем другие. Впрочем, со временем особые отношения тоже дали трещину и разрушились, но дел это не коснулось. В тот трудный период после нашего расставания, когда я искал собственный путь, он не захотел лишиться помощника и снова позвал на постановку «Трех сестер», которые широко распахнули передо мной двери театра. Решение Лукино жестко разграничить нашу личную жизнь и работу было очень болезненным и стоило обоим больших жертв, но он устал от нашего союза и жаждал свободы. Только много позже я понял, что именно произошло в его сердце и голове.
Я переехал в скромную квартирку в центре, которую снимали мои флорентийские приятели Пьеро Този и Мауро Болоньини, впоследствии знаменитый кинорежиссер. А тогда мы только начинали трудиться самостоятельно и еле сводили концы с концами. У нас были три обшарпанные комнатушки на последнем этаже с террасой, выходившей на крыши домов площади Испании.
Пусть это покажется странным, но я пользовался любой возможностью подработать, как в 1946 году, когда переехал из Флоренции. Минувшие годы были прожиты неплохо, я сумел подойти к важным рубежам, но впереди был долгий путь. Первым делом я понял, что враги Лукино не желают иметь со мной дела, потому что я «креатура Висконти», а друзья отворачиваются, потому что он со мной порвал. Авторитет Висконти в театре был очень большим, но в кино его позиции были не такими весомыми. Там-то я и нашел для себя дело. На несколько недель меня взял ассистентом Роберто Росселлини, потом я работал с Антониони на пробах для будущего фильма. Но в общем ничего постоянного и существенного. Никакой серьезной перспективы.
Еще до нашего расставания Лукино предложил мне оформить его постановку чеховских «Трех сестер», но теперь я не знал, остается ли предложение в силе. Неожиданно он вызвал меня к себе на виллу на остров Искья. В то время наши с ним отношения уже были такими же, как во Флоренции и в первые дни в Риме — чисто профессиональными, и никакой двусмысленности.
Моя идея заключалась в том, чтобы создать в «Трех сестрах» образ мечты о России, очень точный в деталях, но в целом невнятный, призрачный. Вот памятка для художника по костюмам Марселя Эскофье с описанием атмосферы, которую я хотел бы создать на сцене:
«…В последнем акте, другими словами, в саду, все оформление сцены станет будто памятью о любимом и безвозвратно ушедшем мире: контуры предметов, деревьев, домов и проч. будут едва различимы, точно все это теперь сделалось смутным воспоминанием… Сочные яркие тона первого акта должны постепенно потускнеть и окончательно рассеяться в осеннем саду, вызывая ощущение случайно найденной в ящике комода выцветшей семейной фотографии».
Я уже пытался выработать свой собственный стиль, обращая особое внимание на достоверность (чему меня научил Висконти), пуская в ход воображение и способность «видеть». К чести Лукино, он позволил мне сделать все по-своему. Я видел, что он внимательно и не без гордости следит за моим творческим ростом. Разумеется, многие по-прежнему во всех моих достижениях видели только его заслугу. Но были и исключения: Коррадо Паволини, известный режиссер, работавший тогда в театре «Ла Скала», пришел лично поздравить меня в день премьеры «Трех сестер». Он очень хвалил мои декорации и сказал много теплых слов Лукино о его способности находить новые таланты. Лукино отреагировал весьма прохладно, но вовсе не из ревности или зависти, а по причинам политического характера, о чем я узнал позже.
Коррадо был братом Алессандро Паволини, министра народной культуры, которого я видел на площади Лорето повешенным рядом с дуче. Про Коррадо же было известно, что он не разделял политических взглядов брата и отвергал его помощь. А Лукино, который всегда с легкостью навешивал идеологические ярлыки, даже отказался пожать ему руку и поблагодарить за хвалебный отзыв.
К моему немалому изумлению, Паволини пригласил меня оформить новую постановку «Итальянки в Алжире» Россини, уже включенную в следующий сезон «Ла Скала». В то же самое время Лукино предложил мне быть ассистентом (вместе с Франко Рози) на съемках его очередного фильма «Чувство»[39], и это как раз попадало на период простоя до начала работы в «Ла Скала». Лукино очень дорожил нами обоими как ассистентами — наверно, сумел разгадать в нас талант, а он ревниво относился к своим открытиям, что, в общем, вполне понятно.
Фильм «Чувство» был поставлен по мотивам повести Камилло Бойто, действие которой происходит в период Рисорджименто[40], когда Италия боролась за независимость от Австрии. Лукино уговорил Теннесси Уильямса написать сценарий, но он ему не понравился. Когда фильм вышел, Теннесси увидел, что от всей его работы осталась одна-единственная реплика!
Во время съемок «Чувства» произошел эпизод, о котором я до сих пор вспоминаю с особой теплотой. Одна из ключевых сцен фильма происходит в «Ла Фениче», красивом оперном театре Венеции: итальянские патриоты устраивают своего рода акцию протеста против австрияков и их друзей — венецианских богачей. На галерке шумит народ, который больше не может терпеть правителей-иноземцев. Символом народного движения за объединение Италии стал Верди, и его фамилия странным образом стала аббревиатурой главного лозунга. То есть когда зрители на галерке скандировали: «Viva Verdi!», на самом деле имелось в виду: «Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia!» (Да здравствует Виктор-Эммануил, король Италии!), а знаменитый хор «Va pensiero» из оперы Верди «Набукко» стал их боевым гимном.
В фильме мы планировали показать фрагмент оперы Верди «Трубадур», и мне удалось раздобыть для этого эпизода старинные театральные костюмы и декорации. Но Висконти, с его пристрастием к точному воссозданию духа времени, хотел, чтобы в кадре все выглядело в точности как в 1859 году.
— Нам нельзя использовать электричество, — заявил он. — Освещение в зале должно быть как тогда.
— Свечи?
— Ну да, — ответил он.
— Ты что, хочешь заменить свечами лампочки — и даже в центральной люстре? — изумился я.
— Конечно. А что особенного?
Висконти умел привести меня в полное замешательство, но это требование даже по его меркам было из ряда вон выходящим. Я пожал плечами и сказал, что ничего не имею против, и если дирекция театра позволит, то я задание выполню. Было совершенно очевидно, что разрешения никто не даст.
В прошлом театр «Ла Фениче» дважды горел, а чтобы воссоздать освещение середины XIX века, нужны были тысячи свечей. Серьезная опасность. Но непонятно каким образом разрешение было получено. Первой моей заботой стала противопожарная безопасность. Я собрал команду из сорока человек, которым вменялось в обязанность зажигать и тушить свечи и быть наготове в случае необходимости. Прежде чем показать Висконти переоснащенный зрительный зал, мне захотелось самому посмотреть, что получилось. Поэтому когда команда осветителей была почти готова, я вышел из зала и стал ждать, что зажгут все свечи. Потом откинул портьеру, ведущую в партер, и увидел «Ла Фениче», каким он был сто лет назад.
От света, разлившегося по залу, у меня захватило дух. Все выглядело таинственным: люди походили на тени, то исчезающие, то вновь возникающие в отблесках золотистого сияния, женщины казались прекрасными, мужчины — обольстительными, взгляды влюбленных сияли как звезды, а улыбки сверкали как драгоценности. А сами драгоценности излучали неяркий мерцающий свет. Действие на сцене стало грезой, волшебством. Сцена, озаренная пламенем свечей, походила на ожившую картину Дега. Я просто обомлел и, кажется, впервые в жизни в полной мере ощутил волшебную власть театра.
В конце декабря я оставил работу над почти законченным фильмом, потому что пора было начинать репетиции в «Ла Скала». Не сомневаюсь, что Лукино отметил эту иронию судьбы: «Ла Скала» раньше принадлежал семейству Висконти и был построен на их земле. Дед Лукино еще в начале века спас театр от разорения и, будучи главным управляющим, пригласил Артуро Тосканини на должность художественного руководителя.
Я боялся, что Лукино будет против. Ничуть! Я даже почувствовал искреннее участие учителя, радующегося успеху талантливого ученика. Меня это удивило и очень подбодрило. Ведь его самого ни разу не приглашали в «Ла Скала», а теперь туда шел работать я — его творение!
IX. До н. э. — н. э.
После реконструкции театра «Ла Скала» и падения фашизма рядом с прославленными именами прошлого поднялось новое поколение: дирижеры, постановщики и исполнители, которым выпала задача обновить оперный жанр, тщательно сохранив завоевания и достижения прошедших эпох. Но это была не революция, все сметающая на своем пути, а новое пышное цветение старинного древа. Мне посчастливилось стать свидетелем великого момента.
Это было золотое время итальянского бельканто XX века: Тебальди, Каллас, Ди Стефано, Дель Монако, Корелли, Росси-Лемени, Барбьери, Симионато, Гобби, Беки, Христов… Изумительные голоса в момент наивысшего расцвета. В те годы случалось, что на одной неделе в театре шли три оперы Верди с тремя составами высочайшего уровня! Директором театра был в те годы Антонио Гирингелли, малоприятный человек, разбогатевший на производстве обуви. Его культурный уровень явно оставлял желать лучшего, но ему удавалось удерживать в одной упряжке всех этих «породистых лошадок», причем он не отказывал себе в удовольствии пощекотать их честолюбие и подогреть соперничество. Одним словом, Гирингелли был непревзойденным мастером древнего искусства «разделяй и властвуй».
Виктор Де Сабата, музыкальный руководитель театра, был не только одним из величайших дирижеров XX века, но и человеком, с тонкостью и душевной щедростью относившимся к коллегам по ремеслу, приехавшим со всего света. Он как-то сказал нахальному журналисту, пытавшемуся поссорить его с Фуртвенглером: «Пускай великие певцы сражаются друг с другом на сцене. У нас свои задачи: нам вверены оркестры и музыка». Де Сабата заботился и о молодых дарованиях, например Гвидо Кантелли и Карло Мария Джулини начали свою дирижерскую карьеру в «Ла Скала» под его покровительством.
Я с дрожью вспоминаю все, что еще относительно недавно происходило в «Ла Скала». Совершенно непонятно, как этот прекрасный театр мог попасть в недобросовестные руки. «Ла Скала» — барометр, который показывает уровень культуры не только города, но и всей страны. Начиная с 1946 года культурная лихорадка очень высоко подняла столбик ртути, а шестьдесят лет спустя он опустился просто до нуля. Но, к счастью, у великого театра великие возможности, и он сумел преодолеть кризис. «Ла Скала» вернул былую славу и снова блистает, как ему подобает.
Оперой Россини «Итальянка в Алжире», на которую меня пригласили художником-постановщиком, дирижировал Джулини, а исполняла главную партию лучшее меццо-сопрано эпохи Джульетта Симионато.
Нервничал я ужасно: это была моя первая большая самостоятельная работа без Лукино, да еще в самом знаменитом оперном театре мира, к которому такому юнцу, как я, и подойти-то было боязно. Кроме того, как в любом уважающем себя оперном театре, в «Ла Скала» царил дух сплетен, и воюющие стороны готовы были превратить в кромешный ад жизнь тех, кто не принадлежал к их группировке. Мне не повезло вдвойне: с одной стороны, я был «ставленником» Лукино, а с другой — в мире оперы никому не был известен. Однако у меня была крепкая поддержка режиссера-постановщика Паволини, человека великодушного, который доверился мне и поддерживал до конца.
Большим плюсом для нас было то, что «Итальянкой в Алжире» начиналось возвращение на оперную сцену Россини, гениального композитора, чьи произведения десятилетиями оставались в забвении, за исключением популярных «Вильгельма Телля» и «Севильского цирюльника». Уж не знаю, чья это была идея, но вслух ее выразил Гирингелли, который при каждом удобном случае соловьем разливался об историческом значении постановки великого Россини. Но мы имели возможность работать в полную силу и ни от кого не зависеть. А поскольку оперу ставили еще и специально для Симионато, то военные действия между двумя соперничающими кланами — Каллас и Тебальди — обошли нас стороной. Более того, обе звезды были связаны с Симионато крепкой искренней дружбой, недаром она была одной из самых обаятельных и уважаемых оперных певиц мира.
Получив от Паволини карт-бланш и почувствовав свободу, я принялся за оформительскую работу с дерзостью, уже проявленной молодыми флорентийцами в Риме. Я использовал сценические механизмы, которыми был оснащен «Ла Скала» со времен гениального техника Фортуни, и в результате получился очень живой спектакль с быстрой, впечатляющей сменой декораций. Городские стены Алжира, пострадавшие от бури, которая приводит туда Изабеллу в поисках плененного турками возлюбленного, поднимались, и на сцене возникала крепость; за ее стенами возвышался дворец султана — изящный павильон в мавританском стиле. Действие оперы происходит в 1820-х годах, и изысканность эпохи я постарался передать яркими жизнерадостными костюмами, что показалось порывом свежего ветерка после привычных тяжеловесных, переполненных деталями декораций.
Публика встретила спектакль с благодарным энтузиазмом. И стоящие на сцене, и сидящие в зале будто стали участниками новой увлекательной игры. Никаких терзаний по поводу скрытого смысла или критического подхода к содержанию, как у нас теперь принято. В те времена любая новая постановка была как находка старинного клада, и само по себе возвращение забытого произведения с прекрасной музыкой и голосами уже приносило радость и удовлетворение.
Отец еще не вполне оправился от перенесенного удара и не мог присутствовать на премьере, но в Милан приехали тетя Лиде и Густаво, человек, который открыл мне волшебный мир оперы. Невозможно описать его гордость и умиление при виде моих успехов. Восьмилетний малыш, которого они повели на «Валькирию», превратился в «короля „Ла Скала“». Публика восторженно приняла нашу постановку, и успех придал мне уверенности в себе: ведь это был плод моего самостоятельного творчества, да еще в театре, который почти невозможно завоевать.
Нельзя, правда, сказать, что моя жизнь сильно изменилась. Одному Богу известно, как я умудрялся сводить концы с концами. Я получал около четырехсот тысяч лир, с учетом расходов — жалкую сумму даже по тем временам. В таком режиме мне пришлось работать многие годы, до тех пор, пока я наконец не заработал серьезные деньги, а это произошло в кино. Помню, Лоуренс Оливье как-то сказал: «В театре ты никогда не разбогатеешь. В лучшем случае заработаешь на хлеб с маслом для семьи и на бутылку виски не лучшего качества для себя».
В те годы по миру пронесся ураган по имени Каллас, который полностью изменил лицо оперы и музыки не только в «Ла Скала».
«Феномен Каллас» родился в Вероне в 1947 году: в конце представления оперы «Джоконда» веронские зрители просто посходили с ума. За Вероной последовали другие выступления, столь же памятные, как в Венеции в 1949 году. Театр «Ла Фениче» пригласил Марию на одну из самых трудных вагнеровских партий — Брунгильды в «Валькирии». В афишах того года блистала еще одна звезда первой величины — венецианка Маргарита Карозио — Эльвира в беллиниевских «Пуританах». Более разных ролей и певиц представить было нельзя. Случилось так, что в Венеции в январе бушевала эпидемия гриппа, и Карозио заболела. Заменить ее было некем, и маэстро Туллио Серафин велел Марии готовиться к спектаклю. Это означало, что за неделю ей предстояло выучить главную партию, по стилю и вокалу совершенно для нее новую. Казалось, это невозможно, но отваги Марии было не занимать. Так в течение недели она из Брунгильды превратилась в Эльвиру и в обеих ролях была великолепна!
При этом она успела выскочить замуж за богатого промышленника Баттисту Менегини, который всегда увивался за певицами. Они поселились в Вероне. Мария обставила квартиру в розовых и золотых тонах, включая зеркала, полы и ванные, научилась прекрасно говорить по-итальянски с местным акцентом, вероятно, в знак благодарности мужу и для нового имиджа. Но в голове у нее прочно засело одно: попасть на сцену «Ла Скала». И хотя слухи о «феномене Каллас» давно уже дошли до Гирингелли, он все не слал ей приглашения (а может, как раз назло слухам).
Правда, в 1950 году ее пришлось срочно вызывать в «Ла Скала» петь на третьем представлении «Аиды», потому что Тебальди заболела. Всю жизнь Мария раскаивалась в этом поступке. Исполнение не имело успеха, хотя ее драматическая интерпретация была, на мой взгляд, новой и очень интересной. Мария увидела в Аиде эфиопскую принцессу, которая, став рабыней фараона, не может снести унижения и решает никому, кроме своего избранника Радамеса, не открывать лица. Таким образом, перед публикой, наслышанной о новой диве, предстала толстая гречанка, которая пропела всю партию, спрятав лицо под покрывалом. Исполнение тоже было непривычным, она резко меняла регистр между контральто и сопрано, что, по ее мнению, добавляло драматизма героине. Действительно, надо признать, что видение образа героини было революционным, но публика, привыкшая к чарующему голосу Тебальди, вынесла суровый приговор, и дебют Каллас в «Ла Скала» стал практически полным провалом. Гирингелли не сумел или не захотел поддержать Марию, испугавшись, вероятно, таившихся в ее голосе чертей, землетрясения и даже конца света, и захлопнул перед ней двери театра. Она в бешенстве покинула Милан, поклявшись, как настоящая гречанка, вернуться примадонной.
С этой минуты Каллас начала осаду «Ла Скала». Она завоевала весь мир, триумф следовал за триумфом, и все хвалебные рецензии она аккуратно посылала Гирингелли. Был какой-то сезон, когда Мария и Тебальди одновременно пели в Рио-де-Жанейро, и это была настоящая дуэль: обе пели в «Тоске», и Мария стала безусловной победительницей. Тогда она подошла вплотную к жертве и стала ходить кругами — спела «Травиату» в Венеции, потом во Флоренции и за короткий срок свела с ума полмира.
Гирингелли ничего не оставалось, как признать, что от Марии не уйти, и он покорно с этим смирился. Но Гирингелли тоже был непрост и сумел поражение обратить в свою победу. Мария с триумфом, как обещала, вернулась в «Ла Скала» — ее приветствовали как звезду первой величины на открытии сезона 1951–1952 годов в «Сицилийской вечерне» под управлением Виктора Де Сабаты. На ее стороне было общественное мнение, и ее поддерживала интеллигенция, жарко раздувавшая пламя соперничества с Тебальди. Мария олицетворяла новое, а Тебальди знакомое, традиционное. От каждого удара искры так и сыпались. Во главе старой гвардии на стороне Тебальди стоял клан Тосканини — престарелый маэстро помог ей прославиться в первый послевоенный сезон «Ла Скала» 1946 года. А новую звезду поддерживал Туллио Серафин.
Трудно понять, почему Тосканини поначалу был так сильно настроен против Марии, «кожей не переносил», как сказала его дочь Валли, не дав никаких объяснений. «У нее в голосе уксус», — заметил однажды Тосканини, и этот комментарий, услужливо переданный Марии, глубоко ранил ее. Но в 1950 году, готовясь к постановке «Макбета» в Буссето по случаю пятидесятилетия со дня кончины Верди, он пригласил ее на прослушивание. Присутствовавший Менегини рассказывал, что Мария пела с потрясающей внутренней силой. В конце Тосканини произнес: «Вы — та женщина, которую я столько лет искал. В „Макбета“ я возьму вас».
Опера так и не была поставлена, но Мария осталась очень довольна. Она вообще была такой: бесстрашно бросалась в бой с кем угодно. Эта ее черта тоже вызывала восхищение.
Работая в театре «Пиккола Скала»[41], я часто оказывался рядом с Марией за кулисами перед выходом на сцену. Она нервно обсуждала с верной Бруной мелочи быта вроде счета из прачечной или цен на овощи, а когда ее вызывали на сцену, делала глубокий вдох, крестилась и в ту же минуту полностью входила в образ. И тот самый голос, который только что говорил с прислугой о банальных домашних делах, становился вдруг голосом с другой планеты. Происходило чудо, мы попадали в волшебство, которое не поддавалось описанию.
Как ей это удавалось? Что происходило с ней, когда ею овладевал ангел Нормы или демон Тоски?
Экстрасенс Густаво Рол, ее страстный почитатель, остро чувствовавший «пламя высших энергий», которое охватывало Марию во время пения, объяснял это ее способностью проникать в нематериальные субстанции: «Это — безусловное „внедрение“, то есть материализация в ней Гармонии и Энергии, управляющих Вселенной, которые мы можем только ощущать, но не можем определить с помощью наших скудных средств восприятия. Греки хорошо знакомы с состоянием экстаза, овладевающим душой. Не надо забывать, что Мария — гречанка и может обладать способностями, о которых сама не подозревает, — это умножение материи, конденсация духовных сил с помощью Музыки, что позволяет приблизиться к Божеству. Музыка — величайший дар, которым Бог наградил свое творение».
Я полностью разделяю эту точку зрения и хочу добавить к этому собственные размышления. Мне хорошо известна история Марии, я знаю, скольких страданий, лишений и нечеловеческих усилий стоило ей с самого рождения сотворение этого голоса. Это что — сила воли или отчаяние? Скорее, что-то ближе к отчаянию, потому что она была лишена способности любить и быть любимой.
За всю свою жизнь Мария так и не узнала, что такое любовь, которая так или иначе согревает жизнь всякого человека. А если кто и нуждался в любви, так именно она. Где ее было взять? У рассеянного отца, которого она так рано потеряла? У матери? У сестры? У ухажеров? У мужа (Менегини, а потом Онассиса)? Она жила среди настоящей пустыни.
Мария была готова изливать океаны любви на других, но никто не отвечал ей взаимностью. Ею восхищались, ее почитали, ей поклонялись, но никто никогда не любил. И не отдавался ее любви. Она никогда не испытывала той страсти, которая движет нашей жизнью, и ее пение стало криком рвущейся из нее любви.
Судьба Марии чем-то похожа на судьбу ее соперницы Ренаты Тебальди. Она тоже была лишена любви и тоже всегда пела о своем одиночестве. Удивительное сходство!
Все их соперничество от начала и до конца придумали журналисты и светские салоны. Они испытывали друг к другу уважение и хорошо знали, какую цену приходится платить за успех. Не сомневаюсь, что одиночество сближало их. Мир Ренаты был так же холоден и пуст, как сад среди зимы. Ни одна из них не нашла мужчины, который подарил бы ей ребенка.
Вечная память и благодарность этим удивительным женщинам, которые за руку вели нас к прекрасному.
Обычно такая конкуренция существует между тенорами, они становятся непримиримыми врагами и слова доброго друг о друге сказать не могут. А искусственно раздутое соперничество между Каллас и Тебальди было скорее рассчитано на театральную публику: часть ее находила невыносимой Марию, а другая принималась зевать, едва Тебальди открывала рот. Победила Мария, если уместно так выразиться. Тебальди исполняла главную партию в опере «Валли», которая в «Ла Скала» с треском провалилась. Даже декорации, и те сыграли с ней злую шутку: лавина в последнем действии обрушилась в оркестр! А на следующий день Мария блистательно пела в «Медее». Дирижировал молодой Леонард Бернстайн — впервые в «Ла Скала». И когда тот незабываемый вечер подошел к концу, мы поняли, что наступила новая эра — эра Каллас.
Успех «Итальянки в Алжире» был так велик, что Антонио Гирингелли, директор «Ла Скала», решил поставить еще одну оперу Россини, «Золушку»[42], с тем же составом: Паволини, Джулини, Симионато и я. Но Паволини был болен, он отсутствовал и на большей части репетиций предыдущей оперы, так что я, по сути дела, выполнял обязанности второго режиссера. Поэтому, когда ему пришлось отказаться от работы в «Золушке», он предложил мне взять на себя всю постановку, а не только оформление, и Симионато горячо его поддержала. Гирингелли не возражал, чего я, собственно, больше всего боялся. Сегодня это никого не смущает, но тогда было не принято, чтобы художник-постановщик брал на себя функции режиссера. Это были совершенно различные, хотя и смежные ремесла. Мне удалось изменить этот подход и совместить обе профессии. Иногда меня, режиссера, до сих пор спрашивают: «А что скажет на этот счет твой сиамский близнец — художник-оформитель?»
Я вернулся в Рим, в свою каморку над крышами площади Испании, и начал готовиться к работе. Денег не было, за «Золушку» мне должны были заплатить только через год. Я лениво сидел в четырех стенах, когда однажды Пьеро Този привел в нашу чердачную квартирку приятеля-антиквара. Не помню уже, о чем шла речь, о футболе, наверно, и тут я заметил, что гость не может оторвать взгляда от развешанных на стене репродукций Матисса со следами карандаша. Он попросил ластик и осторожно стал стирать линию в верхнем уголке одного листа. Не нужно было быть антикваром, чтобы понять, что никакие это не репродукции! Это были подлинные рисунки Матисса с автографами. Как я мог подумать, что такая женщина, как Шанель, подарит мне репродукции? Значит, на стенах нашей обшарпанной квартирки висело целое состояние! Приятель назвал их рыночную цену — астрономическую! Обещал кое с кем поговорить. Но разве я мог расстаться с подарком Шанель? С другой стороны, как этого не сделать при нашей нищете? Сначала пришлось продать два рисунка — за немыслимые, казалось, деньги, но после раздачи долгов и безудержных (на радостях) трат они быстро кончились. Тогда я продал еще два. Долгие годы эти рисунки были вроде ренты, которая помогала выжить в трудные дни или во время вынужденных простоев и длительных периодов подготовки и отбора материалов для будущих проектов, за которые уж точно никто никогда не платил. К тому моменту, как я стал зарабатывать достаточно, чтобы не продавать рисунки Матисса, у меня осталось всего четыре листа, да и те потом украли: я был в «Ла Скала», а Пьеро и Мауро куда-то ушли. Так в конце концов я лишился подарка Шанель, и даже сейчас, по прошествии стольких лет, у меня на сердце кошки скребут, когда я об этом вспоминаю.
Мое возвращение в Милан оказалось нелегким. В первый же день репетиции с хором я страшно растерялся при виде этих грозных на вид людей, одетых в одинаковые репетиционные комбинезоны серого цвета. Я опоздал, и меня сразу поставили в известность, что первый перерыв состоится не через час, а ровно через пятьдесят минут. Они бесстрастно ждали, что же я им предложу как режиссер. Они знали меня по «Итальянке» — но там я был художником, а не режиссером — и недвусмысленно продемонстрировали свое недоверие.
Когда репетиция наконец закончилась, моим первым побуждением было немедленно отказаться от постановки и продолжить заниматься только оформлением. Я совсем не был готов работать с хором в качестве режиссера. Но Симионато сразу разбушевалась:
— Ты смотришь на них как на серую стенку, как на врага, — сказала она. — Каждый — индивидуальность, каждый — талант, а для тебя они пешки. Их надо узнать, полюбить, и только тогда талант этих людей сумеет для тебя расцвести.
Это было в четверг, а следующая репетиция назначена на понедельник. Я пошел в отдел кадров и попросил журнал с биографическими сведениями и фотографиями хористов. Оставшиеся дни я провел, запоминая лица и заучивая имена и фамилии: синьора Маццони, синьор Босколо, синьора Гизлени… сопрано, бас, меццо-сопрано… Всего я выучил около десятка имен, но их должно было хватить. В понедельник я уже различал этот десяток по голосам и именам.
— Синьора Гизлени, — сказал я удивленной хористке, — вы ведь меццо-сопрано? Встаньте-ка сюда и возьмите эти цветы…
Они словно ожили, прониклись неподдельным интересом к замыслу. В результате именно хор придал постановке живость и цельность. Даже критика это отметила: «Творческий вклад хора в спектакль велик как никогда, что должно послужить хорошим примером всем режиссерам-постановщикам».
Это стало хорошим уроком и для меня самого: я понял, что обязанность режиссера — не только работать с солистами, но и вдохнуть жизнь в хор. Как неустанно мне повторяла Джульетта Симионато: «Если тебе не удастся привлечь хор на свою сторону, как и певцов, то на успех не надейся».
На генеральную репетицию «Золушки» пришел Лукино.
— Я приехал в Милан из-за Марии, но разве мог я не прийти посмотреть, не зря ли потратил время, обучая тебя ремеслу, — сказал он полушутя-полусерьезно.
Генеральная репетиция прошла с большим успехом и была встречена громкими и продолжительными аплодисментами. Без ложной скромности скажу, что спектакль действительно получился прекрасный во всех отношениях. После нескончаемых поклонов я бросился к приятелям, пришедшим на просмотр. Тут открылась дверь в ложу, и я почувствовал, как кто-то стиснул меня так сильно, что едва не задушил. Это был Лукино. Одной рукой он держал меня, а другой отталкивал подбежавших друзей.
— Назад! Все назад! Отойдите от него, он мой! — возбужденно кричал Лукино. — Он принадлежит мне!
Друзья смеялись, кое-кто захлопал. Сцена была странная, и никто не знал, как реагировать. Лукино вдруг меня выпустил и исчез в коридоре.
Позже, вспоминая все происшедшее за последнее время и его неожиданное и противоречивое поведение, я стал задумываться над истинными причинами нашего разрыва. Неужели это был жест великодушия — он просто вытолкнул меня из гнезда, как орел мощными ударами крыльев выталкивает орлят? Неужели этот сложный человек, одновременно самоуверенный и смиренный, невозможный эгоист и широкая душа, безумный и мудрый, понял, что наши отношения становятся препятствием на моем творческом пути и его долг — отпустить меня, чтобы я начал летать сам?
«В самом деле, благородные чувства», — говорит Жермон Виолетте. Ведь в конце концов наша жизнь не что иное, как опера. Не сомневаюсь в этом после всех оперных сцен, которые мне довелось наблюдать в жизни.
Воодушевленный успехом «Золушки», Гирингелли предложил мне сделать в следующем сезоне еще две постановки: «Любовный напиток» Доницетти с великим тенором Джузеппе Ди Стефано и «Турка в Италии» Россини. Я чуть с ума не сошел от радости, когда узнал, что главную партию в «Турке» будет петь Мария Каллас, — наконец-то мне выпало счастье с ней работать! Мария, оказывается, выдвинула условие, чтобы оперу Россини ставил именно я.
Но вообще тот сезон стал сезоном Лукино: он впервые пришел в «Ла Скала» и сразу на три постановки, причем все три с Марией, с которой его давно связывала крепкая и очень непростая дружба. Ни для кого не было секретом, что под внешним взаимопониманием двух артистических натур таилась безумная страсть Марии к Лукино. Клубок сплетен раздувался на глазах. Ее муж Баттиста Менегини полностью полагался на дурную репутацию Лукино и отсутствие интереса к женщинам. Примерно так же рассуждал несколькими годами ранее мой отец: «И чем, по-твоему, они могут вместе заниматься?» Совершенно небезопасный вывод, потому что с Лукино, как хорошо было известно Шанель, никогда нельзя было заранее знать, чем дело кончится. С Марией у него ничего не было, это точно, но если б Лукино захотел доставить радость влюбленной женщине, он бы не остановился ни перед чем. «Беда в том, — говаривал он, — что раз уступишь, и они уже не оставят тебя в покое».
Новый оперный сезон в «Ла Скала» открывался 7 декабря «Весталкой»[43] в постановке Висконти, а на другой день должна была состояться премьера моего «Любовного напитка». Для меня это был крайне неудачный расклад, поскольку, понятное дело, всеобщий интерес всегда был на стороне оперы, открывающей сезон, и второй постановке уделялось гораздо меньше внимания. Кроме того, Лукино хотел — и совершенно заслуженно — произвести фурор. Мне объявили, что в силу сложившихся обстоятельств я со своим «Любовным напитком» могу рассчитывать только на одну четырехчасовую репетицию освещения сцены, да и то утром в день премьеры «Весталки». Для меня это было просто трагедией — невозможно отработать организацию света для целого спектакля всего за четыре часа, да еще когда вовсю идет подготовка к премьере и туда-сюда снуют рабочие, расставляют цветы, переговариваются и требуют включить лампы, потому что в темноте не могут как следует украсить ложи.
Нам удалось добиться относительной тишины, мне обещали, что заплатят осветителям сверхурочные, как за целую ночь, но пока в моем распоряжении было всего четыре часа, и один из них уже прошел. Наконец работа началась. Нужно было осветить деревенскую площадь во втором акте, где главный герой Неморино, заснувший за столом таверны, просыпается и мечтательно поет самую красивую и знаменитую арию «Una furtiva lagrima». Мы только-только начали разбираться, что к чему, как вдруг в зале дали полный свет, и по рядам в сопровождении многочисленной свиты прошествовал корифей итальянский оперы Артуро Тосканини, только что вернувшийся из Америки. Тосканини был глуховат и громко разговаривал, не обращая на нас ни малейшего внимания.
Меня ему даже не представили. Все расселись и заговорили об акустике, явно собираясь пробыть в зале долго. Хотя появление самого Тосканини вызвало в моей душе благоговейный восторг, я стал с нетерпением поглядывать на часы. Я очень устал после бессонной ночи в пошивочной мастерской, и такое беспардонное поведение мне показалось обидным. Прождав полчаса, я попросил осветителей потушить в зале свет и вернуться к работе, что они сделали с явной неохотой. Когда зал погрузился в полумрак, Тосканини поинтересовался, что происходит. Ему сообщили, что в настоящий момент идет репетиция светового оформления, и он стал спокойно смотреть на сцену. Потом спросил, что за опера репетируется. Ему ответили.
— Но в «Любовном напитке» нет сцен в темноте! — воскликнул он. — Там все действие происходит при солнечном свете, то есть при полном освещении!
Я пропустил его замечание мимо ушей и продолжал работать. Тут ко мне подскочил Гирингелли.
— Вы слышали, что сказал маэстро? — прошептал он мне на ухо.
Нервы у меня были уже на пределе, и я не сдержался:
— Мне наплевать, что он говорит! — огрызнулся я. — Это моя постановка, и идет она завтра!
Я был совершенно вне себя. Мои слова, похоже, всех повергли в ужас, но меня прорвало, я шатался от усталости.
— Мне очень жаль, маэстро, знакомиться с вами при таких обстоятельствах. Я мечтал об этой минуте годами. Но сейчас вы только мешаете. А потерянное время мне никто не вернет!
В зале повисла гробовая тишина. Тут Тосканини встал и, ни слова не говоря, покинул зал, за ним и вся свита. Гирингелли подскочил ко мне, шипя:
— Вы что, совсем спятили? — заорал он. — Оскорбить Тосканини! Псих!
Кое-кто прокомментировал:
— Его уже не в первый раз посылают куда подальше. В 31-м ему еще и по морде дали.
Естественно, эта история наделала много шума. Весь «Ла Скала», весь Милан только об этом и говорил. Как обычно, «старая гвардия» страшно обиделась, но все «новые» оказались на моей стороне. Мария стояла за меня горой и не скрывала этого. Выходя как-то с репетиции «Весталки», она бросилась ко мне с криком: «Браво! Браво!»
Лучшего подарка Лукино к его премьере я не мог преподнести. «Ла Скала» после этого случая вообще мог бы закрыть передо мной двери, если бы не вмешательство дочери Тосканини Валли, добрейшей и умнейшей женщины, которая пользовалась большим уважением в Милане. Она пригласила меня на чашку чая к ним домой на виа Дурини.
Маэстро, казалось, даже не помнил о случившемся. Он начал говорить со мной о работе, рассказывать про свою жизнь, про то, как ему было трудно, когда он впервые совсем мальчиком попал в «Ла Скала», как решил ни перед кем не кланяться и высказывать каждому, что считает нужным. Когда надо принимать решение, предостерег он меня, дурной характер может помочь пробить дорогу, но может и все испортить. На этом инцидент был исчерпан, но даже сейчас, когда у меня возникают разногласия с дирижерами или исполнителями, они вспоминают: «А, ведь это ты устроил выволочку самому Тосканини!»
Не могу не вспомнить, что за тот год Мария совершенно преобразилась — она похудела килограммов на тридцать. Как ей это удалось, остается загадкой. Предполагали разное: специальное лечение, солитер и все такое прочее. Но на самом деле чудо произошло только благодаря невероятному усилию воли. Я стал лучше понимать, в чем дело, когда обнаружил у нее в грим-уборной фотографию Одри Хёпберн с дарственной надписью. Хёпберн в «Римских каникулах» — тоненькая, изящная, вздернутый носик и огромные кошачьи глаза.
Мария решила стать на нее похожей и добилась этого невероятными усилиями. Достаточно взглянуть на ее фотографии! Если смотреть с расстояния, то есть из зрительного зала на сцену, то сходство есть.
Мария, ставшая стройной и элегантной, была в полном расцвете своего дарования. Дух захватывает, когда смотришь на ее фотографии в «Весталке». Она и прекрасный тенор Франко Корелли, тоже красавец (он не упускал случая выставить напоказ очень красивые ноги, вызывавшие восторг женщин Милана и всего мира), были такой потрясающей парой, какой больше мне не довелось видеть на сцене «Ла Скала». Их красота и несравненные голоса, безусловно, очень способствовали успеху «Весталки», оперы довольно скучной, в которой только и было достоинств, что замечательная постановка Лукино и эта пара. Премьера имела грандиозный успех. А на другой день настал черед моего «Любовного напитка». В нем тоже были заняты великолепные исполнители — тенор Джузеппе Ди Стефано, красавец и талантливый актер, очаровательная Розанна Картери и блистательный Итало Тайо в роли Дулькамары. Словом, и «Напиток» удался благодаря прекрасному пению и игре солистов.
Я был невероятно горд, что сумел не ударить в грязь лицом рядом с великим учителем. Многие критики тогда писали, что эти два спектакля совершили исторический переворот в традиции оперных постановок. Некоторым современным режиссерам стоило бы посмотреть, что мы сумели сделать полвека назад. Но их тогда, увы, еще и на свете не было, а современных средств записи и воспроизведения, которые сегодня позволяют нам остановить время, не существовало.
Перед моей постановкой «Турка в Италии» в 1955 году Марии предстояло петь в «Сомнамбуле» у Лукино; мне кажется, что это их самый лучший совместный спектакль. Пьеро Този создал замечательные декорации и костюмы в романтическом стиле, которые идеально подходили для рафинированной постановки Лукино. Впоследствии их многократно копировали, но тогда это было абсолютным новшеством.
Разумеется, приверженцы оперной традиции «Ла Скала» не сумели оценить постановку. И в первую очередь сам Гирингелли. На генеральной репетиции он позволил себе наброситься на Този с упреками, что из-за его оформления Висконти, Каллас и весь «Ла Скала» ждет неминуемый провал. Лукино об этом узнал и, увидев Гирингелли в ложе, остановил репетицию и грубо обругал его. Это был скандал, на который был способен только Лукино — он не стеснялся ни хора, ни оркестра, ни рабочих. Внутренним чутьем он понял, что только так можно уничтожить на корню явное противостояние спектаклю. А Валли Тосканини примчалась восстановить мир и прикрыть отступление Гирингелли.
«Сомнамбулой» дирижировал молодой Леонард Бернстайн, которого я знал со времен постановки «Медеи». Он на всю жизнь, до самой своей смерти в 1990 году, стал мне верным и добрым другом и неистощимым источником новых идей и вдохновения. Вместе с Марией они могли добиться невероятных результатов, настоящих чудес.
Помню арию «Ah, non credea mirarti» из третьего акта «Сомнамбулы»[44]. Мария пела, едва приоткрыв губы, на предельном пианиссимо. С тех пор, когда Ленни Бернстайн хотел добиться от оркестра или солиста максимального пианиссимо, он обыкновенно просил повторить «суперпианиссимо Каллас».
Он приходил на мои репетиции поглядеть, что умеет «паренек Висконти». Оперный мир всегда очень чуток к новым талантам, а Ленни, как и мы все, был любознателен. Этот еврейский юноша из Нью-Йорка перевернул весь музыкальный мир сначала как пианист, потом как дирижер и наконец как композитор, добившись огромного успеха в Европе и на Бродвее мюзиклом «Увольнительная в город»[45]. Через два года последовала «Вестсайдская история», но к тому времени Бернстайн уже был знаменит. Выросший в нищете, он решил во чтобы то ни стало добиться успеха и изменить свою жизнь. Ленни жаждал признания и был наделен могучей энергией и талантом. Ему было чуть больше сорока, и он сразу приковывал к себе всеобщее внимание ярко выраженными еврейскими чертами лица и энергичными жестами.
«Сомнамбула» не получила заслуженного признания (наверно, из-за происков Гирингелли). Волшебная стилизация спектакля разделила публику на два лагеря: одни считали его слишком традиционным, а другие слишком смелым, авангардистским. А это всего лишь было идеальным сочетанием музыки Беллини и внешне, подчеркиваю, внешне традиционных форм. Кто ругался, а кто был в полном восторге. Эта незабываемая постановка Лукино стала еще одним уроком для меня и для всей творческой молодежи.
После премьеры мы все поехали ужинать. Мария была на строжайшей диете и сама выбирала, что каждый из нас будет есть. Как сейчас вижу высоко поднятую в ее руке вилку, которой она нацеливается на чью-нибудь тарелку, чтобы попробовать крошечный кусочек, прежде чем вернуться к своему несоленому мясу и незаправленному салату. А затем Ленни начал свои обычные шуточки, которых я всегда немного побаивался, потому что они могли завести неизвестно куда. Одна из них — «игра в темп»: он отбивал ритм и называл чье-то имя, и если ты не попадал в ритм, то выбывал из игры. Кто-то обиделся. Еще кто-то сказал, что Ленни сменил темп. Он страшно разозлился и был прав. Наконец привезли газеты с первыми рецензиями. Отзывы оказались не слишком благоприятными. Но для меня эта постановка «Сомнамбулы» осталась единственной и неповторимой: «великолепная четверка» Каллас — Висконти — Бернстайн — Този была безупречной, добавить было нечего.
Мы разошлись часа в три ночи. Я повез Марию домой на виа Буонарроти. Менегини по своему обыкновению поцеловал Марию в лоб и отправился спать, не выразив никаких эмоций по поводу ее успеха, как будто был солидарен с критикой и беспокоился лишь об ущербе. Кроме меня остался только Ларри Келли, директор далласской «Сивик-оперы» и близкий друг Марии.
— Не уходите, — попросила она, откупорив бутылку шампанского. — Давайте встречать рассвет, уже недолго.
— А как же диета?
— Ничего, сегодня так.
Она пересела к камину с шампанским в руке. Мы с Ларри начали болтать и строить планы, но вдруг заметили, что Мария плачет. Решив, что это от усталости, мы стали шутя утешать ее.
— Ты что, от радости плачешь? А что ж делать тогда Тебальди, у которой один провал за другим?
Она жестом остановила нас. Мы поняли, что дело серьезное. Она долго молчала, потом вытерла слезы. Ларри подсел к ней и взял за руку.
— В чем дело, Мария? Скажи. Ты ведь сегодня пела как никогда и никто. Ты покорила свою вершину.
— В этом-то все дело, — ответила она. — Теперь мой путь лежит только вниз, теперь будут только неприятности.
Мы пытались утешить ее, но понимали, что она сказала горькую правду.
— Я всегда очень трезво отношусь ко всему, что получаю от жизни, — она печально смотрела на огонь. — Когда судьба дарит мне что-то прекрасное, я сразу думаю, что обязательно его потеряю…
Прошло несколько дней, и Мария, как всегда вовремя, пришла на первую репетицию «Турка». Никаких следов недавних переживаний. Приступили к примерке подготовленных для нее костюмов, и сразу же начались извечные разногласия — так случается на каждом спектакле.
— Я так старалась похудеть, а ты мне подобрал фасон, в котором я еще толще, чем раньше.
Это были костюмы 1810-х годов в стиле ампир, с высокой талией. Она была права — стройность фигуры они не подчеркивали. Мария стала потихоньку бегать к костюмерам, чтобы чуть-чуть опустить талию, а после нее туда заходил я, и талию поднимали обратно. Кончилось все это бурным обсуждением, я старался доказать, что простые облегающие платья ей очень идут. Но убедил ее вот какой довод: любая женщина в платье с такой высокой талией будет чувствовать себя неловко и неуютно.
— Ладно, — сказала она. — Делай что хочешь, главное, чтобы было весело.
И мы повеселились. Мария проявила неожиданный дар комедийной актрисы, спектакль прошел на ура. Во втором акте мы разошлись до того, что всклокоченная Мария лупила соперницу башмаком, как простая баба, а весь хор шумел кто во что горазд, не хуже неаполитанского базара.
Менегини, сам того не зная, тоже приложил руку к успеху «Турка». Мария обожала драгоценности, а Менегини, чья скупость стала притчей во языцех, очень редко их ей дарил. В сцене, когда она впервые встречает турка, для Мустафы — баса Росси-Лемени я создал костюм, усыпанный драгоценными камнями и золотом, как в сказках «Тысячи и одной ночи». На протяжении всей оперы глаза Марии были прикованы к Мустафе, вернее, к его блестящим сокровищам. Когда Росси-Лемени брал ее руку для поцелуя, она сразу начинала разглядывать его кольца.
Успех спектакля с лихвой искупил все напряжение работы. Премьера «Турка» имела для меня особое значение еще и потому, что Фанни привезла в Милан отца. Хотя каждое движение давалось ему с превеликим трудом, а долгое сидение в кресле было настоящей пыткой, он решил обязательно послушать Каллас в опере, которую поставил его сын. Он во что бы то ни стало хотел познакомиться с Марией, и я взялся за нелегкое дело помочь ему пересечь весь зал и подняться на сцену. Он шел, как ребенок: каждый шаг — целое событие, и чтобы дойти до уборных, нам понадобилось много времени. Я оставил отца с Фанни, а сам пошел предупредить Марию, что мы скоро придем. Она сидела в своей грим-уборной, как в цветочной клумбе, в окружении поклонников.
— Куда ж ты пропал? — спросила она притворно обиженным тоном. — Меня все нахваливают, а мой режиссер даже не заходит сказать, понравилась я ему или нет.
— Прости, Мария, — сказал я, поцеловав ее. — Ты была прекрасна. Но мне пришлось помочь отцу, он очень хочет с тобой познакомиться. Он идет сюда, но очень медленно.
— Отцу? Твоему отцу? — она выскочила из уборной, где роились ее поклонники, и в своем золотом костюме, с развевающимися волосами, взлетела на пустую сцену и бросилась к еле идущему отцу.
— Я так рада, что вы сумели приехать, — Мария взяла его под локоть, помогая передвигаться. — Ваш несносный сын даже не сказал, что вы меня ждете, я бы пришла сразу!
Все то время, что они добирались до ее уборной, Мария непрерывно твердила, какой он замечательный человек, раз мог справиться с таким трудным сыном.
— Он в самом деле очень талантлив, но вечно витает в облаках.
Отец просто сиял от гордости и удовольствия. Они сразу нашли общий язык. А я шел рядышком, полный благодарности к Марии и растроганный радостью старика отца.
После этого случая, даже когда мы с ней вздорили, я уже не мог сердиться на нее по-настоящему.
— Теперь ты можешь поступать со мной как угодно, делать любые гадости, все равно ты останешься для меня золотой бабочкой, которая порхнула через всю огромную сцену «Ла Скала» навстречу бедному старику!
Ей понравились мои слова, и, сжав мне руку, как будто скрепив вечный договор, она прошептала:
— Не забывай, что я гречанка! Никогда не доверяй грекам!
X. Опера: вокал и актерское мастерство
Вслед за успехами в «Ла Скала» завертелась карусель постановок в театрах Италии и всего мира: «Пиккола Скала», далее Неаполь, Генуя, Палермо, Венеция, Амстердам, Тель-Авив… Я подружился со многими прекрасными певцами, а моим бесценным наставником и учителем стал дирижер Туллио Серафин, определивший мою судьбу в театре и музыке. Все, что я знаю, — от него, и все эти знания были получены не из досужих разговоров или умозрительных выкладок, а «на ринге», то есть на сцене, в живой работе, которая сразу показывает, что верно, а что нет. Я готов привести массу примеров, но придется ограничиться теми, которые дали мне особенно много.
«Евангелие от Серафина» сводилось к утверждению Монтеверди[46] о смысле оперы: вначале слово, потом музыка. Каллас применяла этот принцип с ошеломительным результатом.
Серафин был незаурядной личностью с богатейшими знаниями и невероятной интуицией. Он считал, что самый важный музыкальный инструмент в опере — это человеческий голос. Театральная пьеса, положенная на музыку, была для него высшей формой искусства, когда-либо созданной человеком.
— Возьмем «Орфея» Монтеверди, — говаривал он. — Когда Орфей узнает, что Эвридика умерла, он медленно произносит: «Мертва!» — потом следует пауза, и он снова восклицает: «Мертва!» — еще одна пауза, и в это время орган издает протяжную скорбную ноту. Сто пятьдесят лет спустя Глюк в «Орфее и Эвридике» положил на музыку тот же самый драматический эпизод, но у него получилась всего-навсего прелестная барочная ария, почти пасторальная, начисто лишенная переживаний: «Что делать мне без Эвридики? Куда идти мне без любви?»
Серафин открыл мне многочисленные правила и секреты оперы и, главное, первостепенное значение исполнителя. Помню, в 1957 году в Палермо мы с ним готовили «Линду ди Шамуни» Доницетти. Идет генеральная репетиция, я сижу в глубине зала. Во время большого концертато в финале второго акта Серафин прерывается и нервно зовет меня.
— Дзеффирелли! Куда делся Дзеффирелли?
Я подбегаю к оркестровой яме.
— Что случилось, маэстро?
— Где тенор? — спрашивает он, не переставая дирижировать.
— Вон стоит, в первом ряду хора, — удивленно отвечаю я.
— Не вижу. Как ты его одел?
— Так же, как его друзей. Он такой же крестьянин.
Тут Серафин не выдерживает и возмущенно стучит палочкой по пюпитру:
— Нет, не такой же! Он тенор!
Потом немного успокаивается:
— Одень его иначе, его должно быть видно. Когда я не вижу певца, я его и не слышу.
Я провел всю ночь в костюмерной, спешно изготавливая новый костюм для тенора: ярко-синий, красный и желтый цвета, которые сразу выделили его в толпе крестьян, одетых, как принято в Савойе, в зеленое и черное. На другой день на репетиции он сразу бросался в глаза, и зрители слышали только его голос. Вот великий урок, который я запомнил на всю жизнь: зритель должен увидеть голос, иначе он его не услышит.
Серафин никогда не говорил со мной свысока, более того, на каждой репетиции он спрашивал, хорошо ли я запомнил все, о чем шла речь накануне, как будто самым главным было принять, вобрать в себя его опыт и мудрость. Это еще одно подтверждение моей теории о том, что жизнь — это непрестанная передача опыта из поколения в поколение: сначала узнаешь сам, затем то, что узнал, передаешь идущим вслед за тобой.
В 1957 году было открыто новое роскошное здание «Сивик-опера» в Далласе. В честь этого события Мария дала сольный концерт. Ларри Келли, директор, предложил мне поставить у него «Итальянку в Алжире» с Терезой Берганца. Это была моя первая поездка в Америку, и она удивительным образом повлияла на всю дальнейшую карьеру.
В Далласе «Итальянка» прошла вполне успешно, и мне предложили поставить еще одну оперу. Я загорелся, ведь речь шла о «Травиате», а я всегда чувствовал: эта опера — моя. Кроме того, в ней должна была петь Мария.
Все известные постановки «Травиаты» казались мне неубедительными, в том числе та, которую двумя годами ранее поставил в «Ла Скала» Лукино, хотя это был выдающийся спектакль с прекрасными исполнителями — там пела Каллас — и чудесными костюмами и декорациями Лилы де Нобили. Лукино сделал постановку чересчур помпезной, вероятно, под влиянием величественной манеры Лилы, и Виолетта, типичная романтическая героиня, вдруг оказалась развращенной француженкой декадентской эпохи, ознаменованной делом Дрейфуса[47].
Меня смущала увертюра: по какой причине Верди перед поднятием занавеса предлагает публике, пришедшей поглядеть на историю циничной содержанки, музыку, которая вызывает совсем другие чувства? Она полна драматизма и как будто звучит из последних сил, она не оставляет несчастной, умирающей от туберкулеза, никакой надежды, именно она, эта музыка, и есть ключ ко всей опере. Так я считаю и до сих пор.
С первыми звуками увертюры занавес поднимается, и зрители видят Виолетту на смертном одре. Сцена освещается тусклым светом, едва пробивающимся в зрительный зал сквозь туманную пелену, из-за которой постепенно проступает искаженная воспоминаниями умирающей реальность. На протяжении всей увертюры пелена отделяет сцену от зрителей, как постоянное напоминание, как предчувствие неминуемой смерти. Я использовал этот прием во всех театральных постановках «Травиаты» и в фильме, который позднее снял.
Вместе с Никола Решиньо, музыкальным руководителем Далласской оперы, мы отправились к Марии на виллу Менегини на озере Гарда, чтобы изложить общий замысел будущей постановки. Я сразу предупредил, что ей придется находиться на сцене от начала и до конца действия, причем в одном и том же костюме, который можно будет изменять только с помощью цветовых добавок. События и люди будут словно появляться в памяти умирающей, как в долгом и мучительном «флешбэке».
Мария полностью согласилась с этим замыслом и добавила кое-что очень ценное от себя.
— Какой смысл повторять до бесконечности то, что и так известно, — весело сказала она и добавила лукаво: — Уж если экспериментировать, то в Далласе, не в «Ла Скала» же.
В Рим я вернулся в отличном настроении, но совершенно без денег. Проекты мои были распрекрасны, а в кармане в буквальном смысле не было ни гроша.
Я стал перебирать в памяти те предложения, которые в свое время отклонил, и вспомнил о короткометражном фильме с двумя новыми, почти неизвестными комическими актерами, которых видел в «Салоне Маргарита» и чуть не умер со смеху. Их звали Нино Манфреди и Паоло Феррари. Выглядело очень заманчиво, но приятели стали меня отговаривать.
— Ты с ума сошел! Тебя взрастил Висконти, ты прославился спектаклями в «Ла Скала», в Далласе с Каллас тебя ждут золотые горы, а ты собираешься ставить какой-то занюханный фильм?
Но мысль о фильме была мне по душе и, что самое главное, если бы я взялся за постановку, то Карло Понти, который тогда был увлечен поиском новых талантов, неплохо бы заплатил, уж миллионов десять точно![48]
Это привело в страшное раздражение «клан Висконти», который расхваливал фильм «Сальваторе Джулиано» — им дебютировал Франко Рози. Кругом все только и твердили, что это фильм, достойный ученика Висконти. Кстати, мне этот фильм тоже очень понравился.
Тем временем Нино Манфреди приходил ко мне каждый день и в подробностях рассказывал будущий фильм, потому что сюжет для него написал он. Речь там шла о двух молодых людях и девушке, сестре одного из них (Манфреди) и невесте другого (Феррари), которые совершают путешествие на мотоцикле с коляской. Очень простенький сюжет, с массой возможностей для шуток и трюков, иногда ужасно смешных. Я хохотал до упаду от одного только описания. В общем, в конце концов я согласился с Понти, что если фильм снять деликатно и без особых претензий, на нем можно заработать кучу денег.
Кроме того, когда стало известно, что фильм будет снимать «любимый ученик» Висконти, в роли сестры согласилась сняться Мариза Аллазио, актриса, по которой молодежь сходила с ума, очаровательная, очень способная девушка, состоящая из сплошных достоинств.
Возмущению «великого клана» не было предела, но я уже принял твердое решение. Понятно, что речь не шла о шедевре, но кое-чему я все же мог научиться, например, разным секретам кинематографа. А потом, наконец, я нашел исторический пример, который заставил всех замолчать.
— Знаете, сколько заурядных вестернов пришлось снять Джону Форду, прежде чем он произвел настоящий шедевр? Целых тридцать семь.
Мы начали снимать в конце июня. Поначалу я очень волновался, когда работал с камерой. Надо сказать, что я согласился снимать фильм с одним железным условием: 20 сентября улетаю в Даллас и начинаю репетировать «Травиату» с Каллас.
Вот так, после «Прогулки» — Даллас! Ничего себе прыжок, а?!
Известный американский журналист Лео Лерман так писал в американском издании журнала «Vogue» после премьеры:
«Эта „Травиата“ является величайшей (я вынужден употребить это затертое от слишком частого употребления слово, ибо оно в данном случае самое точное) из всех многочисленных „Травиат“, которые мне довелось видеть и слушать. Ее великолепие не что иное, как плод идеального союза Каллас и Дзеффирелли. Он нуждался в ее чуде, а она — в его. С того самого мгновения, как маэстро Решиньо взмахнул палочкой и печально-сладостные звуки объяли наши сердца, а в мерцающем пламени (свечи, лампочки?) мы увидели на затемненной сцене смертельно больную женщину, похожую на трепещущую призрачную тень, мы прониклись ощущением чуда. Музыка лилась, и из нее рождалась история. Мы были участниками „безумного дня“ Виолетты вместе с остальными гостями, при нас появился Альфред, вступила в свои права любовь, и на протяжении всей оперы мы проживали этапы этой трудной, невозможной любви. Действие нарастало с такой мощью, что проникало в каждую клеточку нашего существа. Ни разу, ни на минуту Каллас и Дзеффирелли не позволили нам вернуться на землю, к привычным мыслям. Мы все приобщились к чуду».
Благодаря статье одного из самых авторитетных журналистов, напечатанной в одном из самых читаемых в Соединенных Штатах изданий, мое имя запомнили в Америке, и я стал знаменитостью. Так раздвинулись границы моего мира.
После «Травиаты» нас окружили вниманием и затаскали по шумным торжествам техасские нефтяные магнаты, которые вдруг оказались в авангарде мировой культуры и привлекли внимание прессы. Мария-то уж точно в нем не нуждалась, ее давно и прекрасно знали в Америке, где она родилась и получила образование. Но для меня карты легли очень удачно, и это совершенно изменило весь мой путь.
Единственным огорчением после Далласа стал для меня срыв проекта съемок фильма по нашей «Травиате». Один богатейший техасец был готов вложить два с половиной миллиона нефтедолларов в экранизацию «Травиаты» с Марией. А я мечтал запечатлеть величайшую оперную диву XX века в самом расцвете ее таланта. Как ни печально, но Мария не верила, что мне это по силам, в театре — да, я был хорош, но в кино мне еще всему надо было учиться. Поэтому ничего и не вышло. По этому поводу 28 июня 1958 года я написал ей следующее письмо:
«Дорогая Мария!В последнее время я старался не беспокоить тебя разговорами о фильме[49]. Не знаю, хорошо или плохо я поступил, но иначе не мог, потому что совершенно не хотел делать то, что обычно делают все режиссеры, а именно досаждать звездам, которых они мечтают заполучить для своих проектов.
Поверь, я прекрасно понимаю причину твоих сомнений и опасений. Понимаю, что ты засыпана предложениями и что изучаешь их самым тщательным образом, с той ответственностью, с какой ты подходишь к работе и к месту, которое удалось завоевать с таким трудом. Вполне понятно, что кино как новое поприще заставляет тебя проявлять осторожность, хотя в общем привлекает.
Лично я (но, вероятно, это моя собственная проблема) до конца своих дней не прощу себе, если мы не запечатлеем сейчас на трех тысячах метров кинопленки твою „Травиату“! Будущим поколениям достанется то, чего не смогли оставить потомкам ни Элеонора Дузе, ни Сара Бернар — сохраненную на пленке твою изумительную игру, которой ты потрясла, растрогала, облагородила и пленила всех зрителей и слушателей этой трудной середины XX века!
Сердечно обнимаю тебя и твоего мужа.
Франко».
Но, к сожалению, Марии не хватило храбрости и дальнозоркости, в отличие от четы Бартонов, с которыми я дебютировал в кино несколько лет спустя. Мария, вероятно, надеялась сняться у Лукино, но ему это и в голову не пришло. Потом она снялась у Пазолини[50] — с удручающим результатом. Очень жалко.
Карло Мария Джулини попросил меня поставить «Фальстафа» в «Манн аудиториум»[51] в Израиле, куда его пригласили главным дирижером. Это было очень серьезным делом, потому что речь шла о самой трудной и самой требовательной публике в мире. Этим объяснялись и высочайший уровень их оркестра, и желание многих великих дирижеров работать в Израиле.
Во время репетиций у меня чудовищно разболелись зубы. По рекомендации друзей я отправился к лучшему стоматологу, и он любезно записал меня на время, свободное от репетиций, около часа дня. Приемная его кабинета была забита палестинскими женщинами с малышами. Доктор не без гордости объяснил, что тратит на меня свой перерыв и что потом возобновит прием пациентов. Я поблагодарил его и отметил, что такое число клиентов свидетельствует о высоком качестве его работы. Доктор вздохнул и сказал:
— Вообще-то я должен посвящать им куда больше времени, но у меня масса других пациентов, и с этими я работаю только во второй половине дня.
Так я узнал, что он бесплатно лечит палестинцев, «потому что нельзя допустить, чтобы дети мучились». Так же поступали многие израильские врачи, даже самые знаменитые. Меня потрясли царившие в израильском обществе высокие чувства и поступки, на которые менее удачливые палестинцы отвечали доверием и благодарностью. С тех пор я не сомневаюсь, что в этой стране буквально все и буквально во всем наделали ошибок — в политических, военных и всяких прочих решениях, совершенно не желая прислушиваться к голосу сердца и совести обоих народов. Вот как надо жить, вот каким путем следовать. Сколько же поколений, живущих среди ненависти и смерти, должно смениться, чтобы наверстать упущенное? Но, повторяю, других путей нет.
Одним из первых это понял президент Туниса Бургиба, которого чуть не разорвали в клочья главы других арабских стран во время встречи, кажется, в Бейруте в шестидесятые годы, когда он заявил, что надо дать обоим народам возможность жить в мире, потому что у них общие корни и общие чаяния. «Если их оставят в покое, они сами найдут пути решения всех проблем».
Он призвал глав арабских государств отойти в сторону и не превращать этот клочок земли в арену борьбы за власть на Ближнем Востоке. Как я уже сказал, слова Бургибы вызвали протест у арабов, увы, поддержанный теми мировыми державами, которые на шахматной доске Израиля разыгрывали собственную партию, не имевшую ни малейшего отношения к взаимной любви образованных и трудолюбивых евреев и простых и тоже трудолюбивых палестинцев. Бургиба потерпел фиаско и срочно вернулся в Тунис. В последующие кровавые годы мне довелось лично от него услышать горькое сожаление о том, что к его словам не прислушались. Иногда я пытаюсь представить, какой прекрасной и образцовой страной могла бы стать раздираемая бессмысленной ненавистью и превращенная в ад Палестина.
Когда репетиции «Фальстафа» уже начались, мне позвонил из Лондона маэстро Серафин и спросил, не могу ли я прилететь и обсудить с ним постановку «Лючии ди Ламмермур» Доницетти в Королевской опере. Предложение было чрезвычайно заманчивое, и я согласился, не раздумывая. Я был уверен, что заглавную партию будет исполнять Мария.
— Нет, — сказал он в ответ. — Петь будет другая певица. Пожалуй, такая же талантливая, как Мария. Правда, есть проблемы, но я уверен, что ты справишься.
Как только прошли израильские представления «Фальстафа», я вылетел в Лондон и встретился с Серафином. У меня до сих пор перед глазами стоит тот чудный солнечный день осени 1958 года, когда я впервые оказался в Англии, о которой столько мечтал и которая впоследствии стала — тогда я и не подозревал об этом — моей второй родиной.
Серафин повел меня по улицам Ковент-Гардена к зданию Королевской оперы, а я, позабыв обо всем, вертел головой, с восторгом разглядывая знаменитые театры, о которых так много слышал. Мы пришли к служебному входу. Тут Серафин остановился и схватил меня за руку.
— Ты должен посмотреть на нашу певицу, послушать ее. Захочешь, уедешь обратно в Израиль, но сначала хорошенько ее послушай.
Оказавшись в репетиционном зале Королевской оперы, я понял, что он имел в виду: передо мной была полная, нескладная, плохо одетая особа, да еще с сильным насморком.
— Франко, — обратился ко мне Серафин, — это Джоан Сазерленд[52].
Я остолбенел. Но Серафин, видно, ожидал чего-то в этом роде и сразу направился к роялю. Нечто подобное я испытал, когда впервые увидел его с Марией! Другой голос, но тоже волшебный инструмент, заключенный в оболочку хуже некуда. Я понял, почему Серафин вызвал меня в Лондон и столько всего наговорил. Мы много работали вместе, и он знал, что при моей молодости и честолюбии я готов отважиться на рискованный шаг.
Естественно, Джоан Сазерленд и ее муж дирижер Ричард Бониндж, долгие годы работавший с ее голосом, мечтали обрести в Серафине ангела-хранителя и знали, что он будет оберегать и пестовать ее так же, как Каллас. Я разговорился с Джоан и понял, что первым делом ей надо разрешить некоторые внутренние проблемы, неверие в себя. Все режиссеры, которым предлагали с ней работать, сказали «нет», несмотря на ее удивительный голос. И я задумался, как можно преодолеть бездну между голосом и внешностью. Мне хотелось подружиться с ней, и я для простоты общения взял ее за обе руки и улыбнулся, чтобы подбодрить, но она резко отшатнулась, как напуганное дикое животное. А мне для того, чтобы ощутить физическое присутствие и душевное тепло собеседника, вообще важно касание, телесный контакт. Пришлось объяснять ей:
— Знаете, я итальянец, мы всегда проявляем расположение к людям каким-нибудь дружеским жестом.
Она слушала недоверчиво, а муж пристально глядел на нее. Тогда, собравшись с духом, она обняла меня. Так было нарушено первое табу, и с этой минуты началась моя история с Джоан Сазерленд, сильной и очень тонкой женщиной, которой предстояло научиться дружбе и доверию.
А пока что предстояло довести до конца еще несколько спектаклей. Вернувшись в Лондон, я смог спокойно побродить по городу и подумать о поиске удачных решений для «Лючии». Великий город оправдал мои ожидания и приятно поразил полным отсутствием помпезности Парижа или Рима. Я даже представить не мог, что самая крепкая в Европе монархия так неброско выглядит, особенно в сравнении с Версалем или Ватиканом. Может, в этом и состоит ее секрет? Мне нравились простота и врожденная сдержанность англичан, которых я полюбил еще во время войны. Резкая игра светотени, рождаемая характерным для северных широт дневным светом, низкое солнце, протягивающее по стенам домов длинные тени от карнизов и балконов, — все это было мне в новинку, хотя чем-то напоминало простоту совершенства Флоренции. Я вспоминал Мэри О’Нил и думал, как бы она удивилась, узнав, что ее ученик приехал в Англию ставить итальянскую оперу о Шотландии с участием австралийской певицы.
И тут неожиданно ко мне вернулось далекое прошлое. Проходя по фойе «Ковент-Гардена», я заметил очень знакомую фигуру рослого черноусого мужчины в униформе Королевской оперы — длинном красном сюртуке с золотыми пуговицами.
— Good morning, sir, — сказал он невозмутимо, военным жестом поднеся руку к шляпе.
Я глазам своим не поверил.
— Мы случайно не знакомы? — спросил я неуверенно и сразу понял: знакомы, и еще как. Передо мной стоял сержант Мартин из Шотландской гвардии, который долго не мог вспомнить молодого переводчика, а теперь важного иностранного гостя в его почтенной опере. Ни бурной радости, ни объятий, ни воспоминаний, даже когда мы в полной мере сумели оценить улыбку судьбы, столкнувшей нас в обстоятельствах, которые на фронте и представить было невозможно. Эта встреча для меня также стала таинственным знаком, из тех, которые плетутся сетью жизни и наполнены непонятным смыслом.
— Не называй меня «сэр», — попросил я.
— Хорошо, сэр! — ответил он, а я обнял его и с чувством прижал к груди, отчего он пришел в невероятное смущение. До меня долго не могло дойти, что на работе я всегда буду для него «сэром». Но когда я пригласил его с женой в итальянский ресторан, уж там-то за столом полились рекой фронтовые рассказы, веселье и вино.
А тем временем в промежутках между репетициями я открывал для себя Лондон. Прежде всего, Национальную галерею и в ней, среди прочих сокровищ, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи «Мадонна с Младенцем, праведной Анной и Иоанном», одно из прекраснейших произведений, которое моя Флоренция подарила миру. Он принадлежал частному коллекционеру, но был выставлен в музее, и я сразу позавидовал англичанам в том, насколько лучше нас, итальянцев, они умеют ценить и хранить свои шедевры. А еще я познакомился с двумя джентльменами, которые были создателями духов «Пенхалигон» в маленькой лаборатории на Джермин-стрит. Они управляли делами по старинке, наверно, не самым выгодным способом, но считали своим долгом по-прежнему выпускать легендарные духи для принца-консорта Филиппа и королевского двора.
Репетиции «Лючии» шли легко, в дружеской атмосфере, под бдительным оком Туллио Серафина, который как никто умел направлять, вдохновлять и раскрывать таланты всех участников спектакля.
Мои декорации должны были напоминать романтическую Шотландию романов Вальтера Скотта — страну вечных туманов, призраков-мучителей, суровых законов кланов. Здесь, как и в «Травиате», я в изобилии использовал пелены и вуали, навевающие грезы и воспоминания. Кроме того, они служили хорошей защитой для Джоан, которая появлялась как размытый силуэт, почти лишенный реальности.
Моей первой заботой было изменить облик Джоан. Я пытался создать другую внешность с помощью костюмов, грима и париков, которые, как обычно, рисовал сам. Прежде всего, она должна была казаться маленькой и хрупкой. Злосчастная героиня Вальтера Скотта, юная шотландка, не могла выглядеть, как гвардеец Ее Величества. Я заставил ее мягко ступать, забыть, что у нее сильные ноги, и ходить практически на полусогнутых, что было незаметно под юбками. Поэтому на сцене она была на двадцать сантиметров ниже, тогда талию можно было завышать, а грудь у нее, к счастью, была небольшая.
Настоящей проблемой оставались скулы ее крупного лица. Я нарисовал парик тех времен, весь в романтических локонах, обрамляющих и удлиняющих лицо, дальше шел крахмальный кружевной воротник, который должен был прикрыть скулы. Осанкой, походкой и жестами я тоже занимался всерьез. В результате появился другой человек, произошла почти анатомическая революция. На сцене это выглядело потрясающе. Когда Джоан это поняла, она стала вести себя естественно и сделалась той самой романтической героиней, которой я и добивался.
И при этом у нее был голос, и какой голос! Когда она пела, каждая клеточка тела вибрировала от блаженства. Я никогда не слышал такой потрясающей колоратуры. Но ей всегда не хватало мощного центрального регистра, драматизма, совершенства интонаций и дикции, которыми владела Мария.
Премьера «Лючии» стала незабываемым событием. Уже в первом акте после выходной арии Джоан весь зал встал и устроил ей овацию на целых восемь минут. И так до самого конца, со все возрастающим изумлением и восторгом. Напомню, что в Англии никогда не было оперных звезд первой величины, и это тоже было причиной, по которой опера имела такой грандиозный успех. И пускай Сазерленд не была англичанкой, они видели в ней свою, уроженку их собственного мира.
На другой день тот же восторг звучал в критических отзывах. Рецензия в «Times» начиналась так:
«Вчера в небесах над Королевской оперой неожиданно вспыхнули две ярчайшие звезды: Джоан Сазерленд и Франко Дзеффирелли!»
От души благодарен! А ведь всего несколько месяцев назад Лео Лерман написал столь же хвалебный отзыв по поводу «Травиаты» Каллас — Дзеффирелли в Далласе. Как тут не поверить в благосклонность судьбы, иногда даже чрезмерную? Главное — не тешить себя напрасной надеждой, что жизнь — всегда удача и счастье. А среди моих предков — этруски, и я всегда помню о переменчивых ветрах Добра и Зла, которые испокон веков борются между собой, и с детства знаком с непостоянством фортуны.
Обладающая необыкновенным чутьем Мария поняла, что в Лондоне происходит что-то необыкновенное, и прилетела на генеральную репетицию «Лючии» (очень скоро ей предстояло петь в той же постановке в Далласе).
Мне сразу стало понятно, что в ее жизни наступил нелегкий момент: к ней приближалось стихийное бедствие — Онассис.
Я наблюдал за тем, как она, как внимательный профессионал, следит за выступлением. По окончании спектакля Мария взволнованно поздравила и крепко обняла свою новую коллегу, в ближайшем будущем соперницу.
В то лето фотографии Марии не сходили с первых полос газет, чего ни разу не случалось за всю ее карьеру певицы. Каллас на яхте, Каллас целуется с Онассисом, сердце Менегини разбито и все такое прочее. Мне было трудно все это принять. Для меня Мария была оперой, опера дала имя и мне. И теперь, видя, как Мария дрейфует к берегам, неизвестным нашему и ее миру, миру, где она достигла недосягаемых высот, я чувствовал себя преданным, как будто она изменила и мне, как изменила бедняге Менегини.
У меня возникло ощущение, что приближается закат эры Каллас, а раз так, то я решил встретить его вместе с Марией в далласской постановке «Лючии ди Ламмермур». Мария прибыла на репетиции в окружении, наверно, всех репортеров мира, но, как настоящий профессионал, окунулась в работу, не обращая внимания на все, что происходит вокруг нее.
Позже, когда нам представилась возможность поговорить, она призналась старому верному другу, что устала от кочевой жизни с мужем, который все эти годы — ее лучшие годы! — только и делал, что эксплуатировал ее талант, не давая взамен того, чего ждет молодая женщина. Да, успех, да, в общем, деньги, а все остальное, то, что на самом деле важно?
Она переменила тему и заговорила о «Лючии». Лондонская постановка очень подходила для Сазерленд, великой певицы, талант которой еще не до конца открыт.
— А со мной уже давно все известно, и многое должно быть по-другому.
Прежде всего, она не хотела петь всю оперу за прозрачным занавесом. Для «Травиаты» это годилось, а в «Лючии» публика должна видеть ее лицо, смотреть ей в глаза. Ей нечего скрывать от публики. Она была совершенно права, но я не догадывался, что скрывается за ее беспокойством.
Репетиции начались, и сразу стало ясно, что недавние события, связанные с Онассисом, оставили очень глубокий след. Слишком много времени провела она в ночных клубах и на светских раутах и слишком мало занималась голосом, слишком много ночей она проплясала, пропила и даже прокурила. Мы все были очень встревожены, особенно маэстро Решиньо (Туллио Серафина, увы, не было).
Премьера «Лючии» стала не то трагедией, не то комедией. Мне до сих пор больно о ней вспоминать. А на генеральной репетиции произошла маленькая заминка. Хор и кордебалет Далласской оперы состояли главным образом из студентов местных балетных и певческих училищ. Одна девочка решила, что ничего не случится, если она во время репетиций сделает несколько фотографий, и спрятала фотоаппарат в складках своей широкой юбки. Она вытащила его как раз в сцене безумия, когда Мария спускается по широкой лестнице замка среди потрясенных гостей, с распущенными волосами, в одежде, запачканной кровью убитого мужа. Мария ничего не увидела, но тончайшим слухом уловила щелчок фотоаппарата и между музыкальными фразами сложнейшей финальной арии прошептала:
— Прекратите! Прекратите немедленно! — и продолжила божественное пение. Испуганная девушка вжалась в стенку, никто ничего не заметил, и все могло кончиться шуткой, но, увы, случилось иначе.
На премьере в финале сцены безумия Мария должна была взять знаменитое верхнее ми, но — жуткое дело! — только сипло вскрикнула, как раненый зверь. Будучи блестящей актрисой, она обратила этот сип в «актерскую находку» и с предсмертным воплем повалилась на сцену. Далласская публика была околдована ее игрой и разразилась бешеными аплодисментами. Но Мария знала, что мы-то все заметили. После спектакля она вызвала в артистическую суфлера Васко Нальдини и Решиньо и закричала:
— Господи, да я прекрасно могу взять эту ноту! Я брала ее перед спектаклем!
Она бросилась к фортепьяно и запела финал. Но вместо верхнего ми у нее снова вырвался тот же звук, что и на сцене. У меня до сих пор стоит в ушах этот душераздирающий вопль. Еще одна попытка, и снова то же. Все молчали. Никто не знал, что говорить, что делать. Мария печально и осторожно закрыла фортепьяно, и вслед за Решиньо все двинулись из комнаты. Я был так потрясен, что хотел подойти к ней, но она выразительно покачала головой: ей не нужно было ничье сочувствие, ей хотелось остаться одной.
XI. Божественные
Джоан вошла в мою жизнь в тот момент, когда Каллас начала от меня отдаляться. Вообще после «Лючии» Лондон стал занимать в моем творчестве все более заметное место. В конце 1959 года Дэвид Уэбстер вновь пригласил меня в Королевскую оперу, предложив сделать сразу две новые оперные постановки — «Сельскую честь» и «Паяцев». Это предложение я тогда воспринял как еще один счастливый шанс поработать в «Ковент-Гардене» и не предполагал, насколько важным оно окажется для моей судьбы.
Хотя к «Паяцам» я впоследствии возвращался неоднократно, постоянно что-то переделывая и стараясь довести до совершенства, в тот раз меня целиком захватила работа над «Сельской честью»: мне доставляло удовольствие вновь погрузиться в мир Джованни Верги, вернуться на Сицилию, с которой я близко познакомился на съемках фильма «Земля дрожит». Я как всегда начал с поисков определяющего сквозного образа. Хрупкая женская фигура в черной шали, развевающейся на горячем сицилийском ветру, — эта Сантуцца, главная героиня, отчаянно жаждущая сначала любви, а потом мести.
Возможно, потому что Масканьи[53] было всего двадцать лет, когда он сочинил «Сельскую честь», оперу отличает невероятная свежесть, сила и страсть, которую можно встретить разве что в «Кармен» Бизе. Вот мне и захотелось показать англичанам планету Сицилия, с величественной Этной[54] посередине, которая, словно Богиня-Мать, разжигает в человеческих сердцах страсть, выплескивающуюся наружу, как лава, могучим необузданным потоком. А прелесть розового рассвета, а палящее солнце! Короче говоря, я решил воссоздать на сцене ту настоящую крестьянскую жизнь, которая еще сохранялась в конце XIX века.
Труппа состояла только из англичан, и это была большая удача. Англичане уже несколько веков привыкли иметь дело с различными культурами и не боятся познавать новые миры, чтобы затем сделать их частью своего собственного. В этом я убедился, когда несколько лет спустя поставил для Лоуренса Оливье и британской труппы в Национальном театре две комедии Де Филиппо, и английские актеры быстро стали большими неаполитанцами, чем сами неаполитанцы.
Премьера прошла в присутствии королевы-матери. А за несколько дней до этого я получил посылку из Италии от отца и, распечатав, обнаружил кипу юридических документов, в том числе копии нотариальных актов, свидетельств о рождении и смерти. Отец составил наше генеалогическое древо и написал подробное письмо, в котором торжественно наказывал: «Когда тебя будут представлять членам Виндзорской династии, английским монархам, высоко держи голову, потому что хоть в их жилах течет кровь королей, в твоих, как следует из этих документов, — кровь Леонардо».
Это было приятное открытие, хотя и не слишком меня поразившее: ведь всякий уроженец Винчи легко может проследить свою родословную до какого-нибудь предка, жившего четыреста лет назад. Отец руководствовался благими намерениями — он просто хотел подчеркнуть, что мы с ним одна семья, к тому же имеющая достославных родоначальников. И скорее именно это его желание, а не сомнительное предположение, будто я являюсь потомком величайшего гения Италии, помогло мне после спектакля стоять с высоко поднятой головой в ожидании, когда меня представят королеве-матери.
В тот праздничный вечер я даже не мог представить, какими неожиданными последствиями обернутся для меня эти две лондонские постановки.
Я вернулся в Италию и приступил к работе над «Доном Паскуале» в «Пиккола Скала», когда мне позвонили из Англии. Незнакомый женский голос сообщил, что говорят из Лондона по поручению генерального менеджера театра «Олд-Вик» Майкла Бентхолла — ему очень понравились «Сельская честь» и «Паяцы». В настоящее время он в Австралии, но просит узнать, готов ли я работать с театром над пьесой Шекспира. Представьте, как я был ошеломлен, ведь в те годы «Олд-Вик» был законодателем всех постановок Шекспира в Англии.
Предложение было настолько невероятным, что я сразу заподозрил розыгрыш. Среди моих добрых друзей в Англии было немало шутников, охочих до всяких остроумных проделок. А любезная телефонная дама к тому же так пылко настаивала (она тоже видела мой спектакль, и он ей очень понравился), что я даже не усомнился в том, что это шутка. Я невозмутимо ответил женщине, что приеду в Англию, только если меня попросит лично английская королева, — и повесил трубку. На следующий день мне снова позвонили, причем на этот раз из Австралии! Звонивший представился Майклом Бентхоллом и повторил то же предложение. Теперь я уже не сомневался, что кто-то не поленился тщательно подготовить этот розыгрыш, раз уж дело дошло до межконтинентального звонка! Мне в тот момент даже показалось, что я узнаю голос своего лондонского приятеля Виктора Спинетти, известного шутника и талантливого имитатора. Но уверен я не был и поэтому ответил, что в настоящий момент занят на репетиции и не могу разговаривать, так что лучше бы ему изложить свое предложение в письменной форме.
Когда несколько дней спустя из «Олд-Вика» пришло официальное письмо, до меня, наконец, дошло, что они в самом деле предлагают мне поставить в следующем сезоне «Ромео и Джульетту»! Прервав на пару дней репетиции, я вылетел в Лондон для встречи с Майклом. Я сразу высказал сомнение в своих способностях совладать со священным текстом, уточнив, что мне никогда еще не доводилось ставить Шекспира, даже на родном итальянском языке — словом, заявил, что меня пугает сама перспектива прикоснуться к классику в его колыбели.
Но Майкл терпеливо объяснил: от меня требуется примерно то же самое, что я сделал в «Сельской чести», то есть привнести неповторимый аромат Италии, а не просто дать очередную викторианскую интерпретацию вроде тех, что все еще господствовали на английской сцене. Он считал, что я вполне справлюсь. Разве можно было устоять?
Тем не менее, я вернулся в Италию в полном смятении и бросился за поддержкой к друзьям, даже к тому, кого больше всего боялся, — к Лукино. Время от времени мы с ним виделись и замечательно общались, вспоминая прожитые вместе годы. К сожалению, именно в тот момент, когда я так ждал его беспристрастного совета, а быть может, и доброго напутствия, ничего подобного он не произнес. Напутствие? Как раз напротив, он только подогрел мои страхи: у тебя ведь, размышлял он вслух, вообще нет опыта в драматическом театре, ведь опера — совсем другое дело. Уж не говоря о том, что придется учить английских актеров играть Шекспира на родном языке. Провал в «Олд-Вике» погубит меня навсегда. Шансов на успех слишком мало, чтобы стоило так рисковать. Но по мере того как он говорил, я начал проникаться убеждением, что его рассуждения продиктованы не дружбой и не мудростью. Его просто-напросто обуял приступ ревности и зависти. Я вспомнил, с какой искренней радостью он принял мой дебют в «Ла Скала» с «Итальянкой в Алжире». Он горячо обнял меня, когда узнал, что мне доверили не только оформление, но и постановку «Золушки».
Почему же он принял так близко к сердцу предложение «Олд-Вика»? Понять это нетрудно. То, что театр обратился ко мне, возбудило зависть всех театральных режиссеров Италии — ведь такая честь впервые оказывалась итальянцу. Висконти воспринял это как вызов его абсолютному первенству в итальянском театре. Теперь его молодой ученик оказывался опасным соперником. Мой успех мог обернуться для него возможным поражением.
Рассуждения Лукино, конечно, порядком поубавили во мне энтузиазма. И все же я понимал, что не должен останавливаться, потому что держу в руках самый старший козырь.
«Ромео и Джульетта» в Лондоне стояла в плане на осень. Но у меня оставалась опера и еще раз опера: в те годы мой ежедневник часто смахивал на железнодорожное расписание. Серафин не сомневался, что Джоан Сазерленд готова встретиться с самой привередливой в мире итальянской оперной публикой. Ей предстояло дебютировать в Венеции в «Альцине» Генделя — довольно неожиданный выбор, если учесть, что оперы Генделя в Италии совсем непопулярны.
Я постарался превратить этот величественный музыкальный шедевр в дивертисмент, то есть поставил его как спектакль в спектакле, как представление по случаю праздника при дворе какого-нибудь немецкого принца XVIII века. Придворные (они же хор) смотрят действо с восемнадцатью танцами и явлением Джоан — волшебницы Альцины в шелках и драгоценностях на вершине диковинного устройства в стиле барокко. Партия Альцины невероятно трудна, но голос Джоан превосходил все человеческие возможности. Ричард Бониндж сделал обработку партитуры, а во время спектакля играл на клавесине в костюме и парике, изображая самого Генделя. Дирижировал Никола Решиньо.
Это был итальянский дебют Джоан, и знатоки оперы понаехали отовсюду, особенно из Милана. Успех был такой, что публика не расходилась и стучала по полу ногами, потому что рук уже не хватало. Джоан, кивнув головой Ричарду, как ни в чем не бывало запела арию из еще одной оперы Генделя («Let the bright Seraphims»), самую смелую из всех арий барокко.
В самом деле, на небосводе вспыхнула новая яркая звезда, которая могла соперничать с самой Каллас. Это были две необыкновенные певицы, при этом совершенно разные. Сказать, что одна нравится больше другой, — это как сказать, что красный цвет нравится больше синего. Но для меня-то между ними были вполне ощутимые различия. Когда я начал работать с Каллас, она уже получила международное признание, она была богиней, а я подающим надежды пареньком. С Сазерленд все было иначе: мы пробивали дорогу одновременно, росли рядом и все втроем, вместе с Ричардом, были как родные и родными остались.
Ничего общего с пылким, тревожным и неровным романом Марии и Онассиса! Все светские хроники только и сплетничали, что об их жизни. Иногда они приглашали меня в какой-нибудь элегантный ресторан или ночной клуб, и я попадал в раззолоченные хоромы, где глазам делалось больно из-за бесконечных вспышек фотоаппаратов. Эти встречи давались мне с большим трудом. Я понимал, что Онассис просто использует Марию, чтобы ее талант и известность добавили блеска ему и его деньгам. Все, кто любил ее, очень переживали. Этот циничный грек похитил из прекрасного музыкального пантеона самую могущественную богиню.
Завершив сезон с Джоан, я сосредоточился еще на одном проекте, очень приятном: «Эвридике» Якопо Пери для флорентийского фестиваля «Музыкальный май» в саду Боболи. Она считается самой первой в истории оперой[55]. На этот титул претендуют и другие, но они существуют только во фрагментах, а не как законченное музыкальное произведение. «Эвридика» стала результатом кропотливого труда гениальных флорентийских музыковедов, которые составили настоящую оркестровую партитуру для не темперированных инструментов — струнных и деревянных и медных духовых. Еще одним новшеством была гармонизация водяного органа, инструмента с очень загадочным звуком. И если Пери незаслуженно забыт, то виноват в этом Монтеверди. Последнего считают создателем музыкальной драмы, хотя он беззастенчиво использовал «Эвридику» Пери для своего «Орфея», впервые показанного на сцене в Мантуе в 1607 году. Монтеверди усовершенствовал форму, но настоящий творец — Пери; его создание — плод поисков совершенства и гармонии при дворе Медичи во Флоренции XVI века.
Изначально опера была задумана как представление по случаю бракосочетания Марии Медичи с французским дофином в 1599 году. Триста шестьдесят лет спустя ее вновь поставили на той же сцене, во дворце Медичи, ныне палаццо Питти. Работать со мной из Рима приехал Пьеро Този, который сделал невероятной красоты костюмы. Вообще у нас было ощущение, что мы отдаем дань родному городу за то, что он нам дал, чему нас научил.
Зная, что летом мне придется обдумывать постановку «Ромео и Джульетты», я решил не ехать, как всегда, с Доналдом и Бобом в Позитано, где меня постоянно отвлекали от работы многочисленные гости (все прекрасные люди, но очень тяжелые в общежитии). Частенько заезжал к ним на виллу и Теннесси Уильямс, но никогда у них не останавливался, а жил в самой деревушке. «Мне нравится терпкий запах живых людей, сверкающие на солнце здоровые, молодые тела», — наивно признался он мне.
Регулярно бывая в Позитано, я познакомился с Михаилом Семеновым, тем самым легендарным русским, который в начале века открыл это место и скупил весь склон, обращенный к морю, включая виллы Боба и Доналда, а теперь жил на древней, почти разрушенной мельнице около пляжа. Я с удовольствием слушал его воспоминания, хотя никогда нельзя было понять, где в его рассказах кончается правда и начинается вымысел. Семенов уверял, что «нашел» эти виллы, когда вынужден был бежать из России, убив на дуэли офицера из-за примы-балерины Императорского театра. После революции он осел в Позитано, куда к нему часто приезжали Анна Павлова и Тамара Карсавина, Дягилев привозил Нижинского, и Семенов велел сделать в одном из залов деревянный пол, чтобы великие танцоры могли регулярно упражняться.
Было это правдой или нет? Думаю, да. Много лет спустя его рассказы подтвердились. Великая Карсавина, старенькая и хрупкая, но по-прежнему сияющая как звезда, проживала в Южном Кенсингтоне у своего верного соратника. По четвергам она принимала друзей и поклонников, сидя в глубоком кресле, отчего казалась еще более хрупкой и маленькой, и поставив ножки — легендарные ножки! — на подушку. Она не протягивала посетителям руку для поцелуя, она приподнимала ножку — почести полагались именно ей. Я попытался заговорить с ней, но она не удостоила меня вниманием. Тогда я сказал, что знаю от Семенова о ее любви к Позитано. При слове «Позитано» ее глаза вспыхнули, как будто в них отразилось воспоминание о счастье. И долго еще она повторяла: «Позитано, quelle merveille!»[56]
Семенов говорил правду: звезды Императорского балета на самом деле приезжали в Позитано и помнили об этом всю жизнь.
Короче говоря, летом 1960 года я снял дом в Кастильончелло, деревушке на Тосканском побережье, напоминающей мне о раннем детстве, и пригласил туда компанию своих друзей и тетушку Лиде с верной служанкой Видже. Находясь в постоянных разъездах, я не имел возможности обзавестись ни домом, ни семьей. А тетя Лиде с Видже к этому времени остались одни и почти без средств, потому что все сбережения потратили во время долгой и тяжелой болезни Густаво. Они жили очень скудно, и я часто посылал им деньги.
К счастью, они с радостью согласились приехать на лето в Кастильончелло. Тетя Лиде изумительно готовила, чем сразу же завоевала расположение моих вечно голодных друзей. Поначалу я опасался, как бы мой своеобразный образ жизни не огорчил тетю, но она ко всему отнеслась спокойно. Более того, она была очарована окружавшей ее молодежью. Девушки, некоторые уже известные актрисы, как Аннамария Гварньери, всячески способствовали устройству нашей приятной жизни. Часто приезжали близняшки Кесслер, телевизионные дивы тех лет, очень славные, но, увы, проводившие почти все время на пляже.
В сарайчике, где раньше, вероятно, хранился садовый инвентарь, поселилась Лила де Нобили с подружками и ученицами. Мы называли их женской половиной. Кое-кто удивлялся: «Как же они моются? Из садового шланга, что ли?»
Рано утром, когда мы еще спали, они шли купаться, подолгу плавали и резвились как дельфины, потом принимали душ, как раз из садового шланга, и сияющие чистотой являлись к общему завтраку, одетые в штопаные, но свежие балахоны. Это была самая «культурная» часть компании: они все время говорили о живописи, музыке, о самых интересных и возвышенных вещах и при каждом удобном случае хватались за карандаши и кисти.
Лила всегда таскала за собой старую корзинку с красками, пастелью, бумагой и картоном, обрезками и конфетами. Она рисовала пастелью портреты всех обитателей и гостей виллы. Особенно тетушки и детей друзей, приезжавших на виллу; они так хороши, что и сейчас дух захватывает. Тонкие помятые листочки коричневой бумаги словно воскрешают те счастливые времена. Вообще-то Лила приехала в Кастильончелло работать над нашими с ней проектами, среди которых была и «Аида» в «Ла Скала».
Сьюзен Страсберг, с которой мы вместе готовили «Даму с камелиями» для театра на Бродвее, тоже приезжала на пару дней. Вот она никак не могла понравиться моей милой и веселой тетушке, потому что всех жутко «доставала». Вокруг Сьюзен царил чудовищный беспорядок. Она никогда не стелила кровать, повсюду разбрасывала одежду, и, самое главное, ей очень трудно было угодить в еде: это вредно для здоровья, а то еще вреднее. Макароны Сьюзен вообще не признавала, пила чай и разные отвары, ела диетическое печенье и принимала всевозможные таблетки и порошки. Кроме всего прочего, она приехала со славной собачонкой, которая повсюду оставляла следы.
Тетя сразу же невзлюбила Сьюзен и облегченно вздохнула, когда та уехала:
— От женщин одни неприятности и сложности. Хорошо, что Лила и ее девочки совсем из другого теста. А эта вообще американка…
А вот к молодым людям у нее никогда не было никаких претензий, им она готова была простить все.
— Ты же знаешь, — говорила она, — мужчины всегда правы, в доме с ними легко, а если бывает трудно, то мы на что?
Тетушка баловала их печеньем собственного приготовления, сладостями и пирожными и вообще относилась с большой нежностью.
— Слава Богу, что здесь столько прекрасных молодых людей! — восклицала она с материнским восторгом.
А прекрасные молодые люди с удовольствием позволяли себя побаловать, но и сами старались сделать ей приятное: задаривали всякой мелочью — косынками, бусами, шоколадными конфетами, к которым у нее была слабость, кремами и так далее.
Что сказать? Летние месяцы в Кастильончелло были и для нее, и для всех нас незабываемым временем счастья, дружбы, творчества и веселья.
После Кастильончелло Лондон показался мне таким темным и серым! Даже с театральных подмостков исчез солнечный свет, ибо на сцене Королевского театра наступил период засилья «драматургии кухонной раковины»[57], а пьесы ставились только вроде «Оглянись во гневе»[58], где гнев и угрюмый дух мятежа считались веянием времени. Однако в молодежной среде я ощутил и иные настроения: да, бунтарский дух, но проникнутый весельем и энтузиазмом, а вовсе не мрачным унынием. Именно этот дух мне и хотелось воссоздать на лондонской сцене.
Сомнения и страхи росли. Я наконец начинал понимать, во что ввязался, собравшись ставить Шекспира у него на родине. Я прочитал «Ромео и Джульетту» по-итальянски и обратился к первоисточнику, которым пользовался Шекспир, — новелле Банделло[59]. Пьеса буквально пронизана любовью Шекспира к Италии, где он никогда не бывал, но считал землей сильных эмоций и кипящих страстей. Можно было пойти по пути воссоздания «итальянской грезы», но я бы никогда не решился попытаться что-то «добавить» к великой поэзии Шекспира. Однако Майкл Бентхолл пригласил меня в свой театр как раз, чтобы счистить плесень и наслоения, налипшие со времен «поэтической традиции» викторианской эпохи, когда правильная декламация бессмертных строк считалась более важной, чем драматическое содержание пьесы и эмоциональная правдивость персонажей.
Мне пришла в голову вот какая мысль: во всем мире Шекспир безоговорочно признан величайшим драматургом истории, благодаря в том числе переводам даже на самые редкие языки, а это значит, что его драматургический гений должен превосходить поэтический талант. Еще я вспомнил, что у Шекспира роль Джульетты исполнял четырнадцатилетний мальчик, и вряд ли он так уж хорошо мог декламировать стихи. Короче говоря, я понял, Что надо не столько идти по пути отличной декламации, сколько подчеркнуть драматическую сущность героев.
Той зимой 1960 года я часто встречался в Лондоне с Майклом, относившимся к проекту с большим энтузиазмом. Я не мог забыть просто-таки юношеского ощущения восторга, которое переполняло меня во время предыдущих приездов в этот город, и во мне зрело решение взять на главные роли молодых актеров, а вовсе не звезд английского театра. Майкл был полностью согласен — как оказалось, именно этого он от меня и хотел! Он познакомил меня с подающими надежды начинающими актерами из труппы и молодежью из разных артистических мастерских и училищ. Мы без колебаний выбрали на главные роли Джуди Денч, совсем еще молоденькую и пленительную, и Джона Страйда, страстного, талантливого, сошедшего, казалось, с полотен Гирландайо[60]. А сколько было других, талантливых и полных энтузиазма! Каждому из них прежде всего ставилось условие: никаких париков на сцене. Я объяснял им, что когда у них будут длинные волосы, как у молодых итальянцев эпохи Возрождения, они сразу почувствуют себя своими персонажами, а не участниками мистификации или сценической условности. Пусть отращивают волосы, потому что с этого и начнется «правдивость» их героев.
Они поняли и согласились, хотя в те времена носили короткую стрижку, и разгуливать по Лондону с длинными волосами было нелегко: эпоха «Битлз» пока не наступила и «волосатиков» еще не было.
К концу августа, когда должны были начаться репетиции, волосы отросли у всех, и актеры приходили в театр в беретах, чтобы в метро или на улице не стать объектом насмешек. Как только мы начали работать, они сразу поняли, насколько верна моя идея. Они легко и естественно держались — и все становилось настоящим. Больше всего мне запомнился Меркуцио в исполнении Алека Маккауэна, одного из самых замечательных актеров, с кем мне когда-либо доводилось работать. Он моментально проникся идеей вдохнуть в трагедию юношеский пыл и сыграл такое сочетание трагедии и комедии, что кровь стыла в жилах. Он погибает в конце сцены, где ловко и остроумно высмеивает драчливого и туповатого Тибальта. Все с большим увлечением следят за этой необычной словесной перебранкой-дуэлью, пока вдруг до них не доходит, что Меркуцио убит.
Но самым радикальным новшеством стал отказ от традиционного балкона — символа той хрестоматийной мизансцены, которую так хотелось забыть. В лондонской постановке дом Джульетты выглядел таким, каким мог быть на самом деле: не радующий глаз легкий дворец, утопающий в цветах, а мрачная крепость, возведенная для защиты от врагов семейства Капулетти. В знаменитой сцене Джульетта бежала по крепостной стене, и Ромео карабкался к ней, цепляясь за ствол дерева, так что они действительно напоминали охваченных страстью молодых зверей, не знающих преград.
Уже с самой первой сцены, когда над площадью Вероны поднимается туманный рассвет, все стало достоверным. Правдивая история о живых людях, настоящих страстях и неукротимой ненависти, о юной любви двух почти детей, как по волшебству расцветавшей в обстановке непримиримой вражды. Публика, особенно молодая, отозвалась на нее живейшим образом, так что история Джульетты и Ромео и поныне остается символом любви, для которой не существует никаких преград.
Премьера — невероятный успех, аплодисменты стоя, и молодые, и старые не могут успокоиться, все в «Олд-Вике» на седьмом небе… Но на следующее утро пробил час критики, и это уже было совсем другое дело.
Театральные критики, ревностные защитники традиций, буквально растерзали нашу постановку, единодушно опустив большой палец вниз.
И только тут я задумался, так ли уж неправ был Лукино и не переоценил ли я свои способности. Позвонил Майклу, попросил прощения за ошибки и сообщил, что уезжаю. Он раздраженно ответил, чтобы я не дурил и приехал в театр до начала вечернего представления. Когда я появился в театре, обескураженные актеры были заняты чтением рецензий в дневных выпусках газет[61], не менее разгромных, чем в утренних. Майкл велел всем выйти на сцену и в точности как командир полка шотландских гвардейцев перед боем дал нам настоящий урок мужества. Он приказал не обращать никакого внимания на мнение критиков, потому что, сказал он, заранее было ясно, что они «исторические» противники любого свежего решения, если речь идет о Шекспире. Никаких сомнений в правоте у нас быть не должно. Спектакль вызвал восторг публики, а это главное. Весь Лондон только о нем и говорил, все билеты расхватали. Люди не читают критику, а делятся впечатлениями друг с другом в живом общении.
На следующий день, терзаемый сомнениями, я уехал в Брюссель, где начинались репетиции «Риголетто». А через неделю, в воскресенье, мне позвонил знакомый из Лондона и посоветовал немедленно купить последний номер «Обсервера». Международные звонки очень дороги, а «Обсервер» поместил рецензию во всю полосу, слишком длинную, чтобы зачитывать ее по телефону. Я помчался к киоску с иностранной прессой и обнаружил потрясающий отзыв Кеннета Тайнена, верховного судьи лондонских театров, о нашей «Ромео и Джульетте».
«Нам предложили, — писал он, — новое прочтение Шекспира, которого уже давно ждала британская сцена, откровение, если не революцию… Сколько английских режиссеров кусают себе локти за то, что позволили итальянцу поставить крест на так называемой традиции, которая уже несколько поколений назад задушила драматургию Шекспира».
Словом, вся газетная полоса пестрела похвалами!
У меня был близкий друг, Мазолино Д’Амико, который помогал мне читать Шекспира и приезжал на премьеру вместе с Нино Рота (это он написал к фильму «Ромео и Джульетта» такую дивную музыку, лучшую музыку о любви для театра и кино). Прочитав «Обсервер», я сразу направил ему телеграмму:
«Срочно найди номер „Обсервера“ с рецензией Кеннета Тайнена. Прочти и дай другим. Случайно забудь экземпляр на виа Салария».
Лукино, должно быть, пришлось не на шутку задуматься. Очень ему сочувствую.
После этой рецензии «Олд-Вик» подвергся форменной осаде: посмотреть спектакль приезжали со всей Европы и даже из Америки; интерес к нему оказался так велик, что администрации театра даже пришлось продлить сезон. Совершенно беспрецедентный случай! Но больше всего меня радовало, что на каждом представлении галерка была битком забита юношами и девушками — самыми активными и восторженными нашими зрителями. Сам того не ведая, я стал провозвестником молодежной эпохи «власти цветов», мира и любви. Но под обаяние спектакля попала и более зрелая публика. Джон Гилгуд[62], который сидел в зрительном зале среди хохочущих и рыдающих юнцов, потом признался, что за всю свою карьеру ни разу не видел зрителя, так сопереживавшего действию на сцене.
Рождество я провел во Флоренции с тетей Лиде, Видже и отцом. Это была короткая передышка перед возвращением в Лондон для постановки «Фальстафа» в «Ковент-Гардене», вслед за которым я дебютировал в Глиндбурне[63] с «Любовным напитком». Затем меня ждали два спектакля в Далласе: «Таис» и «Дон Жуан» с Джоан Сазерленд и Элизабет Шварцкопф. Последняя постановка имела для меня особое значение — она была важной вехой в истории моего давнего единоборства с шедевром Моцарта. Я ставил «Дон Жуана» в Малом Королевском театре Неаполя в 1956 году, но это был камерный спектакль.
В Далласе я впервые осуществил полномасштабную постановку «Дон Жуана» и предпринял первую попытку проникнуть в глубинный смысл этой оперы, которую, по-моему, постигнуть до конца невозможно. Фигура Дон Жуана — это своего рода толкование человеческой природы, справедливое во все времена, но особенно актуальное в наши дни, когда темные стороны нашей природы взяли верх над божественным. Я видел сценическое действие как будто на фоне последствий чудовищной катастрофы, в мире, уничтоженном пламенем. С самого начала опера представлялась мне аллегорией вне времени и пространства, призывом к нашей совести осмыслить извечное противостояние самовлюбленного человека и божественной тайны. Мысли об этом продолжают занимать меня всю жизнь.
Летом я опять поехал с друзьями в Кастильончелло, и тетя Лиде с Видже снова окружили нас заботой. Вот тогда-то я и подумал: какая нелепость, что мы проводим вместе всего несколько недель в году. Тетя Лиде сразу согласилась на мое предложение сдать дом во Флоренции и перебраться вместе с Видже ко мне в Рим, где она взяла под свое крыло «живописную фауну», состоящую из оперных певцов и театральных актеров, часто меня навещавших. В ту пору не так уж необычно было застать на кухне Джоан, готовящую завтрак для Ричарда, или услышать из ванной зычный голос, декламирующий шекспировские строки. Лиде все просто обожали, она стала в полном смысле всеобщей тетушкой.
В сложившейся ситуации мне волей-неволей пришлось переехать из моей квартирки в большую мансарду с террасой. В те времена площадь Испании еще не вошла в моду — сплошь ветхие дома без лифтов и с текущими трубами. Квартиру можно было купить за гроши: никто не хотел селиться в центре Рима, кроме бедных художников и студентов, которые не могли позволить себе жилье поприличнее. Это сейчас дома в том районе стоят целое состояние, и если бы у меня тогда хватило ума купить свою крысиную нору, то теперь я был бы миллионером, как многие знакомые, сказочно разбогатевшие на недвижимости. Помню одного тенора, который после каждого верхнего до сплевывал и приговаривал: «Еще один кирпичик для моего дома».
1962 год я начал новой постановкой «Дон Жуана», на этот раз в «Ковент-Гардене». Но самым волнующим событием для меня стали февральские гастроли «Олд-Вика» в Нью-Йорке, куда повезли «Ромео и Джульетту». В сентябре 1961 года Британский совет[64] уже представлял спектакль на Венецианском театральном фестивале, и даже самые недоброжелательные мои соотечественники признали успех в Англии. Все — за исключением Лукино, который из-за неотложной работы, увы, не смог приехать на спектакль.
Премьера в нью-йоркском «Сити-центре» прошла с огромным успехом, как мы и надеялись. После спектакля я несколько часов кряду пожимал руки и принимал поздравления — занятие, прямо скажем, очень приятное. Спустя какое-то время я заметил невысокую даму, которая стояла в сторонке и не сводила с меня глаз. Когда толпа поклонников поредела, она не сделала попытки приблизиться. Тогда я сам пошел к ней и вдруг узнал: это была Хелен Дойч, та самая, которая любила меня и пыталась завлечь в Голливуд сниматься в кино. Она терпеливо дожидалась, чтобы обнять меня и сказать, что пятнадцать лет назад я сделал правильный выбор.
Мы всей группой отправились на прием, устроенный Ли и Полой Страсберг, руководителями Актерской студии[65]. Они познакомили меня с самыми знаменитыми из своих учеников — все были удивительно талантливы, один лучше другого. Довольно странно среди них смотрелась Мэрилин Монро. Страсберги очень гордились, что она занималась у них в студии, и постоянно старались подтолкнуть ее к «серьезной» работе в театре. Поэтому они решили нас познакомить. Ли уверял меня, что Мэрилин должна дебютировать в театре в «Трех сестрах», которые они планировали к постановке, но я сразу выразил сомнение: уж слишком она была знаменита в кино, чтобы в театре все начинать с нуля, да и известность не пошла бы ей на пользу. А еще проблемы с голосом. Но Ли отмел все мои сомнения и на следующий день организовал для нас с Мэрилин обед на двоих в ресторане на открытом воздухе «Inn on the Park». Место он выбрал, прямо сказать, странное, если учесть февральский холод, но объяснялось это тем, что Мэрилин хотелось спокойно поговорить, не привлекая внимания зевак.
Я отменил дневную пресс-конференцию, кажется, впервые в жизни приехал вовремя и прождал Мэрилин целый час. Она появилась, излучая очарование и рассыпаясь в извинениях.
Для конспирации она надела пушистую песцовую шубу, огромную шапку и в придачу большие черные очки, причем стоило ей снять их, как я понял, что она только что проснулась. Мы начали обсуждать Чехова, и я с радостью обнаружил, что она, несмотря на амплуа «простушки», блестящая и совсем неглупая женщина.
Постепенно она почувствовала себя свободно и начала с удовольствием говорить о работе, откровенно, а не по-писаному, сбросив привычную маску. К тому же собеседником ее был человек того же возраста, тоже известный и уважаемый и изо всех сил старающийся держаться просто. Иногда она вдруг спохватывалась и начинала строить из себя наивную дурочку, но ненадолго. Я видел, что она все больше проникается интересом, и попытался объяснить, что дебют на театральной сцене не будет для нее легким. Что очень важно сделать правильный выбор и не сомневаться в себе самой. Я рассказал ей об ужасе, который испытал год назад, когда ставил Шекспира в священном «Олд-Вике», я, итальянец! Она развеселилась и смеялась вполне искренне, а не как на экране. Я предложил ей сыграть не одну из чеховских сестер, а кошмарную свояченицу Наташу — достаточно большую роль, которая не уронит ее статуса, но вместе с тем и не слишком сложную. Наташа приносит новые настроения в дом к этим занудным старым девам, и очевидно, что она и будет ими командовать до самого конца. Мэрилин отнеслась к предложению с интересом (я понял, что она очень внимательно читала пьесу). Но все-таки она ожидала от меня других слов и, не услышав их, призналась, что идея сделать из нее театральную актрису принадлежит Страсбергам. Она была рада со мной познакомиться и надеялась, что мы станем друзьями. Я не удержался и предложил уговорить Теннесси Уильямса написать для нее комедию, поскольку ее способности к легкой комедии были очевидны, но тут почувствовал, как у нее сразу пропал интерес. Мы расстались в пять, когда на улице сгустились зимние сумерки, и уже возле такси мне показалось, что до нее дошло, что я пытался ей втолковать. На прощание она сказала что, возможно, я прав, и послала воздушный поцелуй.
Она устала от жизни и умерла совсем молодой всего несколько лет спустя.
Мэрилин уехала, а я еще какое-то время простоял на тротуаре, ежась от зимней нью-йоркской непогоды и завороженно глядя на сверкающие над парком звезды. Я думал о том, как причудливо складывается моя жизнь — вечные перелеты из страны в страну, от постановки к постановке, от знаменитости к знаменитости. Что ж, разве это не то, о чем я мечтал в тот далекий день в «Театро делла Пергола», когда мне удалось привлечь внимание Лукино к своей персоне?
В то лето в Кастильончелло я работал над несколькими проектами, а 4 сентября пришла печальная весть: борьба отца с неумолимой болезнью закончилась, хоть он упорно отвоевывал у смерти буквально каждый день. В последние годы мы с ним часто виделись. Оказываясь недалеко от Флоренции, я старался выкроить время его навестить, а часть гонораров уходила на то, чтобы помочь ему. Я купил ему специальную пишущую машинку для левой руки, телевизор с большим экраном. Впрочем, было ясно, что кончина отца — это вопрос времени, поэтому она не стала для нас неожиданностью, скорее вызвало удивление, сколько жизненных сил для борьбы в нем оставалось.
Я приехал во Флоренцию и увидел отца на смертном одре, как всегда элегантного, в темно-синем костюме. Мне сразу показалось, что чего-то недостает. Ну как же — неизменной гардении в петлице! В это время года гардении уже отцвели, но я позвонил в Милан знакомым, у которых была вилла на озерах. Я просил нечетное число, это мое личное суеверие, — три, пять, семь, девять… Пять гардений поспели как раз к похоронам, и мы похоронили его с гарденией в петлице и букетиком в руках.
XII. Богема forever
Теперь, когда я пытаюсь составить полный список своих достижений, или, как говорят англичане, «список для прачки» (дела, встречи, открытия, премьеры и т. д.), выясняется, что это совсем непросто. Темп моей жизни в те годы нарастал, и я вдруг стал сам себе напоминать персонажей французского фарса: вбегаю на сцену из левой кулисы, стремительно произношу реплику и убегаю направо, чтобы тут же появиться из глубины сцены уже в другом костюме и гриме. Карта мира и календарь уже перестали существовать. Не представляю, как мне удавалось быть во всех местах сразу, скакать с одного берега Атлантики на другой, со льдов Севера на южное солнце. Каждый новый проект был похож на восхитительный ужин, который никак не получается съесть, потому что когда блюдо подают, тебе уже надо мчаться к следующему столу, а потом к следующему и так дальше…
Я недосыпал, ел и пил на бегу, даже в самолете, где проводил полжизни, не вынимал изо рта сигарету (тогда это разрешалось). Но каким-то непостижимым образом мне все-таки удавалось справляться с делами и завоевывать расположение коллег. «Список для прачки» может показаться чересчур длинным, но, смею вас уверить, простыни были из чистого шелка, подушки пуховыми, и я с удовольствием на них спал, а не хранил в сундуке.
Наверное, попытка приписать все происходившее одному слепому везению может показаться упрощением. Сейчас, вновь проживая этот счастливый — и безумный — период моей жизни, я задумываюсь над тем, какая загадочная энергия или воля хранит и направляет нас. И снова и снова сердцем чувствую постоянное присутствие матери. С годами я все больше убеждаюсь, хоть и не могу предъявить доказательства, что вся наша жизнь пронизана реальными чудесами.
Холодный рассудок подсказывает простейший вариант: после ухода от Лукино вся творческая энергия, которую я растрачивал на наши отношения, нашла новый выход и вырвалась на свободу. За годы нашей связи я накопил так много знаний, так много замыслов, что, заполучив благоприятную возможность их использовать, оказался вполне готов и не упустил ни одного случая.
И когда в 1966 году я начал снимать свой второй фильм, то продолжал жить в прежнем ритме. Но кино навязывает совсем иной темп работы и жизни, чем театр и опера. Приходится все время что-то продумывать, отвечать за график работ, за сроки и производство, за сотни человек, ожидающих твоей команды. Отношения с актерами строятся уже не по тем правилам, которые диктуют музыка и вокал, когда каждый твой шаг зависит от их слабостей, талантов и, главное, страхов, которые в конечном итоге регулируют отношения между людьми. В театре певцы сразу, на каждую спетую ноту, получают отклик публики. А в кино публика — это абстрактная величина, ей в глаза не заглянешь, горячего дыхания не услышишь, никакого мгновенного отклика не получишь.
Наверно, вспоминая о том напряженном периоде, основную трудность я испытываю из-за того, что многое, чем я занимался лет сорок назад, сегодня не вызывает у меня никакого интереса, независимо от тогдашнего успеха или значения того или иного проекта. Кроме того, перечисление всех моих постановок утомило бы читателя не меньше, чем самого автора. Поэтому я буду вспоминать только о тех вещах, которые до сих пор не утратили для меня важности. И если читателю случится обнаружить пробелы, то именно из-за такого выборочного подхода, а вовсе не из-за рассеянности или провалов в памяти. То же самое относится к хронологии: я пишу по памяти и не берусь утверждать, что все даты верны.
После «Миньон» Тома, моей последней постановки в «Ла Скала» в 1958 году с Джульеттой Симионато и Джанни Райончик и дирижером Гаваццени, мне предлагали очень интересные проекты, но только в «Пиккола Скала», где я был режиссером на постоянной основе. Так продолжалось до тех пор, пока Герберт фон Караян, главный дирижер Венской оперы и музыкальный директор Зальцбургского фестиваля[66], не придумал программу совместных постановок в «Ла Скала» и в Австрии и не захотел открыть проект новой постановкой «Богемы» в Милане, а затем показать ее в Вене и Зальцбурге. Караян видел «Ромео и Джульетту» в «Олд-Вике» и предложил взять меня режиссером-постановщиком. Уж не знаю, как его затею восприняли в «Ла Скала», но «великий и ужасный» фон Караян не терпел возражений, и мне предстояло вынести на суд соотечественников то, чем я добился расположения у англичан и американцев. Я догадался, что так распорядилась сама судьба, и остался доволен.
Я дал согласие поставить «Богему», одну из моих любимых опер, но с условием, что буду ставить и «Аиду», которая стояла в программе следующего сезона, 1962–1963 годов.
Не знаю, что думал по этому поводу Гирингелли, может, вообще ничего не думал, но ему, конечно, нелегко было согласиться, что целых два спектакля в один сезон будет ставить «этот Дзеффирелли». Но он решил последовать древней мудрости: если врага нельзя убить, с ним надо подружиться. Я получил заказ на обе постановки.
«Богема» — одна из немногих опер, написанная не по пьесе, а по роману Мюрже «Сцены богемной жизни». Поэтому Пуччини и его либреттистам Иллика и Джакоза пришлось писать либретто с нуля. Опера получилась восхитительная, но оставались эпизоды, которые воплотить на сцене было очень трудно. Например, весь второй акт — это цепочка перемежающихся эпизодов рождественской ночи в Латинском квартале Парижа: в кафе «Момус» и на улице. Привычное решение — ставить столики перед входом в кафе, но ведь холодной декабрьской ночью люди не сидят на улице. Я нашел сценическое решение, позволяющее переносить действие с бульвара, где гуляет праздничная толпа, в кафе «Момус» и обратно — решение уникальное и пока вне конкуренции.
Эта постановка «Богемы» в «Ла Скала» считается теперь классикой, и спустя 40 лет после премьеры она снова идет по всему миру с лучшими певцами и дирижерами. А мне она кажется одной из самых удачных моих постановок.
Та премьера 31 января 1963 года имела для меня особое значение, потому что тогда я получил признание, которого был удостоен в Лондоне и Нью-Йорке, но лишен у себя на родине. Для многих деятелей итальянского театра и оперы я по-прежнему оставался одним из мальчиков Висконти, возможно, самым даровитым, но до «Богемы» не имевшим собственного творческого лица. Однако только «Аиде» удалось несколько месяцев спустя развеять последние сомнения в том, что на оперной сцене появилось новое имя, и его носитель сумел добиться успеха собственными силами, вопреки всем противодействиям и бойкотам.
Я заказал декорации и костюмы для «Аиды» Лиле де Нобили, гениальному театральному художнику (лучшему художнику XX века), и она создала изящную версию оригинальной постановки 1868 года в Каире на торжествах по случаю открытия Суэцкого канала. Получилась восхитительная фантазия с величественным и утонченным Древним Египтом, близкая к пышным картинам Гюстава Моро.
При такой сумасшедшей жизни — в невероятном напряжении, в постоянных метаниях между городами и континентами, операми и пьесами — у меня никогда не было времени заняться личной жизнью. Теперь, оглядываясь назад, я подозреваю, что попросту боялся копаться в себе. Мрачная догадка, что это бегство, посещала меня в пустом гостиничном номере, в техасском аэропорту, в ночном баре Барселоны, в пустом театре. Чего же мне не хватало? Любви? В ней не было недостатка, она легко шла в руки, но это была не любовь, а краткое увлечение, за которым неизбежно следовало быстрое расставание.
За мной постоянно увивались обаятельные молодые люди, а скорее, я сам увивался за ними. Но все происходило второпях: я в спешке пожирал прекрасный плод и лишний раз убеждался в недолговечности мечты. К тому же я никогда не оставался надолго на одном месте и часто менял обстановку и окружающий пейзаж.
Как-то раз один безнадежно влюбленный поклонник припал к моей руке, обливаясь слезами.
— Спасибо, спасибо, — шептал он дрожа.
— За что? Разве я что-то тебе дал? — спросил я, страдая от неловкости положения.
— За то, что разрешаешь себя любить, мне ведь ничего не нужно, только любить тебя! — искренне ответил он.
Размышляя о способности мужчин (и женщин) забывать себя ради любви, а с другой стороны, нести ответственность за любовь, которую внушил другим, вспоминаю Висконти и некоторых его поклонниц.
— Уступишь им раз, и тебе конец, — повторял он. Я стал задумываться, так ли уж неприемлема любовь из милости, не гордыня ли отказ от нее, не черная ли неблагодарность Богу за его щедрые дары.
Что ж я остановился на этом эпизоде, ведь есть еще много, о чем я могу рассказать? Может, потому что способность любить сама по себе достойна уважения, даже если человек тебе безразличен. Самое жалкое существо заслуживает внимания, когда его охватывает не телесная страсть, а любовь, идущая из глубины сердца. Разве не Любовь — великий двигатель Вселенной?
Я решил не следовать хитроумному совету Лукино — и попался. «Обезумевший от любви» преследовал меня по пятам: звонки, письма, подарки, засады — недопустимое вмешательство в мою жизнь. Он тайно поехал за мной в Лондон, одним словом, превратил мою жизнь в ад. Я узнал, что он совершил попытку самоубийства, выбросившись из окна, но ветви растущего внизу дерева спасли ему жизнь. Он решил вернуться к себе в Романью, и больше я о нем не слышал.
Так что же, выходит, Лукино прав? Нельзя принимать любовь, если не можешь разделить ее?
В один из моих первых приездов в Нью-Йорк Пола Страсберг повела меня на новую бродвейскую сенсацию — спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» по пьесе Эдуарда Олби. Публика была в восторге, я тоже.
На другой же день благодаря Поле я договорился о встрече с Олби. Всю ночь провел, думая о пьесе, и решил во что бы то ни стало получить права на ее постановку в Италии и во Франции. Знакомые отговаривали меня, даже автор счел это предложение странным — ему не верилось, что такую сугубо «нью-йоркскую» вещь можно показывать даже в Калифорнии, не говоря уж о Европе. Он пытался понять, откуда у меня уверенность, что итальянцы примут эту тяжелую вещь о супружестве как родную. Я объяснил Олби, что эта пьеса — современная классика, выходящая далеко за пределы одной культуры. Не знаю, убедил я его или нет, но он улыбнулся и дал разрешение.
Я сразу подумал об Анне Маньяни в главной роли. Анна была мировой знаменитостью в кино, но часто говорила о желании вернуться в театр, где когда-то начинала. Она растрогала весь мир в фильме «Рим — открытый город», снималась с Марлоном Брандо, Энтони Куинном и Бертом Ланкастером, получила «Оскара» за исполнение главной роли в «Татуированной розе»[67] и вернулась в Италию, увенчанная лаврами. При этом иметь с ней дело было невероятно трудно. Когда в 1951 году она снималась у Висконти в «Самой красивой», мы все время были в крайнем напряжении. Это был мой второй фильм у Лукино в качестве ассистента режиссера, и я могу живописать, что там происходило.
Достаточно одного эпизода, чтобы показать, что она была за человек. Мы снимали сложную сцену с кучей актеров и выходов в одном из строящихся кварталов виа Тусколана. Было жарко, солнце палило нещадно. В перерывах между съемками Анна усаживалась под тент, и верная Мимма прикладывала ей к лицу ледяную замшу, которая освежала, но не портила грима. Анна была известна любовью к кошкам и по ночам носила еду уличным котам к раскопкам на пьяцца Арджентина. Знаменитая тогда была компания — нищенки и светские дамы, тоже по такому случаю одетые в лохмотья.
На виа Тусколана, как раз рядом с тентом Анны, нашли кошку с только что появившимся потомством. Анна немедленно потребовала молоко и соски. Может, чтобы снять напряжение или успокоить нервы, она часто прерывалась и спрашивала, как котята и хватает ли им молока. Висконти начал постепенно заводиться, но она не обращала на него никакого внимания.
Когда ей сообщили, что у малышей блохи, она даже не стала скрывать радость. Во время перерыва, расстелив на коленях полотенце, Анна брала котенка и чистила от блох. В этом деле она была знатоком: ловкие пальцы так и летали в поисках насекомых. Я до сих пор слышу сухое щелканье: чик, чик. Когда она заканчивала обрабатывать одного котенка, ей приносили следующего. Анна приходила в отличное расположение духа, успокаивалась и забывала о неприятностях.
Один раз Лукино подошел к ней обсудить очередную сцену и реплики. Она безразлично слушала его, сосредоточив внимание на питомце: чик, чик. Лукино потерял терпение, выхватил у нее игрушку и зашвырнул в кусты. Воцарилась тягостная тишина. Не говоря ни слова, Анна нашла котенка, осмотрела его и, убедившись, что он жив и здоров, как ни в чем не бывало снова принялась давить блох. Висконти нервно молчал, а потом резко сказал:
— Так что же?
Анна даже не взглянула на него и продолжала заниматься своим делом. А потом очень тихо и жестко сказала:
— Если ты посмеешь сделать это еще хоть раз, ты меня больше в жизни не увидишь. — И опять за свое: чик, чик. К счастью, Лукино позвали на съемочную площадку. Иначе кто знает, чем это могло обернуться?
В конце концов, фильм «Самая красивая» получил признание у простой публики, что для Лукино было куда важнее, чем почет левых деятелей культуры. На этом фильме я подружился с Анной, она стала для меня настоящим кумиром — и как актриса, и как женщина. Мы часто виделись, она с удовольствием включила меня в число своих «ребят».
Альберто Моравиа написал роман «Чочара», думая о Маньяни, и права на экранизацию были проданы Карло Понти с условием, что главную роль будет исполнять Анна. Однако отношения у них были совсем не теплые, кажется, из-за каких-то трений по работе. «Свинство», — говорила она, и в ее душе была незаживающая рана.
У Понти была подруга, молодая и красивая София Лорен, в которую он был очень влюблен и всячески старался вывести на орбиту. Когда понадобилось найти актрису на трудную и требующую большой деликатности роль дочери Чочары, Понти предложил свою протеже и послал на разведку пресс-агента и советника Энрико Лукерини. Как можно догадаться, Анна была возмущена и обрушила на голову «старого пачкуна» самые грубые ругательства. Она привыкла всегда добиваться своего, когда речь шла о ролях, и решила, что дело сделано. Но Понти не сдался, и Лукерини, мастер своего дела, продолжил наступление. Анна немедленно его остановила.
— Опять эта?.. — Не буду повторять ее слова, синьора Понти может обидеться. — И она должна играть девочку, которую насилуют арабы?! Если на то пошло, ей впору играть мамашу, уже не маленькая!
Тут Лукерини и осенило.
— А Маньяни права, — сказал он Понти. — Почему бы Софии не сыграть мать?
Так они и поступили. Вся команда Понти бросилась лепить «новую Маньяни»: прекрасный образ сильной итальянской женщины, которую Анна уже не могла сыграть как следует.
При этом украдена была не только роль, как часто случается между соперницами, — ее амплуа, ее «личность» растащили буквально по кусочку. Черные растрепанные волосы, подчеркнутая чувственность, страстность, даже жесты, взгляды, манера речи… Это был чистейший грабеж.
Моравиа вообще не отреагировал. Он писал новый роман и был занят только им. Де Сика, чуть что, исчезал в казино Монте-Карло, а Понти исправно снабжал его деньгами. И «грабеж» удался. Эра Маньяни закончилась и началась эра ее «двойника». Лорен, благодаря тщательному уходу за собой и народной жилке, нашла свое амплуа страстной и неотразимой женщины и в итоге получила массу «Оскаров» и других премий.
Это стало концом Анны Маньяни — актрисы, которая показала всему миру настоящую итальянку. Теперь, когда прошло столько времени, можно сказать, что обе актрисы двадцать лет триумфально несли по свету образ итальянской женщины. А ведь были еще и актеры: милейший Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци. И режиссеры — Роберто Росселлини, Витторио Де Сика, Лукино Висконти, Федерико Феллини… Ах, какие времена!
Я излагаю эти истории так, как наблюдал их сам или как их мне рассказали. Если участники до сих пор живы и обнаружат неточности или неверное изложение фактов, я готов внести поправки, но думаю, что суть событий пересказал верно.
Можно лишь предположить, что после этого произошло в душе Анны Маньяни. Знаю только, что она не захотела остаться в Риме и почти все время проводила в Париже. Я потратил уйму денег на бесполезные телефонные звонки. Наконец Анна ответила: если мне есть что ей предложить, то прежде всего она должна прочитать сценарий.
Я послал ей текст и пару недель сидел как на иголках в ожидании ответа. Деньги для постановки «Вирджинии Вульф» в Италии я нашел, но мне необходимо было заполучить Маньяни. Этой пьесой я хотел завоевать итальянский театр, как завоевал зарубежный. Большой интерес к пьесе проявил Энрико Мария Салерно, прочла ее и Анна (и даже с большим вниманием, как я впоследствии понял) — всем было известно, какой популярностью пользовалась бродвейская постановка. Но когда мы встретились в Париже, я сразу понял, что она не отнеслась к пьесе с должным интересом. Может, ей просто не хотелось играть в театре — она боялась, что это воспримут как попытку отыграться за кино. Анна сказала, что не понимает, почему вокруг пьесы подняли столько шума, и вообще не собирается возвращаться на театральные подмостки в такой роли.
— Злобная, сварливая, вечно пьяная баба, у которой не осталось ничего святого. Причем здесь я? — заявила она. — У меня с ней нет ничего общего.
Тщетно я умолял ее, она и слушать не хотела моих уговоров и буквально выставила меня за дверь со словами:
— И не суйся ко мне больше с этим американским дерьмом!
Конечно, я был страшно расстроен. В начале октября мне нужно было открывать Театральный фестиваль в Венеции, а 10 сентября провидение, таинственно и милосердно спасавшее меня в самые трудные минуты, послало мне необыкновенную актрису Сару Феррати. Она оценила и важность роли, и состав труппы. Большое значение для ее согласия имело и уважение ко мне. Всего за три недели она полностью освоила эту сложную роль, которая стала стержнем всего спектакля, и в назначенный день мы вышли на сцену Венеции.
В тот вечер в «Ла Фениче» собрался весь театральный бомонд Италии. Уже во время длинного и напряженного первого акта часто раздавались аплодисменты, а после него публика разразилась нескончаемой овацией. По окончании спектакля на сцену поднялись все: друзья и противники, молодые дарования и ветераны сцены. Была там и Анна. Она ворвалась ко мне в артистическую буквально вне себя.
— Сукин сын! — завопила она. — Это моя роль, моя! Ты должен был меня заставить, вынудить, надавать по морде, как Росселлини… Он знал, что делать с такой засранкой, как я! Разве мне кто-нибудь еще предложит такую роль?
Благодаря успеху этой пьесы я сумел занять место среди театральных режиссеров Италии, «как клин, как торпеда, между Висконти и Стрел ером (которые поделили Империю между собой)». «После сегодняшнего спектакля им не придется спать спокойно», — писал один театральный критик.
Меня засыпали интересными предложениями, но мне не хотелось сразу брать на себя такие обязательства, которые могли бы радикальным образом повлиять на мое неясное будущее. Сердце мое по-прежнему принадлежало опере.
Я снова думал о Марии Каллас, с которой уже давно потерял всякую связь. Говорили, что роман с Онассисом не принес ей большого счастья, хотя она всегда старалась скрыть свое разочарование. Она по-прежнему души в нем не чаяла, и это безоглядное обожание словно поднимало со дна все темные стороны его характера. Он обращался с ней грубо, унижал в присутствии посторонних и даже не помышлял о тайной мечте Марии — законном браке.
Генеральный менеджер «Ковент-Гардена» Дэвид Уэбстер не оставлял попыток вернуть Каллас на сцену, а я, в свою очередь, горел желанием сделать все, что в моих силах, чтобы отвлечь ее от предвещавшего катастрофу романа с Онассисом.
Наконец в 1963 году появились первые сигналы, что Мария готова принять предложение вернуться на сцену. По слухам, на этом стал настаивать Онассис, который, кажется, понял, что сам себе наносит вред, держа Марию вдали от сцены. Но это была скорее дьявольская хитрость, чтобы от нее избавиться и подвести черту под романом, который все быстрее катился под откос.
Дэвид предложил ей петь «Тоску» через сезон в «Ковент-Гардене». Мария обещала подумать над его предложением, но не более того. Я тут же примчался в Париж и сразу понял, что ей очень нужна работа, хотя она по-прежнему разливалась соловьем о годах, которые посвятила «своей женской судьбе», и об обретенном наконец душевном покое. Далее следовала страстная ария о необыкновенном мужчине, несправедливо обвиненном в равнодушии к искусству и неумеренной страсти к деньгам — ничего подобного! Аристос — тончайшая артистическая натура, ей невероятно повезло, что она встретила в жизни мужчину, о котором всегда мечтала. Ари дал ей настоящее счастье, и что ж поделать, если ради этого пришлось пожертвовать карьерой. И так далее, с вариациями на тему. А припев такой: негодяй Менегини не сумел сделать ее счастливой, лучшие годы потрачены на человека, использовавшего ее как орудие для производства денег, которые в конце концов у нее и украл. Муж он никудышный, не то что Аристос. И снова романсы и арии о радости и счастье любви. А также громы и молнии в адрес «Ла Скала», и «Метрополитен-опера», и всех тех, кто эксплуатировал ее талант, враждебной прессы, сплетен, человеческой подлости. И так до бесконечности.
Я, разумеется, сказал, что разделяю ее переживания и страдания. Но почему бы ей не вспомнить о бесчисленных и преданных слушателях, для которых она остается живой легендой?
— Подумай о них и забудь о зле, которое тебе причинили. Помни, что на тебе лежит ответственность перед всей той публикой, которая тебя любит.
Она ответила, что помнит, и еще как. Каждое утро садится за фортепьяно и занимается вокалом. Я взял ее руки в свои и сразу понял: нет, с такими длинными ногтями каждый день на рояле не играют. Она попыталась было уверить меня в обратном, но поняла, что уж кого-кого, а такого старого друга ей не провести. Вдруг серьезно и искренне она произнесла:
— Наверное, мне все же надо вернуться к работе, пока не поздно.
Едва я рассказал Уэбстеру, что встреча с Марией мне, в общем, понравилась, он сразу же стал названивать в Париж. Премьера «Тоски» стояла в планах на январь 1965 года в Лондоне, далее в мае в Париже планировалась «Норма», а на следующий год спектакли меняли местами.
А пока Мария готовилась вернуться на сцену, я снова был по горло занят работой: впервые ставил в Риме «Гамлета» с Джорджио Альбертацци. Мы с Джорджио были друзьями с юных лет, еще по Флоренции. Я тогда увлекался всем, что было связано с театром, и неплохо играл. Но Джорджио был настоящим актером, с потрясающим голосом, обаятельной внешностью и ярко выраженной индивидуальностью. Было понятно, что его ждет блестящая карьера. Во времена «Троила и Крессиды» я познакомил его с Лукино. Тот сразу оценил Джорджио и доверил ему небольшую роль. Дальше этого их роман не пошел, потому что Лукино уже набрал блестящих молодых актеров — Гассмана, Де Лулло, Мастроянни. Джорджио начал играть у других режиссеров и вскоре доказал, что не зря мы еще мальчишками смотрели на него, как на нечто необыкновенное. Их с Анной Проклемер стиль занял в театре прочное место. Но это еще не все: он с большим успехом работал в кино и на телевидении, где в знаменитых «Театральных пятницах» знакомил широкую публику с шедеврами мирового театра и литературы. Тогда телевидение еще действительно несло культуру в массы, а к программам относились с большим вниманием. Это тоже совсем другие времена!
Джорджио был рожден для роли Гамлета, он даже внутренне был на него похож, и в нем тоже была некая тайна. Судьба свела нас, чтобы мы по-новому прочитали эту гениальную трагедию и наполнили ее тревогой наших дней. В то время в мире появилась надежда, которую зажег Джон Кеннеди, придя в Белый дом. Все казалось новым, доступным и ясным. Увы, Кеннеди сверкнул как зарница и погиб, но он успел изменить каждого, успел распахнуть все окна.
Мы репетировали сцену, в которой Гамлету является тень отца, когда узнали, что Кеннеди убит. Произошла катастрофа. Но мы не погрузились в вечный траур, мы чувствовали себя наследниками его великих начинаний.
«Гамлет» имел очень большой успех. После Международного фестиваля в Париже он продолжил триумфальное шествие: Вена, Россия и наконец Лондон, театр «Олд-Вик», где его торжественно представлял сам Лоуренс Оливье.
С Джорджио нам пришлось вскоре работать вместе над еще одним спектаклем, ставшим культовым, — труднейшей пьесой Артура Миллера «После грехопадения», написанной в память о Мэрилин Монро. В нем играла знаменитая Моника Витти, очень талантливая актриса.
Тем временем в Лондоне все просто с ума посходили, узнав о возвращении Каллас.
Мы сидели за столом в зальчике, где должна была состояться первая репетиция. Я трясся от волнения. Перед Марией на столе лежала партитура, карандаши, фотографии, бумажки, стояла вода и стаканы. Вдруг одним движением руки она смела все в сторону. Хотя Мария пела «Тоску» много раз, она всегда была открыта к обсуждению новых вариантов. Я принялся объяснять, что вижу ключ ко всей драматической структуре оперы во взаимоотношениях Тоски и Скарпиа, а ей было известно, что на роль барона Скарпиа мы пригласили великого Тито Гобби. Гобби был необычайно привлекательным мужчиной, и на сцене это только усложняло их отношения, потому что мне хотелось показать Тоску страстной чувственной натурой, а не надменной холодной дивой, какой было принято ее изображать. Тоска, по моему мнению, испытывала влечение к этому красавцу с каменным сердцем. И убивала она Скарпиа ради спасения не столько возлюбленного, сколько своего собственного…
Мария нахмурилась и задумалась. Тут меня осенило, что я описал ей ее собственные отношения с Онассисом.
— Но все-таки, люблю я его или нет? — простодушно спросила она.
Я ответил:
— Ты просто вообрази, какое впечатление может произвести на тебя такой мужчина! Властный, развращенный, склонный к садизму, но при этом обаятельный…
Мария молчала. Ей стало ясно, каков этот Скарпиа!
Мария всегда требовала от своих режиссеров новых идей: она ждала рекомендаций не только относительно характера своего персонажа, но и нюансов поведения и деталей, которые дали бы толчок ее воображению. Вообще репетиции с Каллас всегда порождали целый калейдоскоп идей, образов и сценических решений, из которых она тщательно отбирала то, что ей могло подойти.
Накануне премьеры, как всегда в моменты большого напряжения, к Марии вернулись страхи по поводу голоса, и начался обычный предпремьерный мандраж. Она уже как-то пыталась объяснить мне в «Ла Скала» и в Далласе, что с ней происходит. Понять это в общем нетрудно. В отличие от простых смертных, которым не дано знать даже самое ближайшее будущее, певцы знают судьбу своего героя от первого появления на сцене до финала — все его встречи, переживания, беды, страсти. Мало того, им еще предстоит «испытание голосом», и они должны пройти его, минуя тернии и опасности. Одна-единственная ошибка может безнадежно все испортить. А Мария в тот вечер выходила петь перед публикой, которая уже начала в ней сомневаться, и ее задачей было успокоить зрителей и завоевать их вновь. Рассчитывать на полное владение голосом, как в лучшие годы, она уже не могла, и значит, «Тоска» не была для нее обычным спектаклем, речь шла о самом настоящем «воскресении».
Мы стояли за кулисами в ожидании ее первого выхода на сцену, Мария от волнения крепко впилась ногтями в мою руку, а другой рукой быстро-быстро крестилась. Мне пришлось буквально вытолкнуть ее на сцену, и тут я почувствовал, как в ней проснулась энергия. Как все великие актеры, она сумела справиться с волнением и обрела уверенность и спокойствие.
Из всех хвалебных отзывов самой приятной была рецензия Питера Хейворта из «Обсервера»:
«Эта постановка лучшая из всего, что сделал Франко Дзеффирелли. Атмосфера, чувства, вся драма показаны с необыкновенной ясностью, особенно те, на которых делает упор сам Пуччини. Во втором акте, когда в комнате Скарпиа в палаццо Фарнезе при свете одной свечи и камина герои гоняются за собственными тенями и друг за другом, от волнения перехватывает дыхание. Это уже не режиссура, не высокий профессионализм, не творение человеческих рук. Это тот редкий случай, когда музыка, пение и атмосфера, насыщенная дурным предчувствием, сливаются в единое целое. Это полнота театра. То, чем должна быть настоящая опера».
Мне захотелось лично поблагодарить Питера Хейворта и объяснить, что чудо «Тоски» стало возможным в результате просто-таки нечеловеческих усилий. Зритель и критик видят законченную картину, покрытую лаком и обрамленную, и им не приходит в голову (и совершенно справедливо!), что это плод неописуемых страданий художника. С тех пор Питер иначе стал смотреть на чудеса и издержки оперной сцены.
После премьеры «Тоски» Мария вновь засияла на оперной сцене, как самое яркое светило, а я помчался в Нью-Йорк, где уже ждала целая труппа: мы ставили «Фальстафа» в «Метрополитен-опера» под управлением Леонарда Бернстайна.
Передо мной стояла исключительно приятная задача: Рудольф Бинг выбрал «Фальстафа» как последнюю постановку на старой сцене «Метрополитен-опера» перед переездом в Линкольновский центр[68]. Разумеется, я счел это приглашение большой честью, но еще больше меня обрадовала возможность работать с таким блестящим дирижером, как Леонард Бернстайн.
Хотя со времен нашей встречи в «Ла Скала» в пятидесятых мы были близкими друзьями, нам ни разу не приходилось работать вместе, а я только об этом и мечтал. Ленни был сгустком энергии, обладал потрясающей способностью к общению, и день, проведенный с ним, стоил четырехлетнего курса обучения в Йельском университете.
Совместная работа над «Фальстафом» стала одним из самых памятных периодов моей жизни. Мы веселились, как дети, работу на сцене превратили в бесконечную игру, полную выдумок и загадок, как это было с самим Верди, когда он сочинял оперу: будучи уже в преклонном возрасте, великий композитор сохранил молодую душу. Мы задумали поставить в старом здании «Метрополитен-опера» совершенно необычный спектакль. И так и сделали.
Я придумал декорации и костюмы, как в настоящей английской провинции, где жили зажиточные фермеры, ходившие в домотканой одежде, любители сытно поесть, хорошо выпить и охочие до «клубнички». У них были крепкие деревянные дома, в которых даже спальни были пропитаны терпким запахом хлева. Костюмы по моим эскизам блистательно воплотила девяностолетняя мадам Каринска[69], работавшая еще с Дягилевым: ей делали ткани на заказ, а она собственноручно их вышивала — совсем как виндзорские кумушки.
Мне хотелось, чтобы в последнем акте на сцене стоял настоящий лес, и я придумал декорации, которые могли вызвать такое же ощущение волшебства, какое я сам испытал, когда впервые увидел Виндзорский лес в вечерних сумерках и при полной луне. Получилась действительно очень красивая сцена, но для ее оформления требовался пятиминутный перерыв между двумя явлениями третьего акта, которого не было у Верди.
Это стало причиной моей единственной размолвки с Ленни.
— Потрясающая сцена, молодец, поздравляю, — прокричал он мне с пульта во время прогона, — но волшебную нить, соединяющую две сцены, обрывать нельзя ни в коем случае.
Он был прав, но Бинг, присутствовавший в зале, был другого мнения и стал умолять Ленни уступить.
— В «Метрополитен» никогда не было такой прекрасной сцены. Прошу вас, маэстро, уступите на этот раз. Я уверен, что сам Верди был бы в восторге.
К нему присоединились остальные, и Ленни с глубоким вздохом сдался:
— Наверно, вы правы.
Но прав оказался он. И этот урок я запомнил навсегда. Хотя на каждом спектакле Виндзорский лес вызывал бурю аплодисментов, с тех пор все смены декораций в моих постановках происходят молниеносно. Если бы мне довелось еще раз поставить «Фальстафа», я постарался бы придумать, как выстроить на сцене «настоящий лес» без всякой паузы. Впрочем, я вовсе не собираюсь этого делать: по-моему, наша с Ленни постановка была практически идеальной. В 2003 году она снова, после сорокалетнего перерыва, шла в «Метрополитен-опера», и публика была совершенно уверена, что это новая постановка.
Я вернулся в Лондон, чтобы организовать в «Ковент-Гардене» показ палермской постановки «Пуритан» с Джоан Сазерленд. Вообще, та весна стала весной обеих моих оперных див: в мае в «Гранд-опера» меня ждала премьера «Нормы» с Каллас. После «Тоски» ничего кроме очередного успеха я не ожидал, но как только мы собрались в апреле на репетиции, стало ясно, что голос Марии внушает серьезные опасения. «Тоска» — трудная опера, но «Норма» труднее во сто крат. Началась борьба не на жизнь, а на смерть.
Мария пела «Норму» с самого начала своей оперной карьеры, записи с ее несравненным исполнением сохранились, но тут ей, как всегда, захотелось забыть о прежнем опыте и начать все заново, с чистого листа.
Я создал для Марии романтический и таинственный лес древней Галлии, священную рощу друидов. В опере четыре акта, и я решил растянуть ее действие на целый год: начав с радостной звонкой весны, перейти к жаркому зеленеющему лету, затем в третьем акте показать ту же рощу в осеннем наряде и закончить сумрачной безжизненной зимой, как подобает трагическому финалу «Нормы».
По мере приближения 14 мая, дня премьеры, чудесный голос Марии подавал все больше тревожных признаков, напоминая о том, что случилось в Далласе с «Лючией ди Ламмермур». Маэстро Претр, дирижер, почуял опасность и, желая помочь, предложил ей то, к чему часто прибегают певицы, когда поют сложнейшую партию Нормы, — опустить регистр.
— Так делают часто. Никто и не заметит! — убеждал ее он. — А тем, кто заметит, будет все равно.
— Возможно, вы правы, маэстро, — отвечала она гордо. — Но я-то замечу! И мне не все равно!
Увы, голос подвел ее; актерская же игра была местами непревзойденной, а местами просто плохой. Удачный опыт «Тоски» остался позади, и после «Нормы» Марии пришлось смириться с действительностью — абсолюта по имени Каллас больше не существует. Она мужественно продолжала петь в «Гранд-опера», но 5 июля следующего года завершила свою сценическую карьеру, последний раз спев в «Тоске» перед королевой Елизаветой. Она дала всего один спектакль, остальные были отменены, к великому сожалению верных поклонников ее таланта. После этого она еще несколько лет довольно часто давала концерты, но больше никогда не поднималась на оперные подмостки.
Премьера «Нормы», вне всякого сомнения, была главным событием сезона: в зрительном зале собрался le tout[70] Париж и весь мир, и в первую очередь Онассис. А для меня это была премьера «моих дам» — Марии на сцене, тети Лиде, Видже и моей сводной сестры Фанни в партере. Лиде сшила себе потрясающее платье из портьерной золотой парчи, купленной на блошином рынке во Флоренции, одолжила у богатой подруги голубой норковый палантин и надела изумительные «драгоценности» — бижутерию. Бриллианты и изумруды были уж слишком хороши для настоящих, но тетушка носила их с величественной небрежностью миллионерши. Все были невероятно заинтригованы этой роскошной дамой в пятом ряду партера между двумя скромно одетыми женщинами почти без украшений. Одна из них была Фанни в неброских — зато настоящих — фамильных драгоценностях.
Театральная публика с нескрываемым интересом разглядывала тетю и, кажется, решила, что это великая оперная дива прошлых лет. Ее догадки, наверное, подогрела Анна Маньяни, которая появилась в ярко-красном, очень открытом платье, узнала тетушку и бросилась прямо к ней.
— Ну ты даешь! — со смехом закричала она, обнимая Лиде. — Ты что, новый бордель в Париже открыла?
Заинтригованные зрители, наблюдавшие эту сцену, но не расслышавшие произнесенных Анной слов, лишний раз убедились в особом статусе тети Лиде.
Я узнал, что Коко Шанель тоже пришла на премьеру, и в перерыве поспешил к ней. Это была еще одна «моя дама», женщина, так много значившая для меня. Незабываемый вечер главных героинь моей жизни: тетя Лиде, Видже, Фанни, Мария, Анна, Шанель…
Со времени нашего знакомства мы время от времени виделись с Шанель, когда я бывал в Париже. Я специально приезжал на показ ее первой послевоенной коллекции, когда Шанель сочли устаревшей и исключили из новой агрессивной среды мировой моды.
В новой коллекции не было ничего революционного, это и не входило в ее задачи: Шанель просто продолжала работать в том стиле, который ввела в мировой обиход. Она оставалась верна своему убеждению, что главная героиня в моде — это женщина, а вовсе не новые модельеры с их фантазиями и капризами. Каждое платье, каждый костюм свидетельствовали о верности этому принципу.
Коллекция с треском провалилась. Париж и мир моды категорически не приняли ее и в оскорбительной язвительной форме вынесли Шанель приговор: «Конец! Старуха! Это просто смешно! И говорить о ней нечего!» Трудно даже представить, какой это был тяжелый день.
Зато совершенно иначе отреагировали американцы. Они скупили коллекцию, и вся элегантная Америка наперегонки побежала одеваться к Шанель.
Итак, эта маленькая хрупкая женщина тоже пришла на премьеру «Нормы» — в классическом белом шелковом костюме, знаменитых жемчугах и шляпке. Я был приятно удивлен, узнав, что все эти годы она следила за моей работой и даже гордилась мной.
— А ведь я оказался здесь только благодаря тебе! — признался я.
Она бросила на меня недоуменный взгляд.
— Когда я ушел от Лукино, — продолжал я, — мне жилось очень трудно. Я хотел идти собственным путем, но денег совершенно не было.
Тут она и вовсе перестала меня понимать.
— Помнишь, ты подарила мне рисунки Матисса. Сначала я думал, что это репродукции. А потом один человек сказал, что это подлинники, и чтобы не умереть с голода, мне пришлось кое-что продать. Понимаешь, они меня спасли. Они позволили мне идти дальше. Я все хотел перед тобой извиниться. Плохо я поступил с твоим подарком.
— Ах, те… — наконец вспомнила она. — Я рада, что они тебе помогли, ты правильно сделал, что продал их. — Она улыбнулась. — Я сделала тебе неважный подарок: Матисс не великий художник. Хорошо, что их купили.
Свет в зале начал гаснуть, и мне пора было возвращаться за кулисы.
— Это мне надо просить у тебя прощения: слишком скромный подарок для такого таланта, как твой, хотя тогда он еще не расцвел. — Она опять улыбнулась и взъерошила мне волосы. — Надо будет придумать для тебя особый подарок!
А два дня спустя мне принесли в гостиницу чудный рисунок Пикассо.
XIII. Бедный и знаменитый
Неожиданно обнаружилось, что я стал знаменитым. Мою фамилию запомнили, журналисты часто брали у меня интервью, незнакомые люди по-приятельски здоровались на улице. Слава, особенно если речь идет о сценическом искусстве, — это приятное подтверждение состояния дел. Грех жаловаться. В конце концов, что может быть плохого в том, что к тебе на улице подходят незнакомые люди и говорят приятные слова? Проблема была в другом: знаменитым-то я стал, а денег не прибавилось. Знаменитый, но бедный. Постановка оперы или драматической пьесы приносила мне копейки.
«За театр не платят», — повторял Лоуренс Оливье. Я уже приводил его слова, что театральных заработков едва хватает на пропитание. А моим разорением была еще и собственная труппа — актеры, которые безоглядно верили моей мечте. Но им тоже нужны были деньги, многим приходилось содержать семью.
Мне страстно хотелось познакомить Италию с лучшими произведениями мировой драматургии — этим желанием меня заразил Висконти. При этом ни он, ни я не могли рассчитывать на финансовую поддержку как со стороны частных лиц, так и правительства. Лукино добрался до самого дна своих наследственных закромов, и кредиторы ходили за ним по пятам. Но у него все-таки была собственность. Одна моя близкая миланская приятельница, Мауриция Дзеласки, хорошо знавшая нас обоих, однажды увидела, как я репетирую посреди лужайки с актерами, ассистентами и всей труппой, и в ужасе сказала:
— Франко спятил! Он хочет быть как Лукино… Только у Лукино есть поместье Эрба, а у него — ничего, кроме этой лужайки.
Наверно, это было с моей стороны настоящим безумием. Я отдавал все, что зарабатывал в любой точке мира, на свой театр «Компаниа ди проза Франко Дзеффирелли» и возил его по Италии и за границу. Мы везде получали призы и признание зрителей, но всегда были на грани банкротства.
За всю мою практику театрального режиссера мне редко когда удавалось прилично заработать, если не считать французской версии пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?». Спектакль имел грандиозный успех и, что удивительно, продержался на парижской сцене целых три года. Для меня это было крайне важно, потому что, в отличие от Италии, во Франции пьеса может идти на сцене хоть до скончания века, а режиссер будет получать процент от сборов с каждого представления. Поэтому продюсер Ларе Шмидт еженедельно высылал мне солидный чек. Это были живые деньги, и я мог выплачивать долги.
В какой-то степени зрительский интерес к комедии Олби во Франции был вызван ссорой, вспыхнувшей между исполнителями главных ролей Реймоном Жеромом и Мадлен Робинсон в полном соответствии с любовью-ненавистью персонажей Олби. С той разницей, что актеры смертельно возненавидели друг друга, о любви там и речи не было.
Они обвинили друг друга в том, что каждый, как говорится, тянет одеяло на себя, начали делать мелкие пакости, произвольно менять текст и дошли до того, что однажды в конце первого акта подрались. Реймон по пьесе должен был в ярости треснуть бутылкой виски об угол камина — так он треснул по голове Мадлен!
Эта скандальная история взбудоражила весь Париж. Хотя билеты были распроданы намного вперед, спектакль пришлось закрыть до возвращения Мадлен из больницы. Я был удручен всей этой ситуацией. Кроме того, грозили прекратиться регулярные поступления от Ларса Шмидта.
Пиранделло в свое время пытался найти границу между игрой и реальностью на сцене. И меня всегда удивляло, что актеры так естественно проживают бурные взаимоотношения персонажей и на каждом последующем спектакле позволяют страстям разгуляться все больше. Текст Олби становился их собственной историей. Они придумывали целые сцены, создавали новые ситуации и произносили реплики, которые и не снились автору. Обстановка в зрительном зале накалялась на глазах, что, в свою очередь, сказывалось на продаже билетов — и почтальон исправно приносил мой чек.
Лиз Тейлор и Ричард Бартон приехали во Францию для презентации нового фильма и несколько раз смотрели спектакль, шалея от того, что происходило на сцене. Им предстояло сниматься в фильме по пьесе Олби, и Лиз впоследствии получила за него «Оскара». Потом я узнал, что они с большим вниманием отнеслись к безумству, представшему их глазам в Париже, и в фильме именно на него делали основной упор.
1965 год я встретил в Лондоне: Лоуренс Оливье попросил меня поставить в «Олд-Вике» пьесу «Много шума из ничего» для Национального театра, которым он тогда руководил. Лучшей возможности близко познакомиться с кумиром моего детства, несравненным Генрихом V, сыгравшим такую большую роль в моей жизни, и придумать было нельзя.
Я начал уговаривать Ларри сыграть Дона Педро — роль хоть и небольшую, но будто для него написанную. Впрочем, шансов у меня не было: на нем висела куча обязательств плюс руководство Национальным театром. Вместо себя Оливье порекомендовал молодого Альберта Финни, только что ставшего очень известным благодаря фильму «Том Джонс»[71] и изо всех сил стремившегося как можно скорее вернуться в театр и забыть про Голливуд. Я сомневался, что он согласится на роль Дона Педро и не станет претендовать на главную роль, но Ларри ясно дал ему понять, что актер на роль Бенедикта уже утвержден. В главных ролях у нас были Роберт Стивенс и Мэгги Смит, а Финни, войдя в труппу, приобретал право на исполнение главных ролей в дальнейшем. Успех в кино помогает набить кошелек, а звание лучшего актера можно получить только за настоящие заслуги и проявив достаточное терпение. Такой подход вполне в духе замечательной традиции английского театра, который учит, что все роли важны. Всякий выходящий на сцену должен работать на успех всей труппы. Кстати, в Англии это правило касается не только театра. Если страна побеждала во всех войнах, то только потому, что все, от генерала до последнего солдата, в равной мере чувствовали ответственность за победу. А труппа, которую предоставил мне Ларри, была просто россыпью талантов: Финни, Стивенс, Смит, Иен Маккеллен, Дерек Джейкоби, Фрэнк Финли, Роналд Пикап, Майкл Йорк, Линн Редгрейв… Многие из них получили рыцарское звание и теперь называются сэрами и лордами. И сам руководитель тоже довольно скоро стал сэром Лоуренсом Оливье. Вот она, истинная кузница британского рыцарства!
На первой же репетиции я сообщил, что согласился ставить «Много шума из ничего», чтобы как следует позабавиться, отключиться на время от бесконечных повседневных забот. Как же иначе: если мы хотим повеселить публику, то и нам самим должно быть весело. Лучше и придумать было нельзя для сезона, в котором одновременно шли чеховская «Чайка», «Долгий день уходит в полночь» О’Нила и «Салемские колдуньи» Миллера, а на закуску — «Пляска смерти» Стриндберга! Удивительно, что среди публики еще не начались массовые самоубийства.
В книге «Национальный театр» Саймон Кэллоу называет «Много шума» постановкой несравненного сценического шарма и ослепительного блеска, «которая оказалась настолько далека от пуристской трактовки Шекспира, что и представить нельзя. Роберт Грейвс переработал текст пьесы, исключив все темные места, а режиссерский замысел Дзеффирелли, заставившего Догберри[72] и его команду говорить с грубым итальянским акцентом, породил изумительный комический эффект настоящего неаполитанского (пардон, сицилийского) фарса. Пьеса была разыграна на фоне гигантской шпалеры, обрамленной разноцветными лампочками и живыми статуями, которые игриво подмигивали актерам и в конце каждой сцены пожимали им руку под музыку Нино Рота, где чередовались сентиментальные и бравурные пассажи, а играла эту пьесу труппа, которую можно будет снова собрать на одной сцене разве что в раю…»
На одно из наших представлений пришел Ричард Бартон. Меня тогда в зале не было, но присутствовал мой лондонский агент Деннис ван Таль, которому Бартон потом сказал: «Я бы отдал правую руку, чтобы играть в таком спектакле и у такого режиссера, как этот чокнутый итальянец».
Во время репетиций «Много шума» 24 января 1965 года скончался Уинстон Черчилль. Для тех из нас, кто участвовал в сопротивлении фашистскому режиму Муссолини, этот политик как никто другой был живым воплощением надежды в самые тяжелые годы войны. В то время он производил впечатление несокрушимого титана, и трудно было поверить, что его больше нет. На следующий вечер мой старый друг лорд Дрогеда, президент «Ковент-Гардена», повез меня в Вестминстер-холл[73], чтобы отдать последнюю дань уважения великому человеку. Я был до глубины души тронут торжеств венностью и сдержанной скорбью церемонии: залитый приглушенным светом зал, катафалк с гробом, неподвижно стоящие по его углам четыре гвардейца почетного караула в парадной форме…
Я тогда жил в отеле «Уолдорф», неподалеку от Стрэнда, по которому похоронная процессия должна была проследовать в собор Св. Павла. Гроб с телом Черчилля стоял на лафете, а за ним медленным торжественным шагом в безупречном геометрическом построении шли военные моряки, ветераны всех войн, и вдоль всего пути — толпа в скорбном молчании. Англия еще раз продемонстрировала свое умение достойно выступить в великие минуты истории.
Вдруг в неподвижной толпе мне померещились мои флорентийские старушки англичанки. Они как будто стояли там, скорбя вместе со всеми, но внешне не проявляя свои чувства. Каждая из них осознавала себя частью исторической памяти родной страны.
В тот день у нас тоже была репетиция. Шекспир хотел от нас веселья и радости, и никто не позволил себе открыто показать горе. Все были уверены, что их долг перед спасителем Англии — продолжать работать. После репетиции, на обратном пути, я снова пошел через мост Ватерлоо и увидел незабываемое зрелище: мощные струи воды из брандспойтов малых и больших судов образовали величественную арку, под которой баржа с гробом Черчилля плыла к южному берегу Темзы — именно отсюда, от моста Ватерлоо, этому великому человеку предстояло отправиться в последний земной путь к месту вечного упокоения в фамильной усыпальнице в Бленхейм-Касл.
Я смотрел, как, салютуя покойному, над рекой склоняются портовые краны, и мне почудилось, что я вновь слышу голос, запомнившийся мне со времен партизанской юности по тайным радиопередачам из Лондона: «Во всех войнах, которые вела Англия, она всегда выигрывала последнюю битву». Этих слов я никогда не забуду.
Меня всегда безмерно восхищали в Черчилле цепкость восприятия, умение предвидеть будущий ход событий и действовать сообразно этому предвидению. Это качество важно для любого дела, включая мою профессию, но оно, увы, встречается чрезвычайно редко.
После успеха «Тоски» в «Ковент-Гардене» на ITV[74] в популярной программе «Золотой час» показали второй акт. Я не принимал непосредственного участия в трансляции, но мне пришлось встретиться с Лью Грейдом, который, кроме того что возглавлял этот телеканал, был еще одним из ведущих мировых кинопродюсеров. В то время кино занимало все мои мысли. Во-первых, Деннису ван Талю очень хотелось увидеть мои постановки на киноэкране, а во-вторых, несмотря на мой успех на оперной и театральной сцене, кинематограф по-прежнему интересовал меня больше всего на свете. К тому моменту у меня за плечами было много постановок классики, и я вынашивал планы съемок такого рода фильмов, даже подумывал об экранизации «Укрощения строптивой» «по-итальянски» — с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен.
— Да ты шутишь! — воскликнул Деннис, когда я поделился с ним этим замыслом. — Если хочешь заявить о себе как о кинорежиссере международного уровня, да еще экранизировать Шекспира, надо привлечь британских кинозвезд!
Мы долго обсуждали с ним разные варианты, пока не пришли к выводу, что решение у нас прямо под носом: супруги Бартоны. Я засомневался, что мировые звезды согласятся сниматься у режиссера-дебютанта. Деннис не был уверен в Тейлор, но твердо знал, что Ричард Бартон давно мечтает вернуться к Шекспиру, и ухитрился организовать встречу с обоими в Дублине, где Лиз и Ричард находились на съемках.
Сложилось так, что все мои первые встречи со знаменитостями попадали на бурные скандалы или приступы бешеной ярости по совершенно разным причинам. Маньяни орала на режиссера Дзампу, Висконти осыпал бранью своих помощников за то, что они не могут найти ему нужную старушку. Что-то в этом роде произошло и с Бартонами. Придя в их гостиницу в Дублине, я застал один из тех легендарных скандалов, о которых частенько писали газеты всего мира.
Кошмар, представший перед моими глазами, спровоцировала крохотная обезьянка галаго размером с белку — чей-то подарок, которую Лиз всегда возила с собой. Несчастный зверек в ужасе носился по номеру, пока наконец не забился в ванную, вцепившись маленькими ручками в трубу отопления под самым потолком. Успокоить его и вернуть на шелковую подстилку никак не удавалось. Всякий, кто пытался приблизиться к зверьку, — горничные, служащие или сама Лиз — рисковали потерять глаз или оказаться располосованными до крови. Мимо меня с воплем пронеслась уборщица, отважившаяся на такую попытку. Лиз показалась в дверном проеме ванной в халате, растрепанная, с горящими глазами, последними словами кроя Ричарда, который с невозмутимым видом вел со мной светскую беседу. Он усадил меня на диван, налил виски и не обращал на нее ни малейшего внимания. Крики Лиз стали громче. Ричард наконец отреагировал и завопил, что ей пора успокоиться, потому что он не желает разговаривать со мной в таком бедламе.
— Ты прекратишь когда-нибудь молоть языком о своем проклятом Шекспире?! Иди помоги мне! — заорала она.
Ричард резко поставил стакан на стол и прорычал в ответ:
— А ты прекратишь сходить с ума из-за этого дурацкого зверька?! Иди сюда и поговорим! Это же знаменитый режиссер, и тебе, возможно, когда-нибудь посчастливится работать вместе с ним!
— Плевать я хотела на твоего Шекспира! — отрезала она. И тут же, совсем другим тоном, обратилась ко мне:
— Поговорим чуть позже. Вы мне не поможете? — Она взяла меня за руки и внимательно посмотрела своими сапфировыми глазами, будто пыталась понять, люблю ли я животных так, как их любит она.
Я видел галаго впервые в жизни. Было понятно, что Лиз очень к ней привязана и переживает. На обезьянку и вправду было жалко смотреть: ей было страшно, она тяжело дышала. И хотя у меня не было никакого опыта общения с обезьянками, я подумал, что после такой бешеной беготни она наверняка обессилена и хочет пить. Обернув вокруг руки полотенце, встал на табуретку и поднес ей блюдечко с водой. Бедняжка начала жадно пить, а напившись, успокоилась и позволила мне снять ее с трубы. Лиз с улыбкой рассыпалась в благодарностях. Так мы подружились.
Тем временем мне становилось все труднее поддерживать на плаву свою итальянскую труппу. Театральная система в Италии организована так, что налоги на сборы от представлений чудовищно высоки (более сорока процентов). В таких условиях хочешь не хочешь приходилось просить разных чиновников вернуть хотя бы часть этих денег в форме субсидий. Идиотские чиновничьи поборы, которые до сих пор не удалось преодолеть! Лично я никогда не состоял ни в каких организациях и не упускал возможности публично высказаться об этом грабеже. Платить за это приходилось дорого, и я всерьез стал думать, не отказаться ли вообще от театральной деятельности в Италии.
Но у меня была труппа, которую я очень любил и за которую отвечал. На самом деле это были практически две труппы (правы были мои друзья, что считали меня сумасшедшим). В одной потрясающие актеры уровня Сары Феррати, Рины Морелли и Паоло Стоппа, а в другой невероятно талантливая молодежь — Аннамария Гварньери, Джанкарло Джаннини, Умберто Орсини. Первая провела трудный, но успешный сезон с пьесой Олби «Шаткое равновесие» и распалась. А вторая, которую я собрал для «Ромео и Джульетты», продолжала держаться, и мне страшно не хотелось с ней расставаться. Я отчаянно искал решение и вспомнил о нашем с Анной Маньяни старом проекте постановки «Волчицы» Джованни Верги, прекрасной страстной трагедии, где она могла сыграть главную роль.
Анна снималась в кино все реже и реже, но была по-прежнему очень популярна. Ей очень хотелось найти новые возможности играть. Главная героиня «Волчицы» ее заинтересовала, подходила по темпераменту и амплуа, но Анна боялась после стольких лет возвращаться в театр. Преодолеть сомнения ей помогла Сусо Чекки Д’Амико, «крестная мать» итальянского кино, автор сценариев почти всех фильмов Анны. У Сусо всегда был нюх на таланты, она внимательно следила за каждой новой творческой мыслью, она верный и преданный друг больших и малых. Лукино шагу без нее не ступал. Я познакомился с ней, едва приехал в Рим, и Сусо сразу предложила мне поддержку. Родом, как и я, из Флоренции, она была плотью от плоти ее культуры, как все флорентийцы, до безжалостности остра на язык, при этом всегда готова прийти на помощь в самом трудном деле. Если тебя что-то терзало, надо было поделиться с ней — она в два счета находила способ помочь или хотя бы утешить.
Само собой, Сусо сразу разрешила сомнения, которые мучили Маньяни, и передала мне ее с рук на руки довольную и спокойную. Я хотел собрать вокруг Анны всю свою молодежь, которая смотрела на нее с восторгом и обожанием. Анна сразу подружилась со всеми и полностью отдалась работе над сложным персонажем доньи Пины. Она забыла свои горечи и печали и вновь обрела юношеский задор. Больше того, она влюбилась в своего сценического партнера, совершенно как ее героиня, которая по пьесе теряет голову из-за мужа дочери. Время репетиций было очень счастливым. Премьера «Волчицы» состоялась во флорентийском «Театро делла Пергола», том самом, где много лет назад я впервые встретил Лукино. А вскоре мы повезли спектакль по всему миру, и публика радостно приветствовала возвращение актрисы. Анна заявила, что будет играть только шесть месяцев, но в результате ездила с «Волчицей» целых три года.
Вторым спектаклем был мой любимый — «Ромео и Джульетта», который я поставил в Вероне для Гварньери и Джаннини. Подбор репертуара оказался очень удачным и всюду приносил успех и награды. Только не на родине — здесь были зависть и враждебность.
Теперь я расскажу, что случилось, когда я привез оба спектакля в театр «Квирино» в Риме. Везде, где мы гастролировали, нас принимали очень хорошо — в Вене, Берлине, Варшаве, в Москве, Петербурге, Амстердаме… В Париже на Международном театральном фестивале «Ромео и Джульетта» получил Гран-при как лучший спектакль года. Наших гастролей в Риме ждали с нетерпением еще и потому, что на сцену после стольких лет возвращалась Анна Маньяни.
Я предложил, чтобы на первом представлении «Ромео и Джульетты» присутствовала только молодежь до двадцати лет, с предъявлением паспорта на входе. У меня в мыслях не было кого-то обидеть, мне казалось разумным отделить театралов от публики, мало для них привычной. Однако это вызвало резкий протест критиков, которые считали своим священным правом присутствовать на премьере. Главные редакторы всех газет оборвали мне телефон, но я был тверд: этот спектакль, где играет только молодежь, будет смотреть только молодежь, без взрослых, а критики придут на следующий день вместе с остальными зрителями. И они страшно обиделись.
Как приятно было смотреть на моих ребят! Публика приняла постановку на ура. Зато уж критики отыгрались и написали глупо-оскорбительные отзывы. И я не сдержался. Нас триумфально встречала вся Европа, мы получали призы везде, а в Риме, дома, с нами так обращаются из-за того, что выеденного яйца не стоит?! Я в ответ яростно обрушился на критиков, которые так предвзято к нам отнеслись. Тогда они, собравшись в кафе «Даниз», решили в течение года игнорировать все мои постановки.
Анна Маньяни совершенно вышла из себя: как, после стольких лет она возвращается на римскую сцену, а критики отказываются дать отзыв на ее игру! К счастью, в этом сезоне и «Волчица», и «Ромео и Джульетта» шли с настоящим триумфом, каждый вечер театр буквально брали штурмом. А когда гастроли закончились, я решил взять реванш — купил целую полосу в газете «Мессаджеро» и написал:
«Спектакли „Волчица“ и „Ромео и Джульетта“ побили рекорды по выручке за всю историю театра „Квирино“. Труппа выражает горячую благодарность публике за великодушный и горячий прием и благодарит римскую критику за ее молчаливое участие».
Теперь, наверно, понятно, почему с критикой у меня сложились достаточно сложные отношения.
После громкого успеха «Тоски» лорд Брэборн[75] и Тони Хэвлок-Аллен, управляющие английской государственной кинокомпанией ВНЕ, задумали во что бы то ни стало снять по моей ковент-гарденской «Тоске» фильм с Марией Каллас в главной роли. Я очень обрадовался этому проекту, потому что по-прежнему сожалел о несостоявшейся далласовской «Травиате».
В то время у меня как у кинорежиссера не было никаких рекомендаций, но подписание контракта на съемки «Укрощения строптивой» с Тейлор и Бартоном радикально изменило мой статус.
Мария сразу согласилась, а Онассис ее поддержал. Кино всегда было ее тайной мечтой. Их связь оставалась для всех полной загадкой — о браке речи больше не было, хотя жили они вместе и считались стабильной парой. Об их отношениях ходили разные слухи, но ничего определенного.
Летом 1965 года нас пригласили на яхту «Кристина», остров Скорпиос, чтобы «собраться с мыслями», как сказал Онассис лорду Брэборну и Тони. Мне наконец предстояло встретиться с Марией и собственными глазами увидеть, как ей живется в золотой клетке на роскошной яхте, какие люди рядом с ней, в общем, как говорится, пощупать ей пульс, чтобы рассеять сомнения, которые одолевали всех, кого заботила ее судьба. Признаюсь, меня воодушевило благосклонное отношение к моему замыслу. Я был уверен, что ее «Тоске», запечатленной на пленке, суждено стать одним из грандиозных памятников искусства нашей эпохи. Лорд Брэборн, Тони Хэвлок-Аллен и я вылетели в Афины, где пересели на личный гидроплан Онассиса и отправились на принадлежащий ему остров Скорпиос. Как явствует из названия, остров имел форму скорпиона, вытянувшего клешни в море. Это был красивейший клочок земли посреди лазурных вод, надежно защищенный от прихотей Эгейского моря грядой крупных островов, один из которых — легендарная Итака, родина Одиссея.
С высоты птичьего полета я рассмотрел ослепительно белую, точно игрушечную яхту. Гидроплан зашел на посадку, приводнился, к нему тут же подлетел глиссер, и я с удивлением увидел за штурвалом Онассиса собственной персоной. Он был в отличном настроении, оживлен, улыбался, по-дружески хлопал нас по спине и, казалось, решил превратить наш визит в памятное событие. Неожиданно он приказал посадить моих спутников в лодку, куда погрузили багаж, и везти их на яхту, а сам, встав за штурвал глиссера, обратился ко мне:
— Поехали, я тебе кое-что покажу!
И мы отправились на прогулку вокруг его острова.
Был конец июня. Над морем золотился изумительный закат. Онассис казался мальчишкой, с трепетом и восторгом демонстрирующим новичку свое тайное сокровище.
Скорпиос действительно был сокровищем: живописные бухточки, каждая с неповторимым пейзажем, бьющий о скалы прибой. На берегу — виноградник посреди зеленой долины, за мысом — оливковая роща, а за ней — еще долина и отара белоснежных овец на зеленой траве. Везде цветы, деревья, ветви которых сгибаются под тяжестью плодов. Сказочный мир, а рядом выжженные солнцем дикие острова. Как удалось Онассису создать этот рай? Он улыбнулся, довольный моим изумлением, и показал на горизонте чернеющий на закатном солнце силуэт Итаки.
Он как бы по секрету рассказал, что все дело в воде. На Итаке воды предостаточно. Ее доставляют на остров двумя судами, перекачивают в скрытую деревьями водонапорную башню на самой высокой точке, а оттуда она течет по трубам и орошает эти цветущие угодья.
Он в подробностях объяснил, какая была проделана работа, сколько садовников и разных техников пришлось нанять, рассказал, что масличные деревья привезли из Эпира, абрикосовые из Фракии, а вишни из Аттики. Его глаза блестели за толстыми стеклами очков. Я был покорен и начал менять мнение об этом человеке, который считался циничным дельцом, готовым разорить всякого, кто станет у него на пути. Может быть, Мария не зря его защищает, и в сердце этого человека, внушающего ненависть и страх, тоже есть скрытые сокровища?
Мы в молчании созерцали пейзаж, купающийся в теплых лучах закатного солнца, как вдруг Онассис неожиданно обнял меня за плечи и прошептал на ухо строки Данте:
Я смутился. Мне было непонятно, почему он так неожиданно и странно себя повел. Процитировал Данте, чтобы произвести на меня, флорентийца, впечатление? Он истинный ценитель поэзии, или это единственные строки, которые он знает и цитирует на прекрасном итальянском языке? Он почти прижался ко мне, его губы касались моего уха. Я стоял неподвижно и судорожно пытался понять, что ему надо, боясь совершить оплошность.
Во мне нарастало беспокойство. Я знал, что в молодости у Онассиса были гомосексуальные связи, что в двадцать лет он был любовником турецкого офицера, который защитил его во время погрома в Смирне в 1922 году, и уж конечно, он бы не погнушался мимолетной связи ради выгоды или для достижения цели.
Мы долго стояли молча. Наконец Онассис чуть отодвинулся, и рука на плече снова стала случайным дружеским жестом. Он глубоко вздохнул, поправил очки и вернулся за штурвал глиссера. Мы быстро доплыли до яхты, а я все размышлял над происшедшим: что это — неожиданное волнение или дьявольский план, чтобы поссорить нас с Марией? Ответ я получил позже.
«Кристина» была чудо что за судно, с отделкой в изысканном французском стиле, с изумительной мебелью, коврами, картинами.
Вернувшись, я отправился на главную палубу, где Джон Брэборн и Хэвлок-Аллен в компании Марии потягивали аперитивы. Я рассказал о волнующей красоте острова, которую Ари преподнес мне в дар.
Ари только отмахивался, давая понять, что я преувеличиваю, но в глубине души был доволен моим энтузиазмом.
— Франко, дорогой, — обратилась ко мне Мария, — я говорю Джону и Тони, что соглашаюсь только потому, что Ари настаивает. Он считает, что я должна сниматься в кино. У меня в жизни и так было все, о чем только может мечтать артистка! Но раз Ари хочет, я буду сниматься, хотя с удовольствием осталась бы здесь и вообще все забыла…
Мы трое втихомолку переглядывались, а она продолжала молоть чепуху о том, что ей никогда ничего не доставалось даром, что за успех пришлось заплатить дорого, пора и о личной жизни позаботиться и все такое прочее. Онассис стал проявлять нетерпение. Он что-то сказал ей по-гречески и, сочтя свое замечание остроумным, перевел для нас, чтобы мы тоже могли посмеяться:
— Ну ты и раскудахталась! Почище курицы! Сохрани остатки голоса для сцены, там он тебе понадобится!
Ничего остроумного в этих словах не было, одна грубость. Мы неловко молчали, а Мария обиделась и замолчала. Это был первый сигнал, что великий роман с Онассисом теряет высоту.
Ужинать мы перешли в изысканно обставленную столовую в стиле Людовика XV, и там к Марии вернулось прежнее настроение. Она заметила, что мы просто восхищены изяществом комнаты и сервировки.
— Ты видишь, Франко, теперь у меня есть все! — воскликнула она, указывая на изысканный стол, сервированный фарфором, серебром и хрусталем, и шеренгу учтивых слуг. — Ради чего мне думать о работе?
Джон, Тони и я осторожно перевели разговор на экранизацию «Тоски», и хотя Мария твердила, что у нее теперь нет ни нужды, ни желания работать, было видно, что проект чрезвычайно ее увлек. Куда труднее было понять отношение Онассиса: сначала он проявил большой интерес к этой идее, иначе бы не пригласил нас, но теперь в ходе обсуждения стал осторожничать.
Главным камнем преткновения было то, что права на экранизацию «Тоски» уже давно приобрел Герберт фон Караян, который предполагал снять фильм с участием своего оркестра. Но это никак не увязывалось с лондонской постановкой, которую мы хотели взять за основу будущего фильма. А то, что они с Марией сумеют сработаться, и вовсе казалось маловероятным.
В прошлом они сделали два спектакля, в том числе незабываемую «Лючию ди Ламмермур» в «Ла Скала» и в Вене, но Караян как-то во всеуслышание сравнил голос Марии с ножом, скребущим по стеклу: по его словам, от голоса Каллас у него бежали мурашки по коже. К тому же в недавнем интервью серьезному музыкальному журналу он привел имена крупнейших вокалистов, с которыми ему когда-либо доводилось работать, и Марии в этом списке не было. А таких вещей La Divina[77] не пропускала — и никогда не прощала.
— Две звезды в одном спектакле — это слишком! — заявила она. — Если дирижировать будет Караян, про меня можете забыть.
Почуяв, что запахло скандалом, Онассис оживился.
— Мы перекупим у него права, — объявил он, будто главный дирижер Венской оперы и музыкальный директор Зальцбургского фестиваля был всего лишь очередным конкурентом-судовладельцем.
Услышав эти слова, мы трое заспорили, согласится ли Караян, известный своим тяжелым характером, переуступить права. И тут совершенно неожиданно вспыхнул скандал. Мария и Онассис заговорили между собой по-гречески, как часто бывало, и он вдруг рассвирепел и заорал на нее. Мы в немом изумлении смотрели, как на наших глазах разгорается банальная греческая семейная ссора. Оба кричали, оба, казалось, вот-вот перебьют всю посуду, но Мария вдруг разрыдалась и убежала с палубы.
А Онассис как ни в чем не бывало вернулся к прерванному разговору, разлил вино и поднял бокал за прекрасных дам.
— Все они такие, и великие, и простые. За них, за эту печаль и радость нашей жизни!
Мы разошлись поздно ночью, утомленные дорогой и выпитым вином. Я постучался в каюту к Марии, решив, что она, как и Онассис, давно успокоилась. Но нет, она была очень расстроена и, открыв дверь, вернулась в стоящее ко мне спиной кресло. Я услышал тихий плач, как когда-то у нее дома после премьеры «Сомнамбулы».
Да, дела плохи. Слухи ходили давно, а сейчас я убедился в их справедливости.
— Я целиком в его власти, — сквозь слезы призналась Мария. — Он может делать со мной все, что угодно. И ему это известно!
На следующее утро, к нашему удивлению, Онассис сообщил, что проект можно запускать. Он понимает, что времени нет, потому что у меня подписан контракт на начало съемок «Укрощения строптивой» в марте 1966 года, и остается только восемь месяцев, а этого слишком мало. Но меня так захватила идея снять фильм по «Тоске», что я рассчитывал уложиться в столь короткий срок, тем более что уже привык жить по сумасшедшему графику и всегда находить решение. А еще мне казалось важным снять «Тоску», чтобы помочь Марии вырваться на свободу.
Прежде чем покинуть «Кристину», я получил гарантию «серьезного» финансирования для проведения подготовительных работ. Онассис был готов сразу дать двадцать тысяч долларов, чтобы начать работу. Такая сумма меня несколько удивила. До-съемочные расходы могли составить не одну сотню тысяч долларов, но Онассис, провожая нас к самолету, уверял, что остальное не задержится.
Я был так решительно настроен снимать фильм, что попросил Ренцо Монджардино приступить к работе над декорациями, а Марселя Эскофье — над костюмами, сам же сел вместе с Сусо Чекки Д’Амико писать сценарий и одновременно начал выбирать натуру. Спустя некоторое время грек по имени Верготтис, единственный, кому Мария доверяла, приехал ко мне в Рим и передал конверт с двадцатью тысячами долларов наличными, не взяв никакой расписки.
А потом грянул гром. Караян наотрез отказался продавать права на «Тоску». Я позвонил Марии и стал выяснять, можно ли еще что-то сделать и нет ли у Онассиса возможности повлиять на это решение. Много лет спустя Караян рассказал, что был тогда готов и дальше обсуждать сделку, но Онассис ограничился только туманными намеками и всерьез никогда не поднимал этот вопрос. Мне стало ясно: Онассису просто не хотелось, чтобы Мария ступила на эту новую для себя стезю. Все, что могло ослабить его безграничную власть над ней, он расценивал как угрозу. Когда и каким образом должен закончиться их роман — решал он.
В довершение всего Мария позвонила и, сказав, что о фильме можно забыть, попросила вернуть деньги. Я опешил и стал объяснять, что та ничтожная сумма, которую мне передал наличными Онассис, ушла на покрытие досъемочных расходов, и мы уже сидели по уши в долгах.
— Но это были жом деньги! — повысила она голос. — Мои деньги! Мои доллары, а не его! Их дала я!
Я, разумеется, никак не мог потребовать эти деньги у своих коллег, а у меня самого, даже захоти я ей их вернуть, просто ничего не было. Я не сомневался, что это деньги Онассиса, и точно знал, что для него двадцать тысяч долларов — пустяк. Но Мария и слышать ничего не хотела:
— Хватит! Верни деньги, или ты больше в жизни меня не увидишь! — и бросила трубку. После этого мы с ней не разговаривали несколько лет, пока она не рассталась с Онассисом. Так моя попытка помочь ей, сняв фильм, не удалась и обернулась разрывом наших отношений.
Гораздо позже я выяснил, что Онассис и впрямь уговорил Марию выдать мне аванс из ее собственных средств, потому что не стоило ему, дескать, официально влезать в такой проект. Никто от этого не мог выиграть! А она, бедняжка, поверила.
Мне вспомнилась морская прогулка вокруг острова Скорпиос, когда я заподозрил бесчестный замысел Онассиса, великого мастера своего дела — захватывать и разрушать. В тот раз у него ничего не вышло, но последнее сражение все-таки выиграл он.
XIV. Ну улыбнись, Микеланджело!
Мне исполнилось сорок, а я все не был уверен, что проживаю свою собственную жизнь. Думаю, я не единственный, кому знакомо ощущение, что он живет не внутри себя, а где-то рядом, как внимательный попутчик.
Итак, мне было сорок, казалось, я всегда буду молодым, красивым и везучим, и жизнь будет дарить мне новые и новые возможности. Об этом говорило буквально все. Подумать только — всего несколько лет назад я ютился по убогим гостиницам и готовил постановки в жалких комнатушках ради скромного заработка, а теперь лечу на частном самолете к Лиз Тейлор и Ричарду Бартону, чтобы поговорить о фильме, который мы будем вместе снимать. Ричард настолько увлекся проектом «Укрощения строптивой», что нашел почти все деньги, и фильм вышел, скорее, как совместное производство Бартон — Дзеффирелли, а не продукция компании «Коламбия Пикчерс».
При таком раскладе разве не могла прийти в голову мысль, что это жизнь кого-то другого?
В то время как Ричард видел в фильме «возвращение домой», к театру Шекспира, для Лиз это просто был фильм, не лучше и не хуже других. Они все время ссорились, иногда так, что искры летели, еще и потому что постоянно накачивали себя виски. Подобные стычки были просто бесценным подарком для журналистов и сплетников, но они же убедительнее всего доказывали, что эти двое с такими сильными характерами жить друг без друга не могут. Несколько лет спустя они развелись, но очень скоро снова сошлись и поженились.
Я быстро разобрался в их отношениях и перестал обращать внимание на ссоры в стиле «Вирджинии Вульф». Куда больше меня тревожило их окружение. Целая свита секретарей, парикмахеров, адвокатов и советников следовала за ними по пятам. Было понятно, что погоду делают они. Это был сильный и очень опасный отряд, приближение которого можно было безошибочно узнать по позвякиванию украшений. Они носили браслеты размером с хорошую якорную цепь, всевозможные кольца, массивные как сейфы портсигары и цепи, достойные византийских патриархов. И все из чистого золота — желтого, красного, белого. Как им удавалось во всей этой сбруе с легкостью гримировать, причесывать и даже сморкаться, остается для меня загадкой.
Мы снимали в Риме, в новых павильонах Дино Де Лаурентиса, который очень помог тем, что создал вокруг атмосферу доброжелательства. Мы отлично понимали, что нам выпала большая честь и ответственность работать с такими суперзвездами, к тому же решившимися сниматься у режиссера-итальянца.
Весь фильм был снят в павильоне, даже улицы, площади и сады Виченцы. Ренцо Монджардино создал потрясающие декорации в стиле итальянского Чинквеченто[78]. Сказочную атмосферу дополняло освещение, ведь мы вообще не использовали естественный свет.
А восхитительные костюмы, идеально воспроизводящие эпоху, нарисовал Данил о Донати, мой старый друг по богемной жизни на площади Испании.
Но кое-какие проблемы все-таки были, и первая из них — Италия. Бартоны обожали нашу страну: свою красивую виллу, соблазны Рима, кухню, людей, в общем, все. Уже потом Лиз как-то призналась мне, что это время было для них настоящим и единственным медовым месяцем и самым счастливым периодом жизни. А занудой, который тащил их из этого рая на работу, был я!
Ричард был профессионалом высшего класса, воспитанным в традициях английского театра. Каждое утро в семь он был на месте, слегка опухший от выпивки и недосыпа, но в девять тридцать уже был одет, загримирован и готов сниматься в подготовленном накануне эпизоде. А Лиз раньше десяти не появлялась.
В двенадцать, если все шло гладко, она приходила на площадку в гриме и костюме и безапелляционно заявляла, что сию минуту готова сниматься.
«Вы что, еще не готовы?» — нетерпеливо говорила она, если у техников или актеров в последнюю минуту случались какие-то непредвиденные задержки. Так она привыкла в Голливуде: все готовы, и она снимает, всегда идеально, первый дубль, потом неохотно, «на всякий случай», второй. До третьего дубля дело доходило в исключительных случаях, только если возникали технические проблемы или из-за ошибки других актеров. В Голливуде ее прозвали «One take Liz» — «Лиз с первого дубля», и должен признаться, что позже, на монтаже картины, я всякий раз с удивлением признавал ее правоту — в фильм шел именно первый дубль.
Во время съемок сообщили о гибели в автомобильной катастрофе Монтгомери Клифта, близкого друга Лиз. Она очень горевала, рвалась на похороны, но прервать работу актрисе такого класса было невозможно. А мы, по странному совпадению, снимали смешной эпизод. Как это было мучительно для нее после такой потери! Она часто уходила поплакать. Ричард все время был рядом с ней, утешал, держал за руку. Но как только начинала работать камера, картина сдержанной скорби мгновенно сменялась перепалкой Катарины и Петруччо, ставшей одной из самых живых и веселых сцен в фильме.
Съемки продолжались с середины марта по июнь, а незадолго до их конца мы получили приглашение на ужин к принцессе Пиньятелли на встречу с Робертом и Этель Кеннеди. После ужина мы отправились в ночной клуб «Пайпер», который вскоре стал очень модным благодаря Патти Право[79]. Но Ричарду там не понравилось, его раздражал «ужасающий грохот» музыки. Тогда мы перекочевали в отель к чете Кеннеди и остались там, попивая виски, «наконец-то в покое», поболтать о политике, литературе, поэзии. И тут между Ричардом и Бобом возник спор, кто лучше знает Шекспира. Ричард, как настоящий ас, разумеется, счел этот вызов оскорблением, но у него оказался достойный противник. Оба знали наизусть сонеты Шекспира. Что их знает Ричард, я вполне мог предположить, но никак не думал, что Роберт Кеннеди, человек, с головой погруженный в политику, продемонстрирует такое прекрасное знание английской поэзии. В конце концов Ричард проиграл. Последним заданием было прочитать наоборот, с последней строки до начала, знаменитый сонет. Роберт проделал это с легкостью, как самую обычную вещь на свете, Ричард ошибся и сдался.
— Я сегодня перепил. Поздравляю, вы молодец!
Лиз пыталась его утешить, но и она, как все, была потрясена. Я вспомнил об этом эпизоде, когда вскоре Роберт Кеннеди был убит так же варварски, как и его брат Джон. Пуля арабского фанатика разнесла ему мозг, потрясающий кладезь мудрости и знания, настоящее сокровище для всего человечества.
Может, это тоже доказательство, что благо созидает, а зло разрушает?
Как только съемки закончились, я уехал в Нью-Йорк. Мне предстояло открыть новую сцену «Метрополитен-опера» в Линкольновском центре искусств оперой Сэма Барбера «Антоний и Клеопатра», написанной по заказу Бинга и подготовленной для постановки летом 1965 года в Кастильончелло мной и Мазолино Д’Амико. Можно себе представить, насколько это событие, назначенное на 16 октября 1966 года, занимало мои мысли.
Я работал над постановкой два года, даже по ночам во время съемок «Строптивой» все время возвращался к ней, что-то дорисовывал, улучшал. Этот спектакль я задумал в не свойственной мне манере. Все декорации были из пластмассы и металла, что позволяло создать эффект бликов и прозрачности и обеспечить смену картин при поднятом занавесе, как того требует сложное и четкое следование трагедии.
По-моему, это был мой самый «современный» спектакль, с сотнями хористов, танцоров, лошадей и верблюдов, одним словом, настоящий «монстр», что и требовалось для такого события. К сожалению, музыка Барбера подкачала. Мы стали всерьез беспокоиться еще во время репетиций, и больше всех сам Бинг, который выбрал оперу (я-то советовал ему обратиться к Бернстайну). Но Барбер оказался человеком, не готовым принимать советы и рекомендации ни от кого, даже от лучших друзей вроде Джанкарло Менотти, который первый почувствовал грозящую опасность. Все было тщетно. В результате был показан прекрасный спектакль, в котором не хватало главного в опере — музыки.
Торжественное открытие удалось, весь Нью-Йорк пышно отпраздновал это событие, но привкус остался.
Единственное приятное воспоминание от неудачной премьеры — телеграмма от Ричарда и Лиз: «Если это провал, заполни его до краев вином. Ты отлично справился. Поздравляем».
Ранним утром 4 ноября 1966 года мне в панике позвонила из Флоренции моя сестра Фанни. Произошла катастрофа. Чудовищный ливень превратил улицы города в настоящие реки, смывающие все вокруг. Сестра была в полном одиночестве, в темноте. Гудели машины, как будто на улицах образовалась гигантская пробка. Я связался с приятелем, занимавшим важную должность в телерадиокомпании Италии RAI, тоже флорентийцем. Он уже знал о том, что случилось.
— Надо что-то придумать, — сказал я. — Если ты подберешь мне группу операторов, я немедленно поеду снимать, что происходит во Флоренции.
Нам пришлось добираться окружным путем по горам вокруг долины Арно, потому что все въезды в город были закрыты. Наконец удалось добраться до Фьезоле, и оттуда, сверху, открылась невообразимая картина. Прекрасная долина, в которой стояла Флоренция, превратилась в озеро. Флоренция стала Венецией, а улицы — каналами! Заполнившая их вода блестела на солнце, которое снова сияло на небе.
Сильные дожди шли уже несколько дней, и берега Арно пришлось укреплять мешками с песком и ставить заграждения, чтобы река не залила город. И все было ничего, пока река не поднялась до уровня Понте Веккьо. Этот прекрасный древний мост, гордость и символ Флоренции, который пощадили даже немцы, стал причиной наводнения, образовав плотную дамбу из разного мусора и обломков. Вода, не найдя выхода, затопила центр.
Бурные потоки смывали все. По улицам плыли тысячи машин, вода разбивала окна и проникала в дома, заливала грязью церкви, библиотеки, дворцы, музеи. Канализацию прорвало. Поскольку дело шло к холодам, все запаслись соляркой для отопления, и ее вынесло из погребов на улицу. Смешавшись с водами реки, она оставляла на стенах и древних камнях несмываемые масляные пятна, которые потом месяцами напоминали об уровне паводка Арно.
Средства массовой информации в те времена не были еще такими всесильными, как теперь, но и тогда с их помощью можно было широко показать сцены разорения и разрушения, представшие перед нами. Целые исторические кварталы, как, например, Санта-Кроче, были затоплены до третьего этажа, и уникальные произведения искусства испорчены или вовсе уничтожены. Вода начала отступать лишь спустя неделю, и тогда стало возможно подсчитать ущерб. Сразу стало ясно, что он огромен, и не только для нашего художественного наследия. Были разрушены более шести тысяч магазинов, заполненных товарами в преддверии рождественских праздников. Множество людей оставалось пленниками воды, без еды, без питья, беспомощными свидетелями уничтожения плодов их труда и всего имущества.
Взгляды всего мира были обращены на нас. Во Флоренцию устремились люди со всех концов света, горящие желанием помочь городу, который считается одним из символов вершин человеческой культуры. Они говорили на разных языках, но очень хорошо понимали друг друга — трагедия всех объединила.
А какой горестной оказалась потеря «Распятия» Чимабуэ[80], которое бережно хранилось в музее Санта-Кроче. Вода сорвала с деревянного креста слой левкаса с живописью, и его фрагменты еще лежали в грязи, когда вода начала спадать. Группа ребят из городских художественных училищ все утро терпеливо копалась в грязи, приветствуя криками радости каждый найденный кусочек.
Они собирали их с благоговением, как святыню, и складывали на деревянную доску для просушки. Благодаря найденным фрагментам «Распятие» можно было бы восстановить. Когда подъехал грузовик, развозивший еду, они, ненадолго прервавшись, чтобы перекусить, возбужденно рассказывали приехавшим ребятам, чем занимаются.
В этот короткий перерыв в музей приехали уборщики и, в соответствии с полученным приказом, мощной струей воды стали вымывать из зала Чимабуэ грязь. Доска, на которую ребята бережно складывали фрагменты для просушки, была смыта. Вернувшись, они не могли поверить собственным глазам, глядя, как последний ручеек грязной воды навсегда уносит их сокровище.
Бессмысленно задавать вопрос, каков сокровенный смысл этой иронии судьбы. Ответов множество, но один из них не дает мне покоя: мы, со всеми нашими надеждами и победами, всего лишь горстка праха. Судьба, или случай, или, если хотите, высшие законы природы напоминают нам о Порядке, не нами установленном и не доступном нашему пониманию. Даже Искусство и его шедевры, даже «Страшный суд» Микеланджело — это всего лишь толика Творения, и однажды (какой это будет печальный день!) они все снова станут прахом, мертвой материей. Они имеют ценность, пока жив человек, его замыслы и грезы. Как говорил профессор Фучини, как сказано в священных книгах: «Помни, что ты прах и в прах возвратишься!»
Разве не приходит в голову, что именно благие силы направили молодых людей собирать фрагменты «Распятия» Чимабуэ, чтобы вернуть ему прежний вид? И что силы зла направили других, ничего не подозревающих молодых людей этому помешать? Это что — вечная борьба Бога и Сатаны? Дьявол использует добрых невинных людей, чтобы вредить человечеству?
Моя любимая церковь Санта-Кроче, где похоронены гении нашей истории, была так разрушена наводнением, что даже перестала считаться освященной. В конце трудного дня я все-таки решился войти. Зная, что мне предстоит увидеть тяжелую картину, я хотел остаться в одиночестве. Мое последнее посещение этой церкви было связано с чудесным концертом Джоан Сазерленд, исполнявшей под ее сводами «Мессию» Генделя.
Разорение оказалось еще страшнее. Я облокотился о колонну и в тоске погрузился в воспоминания, не в силах даже молиться. В полной тишине мне вдруг почудился то ли стон, то ли приглушенный смешок. Я огляделся по сторонам, но никого не увидел. Вскрики, смешки и тяжелое дыхание стали громче. Мне показалось, что они доносятся из-за гробницы Микеланджело. Я медленно прошел по грязи и увидел два силуэта, два тесно сплетенных тела: солдат и светловолосая девушка, может быть, англичанка или шведка. Они не замечали меня или не хотели замечать. А я стоял и никак не мог оторвать от них глаз. Потом поспешно отошел, вдруг почувствовав неловкость от своего вмешательства, но вернулся к колонне и оттуда снова стал на них смотреть. И делал это вовсе не из любви к «клубничке».
Эти двое приехали с разных концов света и именно в этом месте, едва ли не самом священном на всей земле, слились в объятии, пусть и кратком. Эта мысль вывела меня из тоски, в которую я погрузился как в грязь. Я поднял глаза на бюст Микеланджело, который, нахмурившись, смотрел на меня сверху, будто надеялся, что и он найдет утешение в любви двух юных чужестранцев, что и для него это будет счастливым концом той драмы, которую переживает город.
— Ну улыбнись, Микеланджело!
Я стал работать над документальным фильмом из собранного материала, и когда Ричард Бартон спросил, чем он может помочь Флоренции, предложил ему сделать фильм на двух языках — английском и итальянском. По-моему, это должно было помочь собрать средства для пострадавшего города. Фильм вышел 4 декабря, ровно через месяц после наводнения, и сразу пустился в долгий путь по всему миру, принесший Флоренции и ее жителям более двадцати миллионов долларов. По тем временам это была большая сумма, но потребности, конечно, превосходили ее.
Успех «Укрощения строптивой» и удовольствие, которое я сам получил от фильма, открыли передо мной новые горизонты в кино. Дебют комедией Шекспира напомнил мне, что и в театре шестью годами раньше я начинал с Шекспира, с «Ромео и Джульетты» в «Олд-Вике». Так почему бы не пойти по этому пути дальше? Я поговорил об этом с Ричардом, и он с энтузиазмом поддержал меня:
— Чего ты ждешь? — сказал он. — Ты единственный в мире режиссер, способный объединить Шекспира и кино.
На этот раз тысячеликому Шекспиру предстояло повернуться к публике другим лицом — не очаровательной фантазией «Укрощения строптивой», а поэтическим реализмом «Ромео и Джульетты», и не со знаменитыми актерами, а с неизвестными молодыми исполнителями, благодаря которым зрители сумеют поверить в веронскую трагедию.
В те годы мир молодых неудержимо вырвался на волю. То, что я только кожей ощущал в 1960 году, стало реальностью. Это были годы кипучей свежей энергии, новая английская культура прокладывала путь всему миру и находила ответы на вопросы, которые настойчиво задавало подросшее поколение. Музыка «Битлз», мини-юбки. Отношения отцов и детей стремительно менялись, молодежь становилась главным действующим лицом истории и подталкивала к переменам старших.
В конце февраля 1967 года в Лондоне состоялся торжественный показ «Укрощения строптивой» для королевской семьи, а неделю спустя фильм показали в Нью-Йорке, и на просмотре присутствовал Роберт Кеннеди. Тогда я видел его в последний раз. Он как раз собирался выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Мы встретились, и я напомнил ему тот вечер в Риме. Вскоре я вернулся во Флоренцию для итальянской премьеры фильма.
Мне хотелось, чтобы она прошла в «Одеоне», где я когда-то увидел «Генриха V» с Лоуренсом Оливье. И на языке оригинала — в честь немногих оставшихся в живых английских старушек и тех, кого уже не было. Сколько же их пришло! С палочками или в инвалидных креслах, они все равно щебетали, как пташки, и казались такими же несгибаемыми: ни война, ни голод, ни бомбежки — ничто не сломило их. Они по-прежнему гордо держали голову, были так же требовательны, одеты в те же платья, что и в годы моей юности, так же ворчали на итальянцев. Ни одного замечания у них не нашлось в адрес красавца Ричарда, сразу завоевавшего все сердца, но очень много по поводу «этой распущенной американки»:
— Загадка, как эта женщина могла стать звездой!
— А этот итальянец, который себе позволяет ставить нашего Шекспира?!
— Он не итальянец, он флорентиец, — заметила одна из них. Так в недоумении они начали смотреть фильм, но в конце от всей души аплодировали, покоренные.
Надежды на то, что успех «Строптивой» — а он в самом деле был большим — облегчит поиск денег на «Ромео и Джульетту», не оправдались. Продюсеры считали, что успех обеспечило лишь участие супругов Бартон, а Шекспир по-прежнему оставался для кино запретным плодом, за исключением разве что актеров их уровня. «Коламбия» не скрывала своего отношения и о новом проекте даже слышать не хотела.
Но Деннис ван Таль был упрям как осел и не думал сдаваться. К тому же моя идея страшно ему понравилась. Вот, кстати, еще один из немногих, кто умел смотреть вперед. После того, что произошло в «Олд-Вике», он имел все основания верить, что молодежь всего мира с энтузиазмом примет киноверсию самой прекрасной истории любви, сыгранную молодыми, никому не известными актерами, а не знаменитостями. Он предложил проект вниманию лорда Брэборна и Тони Хэвлок-Аллена, которые когда-то так надеялись на «Тоску» с Марией Каллас. Они согласились оплатить производство и договорились с компанией «Парамаунт» о прокате, пусть и на условиях так называемого art-film[81], стоящего не более миллиона долларов. Их осторожность была вполне понятна, хотя они прекрасно знали об успехе спектакля «Олд-Вика» во всем мире, включая Америку.
— Театр — колыбель Шекспира, — сказали они мне. — Кино совсем другое дело.
Но в их словах звучало доверие.
Им удалось запустить производство и предоставить мне возможность заняться поисками на главные роли молодых неизвестных актеров.
Начало проб оказалось сущим кошмаром, потому что выяснилось, что все девушки Англии только и мечтают что стать новой Джульеттой, как мечтали их матери, бабки и прабабки. Они ехали отовсюду, из самых далеких, Богом забытых мест. На улице, где проходили пробы, было не протолкнуться. Уже по одному этому коллективному безумию можно было снимать целый фильм. Разумеется, на роль Ромео тоже оказалось немало претендентов, но с ними было значительно проще. Я почти сразу нашел троих или четверых, а в одного просто влюбился с первого взгляда. После проб рассеялись последние сомнения — вот он, новый Ромео, Леонард Уайтинг, молоденький актер «Олд-Вика», всего шестнадцати лет, красивый и обаятельный, уверенный в себе и даже немножко нахальный, как породистый жеребчик. Прекрасный образ юного итальянца эпохи Возрождения, из тех, что, кажется, появились на свет, чтобы внушать любовь, страсть и… создавать массу неприятностей.
А вот с выбором Джульетты из-за ажиотажа все оказалось намного труднее. После нескольких недель проб и прослушиваний я отобрал с полдюжины кандидаток, среди которых первой шла Оливия Хасси, четырнадцатилетняя девочка, полненькая и угловатая, с глубокими, как темный бархат, глазами и длинными черными волосами, которые необыкновенно красиво обрамляли ее милое лицо. Но помимо подросткового облика у нее были и другие недостатки: она постоянно грызла ногти, а голос срывался.
Девушек было множество, все разные, но все многообещающие. Одна, например, тоненькая блондинка с огромными голубыми глазами. Глаза — это мой пунктик, и вполне обоснованный. В жизни, разговаривая с человеком, мы смотрим ему в глаза, это первый и главный способ общения и знакомства. Мы сразу проникаемся недоверием к тем, кто отводит взгляд. В кино это особенно важно. Если ты не смотришь актеру в глаза, а только рассматриваешь его физические данные, это значит, что как личность он тебя не интересует, потому что только глаза — зеркало души, индивидуальности. А в крупных планах все так увеличивается, что глаза становятся огромными. И если у актера глаза «не говорящие», ему лучше подыскивать себе другое занятие. Помню голливудский рассказ о том, как Кларк Гейбл давал однажды интервью. Журналистке, спросившей, в чем секрет его успеха, он без колебаний ответил, что он заключается в правильном использовании левого глаза: «Одного глаза вполне достаточно, чтобы обаять поклонников и обеспечить долгую успешную карьеру».
Одновременно мне надо было работать над спектаклями во многих театрах мира, и пробы в Лондоне пришлось на несколько недель приостановить. И слава богу. Таким образом я получил возможность сосредоточиться, вспомнить как следует девушек, которых уже видел и слышал, и все хорошенько взвесить, потому что ни одна из них не убедила меня окончательно. Я не был готов сделать окончательный выбор, а продюсеры нервничали и торопили: на пробы уходило слишком много времени.
Я вернулся в Лондон и снова пригласил тех, кого смотрел вначале, несколькими месяцами раньше. Пришла Оливия, которая за это время очень изменилась, многие ее недостатки исчезли (в четырнадцать лет чудеса происходят легко!), пришла и очаровательная блондинка. Едва увидев ее, я понял, что судьба, устав от моих поисков, решила за меня. Прелестная девочка, так меня поразившая, тоже, как и Оливия, изменилась, но, увы, не к лучшему. Она коротко остригла волосы, по молодежной моде тех лет. Вроде бы старшая сестра убедила ее постричься, потому что с длинными волосами она выглядела немодно.
— Захотят, чтобы ты играла с длинными волосами, парик наденут.
Правда, просто? Совсем непросто. Оставив прекрасные золотые волосы на полу парикмахерской, она лишилась надежды стать моей Джульеттой. Может быть, вся ее жизнь изменилась из-за этой глупости. Прямо дрожь пробирает.
Роль получила Оливия — судьба глядела далеко вперед! Нужно честно признать, что именно она — настоящий Режиссер нашей жизни.
В мае, незадолго до начала проб «Ромео и Джульетты», я переехал со своего любимого шестого этажа в центре Рима на красивую зеленую виллу недалеко от Старой Аппиевой дороги. Я не только взял с собой тетю Лиде, Видже и весь зверинец, но и потребовал, чтобы со мной поселились главные действующие лица фильма. Это, конечно, был не вполне обычный подход к подготовке фильма, но сработал отлично: Оливия и Леонард чувствовали себя как дома и репетировали в саду, Нино Рота сочинял музыку в гостиной, Роберт Стивенс и Наташа Парри учили роли или плавали в бассейне. Время от времени мне приходилось покидать этот сказочный мир и отправляться на поиски натуры или следить за подготовкой съемочной площадки в «Чинечитта». Съемки начались 29 июня в прелестном городке Тускании, потом в Пьенце и в Губбьо, и как только у меня образовалось достаточно отснятого материала, я поспешил показать его Ричарду и Лиз. Именно их хвалебный отзыв убедил меня, что я на верном пути. Однако у Ричарда возникло опасение, что моя молодежь не справится с шекспировскими стихами, и он сказал:
— С критикой придется несладко.
— Интересно, а во времена Шекспира как поступали? Разве исполнителям главных ролей не было по четырнадцать? — спросил я в ответ.
Ричард неуверенно покачал головой:
— Может, ты и прав. Может, куда важнее то, что Шекспир предлагает нам по ту сторону стихов, в поэзии.
Он повернулся к Лиз:
— А ты что скажешь, дорогая?
— Что я скажу? Я потрясена. — Лиз вытерла слезы и улыбнулась. — Поэзии в каждом кадре предостаточно.
— Умница, — Ричард обнял ее и, хлопнув меня по плечу, произнес: — Продолжай в том же духе и не бойся… Поэзии никогда не бывает слишком много.
Он был явно взволнован и призвал на помощь виски.
Должен признаться, что в тот момент проблема стихов заботила меня меньше всего. Деньги «Парамаунта» закончились, а мы были только на полпути. Единственный, кто мог разрешить дополнительное финансирование, был Чарли Бладхорн, президент компании «Gulf and Western», владеющей «Парамаунтом», про которого было известно, что с кино он знаком мало, и это для него не более чем один из способов делать деньги. Он находился по делам в Риме и захотел узнать, «на что мы потратили его доллары». Приехал с пестрой свитой — все как один улыбаются в полный рот и пожимают руки. С ним был и его сын, тринадцати-четырнадцатилетний мальчик, страшненький, в больших очках. Первое, что потребовал Бладхорн, был телефон. Он его получил и пустился в разговор с Голливудом, меча громы и молнии. Потом неожиданно успокоился, спросил, чего мы ждем и почему не начинаем, а когда просмотр начался, он только и делал, что говорил по телефону, рассеянно поглядывая на экран. И вдруг, после очередного вопля Бладхорна в адрес телефонного собеседника, мы услышали тонкий голосок, который твердо произнес:
— Папа, может, уже хватит нести чушь по телефону, дай спокойно посмотреть фильм!
Это был сынок Пол, которого мы не принимали в расчет, решив, что перед таким папашей он и рта не осмелится открыть.
Бладхорн удивился не тону сына, а его интересу к фильму.
— Тебе что, нравится? — спросил он изумленно.
— Да, нравится, очень, — сухо ответил мальчик. — Только если не перестанешь болтать…
— Ему нравится, — прошептал Бладхорн свите и снова спросил у сына: — Что, правда, нравится? Ты что-то понимаешь?
Мальчик сидел с красными глазами, а после этих слов встал и срывающимся голосом сказал:
— Я хочу досмотреть его один. Вернусь, когда вы закончите тут с вашей фигней.
И ушел. Все остались стоять разинув рты, а Бладхорн потребовал продолжить показ материала и теперь уже смотрел в тишине и с полным вниманием.
Вот так, благодаря сыну, Бладхорн и дал нам на фильм недостающие деньги. Понятен ход его мысли: если на этого паренька такое впечатление произвели всего несколько почти не смонтированных сцен, что будет с его сверстниками, когда они увидят весь фильм?
В результате картина, которая обошлась меньше чем в два миллиона долларов, только за первый сезон собрала больше сотни миллионов! Это был первый большой успех «Парамаунта» после целого ряда провалов, которые поставили «Gulf and Western» на грань банкротства. За ним последовали «Love story» и «Крестный отец».
Но именно Шекспир, в которого они не желали верить, позволил им снова вкусить сладость успеха. Лично мне этот фильм принес успех и славу, но кроме этого — ничего, потому что ради возможности его снять я отказался от будущих процентов. Одним словом, на пир, спасший «Парамаунт» от разорения, я не попал. Но зато со мной подписали контракт еще на два фильма. Тоже неплохо!
Это был для меня исключительно удачный период времени. Благодаря «Укрощению строптивой» и «Ромео и Джульетте» я не только реализовал свою честолюбивую мечту работать в кино (и на каком уровне!), но и добился определенного финансового благополучия. Однако пока я баюкал себя на гребне успеха, где-то в глубине уже начали собираться темные волны, о которых никогда не следует забывать, даже когда Благо торжествует в нашей жизни (именно тогда и стоит готовиться к встрече с тьмой). Но разве можно не распахнуть душу навстречу щедро изливающемуся на тебя Благу и вместо этого травить себя предчувствием грядущего Зла, которое обязательно возьмет реванш?
Ведь действительно, «Театр Добра и Зла» существует, он веселит и приводит в отчаяние, в нем всегда все по-разному, он не подчиняется никаким правилам. Есть люди, притягивающие Благо, и люди, его отталкивающие. Наверно, тут все со мной согласятся, уж слишком много у каждого примеров.
После горячего приема «Ромео и Джульетты» в Нью-Йорке в сентябре 1968 года мне позвонили друзья из Флоренции и сказали, что тетя Лиде упала на улице в обморок и теперь в больнице. Я все бросил и помчался к ней. Она уже знала, что больна раком, но запретила мне говорить об этом в те счастливые дни.
Напомню, что тетя Лиде поддерживала маму, когда та решила родить ребенка, то есть меня, пришла на помощь, когда я остался один, и заменила мне мать, а отца заставила обо мне заботиться.
Я был совершенно уверен, что тетю удастся вылечить, и повез ее в Рим в больницу «Сальватор Мунди» (Спаситель мира), где, как считалось, были лучшие врачи. После этого вернулся в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Биллом Каганом, хорошим другом и всемирно известным онкологом, который, связавшись с итальянскими коллегами, обнадежил меня. Но когда я вернулся в Рим, началась череда дурных предзнаменований. Оливер, белый пекинес, в пару подаренному Лиз, пропал и был найден утонувшим в бассейне соседа. В доме неожиданно обрушилась стена, чудом не на горничную. Я пригласил священника провести молебен в доме и благословить всех, а сам бросился по врачам, отчаянно пытаясь отсрочить неизбежную развязку.
Все было тщетно. Тетя Лиде умерла 28 октября. Никогда в «ее» церкви во Флоренции не было столько цветов — их прислали чуть ли не со всего мира. Все тяжело переживали ее смерть и хотели последний раз выразить любовь женщине, известной своим теплом, преданностью Благу, Дружбе, Искусству.
Но беда только набирала обороты. Рождество я провел во Флоренции, а утром мне уже нужно было быть в Риме, и я выехал ночью, в проливной дождь и ураганный ветер. До Орвьето я добрался по почти пустой дороге, но вдруг наткнулся, почти врезался в автобус, стоящий поперек шоссе. Из него вылез окровавленный рыдающий водитель, который кричал:
— Они все погибли! Все до единого!
В автобусе ехало сорок монахов-иезуитов, по большей части американцы. Они провели во Флоренции Рождество и возвращались в Рим. Все спали. Водитель не справился с управлением, и его занесло на всем известном опасном повороте так, что пассажиров резко бросило вперед. Некоторые погибли сразу, некоторые были тяжело ранены, почти у всех лица разбиты о металлические поручни, находившиеся впереди сидений. Расшибленные лбы, окровавленные носы, сломанные челюсти. В ночной темноте и видно-то почти ничего не было, только выхваченные на секунду вспышкой, которую я всегда вожу в машине, отдельные ужасные картины. Тягостнее всего была стоящая в автобусе тишина, в которой слышались слабые стоны раненых и молитвы.
Я останавливал редкие машины, и они везли раненых в больницу Орвьето. Больница была закрыта, дежурная монахиня наотрез отказалась нас впустить. А раненые в тяжелом состоянии продолжали прибывать.
Потеряв самообладание, я начал изо всех сил колотить в ворота тяжелой железной скобой. Маленькая больничка оказалась совершенно не готова к трагедии такого масштаба. Я видел, как зашивают раны с аккуратностью мясников, в условиях, далеких от каких-либо правил гигиены, как весь персонал пребывает в смятении и панике, в отличие от раненых и умирающих, которые показывали пример истинной веры.
Кстати, если бы у меня были сомнения по поводу веры, то более убедительного ответа, чем пример этих истекающих кровью раненых, отданных в неопытные руки, я бы получить не мог. Благодаря нерушимой вере они проявляли удивительную стойкость, и их молитвы превозмогали любую боль.
Один из монахов умер прямо на скамейке; остальные встали вокруг него на колени и начали молиться. Я был потрясен. Отведя в сторону их старшего, который, к счастью, отделался несколькими царапинами, я умолял его остановить эту пытку, поехать со мной в Рим и там организовать быструю и квалифицированную помощь.
На заре мы прибыли в Коллегию иезуитов в Ватикане. Настоятелю отцу Аррупе[82] доложили о нашем приезде. Он бегом спустился по парадной лестнице и, протягивая руки, к моему изумлению, бросился прямо ко мне.
— Вы наш добрый самаритянин, спасибо, — сказал он.
Отец Аррупе немедленно все организовал, машины скорой помощи отправились из Рима в Орвьето для оказания квалифицированной помощи пострадавшим.
Я уже уходил, когда отец Аррупе остановил меня и благословил.
— Если когда-нибудь вы будете страдать от боли, Господь будет с вами и поможет.
Позже его слова приобрели для меня конкретный смысл, стали, можно сказать, пророчеством.
Пострадавших иезуитов положили в больницу «Сальватор Мунди». Мне уже начало казаться, что в этом месте для меня таится что-то зловещее. Я навещал раненых (эти посещения напоминали мучительные часы у постели умирающей тети Лиде), приносил подарки, выслушивал их, присутствовал на молитве и на мессе, которую они служили в палате. В детстве, под влиянием мамы, я был очень религиозным ребенком, но уже в школе, как и у большинства однокашников, вера потихоньку стала уступать место радостям и заботам повседневной жизни. Может быть, пример иезуитов, таких смиренных и преданных Богу, может быть, сама больница и витавший в ней дух тети Лиде заставили меня начать поиск того, что до сих пор оставалось за рамками моей жизни.
Джина Лоллобриджида жила неподалеку от меня, на Старой Аппиевой дороге. Эта женщина, образец яркой итальянской красоты, была известна настойчивым и решительным характером, который вел ее к намеченной цели, ни на что не обращая внимания. Кроме того, она была единственной кинозвездой постнеореализма, которая всего добилась сама, в отличие от других (Мангано, Бозе, Лорен); у нее не было любовника, мужа, продюсера, который бы расчищал ей путь. Она была единственной в своем роде и поэтому стала любимицей красивых, независимых, предприимчивых женщин. Мы никогда вместе не работали, но часто виделись, потому еще, что жили по соседству.
Вечером 15 февраля 1969 года она позвонила мне и предложила поехать на следующий день во Флоренцию на футбольный матч между «Фьорентиной» и «Кальяри», которые боролись за первое место. С нами собирались еще Джанлуиджи Ронди, великий жрец итальянского кинематографа, и один немецкий фотограф.
— Это будут фотографии высший класс, не то что у всяких там папарацци.
Я с радостью согласился поехать, главным образом потому, что всегда был болельщиком «Фьорентины»!
На следующее утро я явился к дому Лолло на своем новеньком сверкающем «мустанге», который мне подарил Фонд Форда в честь открытия новой сцены «Метрополитен-опера».
У входа стоял «роллс-ройс», не совсем новый, как подобает настоящему «роллс-ройсу», и величественный. Шофера я не заметил и начал болтать с Ронди. Тут появилась великая Джина. Одета она была так, что дух захватывало. На ней была шуба, на которую пошло по меньшей мере три тигра, шапка из переплетенных тигровых лап, украшения — драгоценности или бижутерия — где только можно, и ослепительная улыбка, которая сразу поднимала настроение. Ее можно было фотографировать хоть сию минуту, но прежде чем попасть на стадион, надо было проделать сто восемьдесят километров при отвратительной погоде.
— Ну что, готовы? — спросила Лолло. Я все ждал шофера, пока не увидел, что за руль садится она. Пошел сильный холодный дождь.
— Ты что, собираешься вести машину до Флоренции в такую погоду? Позови лучше шофера.
— Какого шофера? Ты с Луны свалился, кто может себе позволить шофера? Я всегда вожу сама, и никто мне не нужен.
Попытка найти поддержку у Ронди не удалась, тот преспокойно уселся на заднее сиденье вместе с фотографом. Я был в ужасе и через окошко водительской двери принялся ее уговаривать:
— Ты во Флоренцию приедешь еле живая, если будешь вести все двести километров, да еще по такой погоде.
Но Ронди сказал успокаивающе:
— Зря волнуешься. Джина отлично водит. Садись!
Пришлось сдаться и сесть рядом с ней, но мне было очень страшно. В тот момент я принял самое ошибочное решение в своей жизни.
В начале пути я немного успокоился: несмотря на длиннющие ногти, Джина уверенно держалась за руль. Ронди развлекал нас байками про кино, сплетнями и скандалами, которые приводили Джину в бурный восторг. Мы остановились заправиться, и нас быстро и аккуратно обслужил высокий светловолосый парень в синем комбинезоне. Отъезжая, мы видели, как он помахивает нам рукой. Потом я вспоминал его как последнее предупреждение, как Ангела Смерти, прекрасного словно Денница. Эта картина часто всплывала у меня в голове.
Ливень не кончался, но Джина по-прежнему ехала на большой скорости. Я забеспокоился, потому что в любую минуту она могла потерять управление такой тяжелой и неповоротливой машиной. Мы приближались к повороту, где произошла катастрофа автобуса с иезуитами. Вспомнив, насколько он опасен, я попросил Джину притормозить на этом проклятом месте, побившем все рекорды по авариям, особенно когда подмораживало и шел снег. Но было слишком поздно.
В панике Джина ударила по тормозам, машину повело, и она с размаху ударилась о скалу. Джина вцепилась в руль, который защитил ее от удара, а меня выбросило из машины через лобовое стекло, и я, потеряв сознание, упал на асфальт.
XV. Это прекрасная история
Последующие дни я помню смутно и не уверен, что это реальность, а не бред. Помню, кто-то разрезал на мне голубой кашемировый свитер, который я очень любил, но иначе снять его было нельзя. Помню, что сопротивлялся, помню напряженные внимательные лица Фанни и Шейлы, моей секретарши.
Много дней я то приходил в себя, то опять погружался в сумерки. Едва возвращалось сознание, на тело неумолимо наваливалась невыносимая боль. Меня пичкали успокоительными, и я впадал в продолжительный сон, скорее даже в сонное забытье, из которого ненадолго выходил. Я все время видел сны, но они не запоминались, кроме одного, часто повторявшегося: по разбитой деревенской дороге быстро удаляется тетя Лиде. Иногда она спотыкается. Я хочу догнать ее и помочь, но тело мне не подчиняется, а тетя настойчиво повторяет, сердясь все больше и больше: «О себе думай, а меня оставь в покое, со мной все в порядке. Я ухожу». В ушах звенит ее резкий удаляющийся смех.
Я часто думал о крушении автобуса иезуитов, и мне вспоминались слова отца Аррупе. Уж слишком загадочно и тревожно было это совпадение, но смысл его от меня ускользал. В голову лезли другие странные совпадения, например, встреча с молочным братом Гвидо, спасшая мне жизнь, когда я партизанил в горах во время войны, и с другим братом, едва не ставшим моим палачом, и разные другие события. Неужели это все случайности?
В аварии у меня больше всего пострадала голова, удар приняла на себя правая щека и спасла от верной смерти. Но положение было очень серьезное.
В кратком предисловии к книге я говорил, что события нашей жизни, даже самые тяжелые и мучительные, надо осмысливать и судить по тем следам, которые они оставили в жизни, по тому новому, что принесли. Наверно, именно тут и надо искать тесную связь между двумя автомобильными катастрофами — иезуитов и моей.
Во всяком случае, в результате катастрофы я узнал, какое уважение вызывает мое творчество. Со всех сторон я получал знаки любви и дружбы, не говоря о том, с какой готовностью британская наука предоставила в мое распоряжение свои ноу-хау.
Из Милана с репетиций примчался Лукино и просидел со мной пару часов. Мы тепло вспоминали всю нашу историю.
— Ведь это прекрасная история, — сказал Лукино. И повторил на ухо перед уходом: — Это прекрасная история, не забывай.
В те бесконечные дни, пронизанные болью и сомнениями, в окружении врачей со всего мира, прилетевших на частных самолетах моих богатых и знаменитых друзей, на меня, как из рога изобилия, изливалась любовь. Это было паломничество благодарности, чтобы я почувствовал, как семена Блага, которые я стремился сеять своей работой, проросли и расцвели вокруг, чтобы утешить и обнадежить в трудную минуту.
Маленькая больница в Орвьето не могла справиться с таким тяжелым случаем. Профессор Витторио Ди Стефано, который близко к сердцу принял болезнь тети Лиде и судьбу монахов-иезуитов, организовал мой перевод в «Сальватор Мунди». Там он с сожалением сообщил, что даже лучшие итальянские хирурги не смогут вернуть мне прежний вид. Но, добавил он, в Англии, в госпитале «Виктория» в Ист-Гринстед, есть хирург, сэр Теренс Вард, признанный гений в этой области, и обещал сразу с ним связаться. Перевозить меня было нельзя, и мы надеялись, что сэр Теренс согласится приехать в Рим.
Однажды во время этого томительного ожидания я почувствовал, что рядом с моей кроватью кто-то стоит. Я смог различить только черную сутану незнакомца. Он наклонился надо мной и тихо произнес: «Тебе еще предстоит сделать много хорошего в жизни, не бойся», — благословил меня и исчез. Я пытался выяснить, кто это, но никто его не знал и не видел. Это не был больничный священник, я выяснял. Но мне точно не пригрезились ни он, ни его слова. Таинственные слова, как и слова отца Аррупе.
Сэр Теренс Вард обычно не оперировал за пределами Англии, но для меня сделал исключение. Причина, по которой он согласился приехать в Рим, носила исключительно личный характер. Незадолго до этого скончалась его жена, с которой он бывал на многих моих оперных постановках и фильмах, и я был для него живым напоминанием прожитых с ней счастливых дней. Своим приездом он хотел выразить мне благодарность. Великий хирург продемонстрировал вершины своего мастерства: не осталось ни единого рубца, ни малейшего следа.
Целых пять недель после первой операции по восстановлению лицевых костей боль не отступала. Больничный священник отец Каллаган часто приходил посидеть со мной и почитать что-нибудь утешительное из Библии. Я увидел, как плохо разбираюсь в вопросах веры. Из Евангелия не помнил ничего, кроме Нагорной проповеди, и то смутно, да знал пару молитв. Впервые в жизни, оказавшись прикованным к постели, я стал прислушиваться к словам, которые потихоньку обретали для меня смысл. Лежа на больничной койке, вдали от церкви, где может отвлечь обряд, иконы или фрески по стенам, я вникал в простоту молитвы, значение которой с годами расплылось и исчезло. С Богом ведь можно говорить в полном одиночестве…
Как-то позвонила Видже и сообщила, что какой-то молодой сицилиец, моряк, предлагает свои услуги, если мне нужна помощь. И тут сквозь боль и сутолоку последних недель на меня теплой волной накатило приятное воспоминание.
За две недели до катастрофы, в воскресенье 2 февраля в пять вечера я приехал поездом из Милана в Рим. Помню тот день и час с такой ясностью, потому что в тот день и час я встретил молодого сицилийского моряка, который теперь звонил. Его звали Пиппо Пишотто, и ему суждено было стать одним из самых дорогих мне людей.
Встречать меня на вокзал приехали два ассистента, и мы пошли в бар выпить кофе, сразу же заговорив о работе. За соседним столиком сидели три молодых морячка в красивой синей форме. В те годы моряки всегда носили форму, даже в увольнении. Один из них был настоящим красавцем. В нем привлекало все: глаза, улыбка, манеры. Я не мог сосредоточиться на том, что говорили ассистенты. Наконец я решил, что подойду, скажу, что режиссер и ищу новые лица. Я попросил у парня разрешения его сфотографировать, приятели стали посмеиваться, и он смутился.
— Вы правда режиссер? А какой фильм вы сняли?
Я ответил, и тут уж остолбенел Пиппо.
— Это вы? Это вы сняли «Ромео и Джульетту»?
Он сказал, что видел его не меньше трех раз. Но встретить кинорежиссера в вокзальном баре казалось ему маловероятным, и мне пришлось дать ему визитку, как свидетельство, что перед ним в самом деле Дзеффирелли. В свою очередь я записал адрес казармы, намереваясь с ним повидаться — подходящий случай нашелся бы.
Но случай — автомобильную катастрофу — устроила сама судьба. На следующий же день после звонка Пиппо навестил меня и показался ангелом небесным. Новые силы поднимались из глубин моего отчаяния. А он стал часто приходить ко мне, расспрашивал о театре и кино, которое особенно любил. Читал мне книги и газеты или рассказывал о себе, о семье и городе Агридженто, где родился и вырос.
Однажды, когда у меня был Пиппо, пришел мой приятель Альфредо Бьянкини. При виде юного моряка в синей форме, сидящего рядом с моей койкой и спокойно читающего мне вслух, у него перехватило дыхание.
— Этого ангела тебе посылает тетя Лиде, — прошептал он мне на ухо. — Твой дядя Густаво служил на флоте, помнишь? Тетя Лиде посылает тебе этого паренька в утешение, это точно.
Еще один знак от нашего хранителя?
Как-то ночью мне приснился сон, в котором я увидел своего небесного покровителя Франциска Ассизского. Я с рождения носил на шее образок св. Франциска, тоже подарок тети Лиде. Его сняли при перевязках, и он висел над кроватью. У меня была забинтована вся голова и открыт только правый глаз, им я видел, как образок поблескивает среди бинтов. В полудреме я решил, что Франциск хочет мне что-то сообщить и посылает таинственный знак. Все чаще я стал над этим задумываться, пока идея не захватила меня целиком. С образком установилась тесная связь. Я вспомнил все, что знал о Франциске, я говорил с ним, задавал вопросы и получал ответы. Наконец я дал обещание, что если поправлюсь, буду служить ему своим творчеством, одним словом, сделаю о нем фильм. Так сначала родилось желание, а потом решимость снять фильм «Брат Солнце, сестра Луна» — на больничной койке, между жизнью и смертью.
Иногда, когда речь заходит о моих религиозных чувствах и поисках мистического, мне приходится слышать от друзей весьма ироничные замечания по поводу моего образа жизни и противоречия между тем, во что я верую, и тем, как живу. Мне дают понять, что в лучшем случае я лицемер, подгоняющий учение церкви под собственные прихоти. Но это не так. Моя личная жизнь такая, какая есть, но мои религиозные убеждения неизменны. Это не означает признания, что я живу в грехе. На этот счет у меня есть сомнения. Меня утешает, что грехи плоти в общем не относятся к смертным грехам, если не приносят никому зла и не сопровождаются насилием или мерзостью.
Мы, флорентийцы, народ, который сумел примирить и соединить гуманизм античности и веру и предания христианства. Наша вера прошла испытание разумом и логикой.
Я был типичным «ленивым католиком», выполняющим необходимый минимум, чтобы не отпасть от церкви, пока автомобильная катастрофа и все, что она за собой повлекла, не заставили меня внимательно взглянуть на свои религиозные порывы. Наверно, это самое положительное в том трудном периоде моей жизни.
Положительное было и во внимании, которое проявили ко мне столько людей: письма, цветы, подарки. Трогательные знаки внимания от друзей, как Ричард и Лиз, но и самые неожиданные, например, огромный букет цветов от «Битлз», с которыми мы почти не были знакомы. Я встречался с ними в 1965 году, когда ставил «Много шума из ничего». Их импресарио Брайан Эпштейн говорил тогда со мной о возможности снять с ними фильм. А теперь я задумался, нельзя ли ввести их каким-то образом, как представителей поколения мира и любви, flower power, в будущую картину о Франциске Ассизском.
Мое общее физическое состояние начинало улучшаться, но все равно я чувствовал себя слабым и беспомощным. И одну за другой упускал ценнейшие возможности. В частности, я был как режиссер номинирован на «Оскара» за постановку «Ромео и Джульетты», но ничего не мог сделать, чтобы его получить. Если хочешь «Оскара», то обязательно надо ехать в Лос-Анджелес представлять фильм и участвовать в рекламной кампании. Поэтому «Ромео и Джульетта» получил только два «Оскара» (более чем заслуженных): за операторскую работу Паскуалино Де Сантиса и за костюмы Данило Донати. Компания «Парамаунт» все равно была счастлива, потому что «Ромео и Джульетта» шел с огромным успехом по всему миру. Мне сразу же предложили очень выгодный контракт на пять лет. И хотя замысел фильма о Франциске Ассизском вызывал у них сомнения, на киностудии хорошо понимали, что — «Оскар» или нет — они имеют дело с режиссером, способным получить за два миллиона вложенных долларов в сто раз больше: «Ромео и Джульетта» собрал их всего за год!
Франциску Ассизскому удалось изменить мир исключительно благодаря твердой вере в то, что зло можно победить без насилия. Благовестие о смирении и мире способно превозмочь нищету и несправедливость, а такой идеал очень напоминал дух и стремления шестидесятых.
После трех месяцев больничной койки я наконец вернулся домой. Это были очень трогательные минуты потому еще, что я смог снова обнять своего пса, сильную и добродушную овчарку-мареммано по кличке Боболи. Данило Донати остроумно прокомментировал эту кличку: «Хорошее имя, непонятно, о чем речь — о собаке или саде, но одинаково хорошо подходит обоим».
Боболи был страшно рад моему возвращению. Несмотря на мое долгое отсутствие, он не сомневался, что я вернусь. Когда меняли белье и несли домой стирать, я специально просил оставлять его на ночь рядом с его подстилкой, чтобы он понимал, что я жив и вернусь. Так и случилось.
Какие все-таки собаки прекрасные создания!
Тут я не могу удержаться и не посвятить им несколько строк, воспеть, так сказать, всех собак мира.
С самого детства при правильном воспитании мы подходим к животному миру с теплом и вниманием, сразу понимаем, что все животные, которых создал Господь, большие и малые, домашние и дикие, делятся на вполне определенные, легко узнаваемые виды: лев это лев, кит это кит, а муха — муха. Сколько на свете разных чудесных бабочек, но все они бабочки.
Разнообразны и породы собак. Пудели, мареммано, терьеры, овчарки… Внешне они такие разные, хотя у всех есть по четыре лапы (лапки, лапочки), хвост и все они умеют лаять. Но самое главное, что их в них общего — любовь. Бог поставил их рядом с нами, чтобы защищать и утешать нас. Многие люди, в чьей жизни и так хватает любви, с радостью принимают этот дополнительный дар.
Как не благодарить провидение за таких чудесных друзей? Что за счастливчики те, кто после рабочего дня (или после короткой отлучки — за газетой, в бар выпить чашечку кофе, в магазин) возвращаются домой, и их восторженно встречает преданный друг, вылизывая руки и даже лицо.
Конечно, взаимная человеческая привязанность очень важна, но рано или поздно с людьми наступает час расплаты. А собака не ждет ничего в обмен на любовь, которую дарит. Ей всего-то и надо, чтобы мы дали себя любить, чтобы быть рядом с нами, думать о нас, когда мы далеко, охранять наш дом и наших близких. Ей хватает не требующих от нас усилий приязни, незначительной ласки. Собаке важно почувствовать, что ее любят.
Прекрасное, благословенное создание!
Я вернулся домой, к своим привычкам, вновь обрел дорогие моему сердцу вещи и домочадцев, но со здоровьем было неважно. В себя я приходил медленно, все время пребывая в подавленном состоянии. Собственно, в этом и заключалась опасность — впасть в депрессию. Моя близкая подруга Адриана Асти, которая часто навещала меня и умела подбодрить и утешить, посоветовала обратиться к человеку по имени Густаво Рол. Но я изначально был настроен против таких контактов и всячески отодвигал решение позвонить, пока однажды не почувствовал себя таким подавленным, что готов был уцепиться за все что угодно.
Я набрал номер телефона, который мне оставила Адриана. Прежде чем я представился и вообще успел открыть рот, услышал, как от старого приятеля:
— Как дела, Дзеффирелли? Что-нибудь случилось?
Откуда ему было известно, что это я, ведь решение позвонить я принял неожиданно? Прошло несколько недель с тех пор, как Адриана говорила мне о нем. Я был немного обескуражен, но рассказал обо всем, что со мной произошло. Человек по ту сторону провода ответил, что ему все известно и попросил прижать трубку к правой стороне лица.
— Да, дела неважные, — сказал он через несколько секунд. — Но вы не волнуйтесь, все наладится.
Я ощутил сильное беспокойство и одновременно непреодолимое влечение к этому человеку, которое никак не мог определить. Мне казалось, что я говорю со старым другом, и он хорошо знает меня и дает мудрые советы.
В самом деле, Густаво Рол вскоре стал важной частью моей жизни — искренним другом и источником добрых советов. Он обладал удивительными способностями и открыл моему разуму возможность видеть смысл происшедшего и выходить за рамки привычного восприятия.
В нем не было ничего особенного. Простой человек, образованный и умный, но ничем не выделяющийся. Он никогда не оставался в одиночестве, вокруг него вечно толпились друзья. У него была хорошая квартира, обставленная антикварной мебелью и украшенная коллекцией раритетов.
Обычно мы садились в гостиной вокруг круглого стола под красивой люстрой. Никакого особенного освещения, чего-то там загадочного — наоборот, яркий свет. Вечера начинались с веселых шуток. Рол показывал невероятные карточные фокусы, и все это с целью создать вокруг нас «положительный заряд», а мы сидели, как дети, с открытым ртом. В одно из первых посещений он сказал:
— Выбери любую карту.
Колода была совершенно новой, еще не распакованной.
— Пиковый туз, — назвал я первое, что пришло в голову. Он открыл колоду, и оказалось, что она вся состоит из пиковых тузов. Пятьдесят два туза! И никакого колдовства. Карты были настоящие, блестящие, новенькие. О веселье и речи не было — мы впали в состояние беспокойства, едва ли не паники.
Мне казалось, что секрет Рола в том, что он пробудил «спящие клетки» мозга, которые есть у всякого, но которыми мы больше не умеем пользоваться — так в свое время объяснял нам в школе профессор Фучини.
Рол был необыкновенно чувствителен к опасности. Помню, однажды в Позитано я купался в море. Али, повар, позвал меня к телефону — срочный звонок от синьора Ролли, сказал он. Я тут же вышел из воды и побежал к телефону, но связь прервалась, и несмотря на все мои попытки дозвониться, поговорить так и не удалось. Остаток дня я провел в ужасной тревоге и наконец вечером дозвонился. Я хотел знать, что случилось. Рол удивился моему волнению и сказал, что не случилось ничего. Потом помолчал и добавил, подумав:
— Но могло случиться. — Он объяснил, что вдруг почувствовал, что мне угрожает страшная опасность, но потом все вернулось на свои места. Чего ж беспокоиться?
Много лет спустя я обратился к Ролу, потому что хотел поговорить с ним о недавно умершем Лукино. В тяжелую минуту мне была очень нужна его помощь. В тот вечер за столом нас было шестеро. Рол раздал каждому по листу белой бумаги, попросил сложить вчетверо и убрать в карман. Затем взял ручку и стал лихорадочно писать на лежащей перед ним бумаге, даже не касаясь ее — в воздухе. При этом он настаивал, чтобы я продолжал думать, о чем хочу спросить Лукино, что хочу от него узнать. По окончании этого странного действа он попросил каждого вытащить листочек из кармана и развернуть. У всех листочки остались чистыми, а мой был весь исписан. Не узнать почерк Лукино было нельзя. Очень часто в письмах, когда Лукино не хватало бумаги, он переворачивал лист и дописывал на полях. У него была привычка подчеркивать отдельные важные слова. Сомнений не было: письмо написано его рукой.
Содержание письма тоже было полно подробностей, о которых знали только мы двое. Я сидел не дыша и смотрел, потрясенный и в то же время умиротворенный, на теплое и заботливое письмо Лукино. В нем звучала радость от общения со мной. Это была чудесная весточка от духа, который пребывает в мире и покое. Лукино редко бывал таким в жизни, и в этом письме было его лучшее «я». Я не понимал, как он любил меня, пока не прочитал это письмо.
Я не мог не верить. Рол обладал невероятными способностями, нам абсолютно недоступными, но никогда не использовал их для получения материальной выгоды. Он мог бы выиграть все призы национальной лотереи или опустошить государственный золотовалютный резерв, но это запрещало некое высшее правило, даже если б он того захотел.
— На что же он живет? — спрашивали многие. Рол был из семьи с достатком, занимался антиквариатом и писал удивительно красивые картины, которые продавал за хорошие деньги. Он сыграл значительную роль в жизни многих людей, даже Альберт Эйнштейн был с ним связан. Но Рол не гонялся за знаменитостями, это они гонялись за ним.
Очень многим он напоминал мне Мать Терезу. По утрам он посещал в больнице умирающих больных и провожал их к последнему рубежу, держа за руку и разговаривая с ними до самого конца.
А письмо… Я читал его и перечитывал, потом сложил и собрался положить в карман, но Рол остановил меня со словами:
— Этого я вам позволить не могу. Прочтите еще раз, выучите наизусть. Я должен его уничтожить.
Он не мог оставлять осязаемые свидетельства своих чудес. То же происходило и с его прекрасными картинами, написанными во время сеансов на белом холсте при полной сосредоточенности. Помню картины Шагала, Пикассо… Он творил невероятное. Но если никакого особого знака от высших сил не было, он уничтожал картины. К счастью, многие существуют до сих пор.
Я долго не решался связаться с Ролом из-за истории с Федерико Феллини, которая очень меня насторожила. Рол порекомендовал Феллини отказаться от работы над проектом фильма «Путешествие Масторны», обработкой на феллиниевский манер дантовского «Ада».
— Не снимай его, по крайней мере, сейчас. Это может оказаться последним фильмом в твоей жизни, — предупредил его Рол. — Не спрашивай почему, я только знаю, что ты не должен его снимать.
Но фильм уже был запущен в производство, достраивалась съемочная площадка. Феллини под большим впечатлением от слов Рола все меньше стремился снимать фильм и даже заболел. Его положили в больницу и, сделав анализы, обнаружили в желудке массу раковых клеток.
— Немедленно перестань работать над фильмом, — настаивал Рол по телефону. Наконец Феллини сдался. Как только он публично объявил, что прекращает работу над фильмом (уже не помню, что за причину он придумал), ему сразу стало лучше. Это подтвердили и рентгеновские снимки. За две недели опухоль полностью исчезла.
Продюсер Де Лаурентис, человек не слова, а дела, разъярился и подал на Феллини в суд, пытаясь доказать, что рентгеновские снимки с раковым образованием были гнусным подлогом. Врачи тоже были поражены и не находили объяснения случившемуся. Но снимки-то оставались, и на них было ясно видно, что опухоль была, а теперь ее нет. И снимки были именно Федерико Феллини, а не кого-нибудь еще. Тем не менее, Де Лаурентис ничего не хотел слышать и выиграл дело, заполучив практически все, что было у Феллини, начиная с его любимого дома во Фреджене.
В результате встреч с Ролом я начал чувствовать себя увереннее и понял, что могу вернуться к работе после целого года перерыва. Я отдавал себе отчет в том, что должен доказать, что несмотря на все испытания, по-прежнему полон сил. Стал готовить «Сельскую честь» и «Паяцев» для «Метрополитенопера».
В театре все меня поддерживали, и дело не стояло на месте. А потом в «Метрополитен» началась забастовка, самая длительная за всю его историю. Я понял, что проклятие черного 1969 года, года ужаса, еще носится в воздухе.
Служащие «Метрополитен» перестали выходить на работу. Всеобщая четырехмесячная забастовка. У меня все было готово, чтобы открыть сезон в сентябре. Это был мой дебют после автомобильной катастрофы. Он означал для меня возможность вернуться в жизнь, несмотря на испытания, которые пришлось вынести. Я трудился как вол, чтобы доказать это. А теперь что? Беспомощно наблюдать крушение всех надежд?
Когда в декабре забастовка закончилась, многих исполнителей уже не было: сроки контракта с театром истекли, их ждали другие обязательства в разных концах света. «Сельскую честь» предстояло снять, ее не было больше в афишах. Но во мне забурлила какая-то невиданная энергия, я понял, что единственное средство победить явно тяготевшее надо мной проклятие — не сдаваться и выпустить спектакль, несмотря ни на что.
В «Паяцах» у нас хоть сохранились два тенора, а в «Сельской чести» состав распался полностью. Я вспомнил, что однажды в Милане Ленни Бернстайн говорил Марии, что хочет поставить «Сельскую честь» с ней. Но мои попытки найти ее не дали результата. Тогда я поговорил с Ленни, со всем пылом объяснив, какую переживаю драму. Он согласился помочь, не раздумывая, и надежда снова забрезжила передо мной. Я бросился к Франко Корелли, который сидел в роскошном номере нью-йоркской гостиницы и поедал жареную картошку. Я убедил его выйти из этого странного затворничества и спеть партию Туридду. Прекрасная певица Грейс Бамбри, привлеченная составом, занятым в опере, взялась исполнить партию Сантуццы. В конце концов образовалась новая труппа, которая намного превосходила предыдущую, — назло темным силам, которые все стремились разрушить.
Овации на премьере оказались лучшим лекарством, доказав мне, что я еще на что-то гожусь. Выйдя на сцену после спектакля, я распрощался со злосчастным 1969 годом и со всем десятилетием, которое принесло много блага и много зла. Я понял, что опера всегда готова прийти мне на помощь, она как дом, куда можно вернуться и почувствовать прилив сил. Прошедшие двенадцать месяцев сделали меня внимательным к тому, что предстояло впереди.
Среди зрителей вместе с Видже был и Пиппо, я получил от его командования специальное разрешение выехать в Нью-Йорк. Мне казалось важным его присутствие в тот момент, когда начинался новый период моей жизни. А Пиппо был золотой дорожкой, на которую я неожиданно ступил и сумел выкарабкаться после аварии. Дар Божий, который остался со мной на долгие годы.
Помню, как однажды Рол мне сказал: «Вы под охраной великих сил. У вас есть кто-то, кто будет всегда рядом». И когда я оборачиваюсь назад и смотрю на то время спустя почти сорок лет, я понимаю, что он хотел сказать.
«Ромео и Джульетта» стал катализатором, благодаря которому в мире возросла концентрация любви. Миллионы молодых и не очень молодых людей узнавали себя в главных героях. А теперь против любви готовились сразиться силы зла. Добро и зло вступили за нее в битву. Вокруг меня в те годы разразилась борьба, как будто я, отвечая за всплеск любви, обязался платить за него и нести наказание, рискуя собственной жизнью.
Это вовсе не заумные рассуждения старикашки с манией величия. Я твердо верю, что оказался на поле брани между двумя великими противниками: один стремился меня уничтожить, а другой этому помешать. Волны добра и зла вокруг меня были очевидны, не заметить их было невозможно.
Давайте вместе вспомним: в тот момент, когда я наслаждаюсь успехом фильма, смертельно заболевает и умирает тетя Лиде. Непосредственно перед вылетом в Лос-Анджелес для получения «Оскара» я попадаю в автомобильную катастрофу и долго лечусь, едва не отдав Богу душу.
Злые силы были побеждены монахами-иезуитами, отцом Аррупе, сэром Теренсом Вардом, который согласился меня оперировать. И наконец, свою лепту внес вошедший в мою жизнь Пиппо. Но, наверно, самым главным был обет посвятить свое творчество Богу при поддержке св. Франциска Ассизского.
Я на самом деле был готов опираться в работе на вновь обретенную веру, но кроме Бога был еще Маммона…
Теперь за фильм я мог требовать высокое вознаграждение, потому что благодаря «Ромео и Джульетте» стал знаменитым и богатым настолько, что это буквально изменило мою жизнь. Такое совпадение заставило меня задуматься, ведь деньги пролились на меня золотым дождем именно тогда, когда понадобились на вполне конкретное дело. Я еще раз убедился, что существует некий высший замысел, в котором мы все призваны принять участие.
Дошел я до этого не сразу, а лишь после долгих раздумий о том, что со мной произошло и продолжало происходить. И только тогда с уверенностью стал утверждать, что ничего не бывает случайно и является частью некой общей идеи.
А теперь к фактам. В мае 1970 года Боб Уллман, ближайший друг Доналда Даунса, возвращаясь в Позитано, погиб в автомобильной катастрофе. Тогда выяснилось, что именно он, а не Доналд, купил виллу у герцогини Виллароза. Доналд не был богат, жил на писательские и журналистские гонорары, и «сейфом» их союза был Боб. После его смерти Доналд унаследовал все, то есть «Три Виллы», наличных же денег было мало. У Боба было много друзей и малых и больших обязательств перед ними, так же как перед верными домочадцами Позитано.
«Три Виллы» были порядочным поместьем, но чем платить налог на наследство? Единственный выход — продать. Одним из первых желание купить выразил Гор Видал[83], который искал дом на побережье.
— Сожгу, прежде чем отдать ему, — ворчал Доналд, который терпеть не мог Видала.
Я предложил Даунсу оценить виллы, чтобы понять, о какой сумме идет речь, потому что гонорара за «Ромео и Джульетту» наверняка хватило бы на покупку. Однако мне не хотелось выгонять Доналда. Мы поговорили, и я сказал, что готов купить, но с условием, что он будет жить там, как и раньше, а я, как прежде, буду приезжать в отпуск. «Три Виллы» должны оставаться его домом, его миром. Доналд поблагодарил меня за чуткость и продолжал жить на вилле среди книг. Но теперь ссориться ему было не с кем и спорить не с кем, некому, подняв глаза от книги, жаловаться на американизацию Италии и на разорение Амальфитанского побережья.
Когда мы подписали все контракты, Доналд неожиданно заявил, что хочет переселиться в Лондон, потому что слишком любит старый Позитано и ненавидит «новый». Добавил, что не желает превращать «Три Виллы» в музей, и убедил меня все переделать по своему вкусу.
Доналд знал, что при моем пристрастии к театральности на «Трех Виллах», в одном из самых красивых в мире мест, я бы развернулся и создал сказочный мир.
У каждой виллы был свой характер. В верхней, Голубой, я сохранил неаполитанский стиль XVIII века, то же сделал в Красной, в которой когда-то жили танцоры Императорского русского балета. Зато обширные залы Белой виллы, которая со своими тремя белоснежными куполами стала центром всего поместья, я решил переделать. Огромное пространство в зеркалах, мраморе и перламутре, а кругом террасы, веранды и сады с роскошной растительностью. Одним словом, рай, и я бросился очертя голову украшать его на свой лад.
Доналд вернулся, когда работы закончились. Он был очень взволнован. Я ждал его на верхних ступенях крутой лестницы, которая вела с дороги на Амальфи к виллам. Доналд был в отличном настроении. Он внимательно разглядел то, что я сделал, потом похвалил, хотя я понимал, насколько ему тяжело принять разрушение мира, где проходила их с Бобом жизнь. В Белом зале он остановился в плохо скрываемом восхищении, но все-таки не удержался от обычной колкости:
— Ну и ну, какая красотища. А когда начало второго акта?
Я без колебаний причисляю Доналда к людям, больше всего повлиявшим на формирование моей личности. То, что я узнал от него, трудно исчислить или определить. Лукино Висконти и маэстро Серафин, которым я очень многим обязан, обучили меня ремеслу, работе. Лукино — творчеству театрального художника и постановщика, то есть рождению замысла и его воплощению. Серафин, со своей стороны, научил меня музыке: как любить оперу, певческий голос и драму, с ним я прошел путь от Монтеверди до высот Верди и Пуччини.
О Доналде я не могу сказать ничего подобного. Он не учил ничему конкретному, но давал свободу учиться самому. А уж будешь ты учиться или нет — дело твое. В краткой беседе он умудрялся несколькими словами не оставить камня на камне от нового «модного» литературного веяния, писателя или музыканта. В одно мгновение последний провал американской внешней политики терял всякое значение. Одним словом, Доналд принадлежал к удивительно неудобным людям, «абсолютным интеллектуалам», которые редко помалкивают, но всегда говорят, твердо зная предмет, и это выводит собеседников из себя. А сколько пищи для размышлений! Он, как правило, прочитывал в день две-три книги, тщательно отобранные из новой или классической литературы. На «Трех Виллах» до сих пор полно его книг. Друзья, приезжая, начинают смотреть на меня с уважением, оценивая качество и широту «моего круга чтения».
Но я забегаю вперед. Сначала расскажу о знамениях, которые я получил уже в первые месяцы 1970 года. Постановка «Сельской чести» и «Паяцев» в «Метрополитен-опера» дали мне надежду, что семидесятые снова принесут мне удачу. Я возвращался в Италию, ощущая рядом свет и тепло Пиппо, — все говорило о том, что вокруг меня снова стали пробуждаться новые могучие силы.
Весной 1970 года Ватикан предложил мне снять фильм-концерт для телевизионной трансляции по всему миру по случаю столетия со дня смерти Бетховена. Папа Павел VI[84], очень внимательный к роли церкви в личном творчестве, предложил мне организовать исполнение «Missa solennis» Бетховена в соборе Св. Петра. От такого поручения поджилки затрясутся у кого угодно. Главный собор христианского мира уже сам по себе зрелище несравненной красоты. Не буду скрывать, что впал в полное смятение, когда стал размышлять, что можно придумать для такого случая.
Меня успокоил сам Папа, с которым, как оказалось, я был знаком еще с далеких первых лет в «Ла Скала». Тогда после репетиций мы часто ходили в церковь Св. Марка, недалеко от театра, где служил архиепископ Монтини, будущий Папа Павел VI. Архиепископ проводил с нами, по его словам, самые приятные часы своего долгого дня и, как любящий и внимательный наставник, всегда мог уловить появление новых искр и источников вдохновения. В 1963 году архиепископ Монтини взошел на папский престол и завершил Второй Ватиканский Собор[85]. Для нас он был тем человеком, которого ждали церковь и весь мир. Воспоминания об этих беседах в миланской церкви Св. Марка, так же как и о церкви Сан-Марко во Флоренции, о моих доминиканцах и профессоре Ла Пира, относятся к одному из самых плодотворных периодов моего становления.
Как-то архиепископ Монтини спросил, как я, флорентиец, очутился в Милане. Ему понравилось, что среди молодых людей, взыскующих «дел Божьих», оказался человек, работающий в театре. А ведь еще недавно церковь относилась к театру как к прямому пути в ад. Архиепископ сразу рассеял все сомнения:
— Господь везде, и служить Ему можно любыми средствами, которые Он вкладывает в руки человеку.
Мы все чувствовали, что где-то в нас жива вера, а он помогал нам обрести ее, идя путем разума. Он обращался к нашему разуму, обладая необыкновенным даром убеждения.
Не предполагал, что еще раз встречу его, уже Папой, когда получил аудиенцию, чтобы спросить совета и рассеять обуревавшие меня сомнения по поводу концерта в соборе Св. Петра. Мне и в голову не могло прийти, например, разместить оркестр и хористов прямо в центре святая святых — Sancta Sanctorum — накрыв подмостками гробницу апостола Петра. Представьте, как я был поражен, когда Папа предоставил мне полную свободу действий.
— Об этом не беспокойтесь, — сказал Павел VI, — ведь это всего лишь сверкающий золотом и мрамором собор, может, даже чересчур сверкающий. — Он вздохнул. — Если бы речь зашла о моем любимом Миланском соборе, я бы, наверно, колебался, боясь нарушить тот духовный накал, которым он наполнен.
Я понял, что собор Св. Петра для него скорее место представления, чем место молитвы, эдакий Большой театр христианства. Папа переглянулся со своим верным помощником монсеньором Макки и пробормотал:
— Может, в Милане и не нужен бетховеновский гений, чтобы ощутить присутствие Божие.
А монсеньор Макки ностальгически поднял глаза к небу.
Итак, я получил карт-бланш и принялся за работу.
Как обычно, в работе я исходил из главной идеи. На сей раз это был союз Бетховена и Микеланджело — гений и грандиозность, ибо никакая другая музыка не может так близко подойти к апокалиптическим видениям Микеланджело. Идеальное сочетание: таинственность и нежность белоснежного мрамора «Пьеты» и ужасающее, приводящее в дрожь видение Страшного суда, вызов тому, что ты есть и что ты чувствуешь, когда на тебя обрушивается сверхчеловеческая стихия звуков.
Благодаря концерту я познакомился с человеком, который невероятно обогатил мою жизнь: потрясающий тенор, восходящее светило Пласидо Доминго. Тогда мы впервые работали вместе.
Мне разрешили целую ночь снимать в Сикстинской капелле. Кинокамерам было под силу снять все детали легендарной фрески, не доступные глазу. Мы работали молча, понимая, что нам оказана высокая честь. Я стоял в одиночестве посреди Капеллы, окруженный Искусством и Историей, и вдруг ощутил потребность услышать музыку Бетховена. Включили запись оркестра Герберта фон Караяна.
Это самое сильное впечатление за всю мою жизнь. Мы были потрясены, перед нами свершалось чудо: Бог действительно вернулся в собор Св. Петра.
XVI. Лапша, пельмень и кулич
Работы в Позитано продолжались, и уже весной я мог пригласить друзей. Одним из первых там провел отпуск Леонард Бернстайн с семьей. Все мои мысли тогда занимал фильм «Брат Солнце, сестра Луна» о Франциске Ассизском, и было очевидно, как важна в этом фильме музыка. Я подключил к работе Ленни, дал ему прослушать оригинальные францисканские песнопения, которые собрал мой друг Альфредо Бьянкини. Это были потрясающие Кортонские гимны, хорошо известные только специалистам. А еще был сборник Laudi (Хвала), которые Франциск очень любил, потому что в их основе лежали песни провансальских трубадуров. Возможно, мадонна Пика, выходя замуж за Пьеро Бернардоне, отца Франциска, привезла из родного Прованса не только солидное приданое, но и любовные песни трубадуров. Мадонна Пика наверняка пела их маленькому Франциску, и они навсегда запали ему в душу. Когда возникла маленькая община бедняков, одной из первых заповедей святого стало петь радостные песни. Так вернулись к жизни песни мадонны Пики, но с новыми словами хвалы Богу, написанными самим Франциском, гимн любви к Богу и Его творениям.
Ленни буквально влюбился в них и посоветовал для создания музыки к фильму с мелодиями из Laudi пригласить поэта и певца Леонарда Коэна. Впоследствии, когда мы уже приступили к съемкам, Леонард не смог с нами работать. К счастью, рядом оказался прекрасный исполнитель в стиле фолк Донован, который и написал музыку, основанную на древних Laudi. Гимн св. Франциска стал очень популярным, его поют в церкви и на собраниях с неизменным успехом, в аранжировке — без моего согласия — Рица Ортолани и его жены Катины Раньери, похитивших главную музыкальную тему. При мысли об этом я всякий раз прихожу в неистовство.
Что касается сценария, то я заручился сотрудничеством двух лучших итальянских сценаристок — Лины Вертмюллер и Сусо Чекки Д’Амико, последняя — друг и любимая писательница Лукино. Но поскольку речь шла о международном фильме, мне необходимо было участие англоязычного сценариста. Вот тут и начались первые неприятности: найти английского писателя, способного рассказать историю и составить диалог в соответствии с нашими требованиями, оказалось практически невозможно.
Английская культура видит Франциска Ассизского на протестантский манер, как революционера долютеровского периода, который боролся против папства, натравливал бедных на богатых, униженных на сильных мира сего. А Франциск хотел совсем не этого. Несмотря на невероятный успех его проповедей и множество последователей, он и не думал вступать в конфликт с церковью и всегда смиренно заявлял о полном послушании Папе Римскому, наместнику Бога на земле. То есть никаких революций, никаких расколов. Смирением Франциск спас себя от костра, а церковь от распада.
Вместе с Линой и Сусо мы написали историю обращения этого удивительного юноши. Нам пришлось продолжать самим и создать итальянскую историю или, скорее, историю на итальянский лад.
Во время этого адского труда я еще лелеял надежду убедить «Битлз» принять участие в фильме. Я часто бывал у них, когда заставал на месте. Мы говорили о проекте, но всегда на бегу и среди страшной суеты, которая их окружала. Всем нравилась моя идея рассказать историю Франциска Ассизского как юноши, который сам уходит из общества и оставляет богатство и семью, чтобы, живя на свободе, петь хвалу Богу через Его творение. Мне показалось, совместная работа их заинтересовала, а импресарио Брайан Эпштейн очень горячо поддерживал проект.
Моя основная идея (пресловутая первичная идея): Франциска окружают, щебеча как птички, четверо друзей. Я на ней настаивал, и факты впоследствии показали, что я был прав — очень выигрышный был вариант.
В конце концов «Битлз» решились. Я во что бы то ни стало хотел получить окончательное согласие и приехал к ним, когда они записывали на студии в Твикенхэме «Белый альбом». Но, по-видимому, упустил случай. Потрясенный тем, что видел и слышал — их записью, я совсем забыл, зачем приехал и что мне от них надо. Все время в студии я находился в состоянии полного экстаза, с восторгом наблюдая за четырьмя молодыми людьми, которые, казалось, не работают, а играют, опьяненные счастьем.
Поговорив с Брайаном, я спустился на землю: при всем желании они никак не могли выкроить время на съемки, и это была горькая правда. В лучшем случае я мог заполучать их аптекарскими дозами: три дня здесь, выходные там, и без всякой гарантии окончания работы. Даже «Парамаунт», которая мечтала ввести «Битлз» в фильм, отказалась от этой мысли и убедила отказаться меня.
Мы с Сусо и Линой продолжали работать над сценарием. Нам помогал обаятельный и остроумнейший американский журналист Юджин Уолтерс, который немало способствовал тому, что сценарий получился веселым и легким.
На маленькую, но очень важную роль Папы Иннокентия II я сразу пригласил Алека Гиннесса, однако при выборе актера на роль Франциска столкнулся с большими трудностями. Во время очередного приезда в Нью-Йорк Теннесси Уильямс повел меня на свою комедию «Camino Real» и показал блестящего молодого актера, умного и открытого — Аль Пачино. Он действительно очень напоминал итальянца, а в лице у него было что-то то ли византийское, то ли раннехристианское, и пара огромных сияющих черных глаз. Я попросил «Парамаунт» направить его в Лондон для проб.
К сожалению, быстро стало понятно, что кино еще не вошло в мир Аль Пачино. Ему предстояло учиться и учиться, чтобы привести свой искрометный стиль в соответствие с требованиями кинематографа. Вся его энергия, которая в театре била через край, перед камерой работала вхолостую и производила странное, если не смешное впечатление.
Мне было очень жаль отправлять актера обратно в Нью-Йорк, не воспользовавшись его талантом. Когда мы расставались, я откровенно сказал ему, в чем дело. Он не понимал секрета кинокамеры, но я был уверен, что когда он овладеет им, перед ним откроется блестящая карьера. И оказался пророком. Я передал его кинопробу Френсису Форду Копполе, который готовился к съемкам «Крестного отца», и он сразу же дал ему одну из главных ролей.
В основном мы снимали «Брат Солнце» в Ассизи, Сан-Джиминьяно, Губбьо и на Сицилии, в великолепном соборе, целиком покрытом золотой мозаикой, который прекрасно изображал древний собор Св. Петра, стоявший ранее на месте построенного Микеланджело. Блеск золота оттенял бедность и лохмотья Франциска и его товарищей в той сцене, когда они приходят к Папе за разрешением на основание нового ордена, за который Франциск так болел душой.
Как ни странно, проект, полный благих намерений, не раз натыкался на неожиданные препятствия. Кто-то говорил мне, что св. Франциск, пророк любви и доброты, известен как трудный и неподатливый святой. Первую часть жизни, о которой шла речь в нашем фильме, он прожил в бедности и простоте, в гармонии с природой, а в последующие годы, обратившись к поиску духовности, враждебной всему материальному, вообще стал вести жизнь аскета. Может быть, поэтому у него репутация святого, который не хочет, чтобы его «трогали».
Говорят, всякий раз, когда кто-нибудь намеревался делать о нем фильм, возникали внезапные трудности. Досталось и нам. Мы собирались снимать в Тускании, в красивой романской церкви Св. Петра, но за несколько дней до начала работы сильное землетрясение (всего за время съемок мы насчитали их восемнадцать!) обрушило алтарный выступ, и пришлось подыскивать другой собор.
На Сицилии у автобуса, который вез съемочную группу, на крутой извилистой дороге отказали тормоза. Автобус с сорока рабочими чудом удержался над пропастью — передние колеса крутились в воздухе. Надо отдать должное этим людям: они не запаниковали и спокойно вышли по одному, никто не погиб. Не буду перечислять разного рода задержки и происшествия, которые постоянно возникали на нашем пути. Наконец мы просто перестали обращать на них внимание.
Фильм вышел в Италии на Пасху 1972 года и до сих пор считается одной из самых удачных моих работ. Это естественно, если учесть, что итальянские зрители — католики и обожают своего святого. Но как примут этот фильм за границей, в англосаксонской культуре? Ведь я не сделал ничего, чтобы примирить протестантов с личностью св. Франциска и его учением.
Я решил, что если они не примут фильм, то им же хуже. Мое прочтение персонажа соответствовало тому, что испытывает каждый в глубине души, что пробуждает любовь к природе, а для меня она отождествлялась с любовью к тосканской деревне моего детства, с Эрсилией. Я не собирался мудрствовать или использовать культурно-исторический подход, как было модно в те годы, ибо это совершенно не годилось для такой фигуры, как Франциск, простой и чистой.
Когда фильм был закончен, я увидел, насколько он глубоко уходит корнями в шестидесятые. Тогда поколение детей-цветов вышло на улицы протестовать против войны во Вьетнаме, жгло американские флаги и вступало в стычки с полицией. Ярость и насилие захлестнули Париж во время студенческих волнений мая 1968 года. «Брат Солнце, сестра Луна» явился в какой-то мере противовесом жестокости, охватившей мир, призывом к братству, миру, любви, которым учил Франциск Ассизский. Когда на Рождество картина вышла на экраны в Америке, я не ждал положительной критики и не ошибся. Но у простых людей успех был грандиозным, и фильм, судя по всему, остался популярным и любимым до наших дней.
Пиппо работал над фильмом как мой ассистент и тоже добился значительных успехов. Сначала я думал, что он просто хочет «поиграть в новую игру», и не ожидал столь серьезного отношения.
В те годы у меня было также множество театральных и оперных проектов. И впрямь, с начала семидесятых моя жизнь и карьера пошли по доброму пути.
Не успел фильм выйти на экраны, как Лоуренс Оливье и его жена Джоан Плоурайт пригласили меня к себе в Брайтон поговорить о новой постановке в Национальном театре. Мы с Ларри были очень дружны со времен его краткой работы над «Ромео и Джульеттой» — он его дублировал. Когда мы снимали, он находился в «Чинечитта» и при каждой возможности забегал на площадку, с любопытством поглядывая на этих «итальянских вандалов», которые, не имея никакого опыта, замахнулись на экранизацию самого Шекспира, тогда как сниматься и снимать по Шекспиру было его священным правом. На этот раз он хотел найти для Джоан серьезную роль, подходящую ей по характеру и актерскому дарованию.
Они жили в Брайтоне в двух соединенных между собой очаровательных домиках эпохи короля Георга — семья росла, требовалось больше места. После ужина мы остались за столом и разговорились. Я знал, что Ларри любит трюфели, и привез их из Италии. Неожиданно он разыграл блестящую комедию, в которую втянул всех присутствующих. Он бесконечно кланялся, благодарил меня за грибы и, поедая их, стонал от счастья. Слово «трюфель», видно, задело какую-то струнку его воображения, напомнило Мольера[86] и комедию дель арте. Он на ходу стал сочинять пьеску на итальянский манер, где главное действующее лицо — антигерой Тартюфа, а остальные собраны из итальянской кухни!
Ларри довел роли до совершенства, придумал голоса, жестикуляцию и особую выразительную речь каждому персонажу. Центром развеселой и сложно скомпонованной «сборной солянки» была очаровательная девица Лапша со своей хитроумной служанкой Фри-картошечкой. Тартюф — трюфель — был влюблен в Лапшу, дочь старого Кулича, и даже передать не могу, какие страсти разгорелись вокруг нее, ведь было еще три воздыхателя — Рис, Пельмень и Вареник![87]
Страшные беды обрушились на их головы по вине неаполитанского доктора Макарона и интригана-священника Дона Равиоло. От такой интриги только слюнки текли! Мы неожиданно оказались посреди комедии, и она захватила нас. Чтобы попышнее разукрасить сюжет, я предложил ввести трех воздыхателей-иностранцев: графа Фуа-Гра, лорда Осетра и русского князя Владимира Икрова. Ларри с радостью воспринял новых персонажей, кошмарный акцент помогал создать клише, а дальше — импровизация во всем!
Как я жалел, что в тот вечер у меня не было с собой маленькой камеры или хотя бы магнитофона. Комедия, которую Лоуренс Оливье придумал и разыграл при виде белого трюфеля из Альбы, стала бы не меньшим достоянием истории, чем его лучшие роли.
Я лег поздно, в голове вертелись всевозможные мысли… Потом провалился в самый мягкий на свете матрас и блаженно заснул. Утром меня разбудила загадочная личность, которая явилась в комнату для гостей с завтраком. Я еще не до конца проснулся, и мне почудилось, что нахожусь в театре во время сцены пробуждения Джульетты, а вокруг меня скачет полоумная кормилица и весело щебечет:
— Синьора! Душенька моя! Невеста!.. Выспаться вперед решила… Нынче ночью уж граф Парис себя побеспокоит, чтоб отдыха тебе не дать… Уж он сумеет вас поднять, не так ли?[88]
Я наконец сообразил, где нахожусь. Странной кормилицей был Лоуренс Оливье, в пижаме, домашних тапочках, длинном халате и с полотенцем на голове, завязанным под подбородком, на старинный манер.
Он подскакал к окну и распахнул занавески. Кумир моего детства, Гамлет и Генрих V, герой «Ребекки» и «Грозового перевала» играл для меня одного в честь начала нового дня!
В то лето семейство Оливье приехало погостить в Позитано в полном составе, чтобы отдохнуть и поближе познакомиться с «миром Эдуардо»[89], поскольку мы решили ставить в Национальном театре его комедию «Суббота, воскресенье, понедельник». Раз они уже были на месте, я решил осуществить давнишний план — маленький театральный фестиваль для Позитано. Ларри и Джоан согласились, и фестиваль родился. Весть о том, что лучший исполнитель шекспировских ролей и его не менее знаменитая супруга будут выступать на фоне изумительных красот Позитанского залива, распространилась мгновенно. Принять участие в фестивале захотели многие, и актеры потянулись со всей Италии.
Уж не знаю, что произвело на меня большее впечатление, — сам ли спектакль, величественное ли звучание шекспировских строк под звездным небом или встреча Ларри и Эдуардо. Они оба были самыми яркими светилами своих галактик, и дух захватывало при виде того, как они светски общаются, избегая столкновений, — их разговор не выходил за рамки формальной любезности и театральной болтовни.
Когда мы с Ларри и Джоан возвращались на лодке домой, я спросил, как ему понравился Эдуардо.
— Старый сукин сын, вот он кто! — ответил Ларри, подтвердив тем самым, что встреча прошла на ура и они стали друзьями.
Уже в самом конце лета в «Три Виллы» приехал Доналд, и мне снова пришлось пережить ситуацию двадцатилетней давности. Когда-то на острове Искья Лукино получил известие, что у моего отца инсульт, и пришел звать меня, когда я плавал в море. Теперь Доналд дождался, пока я выйду из воды, чтобы сообщить, что то же самое случилось с Лукино. Это произошло накануне вечером в Риме, когда Лукино был на ужине в отеле «Эден» с Сусо Д’Амико. Он прекрасно себя чувствовал, но вдруг с него градом покатился пот, он побледнел и упал. Стало понятно, что положение серьезное. Позже выяснилось, что у него уже было несколько микроинсультов, но он их скрывал. Что это было: страх, трусость, фатализм? Он сразу попросил сестру позвать меня, и я немедленно отправился в Рим, потрясенный случившимся.
Он лежал в клинике «Розария». Уберта, его сестра, предупредила меня, что Лукино трудно успокоить. Мне не удалось скрыть потрясение, когда я увидел его на подушках, слабого и беспомощного, почти рыдающего. После удара у Лукино была немного нарушена координация движений, он не мог сосредоточить взгляд и растерянно водил глазами.
Картина была особенно тяжелой еще и оттого, что он, прилагая титанические усилия, делал вид, словно ничего не произошло, и разговаривал так, будто речь шла о новом проекте или увеселительной поездке. Я пытался, как мог, поддерживать эту иллюзию, и встреча прошла очень тепло, просто как зеркальное отражение его приезда ко мне в больницу в Орвьето.
Было решено перевезти его в специализированную клинику в Швейцарии. Я все время писал ему и звонил. В сентябре я поехал в Венскую оперу готовить новую постановку «Дон Жуана». Эта опера всегда наводила меня на мысль о Лукино. В великом Висконти было много от легендарного Дон Жуана: мужественность, обаяние, настойчивость, властность и всепоглощающая разрушительность. Меня всегда удивляло, что Лукино за всю жизнь ни разу не обратился к «Дон Жуану».
Следующая постановка — «Бал-маскарад» под управлением Джанандреа Гаваццени с Доминго в главной партии — открывала сезон 1972 года в «Ла Скала». Недалеко от озера Комо находилась фамильная вилла Висконти, где жил полупарализованный Лукино. Едва вернувшись из Вены, я поехал к нему вместе с Пиппо. Странно было вновь видеть прекрасный регулярный парк XIX века, оказавшись на вилле Эрба в Черноббио по такому грустному поводу.
Проходя к цветущей террасе, куда вывезли на коляске Лукино, я увидел на подъездной аллее шикарный «роллс-ройс». Позже Уберта рассказала мне историю покупки этого великолепного автомобиля. Лукино с его заболеванием нужна была удобная и просторная машина, но когда он заявил, что хочет именно эту, сверкающую «Silver Wing», все были слегка обескуражены. Он ничего не желал слышать: «Эту или никакую!»
Выезжая на таком роскошном автомобиле, Лукино хотел по-прежнему в глазах всего мира быть первым, лучшим, способным на любые действия. Сестры не решались на покупку. Братья сказали, что и думать об этом нечего. Тогда Лукино, узник инвалидной коляски, потрясая палкой, стал в ярости метать громы и молнии. Сцена закончилась оскорбленным выкриком: «Никогда в жизни я ничего у вас не просил и ничего от вас не имел. Неужели вы откажете мне в этой малости?»
Ничего не просил? Ничего не имел? Этот человек своим образом жизни и бешеными расходами на театр довел семейство Висконти до разорения, а теперь заявлял, что никогда ничего не просил! Ах, Лукино, Лукино… В результате он-таки получил вожделенный автомобиль и до конца своих дней жил, как король.
Но кроме капризов, к Лукино действительно стали возвращаться силы. Обладая потрясающей жизненной энергией, он, несмотря на инвалидную коляску, с энтузиазмом возобновил работу в театре, кино, опере. Как в лучшие годы…
Моя постановка «Бала-маскарада» в «Ла Скала» дала мне еще одну приятную возможность работать с Пласидо Доминго, с которым мы познакомились на концерте в соборе Св. Петра. Теперь он был самым знаменитым тенором мира.
В это время мой агент Деннис ван Таль позвонил из Лондона и сказал, что я первый в списке режиссеров для постановки телевизионного фильма о жизни Христа, который предполагается показать по всему миру. У этого проекта было все в порядке с финансированием и неограниченные возможности для производства, и Деннис настаивал на его важности. Он ждал, что я буду прыгать от радости, но я встретил это предложение с большим сомнением, даже, скорее, в штыки. Мне казалось, что данный в больнице обет потрудиться во имя идеалов веры уже полностью выполнен. У меня в голове были совсем другие планы, например, «Ад» Данте.
И было даже страшно подумать, как можно экранизировать жизнь Иисуса. Я еще не отошел от моральной усталости после «Брата Солнце» и малоприятных отзывов английской и американской критики. Что, дать им еще одну возможность попировать на моих костях? А с другой стороны, нельзя забывать, сколько радости принесла мне эта картина. С тех пор как она вышла, дня не проходило, чтобы ее где-нибудь не показывали, и всегда с успехом.
Я часто вспоминаю такой эпизод: я был в Рио на премьере фильма, и меня пригласили заехать в Перу на обратном пути в Лос-Анджелес. По техническим причинам самолет прибыл в Лиму с пятичасовым опозданием. Было одиннадцать вечера, и я не думал, что кто-нибудь меня еще дожидается, но увидел сцену, которая одновременно удивила и растрогала. Многотысячная толпа терпеливо ждала моего прибытия с горящими свечами и пела в знак приветствия гимн Франциска. «Брат Солнце» стал тем, что принято теперь называть культовым фильмом.
Однако мысль о новом фильме на религиозную тему, да еще о самом великом герое, об Иисусе, совершенно меня не привлекала. Я предложил своему агенту выкинуть все это из головы, сказал, что снимать не буду, и занялся другими проектами. Их было немало — театр и опера по всему миру и «Ад».
Чем бы я в то время ни занимался, о чем бы ни думал, мои мысли по-прежнему занимала Каллас, я все время ощущал горький привкус нашего разрыва. Как и все ее друзья, я тревожился о ней: она исчезла, не выходила из дому, не отвечала на телефонные звонки. Любая связь поддерживалась через пренеприятную греческую пианистку Вассу Деветци, которая утвердилась при Марии и стала главным человеком в ее жизни.
В Рим приехал новый директор «Ковент-Гардена» Джон Тули, и мы заговорили о возможности вернуть Марию в театр, где она так успешно пела в «Тоске». Я уже давно вынашивал идею специально для нее — «Коронацию Поппеи» Монтеверди с постановкой на площади Капитолия в Риме. Поговорив об этом с мэром Рима, сразу получил его согласие и обещание всяческого содействия. Для возвращения Марии на сцену лучшего и придумать было нельзя. Мы могли поставить оперу в Риме, затем, при участии Тули, — в Лондоне, а вслед за этим в «Ковент-Гардене» осуществить новую грандиозную постановку «Веселой вдовы» Легара. Мы знали, что связаться с Марией нелегко, и попросили помощи у Мишеля Глотца, ее агента и близкого друга, но, увы, и его звонки фильтровались бессменной Деветци.
Оказавшись в Лондоне, я предпринял несколько попыток поговорить с Марией по телефону. Безуспешно. Тогда я с сильным провинциальным акцентом попросил позвать Бруну, служанку Марии, представившись ее братом. На звонок, как всегда, ответила вездесущая Деветци. Я сказал, что мне срочно надо поговорить с сестрой по неотложному семейному делу. Деветци с подозрением выслушала меня, задала массу вопросов, но в конце концов решилась подозвать Бруну. Я сразу попросил Бруну не выдавать меня и передать Марии, что мне непременно надо с ней увидеться, и оставил свой лондонский телефон.
На другой день Бруна позвонила и осторожно прошептала, что Мария завтра придет в кафе в Булонском лесу. Она добавила, что они с Марией ходили на «Брата Солнце», и обе очень плакали, мой фильм их необычайно тронул. На следующее утро я сел в самолет и, наверно, впервые в жизни вовремя пришел на место встречи. Мария появилась через пятнадцать минут, бледная и напряженная, но очень элегантная в костюме от Шанель и темных очках.
Она вела себя непринужденно, как будто мы продолжали прерванный пару дней назад разговор: очень хвалила «Брата Солнце», болтала о предстоящих поездках и ежедневных вокальных упражнениях. Потом неожиданно спросила, что мне от нее надо. Зная о ее нежелании говорить о работе, я призвал на помощь все свое мужество и очень осторожно стал описывать наш с Тули новый проект. Она посмотрела на меня как на полоумного и сказала:
— Какой же ты еще молодой! Я и представить не могла, что ты такой молодой!
— Да что ты говоришь? — подыграл я со смехом. — Мы же одногодки. Я даже старше, я февральский, ты декабрьская. Раз я молодой, то и ты тоже. У нас впереди большое будущее!
Этот всплеск подогрел нашу старую дружбу. Она заметила, что если вернется на сцену в «Поппее» (хорошее название!), все скажут, что у нее не осталось голоса на великие роли и приходится перебиваться речитативом, где много говорят и мало поют. И возмущенно рассмеялась, когда речь зашла о «Веселой вдове»:
— Франко, давай говорить серьезно, — сказала она. — За кого ты меня принимаешь, за шансонетку?
Я стал умолять ее всерьез подумать над предложением, напомнил, что так было вначале и с «Тоской», что она отдает себя в любящие и заботливые руки. На этом разговор закончился, но она обещала позвонить перед отъездом в Грецию.
— Где ты завтра? — спросила она.
Я замялся:
— Не уверен, но думаю, что в Риме.
Мария рассмеялась:
— Тебе не надоело крутиться как волчок по всему миру? Счастливчик.
Прощаясь, я без обиняков спросил о Деветци и компании:
— Что это за люди? Кто эта неприятная гречанка?
Ледяная пауза.
— Это моя компаньонка. Рядом со мной еще никогда не было более преданного и терпеливого человека.
Я не оставил реплику без ответа.
— Рад этому, но это не основание для того, чтобы позабыть всех друзей и заставлять меня прибегать к школьным уловкам, чтобы с тобой поговорить. — В ее глазах заиграла улыбка. Я продолжил:
— Твои друзья обеспокоены и обижены. Из-за этой женщины до тебя не добраться.
— А ты скажи моим друзьям, что я им больше не игрушка. Те времена прошли, — зло сказала она.
Мне это очень не понравилось.
— Я говорю о людях, которые ради тебя готовы на все. Они стремятся к тебе только потому, что любят. Мы очень, очень беспокоимся.
Мария не ответила, подозвала знаком шофера Ферруччо и уехала, помахав на прощанье перчаткой.
Когда она на другой день позвонила мне в Рим, я ушам своим не поверил. Она много думала насчет «Поппеи».
— Как жалко, что там только одна ария и дуэт для главной героини. Может, можно добавить еще музыки из какой-нибудь другой оперы Монтеверди?
Мы пустились в разговор, как много лет назад, и вдруг она сказала:
— Обязательно в Риме? Жаль. Я поклялась, что ноги моей не будет в Италии, пока Папа не даст мне разрешения на развод с Менегини. А мы, греки, выполняем клятвы.
На этом все закончилось.
Следующее лето я провел в Позитано с Лайзой Миннелли, с которой собирался ставить фильм по «Даме с камелиями». Лайза не прожила интереса к картине «Много шума из ничего» по моей театральной постановке, а роман Дюма ее вдохновил. Мне хотелось показать эту романтическую героиню как вполне конкретную женщину конца прошлого века: ночную бабочку, бессовестную, с низменными страстями, замешанную в колоссальном политическом скандале вроде дела Дрейфуса. Продюсеры поняли, что речь пойдет об эротическом фильме, и очень воодушевились. Но это не годилось ни для Лайзы, ни для меня, и замысел так и не был реализован. В том же году рухнул проект фильма по «Аду» Данте, да и остальные один за другим тоже куда-то подевались.
Казалось, какая-то таинственная сила решила во что бы то ни стало расчистить мне пространство для движения только в одном направлении. Наверно, кому-то я могу показаться большим выдумщиком по части судьбы и оккультных тайн, но я не мог не искать объяснений, почему столько прекрасных идей обращается в ничто. Тем временем мой агент настойчиво возвращался к телевизионному фильму об Иисусе. Ветер удачи 1970 года сменился полным штилем. Надежды на проект с Марией тоже увяли. По каким-то непонятным причинам все шаталось и рушилось. Чудом уцелела пьеса Эдуардо «Суббота, воскресенье, понедельник» в Национальном театре в Лондоне.
С первого дня репетиций я понял, что нельзя воспроизводить настоящую неаполитанскую атмосферу с английскими актерами, не рискуя создать грубую карикатуру. Ларри уже начал пародировать итальянский акцент, симпатичный, но заразный — и вскоре весь театр заговорил, как итальянские мороженщики из Сохо.
Нет, этому карнавалу пора было положить конец. А это означало, что начинать нужно с самого Оливье. Великие актеры, как он, впитывают идеи, перерабатывают их и выносят наружу в словах, жестах и выражениях, которые инстинктивно отождествляют со своим будущим персонажем. Переделывать их бесполезно, но можно многого добиться, идя окольным путем. Игра нелегкая, а Ларри был настоящий старый жулик — благодарил за совет, нахваливал интуицию, выражал признательность за помощь, а потом делал, как хотел. Неопытных режиссеров такие колоссы могут просто раздавить.
Наконец мне удалось освободить спектакль от всякой пародии на неаполитанский акцент. Решающим стал следующий аргумент: актеры ведь не играют Чехова с русским акцентом, а Мольера с французским «р» и носовыми сонорными. К Эдуардо тоже следует проявить уважение, тем более что они будут большими неаполитанцами благодаря характерным жестам и общему облику. А чтобы создать настоящую атмосферу Неаполя, я прибег к оригинальному способу: поставил посреди сцены гигантскую кастрюлю, в которой варилось настоящее итальянское рагу. Запах помидоров, лука, чеснока и орегано долетал со сцены до самых дальних уголков «Олд-Вика».
Я был целиком поглощен репетициями в Лондоне, когда узнал, что Анна Маньяни умирает от рака в больнице. Я снова обратился к Биллу Кагану, который так помог мне с тетей Лиде. Он только что женился на Грейс Мирабелла, главном редакторе американского издания журнала «Vogue», и проводил медовый месяц у меня в Позитано. Мне не хотелось его беспокоить, но пришлось попросить позвонить в больницу в Рим, чтобы удостовериться, что для Анны делается все возможное. Он сделал большее: поехал в Рим и лично все проверил, но, увы, надежды не было никакой — неоперабельный рак поджелудочной железы, Анне оставалось совсем немного. Я в последний раз поговорил с ней по телефону.
— Настало время… — начала она, но голос пропал, трубку взял сын и сказал, что ей очень плохо и говорить Анна не в состоянии.
Прервав репетиции, я полетел в Рим на похороны. Она и мертвой выглядела такой, какой я знал ее при жизни, — непобежденная женщина, дерзкий символ Рима.
Я вспомнил, как мы виделись в последний раз несколько месяцев назад. Она позвонила и сказала, что хочет меня повидать и поужинать вдвоем, чтобы никто не мешал спокойно говорить. Но в тот же день, чуть позже, раздался еще один звонок. Мария Каллас, которая тогда впервые выступала как постановщик «Сицилийской вечерни» в туринском Королевском театре, просила совета. Это был ее первый опыт, и она не знала, с какого боку подойти к постановке.
— Понимаешь? — говорила Мария, вздыхая. — Я всегда пела на авансцене. А что вы, режиссеры, придумывали у меня за спиной, мне и видно не было. Теперь мне предстоит это выяснить, и я не стесняюсь просить помощи.
Я предложил ей вместе поужинать и, только повесив трубку, вспомнил об Анне. Предстоял чудовищный вечерок: один посреди двух див, и ни одна не подозревала о приходе другой. Я помолился всем святым и приготовился к худшему. Первой появилась Анна, в отвратительном настроении, но воспряла духом, увидев, что больше никого нет. Мне пришлось сразу сказать, что вот-вот придет Мария, и она напустилась на меня:
— Ах ты такой-сякой, тебе нельзя доверять, — кричала она. — Тебе надо было привести именно эту выдохшуюся гречанку?
Меня так и подмывало сказать ей, что сердиться впору Марии, потому что ей придется сидеть за одним столом с «этой итальянской старой сукой». Но я промолчал, надеясь на лучшее.
Мария, услышав, что за ужином будет Анна, очень обрадовалась.
— С удовольствием с ней повидаюсь, — воскликнула она.
При встрече она обняла ее с теплой улыбкой:
— Я видела все ваши фильмы. Глядя на вас, можно только учиться и учиться.
Для Анны смиренный и восторженный тон Марии был полной неожиданностью.
— Спасибо, спасибо… Это вы великая актриса, а я так, стараюсь как могу.
Так начался бальный танец, пантомима двух тигриц, кто из них скромнее и смиреннее. Все шло как нельзя лучше, но мы еще не перешли к столу. Кто из них должен сидеть от меня справа? Вот вопрос! Я дождался, что Анна вышла попудрить нос, и сказал Марии:
— Знаешь, Анна намного старше тебя. Мне придется посадить справа ее.
— Конечно, ее, — твердо ответила Мария.
Весь вечер они проболтали друг с другом. Всякий раз, как я делал попытку вступить в разговор, они махали рукой в мою сторону, мол, помолчи. В конце концов я развеселился и в полном молчании слушал их беседу, от изумления разинув рот. Просто волшебство какое-то: никогда еще две женщины не ладили так между собой.
Уехали они вместе и были дружны до конца дней, которые для обеих оказались слишком короткими.
XVII. Иисус — наш!
Лондонская постановка «Субботы, воскресенья, понедельника» имела такой успех, что по окончании сезона в «Олд-Вике» Лью Грейд увез ее в один из своих театров в Вест-Энде. Лью был продюсером фильма о жизни Иисуса Христа. Идея картины родилась на итальянском телевидении, и оно обратилось к Грейду как главе ITV с предложением совместного производства. Ранее итальянские продюсеры предполагали отдать постановку фильма Ингмару Бергману и выплатили ему солидный аванс. Непонятно по какой причине, Бергман решил положить в основу фильма весьма спорную книгу Казандзакиса «Последнее искушение», в которой Иисус и Мария Магдалина разве что не любовники; это привело в большое недоумение даже самых ярых поклонников Бергмана на итальянском телевидении.
Лью обладал потрясающим чутьем на успех. Он добился аудиенции у Папы Павла VI и получил imprimatur[90] на весь проект, после чего взял производство фильма на себя. При этом Грейд стал всячески настаивать, чтобы создание фильма было отдано мне. Мы испытывали друг к другу глубокое уважение после успеха комедии Эдуардо и ковент-гарденской «Тоски» с Каллас, по которой за несколько лет до этого сняли фильм (увы, не до конца), хотя меня в поведении Грейда поражали две противоположные черты. С одной стороны, он был откровенен до грубости: «Не ты, так кто-нибудь другой», с другой — относился к проекту с трогательным воодушевлением. Он меня и убедил — еврей, с такой страстью призывающий вспомнить о традиционных христианских ценностях в наше время нравственного упадка!
Поскольку фильм был рассчитан не менее чем на шесть часов, нам предстояло рассказывать о жизни Христа не спеша и не на голливудский манер, хотя Голливуд тоже принимал участие в проекте. После встречи с Лью Грейдом я стал размышлять, как осуществить такой грандиозный проект.
Я часто задумывался о своем призвании к воссозданию священного в кинематографе, над тем, чего мне стоил фильм «Брат Солнце, сестра Луна» и сколько радости он доставил. Очень сильное впечатление на меня произвело крушение в последнее время стольких проектов. Мне стало очевидно, что любое препятствие, которое станет между мной и этим фильмом об Иисусе, по той или иной причине обречено.
Незадолго до Рождества 1973 года я дал согласие на подписание контракта с двумя условиями: первое — право привлекать в качестве консультантов лучших христианских и еврейских богословов; второе — если я не найду подходящего актера на роль Иисуса, контракт будет аннулирован.
Возможно, это было самым значительным решением в моей жизни. Фильм «Иисус из Назарета» полностью завладел мной на два года, если не больше.
Лью поражал меня своей преданностью проекту о жизни Христа, который, как я однажды позволил себе сказать, вовсе не может быть хлебом насущным для еврея.
— Неправда! — с живостью ответил он. — Иисус и ваш, и наш, его история — это и наша история. Его создали мы! — И добавил весело: — Иисус — наш!
Я вспомнил, какое впечатление несколько лет назад на меня произвела энциклика Павла VI «Nostra aetatis»[91], где он с огромным мужеством, ясно и недвусмысленно, от имени христианского мира просил прощения у евреев за все вековые притеснения и гонения со стороны церкви и назвал их «старшими братьями». Этот документ сильнее всего поддерживал меня во время работы над фильмом.
Мы начали поиск мест для натурных съемок. Я пересмотрел все, что мог, в исламских странах и добрался до моста Алленби на Иордане, на границе с Израилем. Увидев развевающиеся на солнце флаги Израиля со звездой Давида, я почувствовал глубокое волнение. Мне захотелось опуститься на колени, пасть ниц перед этой землей и ее великим народом.
А еще эти флаги означали для меня знакомую культуру, принадлежность к которой я ощущал. Я въехал в Израиль через мост Алленби, и меня встретила делегация во главе с министром информации, прекрасно воспитанным и образованным человеком, знакомым с моим творчеством и проявлявшим ко мне глубокое уважение. Казалось, что его что-то беспокоит.
— Жаль, что вы приехали сюда с таким проектом, — сказал он, когда закончилась официальная часть. — С фильмом об Иисусе.
Мне стало любопытно.
— Не понимаю.
— Что здесь непонятного? Что бы вы ни сделали, как бы вы ни подошли к этой теме — хотя известно, что вы не антисемит, — это все равно не пойдет на пользу моему народу, — объяснил он. — Всякий раз, как снова рассказывается история Христа, просыпается ненависть к евреям. А с ней — опасности.
— Не могу поверить, — ответил я, — уверяю вас, моя цель — найти общие корни христиан и евреев, навсегда похоронить чудовищное недоразумение, приведшее к антисемитизму, о котором и говорить-то стыдно.
Его смиренная уверенность, что фильм неизбежно приведет к вспышке антисемитизма, глубоко взволновала меня, и я попытался докопаться до корней этого явления, понять его суть. С детства я видел несправедливость по отношению к евреям: мои флорентийские друзья были вынуждены бежать во время войны, потому что фашистская пропаганда утверждала, что евреи враги нашей расы, и их надо уничтожать. Теперь я собирался снимать фильм не о христианах, а о Христе, еврее, и мне надо было как следует понять отношение евреев к благовестию Иисуса. Найти серьезное объяснение, почему христианская цивилизация именно в умных и просвещенных евреях стала видеть врагов, недостойных жить рядом с христианами, разделять нашу культуру. Я думал об ужасах, которые им пришлось пережить, и вопросов становилось все больше.
Мы живем в эпоху образа и пытаемся найти ответы на вопросы, которые ставит перед нами мир, с помощью «векторного образа». Когда я слышу об антисемитизме и о евреях, сразу вижу перед собой худого, голодного еврейского мальчика с большими черными глазами, в огромной кепке и с желтой звездой на груди. Этот мальчик, родившийся в Берлине в 1930-х годах, через несколько лет был оторван от родителей и отправлен в один из «исследовательских» центров в качестве подопытного материала, где ему заклеивали рот пластырем, чтобы он не мог кричать, пытали, мучили и наконец сожгли. Неужели все это из-за того, что две тысячи лет назад в Иерусалимском храме несколько еврейских священников, хранителей Закона, судили и приговорили к смерти «святотатца» по имени Иисус? Неужели виноват и этот мальчик, и весь еврейский народ, талантливый, богатый выдающимися артистами, писателями, музыкантами, учеными, образцовыми гражданами, которые продолжают платить и не могут до конца расплатиться по старому счету Истории? Разве это возможно? Разве это приемлемо?
Прежде чем пуститься на поиски ответа и найти лекарство от этой исключительно живучей «чумы человечества», надо сначала установить происхождение заразы: когда и как родился антисемитизм?
Об этом и написал Папа.
Церковь впервые признала свою ответственность, когда Павел VI на коленях просил прощения за многовековые преследования евреев. Вполне вероятно, что гетто и погромы возникли во времена первых Пап. Варвары легко принимали христианство, а евреи ревностно оберегали свою веру и свои традиции.
Несмотря на ошибки и усобицы внутри самой церкви, слова Христа, Его весть дошли до нас в нерушимой целостности, а это и есть победа.
Мне бы не хотелось менять направленность книги, которая прежде всего рассказывает о событиях моей жизни и о связанных с ними размышлениях. Наверное, каждый человек должен задуматься об антисемитизме, потому что только все вместе мы сможем найти решение.
В течение долгих месяцев подготовки к съемкам «Иисуса» я внимательно изучал вопросы веры и узнал много нового, более того, открыл для себя неожиданные вещи. Например, выяснил, как изменились отношения между человеком и Богом с тех пор как Моисей получил скрижали завета. Десять заповедей нельзя назвать молитвой, это список требований, суровых и непоколебимых. А Иисус в молитве «Отче наш» принес в Священное Писание зародыш новых отношений с Богом: отношений милосердного Отца — Творца с Сыном — Творением, который не всегда может одержать победу[92]. И, в более широком смысле, любви Бога ко всему творению. Это чувство пышно расцвело в св. Франциске Ассизском, как следует из его «Гимна творению»: Бог — это цветок, животное, ветер, огонь, солнце, звезды. Благодаря любви к творению человек может подняться до высот Божественного Духа и воспарить выше материи.
Мать Тереза тоже проповедовала всеобщую любовь и утверждала, что наш земной путь с момента зачатия — частица вечной жизни. Ее «Гимн жизни», который я хочу предложить вниманию читателей, чем-то напоминает Десять заповедей, но не суровостью требований Отца Владыки, а нежностью советов Матери Сестры.
Жизнь — это случай, не упусти его…
Жизнь прекрасна, любуйся ею…
Жизнь благословенна, вкуси от нее…
Жизнь — это мечта, пусть она станет явью…
Жизнь — это вызов, прими его…
Жизнь — это долг, исполни его…
Жизнь — это игра, сыграй в нее…
Жизнь — это любовь, насладись ею…
Жизнь — это тайна, открой ее…
Жизнь — это обещание, сдержи его…
Жизнь — это печаль, преодолей ее…
Жизнь — это борьба, сражайся с ней…
Жизнь — это жизнь, сохрани ее…
Что за женщина эта Мать Тереза, она всегда видела самую суть вещей! Как бы мне хотелось лучше ее узнать, ведь каждая минута рядом с ней была источником радости, и все, что нашим глупым головам казалось неразрешимым, легко находило выход.
На фильм об Иисусе надо было положить два года жизни. Речь шла о телесериале про жизнь Христа, буквально по текстам Нового Завета, без использования обширной апокрифической литературы и без фальшивого киномистицизма. То правдоподобие, которое может создать кино, должно было показать человечность Христа, и все. Просто, но ужасающе сложно. Щедрый бюджет, съемочная группа, которая, казалось, сошла со страниц журнала «Кто есть кто — театр и кино», и всем этим надо было руководить с жесткостью воинской дисциплины.
А еще надо было умудриться угодить зрителям различных культур, каждая из которых имела собственное представление о Боге. Лью Грейд не уставал повторять, что фильм должен быть рассчитан на все конфессии. Кроме того, среди зрителей наверняка найдется немало таких, которые, не обладая милосердием веры, без колебаний осудят малейший избыток сентиментальности и религиозного пыла.
Я особенно намеревался подчеркнуть еврейство Христа, его связь с историей, обществом и культурой древнего Израиля с его городишками и деревнями, где всегда стояла синагога; Израиля под властью сильного и равнодушного врага; Израиля, всегда готового к мятежу. Но самое главное, в словах Христа должна была звучать неразрывная связь с многовековым еврейским учением, его продолжение и исполнение.
В самом начале передо мной возникли две проблемы: во-первых, создать сюжет с диалогами, построенными как «слово Христово», а во-вторых — атмосферу, максимально приближенную к Святой земле времен Христа. В дальнейшем надо было решать с актерами, но сначала подумать о тексте. К счастью, важность проекта и широта бюджета позволяли мне привлечь лучших из лучших в любой области. Мы предложили написать сценарий Энтони Берджессу, и он с радостью согласился. Он выслушал, что мы хотим, и отправился работать. Решив одну проблему, я принялся искать «Израиль Христа» и потратил на это весь 1974 год и часть следующего.
Я искал в регионах, прилегающих к Израилю, — в Иордании, Сирии, Турции, — где встречались подходящие места. Но часто по политическим или религиозным мотивам или из-за труднодоступности от них приходилось отказываться.
Одним словом, Ближний Восток исключался, и я задумался о Египте. Многие сцены фильма первостепенной важности разворачивались в Иерусалимском храме, и прежде всего надо было найти грандиозное сооружение, которое могло бы подойти для съемок.
Как ни странно, ранняя исламская архитектура обращалась не к египетским, не к римским или греческим образцам, а к традиционным еврейским. Некоторые крупные мечети, безусловно, построены по подобию Иерусалимского храма — с портиками, двориками и источниками для ритуальных омовений. Разумеется, в Каире были великолепные огромные мечети, которые вполне могли сойти за Иерусалимский храм, но нас сразу предупредили, что и думать нечего о том, чтобы еврейскими религиозными символами прикрывать исламские или заполонять мечеть толпой людей в традиционных еврейских одеждах. Значит, и здесь ничего. Но все же моя поездка в Египет пригодилась — она открыла мне дорогу в страны Северной Африки. Впоследствии выяснилось, что это было верным решением.
Лучшим зданием «для роли» Иерусалимского храма оказалась большая мечеть в Кайруане в Тунисе. Но и она была неприкасаемой. Зато на территории страны мы нашли несколько идеальных мест: крепость Монастира со сторожевой башней легко превращалась в Антониеву башню, где располагался римский гарнизон, холм против крепости рядом с Сусом стал Голгофой, под древними стенами Монастирской крепости мы решили выстроить наш Иерусалимский храм.
Я был очень доволен поездкой в Тунис, затем поехал в Марокко и там нашел нетронутый цивилизацией пейзаж, очень напоминающий галилейский. А древняя крепость Уарзазат на краю пустыни отлично подходила для дворца Ирода.
Больше всего меня поразили люди, особенно деревенские жители, которые смиренно выполняли ту же работу, что их предки много веков назад, их поведение и характер. Идеальная толпа, которая шла за Иисусом. Их только надо было переодеть в бедные одежды того времени. Все складывалось удачно. Не хватало одного — Назарета. Мне никак не удавалось найти подходящую деревню. Однажды мы поехали посмотреть на величественные руины Волубилиса недалеко от Мекнеса. Наш путь лежал через Мулай-Идрисс, деревню, названную по имени мусульманского святого. Чуть дальше на возвышенности показалась кучка берберских домиков. Мы поднялись, чтобы поглядеть на них поближе, и передо мной открылся «мой» Назарет: маленькие белые домики из камня и глины, дворики, окруженные низенькими стенками, колодец, откуда носят воду берберские женщины, запах свежевыпеченного хлеба, старики, плетущие корзины. Это, конечно, было не лучшее место для съемок фильма, там даже электричества не было, но это был Назарет! Я отправил Лью Грейду телеграмму, что поиск завершен.
Энтони Берджесс принес сценарий. Он сделал невозможное — написал его всего за четыре недели! Энтони обладал потрясающей способностью мгновенно запоминать, впитывать как губка все, что прочитывал. Он, конечно, обратился к тысяче библейских и талмудических источников, чтобы из отрывочных рассказов апостолов составить гладкую историю. Такой подход требовал жертв: некоторые слова Христа были воспроизведены неточно, но это было не так важно, потому что исправить не составляло труда. Энтони дал «скелет», нам предстояло нарастить «плоть». Часто бывало, что окончательный вариант диалога рождался в ходе съемок, когда актеры получали на выбор парафразы евангельских слов.
В этой труднейшей работе бесценными помощниками были Сусо Чекки Д’Амико, Эмилио Дженнарини и Винченцо Лабелла, человек с большим опытом, снявший вместе с Лью Грейдом высочайшего качества фильм на религиозную тему — «Моисей» с Бертом Ланкастером в главной роли. Он был очень дружен с Энтони Берджессом, и именно ему мы были обязаны тем, что Энтони, человек с непростым и неустойчивым характером, не жалея ни сил, ни времени, в кратчайшие сроки сделал для нас, казалось бы, невозможное.
Винченцо Лабелла был в значительно большей степени литератором, чем кинематографистом, и мы очень сожалели, что после «Иисуса» он оставил работу для христианского кинематографа, который в конце концов попал в совершенно неподходящие руки — было выпущено немало убогих программ, совершенно не подходивших для «миссионерских» целей.
Сусо переживала сложный период. Она упорно пыталась вытащить Лукино из пропасти, куда он неуклонно катился из-за своей болезни, прилагая колоссальные усилия, чтобы заставить его самого и окружение работать. Организовывала встречи, вела переговоры с продюсерами, пыталась внушить всем, что, несмотря на физическую немощь, инвалидную коляску и мучительное переживание своего положения, этот самый мужественный на свете человек по-прежнему способен воплотить в жизнь все свои замыслы.
В ноябре я получил новое предложение от Ватикана — снять для телевидения торжественное открытие Святых врат собора Св. Петра по случаю начала Юбилейного года[93]. На этот раз, уже работая над «Иисусом», я чувствовал себя вполне уверенно.
Его Святейшество очень интересовался фильмом и хотел знать, что происходит на съемочной площадке. Как-то во время аудиенции он заговорил о важности современной информационной техники для миссионерства: «Каждое новое творение, которое Бог дает человеку, легко может стать орудием как добра, так и зла».
Знаю, что многие не разделяют моего отношения к вере и сочтут эти слова лицемерными и пустыми.
Объяснить неверующему, что такое вера, любая вера, практически невозможно. Трепет и радость верующего кажутся ему глупостью, он скорее согласится, что имеет дело с ненормальным. Вот почему в качестве метафоры неверия часто используют слепоту. Как описать свет солнца тому, кто никогда не видел его? Признаться, за два года работы я часто сталкивался с пробуждением религиозности в людях, которые, казалось, совсем далеки от этого. Убежденный развратник по-детски цеплялся за веру в Бога, о которой долгие годы и не поминал. Известно, что люди кино и театра — самая суеверная публика на свете. Но все равно, видеть, как знаменитости — актеры и актрисы — душой переживают историю, которую мы пересказываем, — одно из самых сильных впечатлений за время работы над «Иисусом».
Именно удивительное свойство веры объединять людей и стало тем цементом, который сплотил нашу съемочную группу, сплошь состоявшую из знаменитостей. Поначалу мы намеревались привлечь малоизвестных актеров из опасения, что знакомые лица будут напоминать о других персонажах, не имеющих ничего общего с фильмом об Иисусе. Как сниматься в роли Девы Марии актрисе, которая в другом фильме сыграла проститутку? Такие вещи обязательно надо было учитывать. В конце концов мне пришлось снять и это ограничение, и не потому, что я хотел «звездного» состава, а потому, что для такого фильма надо было выбирать лучших из лучших. Мне хотелось, чтобы каждую роль играл признанный мастер театра или кино, но даже наш щедрый бюджет не позволял взять для Нового Завета любимых сынов и дочерей агентства «Уильям Моррис»[94]. Тут появился на сцене Лоуренс Оливье. Ему, как и многим другим, всегда была близка религиозная тематика (его отец был протестантским пастором), и Ларри очень хотелось сыграть в фильме, причем не ради славы или денег.
— Я слишком стар, чтобы скакать на лошади, так что поищите другого Пилата. Я не так похож на еврея, чтобы играть Каиафу. Отдайте-ка мне два эпизода с Никодимом, я так люблю плач Исайи[95].
Одним из сопродюсеров был Дайсон Ловелл, с которым мы работали вместе еще во времена «Ромео и Джульетты». У него возникла блестящая мысль: всем звездам выплачивается одинаковая сумма — тридцать тысяч долларов в неделю (по кинематографическим меркам скромная сумма), ни копейкой больше, ни копейкой меньше.
Как только стало известно, что в фильме будет сниматься Оливье, все страшно заинтересовались:
— Он играет Пилата? Нет? Только эпизодическая роль? А сколько платят?
И подогреваемые как религиозным чувством (хочется верить!), так и участием Оливье, лучшие актеры мирового кино наперебой стали расхватывать роли: Энтони Куинну достался Каиафа, Питеру Устинову — Ирод, Кристоферу Пламмеру — Ирод Антипа, Джеймсу Мэйсону — Иосиф Аримафейский. Клаудии Кадинале грешница, взятая в прелюбодеянии, Ренато Рашелю — слепой, Майклу Йорку — Иоанн Креститель, Иену Холму — Зара. Ну просто звездное небо! Мне хотелось, чтобы Магдалину играла Элизабет Тейлор, но она болела, и я пригласил Энн Банкрофт, прекрасную актрису, правда, с непростым характером. Энн не очень любила работать и, чтобы отвадить продюсеров, требовала астрономических гонораров. К моему удивлению, она согласилась. Довольно долго по поводу оплаты капризничал Марчелло Мастроянни, которому предложили роль Пилата. В конце концов Пилата сыграл Род Стайгер, и это оказалась одна из лучших его ролей.
Когда отряд талантов был укомплектован, мне осталось решить самую трудную задачу — найти актера на роль Иисуса, недаром об этом отдельно говорилось в моем контракте.
Каждый день я проводил по нескольку кинопроб и на роль Иуды пригласил талантливого театрального актера из Лондона Роберта Пауэлла. Довольно обычная внешность — и потрясающие голубые глаза, от которых захватывало дух. Я сразу подумал, что из него получится неплохой Иуда, но мой оператор, тоже пораженный глазами Пауэлла, заметил:
— Если у Иуды такие глаза, то какие же должны быть у Иисуса?
Я понял, что едва не совершил ошибку, и снова срочно вызвал Пауэлла для проб, теперь уже на роль Иисуса.
Мы как следует потрудились, чтобы подготовить его к роли: длинные волосы, грим, одежда, свет. Когда все было готово и Пауэлл начал входить в образ, я позвал костюмершу поправить ему костюм. Она еще не видела Пауэлла и, оказавшись перед ним, вдруг упала на колени, срывающимся голосом воскликнула: «Господи!» и перекрестилась.
Мы поняли, что «наш Иисус» найден.
В последние месяцы наших подготовительных работ стали поступать тревожные сигналы от продюсеров — нам непременно надо было начать съемки до конца лета 1975 года, чтобы выпустить фильм к Пасхе 1977-го. По плану первым местом было Марокко, но в сентябре в мусульманских странах наступал Рамадан.
— Ну и что с того? — хором закричали наши римские и английские организаторы, — что за Рамадан такой?
В общем, все было готово, и было решено приступить к съемкам.
Слово «Рамадан» звучало красиво, как приглашение весело промаршировать, скандируя в такт: «Рамадан, рамадан, рамадан!», а что это значит, никто не знал. Только позже мы выяснили, что Рамадан — месяц покаяния и созерцания, что-то вроде нашего Великого поста.
— Ну и что?
А всего лишь то, что в мусульманских странах в Рамадан никто не работает. Днем нельзя есть, пить, курить и заниматься любовью — в общем, жизнь останавливается, по крайней мере, с утра и до вечера, потому что с вечера до утра все пытаются наверстать упущенное и утро нового дня встречают обессиленные ночными излишествами.
Мы начали съемки в долинах к югу от Атласских гор, близ выжженных пустынных равнин, где стоял удивительный, построенный из глины город, не тронутый веками, а то и тысячелетиями — Уарзазат. Я много раз собирался вернуться туда, но всегда боялся, что найду его сильно изменившимся по сравнению с первым впечатлением. Наверно, правильно, потому что сейчас Уарзазат — главная приманка для туристов, говорят, его и узнать нельзя.
Мы жили в Марракеше и однажды возвращались после рабочего дня. То есть мы поднялись в горы до перевала и начали спускаться на север, в цветущую пышную зелень оазиса, напоминающего область Венето или Кьянти в Италии, по грунтовой дороге, извилистой и без намека на обочину. Из машины тем, кто, как я, сидел справа, открывались дантовские пропасти. На каждом повороте таилась смерть. А шофер Хасан, обычно разговорчивый и общительный марокканец, в этот закатный час жал на газ как одержимый, будто ехал вверх, а не вниз. Я попросил помощи у переводчика, который, съежившись, сидел на заднем сиденье, но никакого эффекта. Хасан не отвечал на вопросы и несся как сумасшедший. Я разозлился:
— Скажи этому идиоту, чтобы ехал тише. Мы не спешим, можем приехать попозже.
Наконец мне удалось получить объяснение. Это мы никуда не спешили. А он спешил, да еще как: ему надо было приехать к молитве муэдзина, которая официально завершала день Рамадана. Он уже достаточно нагрешил в тот день тем, что на нас работал (правда, с разрешения какого-то человека из мечети, который набирал местных для съемок фильма), и хотел заслужить прощение.
— Ну хорошо, — напирал я, — но почему он не отвечает, почему молчит?
Переводчик (еврей) с улыбкой пояснил:
— Говорить можно, Рамадан это не запрещает. Но если он откроет рот, то обязательно соврет, а уж это во время Рамадана точно смертный грех.
Хасан сгрузил нас неподалеку от гостиницы и как заяц понесся к ближайшей мечети, где около сотни марокканцев сидели в ожидании с плошками и ложками в руках. Я с любопытством стал следить за развитием событий. Стоял закатный час и последний свет уходил. Вдруг из ревущего громкоговорителя донеслась молитва муэдзина, объявляющая об окончании дня, и ее встретили криком радости. Плошки были мгновенно наполнены подозрительным зеленым супчиком, который стремительно исчез. Закон предписывал поесть легонькой бурды перед тем как наброситься на яства, чтобы не повредить желудку, ослабленному дневным постом.
Начиналась ночь Рамадана. После дня покаяния все было разрешено. Карнавал, рог изобилия: крики, пение, молодежь с барабанами, трубами и какими-то местными инструментами. Безумные пляски, столпотворение, грубые шуточки. И только мужчины. Женщины весело суетились в домах, дворах и хижинах. Они тоже весь день пребывали в коматозном состоянии, сидели, сложа руки, погасив плиту, а теперь порхали в своих разноцветных платьях как пестрые бабочки и готовили ужин мужчинам, испуская гортанные берберские крики.
Вот каким я увидел Рамадан, этот отголосок далеких времен благодарности Богу, который дает жизнь. Как было бы хорошо и достойно жить в согласии с мусульманами, если бы их не завели неизвестно куда их муллы, для которых Коран — наступательное оружие, а не средство для единения.
Способы, с помощью которых актеры и актрисы вживались в образы своих персонажей, внушали нам некоторое беспокойство. Через два дня после начала съемок в Фертассе — так назывался «мой» Назарет — разразился скандал. Оливия Хасси, которой я отдал роль Марии, приехала на съемки в облегающих джинсах и блузочке. Старейшина пришел с просьбой уговорить ее одеваться поскромнее, потому что в деревне она пользуется большим почетом: все жители легко поверили, что эта девушка из иного мира — Непорочная Мать Иисуса, как сказано в Коране, и чувствовали себя оскорбленными и смущенными, видя ее одетой как грешница. Оливия пришла в восторг и с тех пор стала появляться каждое утро уже одетой и загримированной. Деревенские выходили ей навстречу и почтительно целовали руки. Весь день она проводила с ними, учась прясть и выполняя прочие женские обязанности. Это помогло ей войти в обыденную жизнь своего персонажа. Как чудесно было смотреть на нее в компании арабских женщин, будто она — одна из них. Но в конце рабочего дня, когда спускался вечер, Оливия не скрывала, что с нее хватит жизни марокканской пастушки. Она запрыгивала в машину, неслась в гостиницу, одевалась в привычную одежду хиппи и уносилась плясать, как безумная, на всю ночь, после чего ее окрестили «дева днем, мученица ночью». Не очень-то деликатно, но она от души смеялась.
Такой жизнью жили в общем-то все. После долгого дня, напряжения, трудных репетиций всем хотелось сбросить с себя груз работы. Интересно было смотреть, как менялась к ночи картина. Чем тяжелее был день, тем безумнее — ночь. Так часто бывает, когда снимают на натуре, но те ночи были из ряда вон выходящими. Кощунство? Конечно, нет. Просто у каждого была потребность забыть о том психологическом давлении, которое оказывала на нас важная и величественная история.
Не устану повторять, что Роберт Пауэлл оказался замечательным человеком и тонким актером — в этом вскоре убедился весь мир.
Работать с человеком, для которого каждое мгновение, каждая черта жизни его персонажа — неиссякаемый источник поиска истины, достоинства и силы Христа, очень интересно и плодотворно. Для актера это труднейшая и выматывающая роль. Для нее нужны, как говорится, другие обороты, глубокое личное участие, а в Роберте это было.
Что касается меня, то руководство этим международным выпуском «Кто есть кто» оказалось серьезным испытанием. Каждый исполнитель был большим актером, у каждого был свой собственный стиль. Каждый носился с собственной идеей по поводу съемок той или иной сцены и при этом должен был оставаться частью общей картины. Ярким примером был Понтий Пилат Рода Стайгера.
Стайгер одним из первых предложил мне свое участие в фильме. Как ветеран Актерской студии, он тщательно подготовился к роли. Пилат был для него внутренне истерзанным человеком, которого неумолимая судьба поместила в центр событий гигантского масштаба. Его встреча с Христом произошла в момент, когда решалась судьба человечества. Но это совершенно не совпадало с нашей интерпретацией евангельской истории. Иудея не просто считалась местом мятежей и очагом сопротивления, она не представляла жизненного интереса для Римской империи. Войск там было немного, и Пилату это назначение должно было казаться ссылкой. Мы знаем, что в его «резюме» уже были темные пятна, когда римские солдаты ворвались в храм, спровоцировав восстание в Иерусалиме, поэтому, вероятно, единственным желанием Пилата было сохранить мир любой ценой. Вот он и предоставил евреям решать судьбу Иисуса и не стал на этом сосредоточиваться. Одним словом, тот день в претории был похож на любой другой: перед глазами прокуратора проходили обвиняемые в мелких преступлениях, и он выносил решение о начислении штрафа или краткосрочном задержании.
Но я зря беспокоился, что Стайгер не захочет пересмотреть свой подход. Я предложил ему прочитать «Прокуратора Иудеи» Анатоля Франса, где старый Пилат, сосланный в Марсель, даже не может вспомнить пророка из Галилеи, когда его спрашивают. «Мы столько их распяли по имени Иисус…»
Род понял и стал играть Пилата со скучающим и немного отсутствующим видом. Ему, мол, безразличны Иисус и его преследователи; лишь потом интерес к Иисусу начинает медленно-медленно просыпаться. Это была блестяще сыгранная роль. Вовсе не чудовище с руками в крови невинных мучеников, нет, просто слепок общества, где нравственность отступает перед политикой. Характерная фигура времени — власть и скука.
Лью Грейд приехал, когда мы снимали распятие. Его начал бить озноб при виде толпы численностью в половину населения Туниса в древнееврейских костюмах.
— Знаешь, Франко, это ведь не кино, — сказал он мне отеческим, немного обеспокоенным тоном. И показал руками маленький квадрат. — Это телевидение, коробочка. Ты сколько человек собираешься туда впихнуть?
Потом спросил, что мы собираемся снимать на следующий день. У нас шел по плану Гефсиманский сад.
— А кто там?
— Иисус и двенадцать апостолов.
— Сколько?! Двенадцать апостолов! А поменьше нельзя? Как они все влезут в маленький экран?
Хочу добавить, что лучшего продюсера у меня не было никогда.
Когда стало очевидно, что мы уже сняли километры очень хорошего телефильма, я посоветовал Лью подумать о сокращенном варианте для кино. Он наотрез отказался. Это история, которую надо смотреть дома, со всеми подробностями, ее нельзя обрезать, чтобы зритель мог убить вечерок в кино. Если бы он согласился, прибыли были бы больше, но Лью стоял на своем. Время подтвердило, насколько я был прав. Я ведь предложил ему сделать два двухчасовых фильма — «Детство Иисуса» и «Страсти Христа». Страсти! Да если бы мы сняли этот фильм на тридцать лет раньше Гибсона[96], даже страшно подумать, сколько миллиардов бы заработали.
Приятное открытие того периода — новая работа Пиппо. Ему было непросто крутиться среди звезд, но благодаря легкому и доброжелательному характеру его все полюбили. В самом начале работы он спросил, нельзя ли ему снова со мной работать, и я взял его вторым ассистентом. Когда мы начали снимать, первый ассистент серьезно заболел, и Дайсон предложил взять на его место Пиппо. Я обрадовался и удивился. Дайсон объяснил, что Пиппо многому научился незаметно для меня, интересовался всем, от операторской и продюсерской работы до постановки, и, конечно, надо быть к нему справедливыми и назначить на новую должность. Так он стал первым ассистентом, оказался просто молодцом и начал карьеру.
С моей стороны будет несправедливо вспоминать только о заслугах Пиппо. У нас была отличная съемочная группа. Со многими я работал по многу лет, некоторым помог выдвинуться, когда они молодыми проходили у меня обучение, каждый в своей области. Но есть человек, чье участие в фильме оказалось особенно значительным: это Дэвид Уоткин, оператор и осветитель. Мой предыдущий оператор Армандо Наннуцци подался в режиссеры, и мне пришлось искать нового. К счастью, мне повезло: я нашел Дэвида. Это его усилиями удалось создать атмосферу как на картинах старинных мастеров — палитру ярких и теплых тонов, на фоне которой разворачивалось действие.
К сожалению, время подготовки каждой отдельной сцены у него было непредсказуемым. Иногда мгновенным — и мы оказывались не готовы. А порой приходилось подолгу ждать его в полном гриме и в тяжелых костюмах, к большому неудобству актеров, которым было уже далеко не по пятнадцать. Это были настоящие профессионалы, очень терпеливые в работе, но постепенно в воздухе запахло мятежом. Однажды Лоуренсу Оливье стало плохо. Он в тот день неважно себя чувствовал. Я видел, как он бледнеет под гримом. Когда несколько часов спустя Уоткин был готов, Ларри был уже не в состоянии работать — попытался что-то сказать, но не смог. Нам пришлось прерваться. На другой день Ларри, как ни в чем не бывало, продолжил съемку, однако предупредил меня:
— Франко, ты знаешь, как я тебя люблю и как хочу с тобой работать, но твой фильм пойдет ко дну, как «Титаник», если ты не избавишься от этого человека. Это какой-то безответственный псих! Он нас всех уморит!
Я попытался его успокоить, потому что твердо решил не расставаться с Уоткином, пусть и психом, но настоящим художником. Когда мы просматривали отснятое, Ларри первым признал блестящий результат, хотя не забыл отметить, сколько терпения это стоило всем.
— Конечно, это пустяк по сравнению со страданиями Господа нашего Иисуса Христа, — со вздохом добавил он.
Лучше всего Дэвиду удались сцены в храме, когда во главе с Каиафой синедрион собирается на судилище. Среди основных эпизодов фильма именно этот был плодом двухлетней работы, здесь собрались звезды первой величины: Энтони Куинн — Каиафа, Оливье и Джеймс Мэйсон — фарисеи. Для Роберта Пауэлла эта сцена должна была стать «испытанием огнем», как будто он на самом деле стоял как обвиняемый перед судом великих актеров. Сбросить напряжение помог эпизод в перерыве между съемками. Когда приезжал Лью Грейд, он заметил, что мы чересчур много снимаем, и посоветовал, чтобы не столкнуться с трудностями во время монтажа, вырезать парочку сцен. Но как убедить этот синедрион великих актеров расстаться с собственными репликами? На помощь пришел Ларри:
— Дорогой, вот тебе цветок в подарок, даже два. Можно мне вырезать эти две строчки?
Остальные поняли и последовали его примеру.
— Мне кажется, будет лучше, если у меня будет поменьше слов, — убежденно заявил Джеймс Мэйсон.
Иен Холм сказал:
— У меня в этой сцене почти нет слов, так может вообще промолчать?
В результате немного подрезать свои роли согласились все, кроме Энтони Куинна, которому эта идея пришлась не по вкусу. Он сидел на своем первосвященническом седалище и ворчал, обхватив голову руками.
— Мои дорогие, — снова заговорил Ларри, — актер может сколько угодно защищать свою роль и без умолку болтать перед камерой. Но нравится нам или нет, это не имеет никакого значения, потому что ножницы все равно в руках у Франко.
Дни, когда мы снимали сцены в храме, оказались самыми захватывающими, но именно за этой работой нас застигла печальная весть из Италии. 17 марта, в проклятый день, я возвращался с ежедневного просмотра отснятого. Меня отвели в сторону и сказали, что умер Лукино Висконти.
Я прилетел в Рим в утро похорон вместе с теми из нашей группы, кто работал с Лукино в кино и хотел проститься. В похоронах было что-то театральное, они напоминали величественный спектакль. На площади перед церковью Св. Игнатия коммунисты устроили одному из самых знаменитых итальянских аристократов гражданскую панихиду. Мэр Рима, коммунист, и первый секретарь партии произнесли траурные речи. Коммунисты, которым Лукино доверил душу и репутацию, цеплялись за него и за мертвого, как будто он еще мог принести им пользу! Какое это было грустное зрелище! Под пение «Bandiera rossa» гроб внесли в церковь, где ожидали родные, друзья и огромная толпа, и там состоялась заупокойная месса.
Не могу передать, в каком я был состоянии. Потом мне рассказывали, что я прорыдал всю службу и что племянники Лукино и его сестра Уберта пытались заслонить меня от безжалостных фотографов: «Дзеффирелли, рыдающий от горя» и т. д. Какие прекрасные воспоминания всплывали в моей памяти, какие терзали угрызения, что я не боролся за нашу дружбу. Теперь, когда Лукино не стало, я понял, что это лучший дар, какой я получил от Бога за всю мою жизнь.
Той же ночью я вернулся в Тунис, мучимый сожалениями и грустными мыслями, и на следующий день мы продолжили съемки сцены в синедрионе. В час кремации Лукино я остановил работу и в величественном храме Соломона попросил минуту молчания, чтобы лучшие актеры мира и лучшие техники кино могли отдать последние почести одному из самых великих людей искусства, самому дорогому другу моей жизни.
XVIII. Карлос-чудотворец
Марии Каллас не было на похоронах Лукино — это отметили все. Она прислала цветы и написала сестрам грустные сбивчивые письма, но сил приехать проститься у нее не нашлось, хотя когда-то она очень его любила.
Годом раньше умер Онассис, и Мария умом и сердцем почти целиком погрузилась в мир теней, где теперь занял свое место и Лукино. Она принимала от бессонницы сильные снотворные, дни ее были совершенно пусты. Она почти не выходила из квартиры на улице Жорж Мандель, а единственным ее развлечением было слушать свой собственный голос на пиратских записях, которые присылали верные поклонники ее таланта. Ей не надоедало рассматривать фотографии счастливых времен, она неустанно протирала снимки Онассиса и немногих дорогих ее сердцу людей, выстроенные в строгом порядке на рояле. Нечего удивляться, что Мария отдалилась даже от самых давних и верных друзей.
Мы работали над «Иисусом из Назарета» так давно, что не могли поверить в близкий конец съемок. Меня ждала привычная жизнь, и больше всего мне хотелось снова увидеть старых друзей, в том числе Марию. Я не мог себе представить, что за два года работы над фильмом-гигантом все изменилось до такой степени, что я уже ничем не смогу помочь.
Съемки закончились к маю 1976 года, и армия звезд с обозом технического и обслуживающего персонала отправилась по домам. Мы долго были вместе, пережили хорошее и плохое, болели, праздновали дни рождения, оплакивали ушедших. Возвращаться к прежним привычкам было нелегко.
Моя первая работа по окончании фильма, одновременно с монтажом, привела меня в Париж. Пьер Дюкс, художественный руководитель «Комеди Франсэз», пригласил меня для постановки «Лорензаччо» Альфреда Мюссе. Предлог был достойный — официальное открытие зала Ришелье после пятилетней реставрации. Получить такое предложение из страны, известной своим культурным шовинизмом, иностранцу было более чем лестно.
«Комеди Франсэз» была основана еще Людовиком XIV. Актеры — одновременно компаньоны, и носят свое звание с большим достоинством. Никогда в жизни они не опустятся до убогих артистических уборных английских театров. У каждого в этом величественном здании есть собственная «ложа» — практически квартира. Само собой, существует жесткая иерархия, «табель о рангах», в соответствии с которой и распределяются актерские «ложи».
На главную роль я хотел и получил Клода Рича, известного актера театра и кино и, как выяснилось, блестящего исполнителя. Но этим я сразу же, еще до начала репетиций, заработал неприязнь всех остальных членов труппы. Только значительно позже я узнал, что в театре есть и другие молодые актеры, которые отлично подошли бы на эту роль. Следующую ошибку я совершил, когда взялся объяснять, что у меня нет жесткой изначальной схемы спектакля и действующих лиц и что у нас будет своего рода театральная мастерская. Такой метод прекрасно срабатывал в Италии и Англии. Во Франции же он не годился. Здесь актеры привыкли получать распоряжения, что делать, и выполнять, если были согласны с ними.
И, конечно, язык. В Лондоне все проходило гладко, потому что я неплохо знаю английский, но французский у меня на школьном уровне. В общем, я почувствовал неуверенность. Труппа сразу заметила мое состояние и стала этим пользоваться.
— Я вас не понимаю, — сказала мне молодая актриса на одной из первых репетиций, — для меня главное — красота нашего языка, и вы меня не вдохновляете.
Если учесть, что я только что закончил «вдохновлять» не меньше половины всех великих актеров мира, моим первым побуждением было как следует намылить нахалке шею. Но я сдержался. Я сознавал, что кое в чем она права. Понимал, что передо мной лучшие представители великой культуры, и моя задача их завоевать.
Со временем мне это удалось. Строптивая труппа уяснила, чего я от нее хочу, и стала потихоньку прислушиваться. Пересуды в кулуарах стали реже, остроты и язвительные замечания прекратились, и актеры включились в работу с должным вниманием. Несмотря на трудности вначале, а может, благодаря им, я получил от премьеры редкое удовлетворение.
Какой это был спектакль! И на сцене, и в зале! Если англичане первые в мире по части церемоний, то с французами никто не может сравниться в светскости: они словно родились с небрежным изяществом тех, кто верит, что живет в лучшем из миров.
Едва я успел порадоваться парижскому триумфу, как пришлось срочно ехать в Милан ставить «Отелло» для открытия сезона 1976–1977 годов: дирижер Карлос Клейбер, Пласидо Доминго в роли Отелло, восхитительная Мирелла Френи и могучий Пьеро Каппуччилли.
С Клейбером мне случилось работать впервые. Встреча с ним невероятно расширила мой музыкальный кругозор, я узнал многое, о чем раньше не подозревал. Как только начались репетиции, я понял, что именно отличает Клейбера от остальных, даже более талантливых дирижеров — это бьющая через край заразительная творческая энергия. Возле него открывался мир эмоций, импровизации, безудержного воображения, и ум распахивался навстречу новому и неизведанному.
Мы понимали друг друга с полуслова, как будто были знакомы с незапамятных времен. Репетиции с ним были настоящим чудом. Еще одно прекрасное качество этого человека — а их было не счесть — заключалось в том, что вдали от пульта нельзя было догадаться, что он один из величайших дирижеров XX века. Клейбер сразу покорил оркестр «Ла Скала» и вместе с Доминго подарил нам абсолютно новый подход к «Отелло».
Постепенно и моя работа стала принимать неожиданные формы. Я по-новому увидел содержание шекспировской трагедии, открыл для себя ключ к ее прочтению: к трагическому концу Отелло приводит борьба между добром и злом. Чувствуя себя преданным, герой отвергает христианство, которое принял, когда оказался в плену, и возвращается к своим африканским корням, к дикой вере предков. Яго — воплощение зла, гнездящегося в сердце белого человека, того зла, которое Запад веками нес хрупким первобытным культурам и которое приводило к их уничтожению.
То, что произошло возле театра в вечер премьеры, едва не разрушило плоды нашего многомесячного труда. Около двух тысяч демонстрантов — не граждан Евросоюза устроили безобразное выступление против зрителей «Ла Скала», которые, по их мнению, были элитой общества, виновного во всякой социальной несправедливости.
Не знаю, кто был организатором этой демонстрации, но он явно выбрал неподходящий момент, потому что на этот раз спектакль давали не только для богатых, увешанных драгоценностями миланских дам. Паоло Грасси, директор театра, убежденный социалист, решил, что «Ла Скала» должен быть открыт для всех, и убедил государственную телекомпанию RAI показать премьеру по телевидению в прямой трансляции, как знак культурного возрождения страны. Увидеть «Отелло» получили возможность миллионы телезрителей. Оформление было очень красивым и величественным, как положено событию такого уровня. У нас были массивные декорации из настоящего дерева, железа и камня, которые погружали зрителя в мир венецианских гарнизонов и корабельных команд. Тяжелые костюмы и блестящее вооружение подчеркивали мрачную атмосферу сражения и бури, с которых начиналась трагедия.
Думаю, что ни у одного спектакля не было столько зрителей. Телезрители могли выбирать, что смотреть: оперу или хронику беспорядков перед зданием театра. Достаточно было переключить канал, чтобы от высочайшей культуры перейти к сценам глупого и бессмысленного варварства.
Когда занавес поднялся, никто из нас не был уверен, что удастся довести оперу до конца. Грасси был не из тех, кто теряется перед хулиганами, и вызвал полицию и даже войска на защиту театра. Но и двух-трех негодяев хватило бы, чтобы испортить вечер и поднять панику, попади они в зал.
В конце концов победили мы. Я хочу сказать, победило цивилизованное общество. Вандалов остановили, а «Отелло» имел двойной успех — в театре и по телевидению. В свое время я много размышлял о том, как бы познакомить с оперой широкую публику с помощью кино или телевидения. А в тот вечер я в полной мере смог оценить значение средств массовой информации и возможности, которые они открывали. На маленьком домашнем экране двадцать четыре миллиона человек видели прямую трансляцию нашего «Отелло» в Италии и в Европе!
Однако тот шум, который подняли вокруг премьеры «Отелло», ни в коей мере не должен заслонить истинное значение этого спектакля. Не боясь преувеличений, утверждаю, что эта постановка «Отелло» — одна из лучших в «Ла Скала» и за всю историю оперы нашего славного века благодаря созвездию исполнителей, которое вряд ли можно будет еще раз соединить таким удачным образом. Одни козырные тузы, что-то вроде кар точных фокусов Рола. Таланты лучших исполнителей мира раскрылись в этом спектакле во всей полноте: Клейбер, Доминго, Френи, Каппуччилли, оркестр, хор и ваш покорный слуга, который сработал ларец для этих сокровищ.
Почему я всегда так гордился этой постановкой? Тогда премьеру спектакля передавали по телевидению всех европейских стран. Но за истекшие десятилетия об этой записи больше не упоминалось. Она существует? Если да, то где? Как ее можно раздобыть? Как-то я разговорился об этом с одним молодым приятелем — большим любителем музыки и выразил сожаление, что он не может собственными глазами увидеть наш спектакль 1976 года. Приятель загорелся идеей найти запись и нашел, уж не знаю как, записал на DVD и подарил мне, к моей неописуемой радости. Так после тридцатилетнего перерыва ожили мои воспоминания, и я снова увидел то, что считал навсегда потерянным, и еще раз смог убедиться в своей правоте.
У меня сразу возникла масса вопросов. Почему никому не пришло в голову еще раз показать такую красоту? Почему спектакль не записали на DVD и не пустили в массовую продажу, чтобы каждый мог его увидеть? Почему? Почему?
Немало вопросов и к «Ла Скала». Почему такое прекрасное оформление после успеха последующих лет, вплоть до юбилея 1987 года, было полностью забыто? Почему не стало неотъемлемой частью сокровищницы театра, как «Аида» под управлением Гаваццени и с оформлением Лилы де Нобили, или моя любимая «Богема» 1963 года, которая воскресает каждый сезон с неизменным успехом?
К сожалению, в поисках ответов на эти вопросы нельзя оставить в стороне маэстро Риккардо Мути, который в те годы был вершителем судеб (чтобы не сказать диктатором) театра. Ответ напрашивается сам собой: он решил поставить своего «Отелло». Говорят, он сказал: «„Ла Скала“ не может жить прошлым, надо идти вперед».
Вперед?! Выбросить старую постановку и сделать новую — безумное решение, тем более что Клейбер охотно вернулся бы в «Ла Скала» дирижировать «старой» постановкой — это хорошо было известно. Но хотя Мути всегда называл себя восторженным поклонником Карлоса Клейбера, при нем в «Ла Скала» Клейбер не дирижировал ни разу.
А когда несколько лет назад «Ла Скала» с помощью газеты «Коррьере делла Сера» выпустил на DVD десять «незабвенных» постановок, Мути включил в их число своего, а не клейберовского «Отелло» — а тот был обречен на забвение!
Но теперь настало время к нему вернуться, в память о Карлосе, ради нас и тех, кто еще придет. Надеюсь, что уже поднял столько шума, что перебудил всех.
Незадолго до Пасхи 1977 года княгиня Монакская Грейс[97] организовала благотворительный праздник с показом «Иисуса из Назарета». Как истинная христианка, она проявляла интерес к фильму уже во время съемок. Приезжала к нам в Марокко и Тунис, подолгу разговаривала с актерами и как будто окуналась во времена молодости, по которым, как она мне призналась, немного тосковала. Она оставила кинематограф, выйдя замуж за Ренье, князя Монако, и посвятила жизнь своей чудесной, хотя и беспокойной семье. Ее классическая красота и изящество не изменились с голливудских времен: она была царицей, где бы ни появлялась.
Грейс очень дружила с Каллас, и я пожаловался ей, что Марии не было с нами в вечер показа «Иисуса». Грейс сказала, что они недавно обедали вместе: Мария пришла с Деветци, и это было не слишком приятно. Наш разговор постепенно перешел на Марию. Оказалось, что мы оба очень о ней беспокоимся. Я стал рассказывать о недавно задуманном проекте фильма «Кармен», где Мария будет сниматься под фонограмму великолепной записи двенадцатилетней давности под управлением Претра. Грейс удивилась, что я всерьез думаю об этом проекте, когда еще не закончен даже благотворительный показ «Иисуса», но идеей моей очень заинтересовалась.
— Может быть, в настоящий момент ей больше всего нужна именно работа, — пробормотала она со вздохом.
— А почему бы тебе не поговорить с ней? Лучшего посредника не придумать.
Грейс обещала подумать, но очень скоро прислала мне короткую записку: «Увы, о работе Мария даже слышать не хочет. Попробуй сам».
На Вербное воскресенье по телевидению показали долгожданного «Иисуса из Назарета», и я закрутился в водовороте всеобщего энтузиазма. В пасхальные дни «Иисуса» показали в Америке, Англии и Италии, а затем в других странах, и везде с астрономическим рейтингом. В Италии сериал смотрели почти восемьдесят процентов населения. Даже Папа упомянул о нем в своем воскресном послании:
— Сегодня вечером вы сможете увидеть, как можно хорошо использовать те средства информации, которые Бог дал человеку, — объявил Павел VI и добавил: — Но помните, что какие бы добрые чувства и добрые мысли ни пробудил в вас этот фильм, они — только начало вашего поиска Бога. Только начало очень долгого пути.
После успеха «Иисуса из Назарета» моя популярность настолько возросла, что порой приводила к неожиданным последствиям. Люди на улице с благоговением целовали мне руки, как будто я не просто снял фильм, а приблизился к Богу. Им казалось, что я нахожусь с Богом в прямом контакте и что Он, Отец, разрешил мне снять фильм о жизни Сына!
Тем летом в Позитано снова поселился Лоуренс Оливье с семьей, и мы стали работать над пьесой «Филумена Мартурано», шедевром Эдуардо Де Филиппо, который должен был открывать сезон в Вест-Энде в Лондоне. Приезд Ларри всегда был событием, в том числе и благодаря его способности «играть» везде и по любому поводу. На этот раз он появился смертельно бледный и почти облысевший, остатки волос были выкрашены в морковный цвет, говорил с резким американским акцентом (потом он сказал, что готовится к съемкам фильма про генерала Макартура).
Его любимым образом был старый больной джентльмен. Он так убедительно его изображал, что я поверил, будто у Ларри в самом деле кашель и одышка и он серьезно болен.
Я велел Али за ним приглядывать, но Али не понимал, чего я так беспокоюсь. Он доложил, что лорд Оливье каждое утро встает очень рано и подолгу плавает в море, причем ныряет прямо со скал, не тратя времени на спуск на пляж. На другой день я лично захотел удостовериться и был поражен, увидев своего друга в море в отличной форме. Я ждал, когда Ларри выйдет из воды, но как только он меня заметил, сразу согнулся пополам, стал сухоньким и хилым «старичком» и с трудом полез в гору.
— Мой мальчик, — задыхаясь произнес он, — такому пожилому человеку, как я, неплохо иногда поплавать. Как я благодарен тебе за возможность плавать в этом раю. Как ты добр! Низкий тебе поклон!
И что я мог на это ответить?
Если для семьи Оливье «Филумена» стала поводом для приятного отдыха, то для меня она была отравлена печальным известием, которое пришло во время репетиций. 16 сентября от инсульта умерла Мария Каллас.
Я примчался в Париж и сразу поехал к ней домой, чтобы в последний раз взглянуть на удивительное лицо женщины, к которой я был так привязан. Эта телесная оболочка принадлежала двум разным женщинам: Марии, которая хотела любить и быть любимой, и Каллас, одинокой звезде, весталке, принесенной в жертву искусству. Вся ее жизнь была борьбой, и она потерпела в ней поражение, ведь музы иной раз награждают трагической судьбой тех, кто становится их служителем.
Я боялся, что нездоровое внимание прессы может превратить похороны в цирковое представление, поэтому улетел в Лондон и оттуда связался с ее друзьями по всему миру. Мы решили, что в день похорон пройдут одновременно церковные заупокойные службы в Милане, Риме, Нью-Йорке и Лондоне. Известие, что Марию кремировали сразу после отпевания, стало для нас полной неожиданностью. Придя в себя после первоначального изумления, мы решили, что так хотела она сама. Однако Менегини был в ужасе и не находил себе места. Он был слишком стар и болен, чтобы лететь в Париж, но заявил прессе о своем возмущении: «Мария — православная гречанка и всегда была убежденной противницей кремации. Кто это придумал?»
Сразу же после смерти Марии ее квартира со всем содержимым была передана грекам — Деветци и Джеки, сестре Марии, прилетевшей в Париж вместе с мужем — сомнительным греческим адвокатом на двадцать пять лет ее моложе. Что происходило в квартире в те дни, останется тайной — там все сплошная тайна. Даже Бруна, потрясенная смертью любимой хозяйки, не захотела ничего рассказывать и как можно скорее уехала из Парижа к семье.
Кто приказал так поспешно кремировать Марию? Кто имел право принимать решение? Может быть, кому-то хотелось избежать вскрытия? Марию отравили? Или она приняла слишком большую дозу лекарств? Она уже сидела на снотворных для сна и амфетаминах для бодрствования, хотя ни один врач не мог прописать ей эти наркотики, да еще при сердечной недостаточности. Так где она брала лекарства? Кто приучил ее к ним и почему? Кто мечтал от нее отделаться? Ради чего?
Объектом серьезных подозрений стала Деветци. Завещание Марии не нашлось, но ее воля была хорошо известна. Она много раз открыто заявляла, что за исключением небольших подарков преданным Бруне и Ферруччо, она все оставляет Дому для престарелых певцов в Милане, основанному еще Джузеппе Верди. Больше никто не мог претендовать на ее имущество, в первую очередь Менегини и ее сестра, два человека, которых она терпеть не могла и которым не простила старых обид.
Но в последнее время вся жизнь Марии оказалась в руках Деветци, она стала распоряжаться всей квартирой и получила доступ даже к сейфу. Памятуя, как эти две гречанки поделили между собой все, что сумели прибрать к рукам, подозрение, что они просто уничтожили завещание, по которому им ничего не доставалось, становится весьма обоснованным. В 2004 году «Сотбис» в Женеве устроила грандиозный аукцион драгоценностей, которые номинально принадлежали Каллас. Имя владельца держалось в секрете, но одна швейцарская газета написала, что это грек по фамилии Деветци, очевидный наследник пресловутой Вассы. Подозрения перешли в уверенность. Но тайна так и не была раскрыта, потому что у Каллас, кроме всего прочего, никогда не было крупных драгоценностей. Онассис никогда ничего ей не дарил, а Менегини ограничивался дешевкой. «Серьезные драгоценности покупать невыгодно, — говорил он, — налоги разорят». Украшения, которые Мария надевала по торжественным случаям, брались напрокат у известных ювелиров.
Но настоящее богатство, действительно гигантское состояние, остается нетронутым. Доходы от авторских прав заблокированы в компании EMI, пока не закончится тяжба между сестрой Марии и наследниками Менегини. По международным законам Мария умерла, будучи женой Менегини, поскольку ее развод признала только Греция, поэтому бывший муж мог предъявить права на наследство.
Мне тревожно ощущение катарсиса, которым завершается судьба одной из величайших фигур артистического мира. Вероятно, мы никогда не узнаем правды. Прах Марии был развеян в Эгейском море с палубы греческого военного судна в бесстрастном присутствии Деветци и сестры Марии, ненавистной Джеки.
Sic transit gloria mundi…[98]
Я привык жить в окружении великих талантов, а теперь их больше не было. Смерть Анны Маньяни, Лукино, Марии подвели черту под целым миром и под значительным периодом моей жизни. Я чувствовал, что 1977 год станет поворотным не только для меня, но и для всей страны и мира. Активность «красных бригад» угрожала государственному устройству и общественному порядку: похищения людей и террористические акты стали ежедневной горькой приправой к новостям. Все больше убеждаясь, что итальянская левая оппозиция не в состоянии быть гарантом нашей демократии, я стал подумывать о том, чтобы уехать из невыносимой атмосферы хаоса и насилия, в которой задыхалась страна.
Это решение не выходило за рамки пустых разговоров вслух и про себя, и тем бы все и кончилось, если бы не несколько совпадений. Еще до выхода «Иисуса из Назарета» MGM[99] пригласила меня в Голливуд, а потом снова связалась со мной, когда мы дублировали фильм в Лондоне. Но я был слишком погружен в работу, чтобы думать о новых проектах. Поблагодарил за приглашение, однако в голове у меня были совсем другие мысли.
Однажды февральским вечером я вернулся домой после работы усталый и в плохом настроении. Пиппо с моей секретаршей Бьянкой ушли в театр. Я приготовил себе ужин и включил телевизор. Показывали старый фильм Кинга Видора «Чемпион» с Уоллесом Бири и Джеки Купером, который я видел ребенком. На меня нахлынули воспоминания о детстве, и, как и много лет назад, я не смог сдержать слезы.
В Лондоне было десять вечера. В надежде на разницу часовых поясов я позвонил Стэну Кэмену, моему лос-анджелесскому агенту, и сказал, что есть идея для MGM — ремейк фильма «Чемпион». Стэн уговорил меня сразу позвонить президенту MGM Дику Шеперду, которому я официально предложил сделать ремейк этого незабываемого фильма их же собственного производства. Я попросил его как можно скорее запросить копию фильма и посмотреть его. На следующий день он перезвонил: фильм посмотрел, но уверен в проекте не был — чересчур сентиментально для современной публики. Но я стал убеждать его, что именно это нам и нужно: если я, прожженный старый флорентиец, рыдал как малое дитя над этой историей, то за реакцию миллионов зрителей можно ручаться. Он согласился, и мы решили, что в конце 1977 года я приеду в Лос-Анджелес поглядеть, не найдется ли мне местечко в Мекке мирового кино.
Зная, что в Голливуде даже очень умные легко становятся дураками, я после успеха «Иисуса» все-таки верил в свою звезду и готов был поднять перчатку.
Благодаря Сью Менгерс, симпатичной и остроумной агентше, которая надеялась отбить меня у Стэна Кэмена, я познакомился со сложной голливудской «системой ценностей». Она устроила праздник в честь моего приезда и очень тщательно к нему подготовилась. Начинался он легким ужином для приглашенных серии «А», дюжины известных режиссеров и продюсеров. После ужина прибыла серия «А супер плюс», то есть человек десять самых настоящих звезд: Грегори Пек, Барбра Стрейзанд, Джек Леммон — им был подан кофе. А уже поздно вечером к выпивке и танцам была допущена серия «Б» — несколько десятков малоизвестных, но стремящихся к популярности человек. Уверен, что такой церемониал не снился даже венскому императорскому двору.
Первые месяцы мне жилось очень приятно, Лос-Анджелес мне сразу понравился. Я снял отличный дом в Беверли-Хиллз и перевез из Италии все семейство с Видже и собаками. Но не стоит думать о Голливуде — «моем» Голливуде — как о рае с безудержной роскошью, скандалами и пороками, коктейлями у бассейна и модными наркотиками. Мне удалось создать на Западном побережье уголок Италии. Видже сразу же взялась за дело и стала готовить блюда итальянской кухни, как умела только она. К нам начали заходить друзья, все чаще и больше, особенно ближе к обеду или ужину. Мы и глазом моргнуть не успели, как дом стал пристанищем для многочисленного, вечно голодного киношного люда.
В Голливуде принято было проводить много времени на открытом воздухе и вести здоровый спортивный образ жизни. Приятный чистый город, где рано утром все жители идут на работу. Я даже стал задумываться: а не переехать ли мне сюда насовсем, хотя понимал, что буду скучать по «краеугольным камням» родной культуры — музыке, опере, театру. Жизнь улыбалась мне, ведь теперь я стал принадлежать к «number one» и жил в городе, который существовал благодаря кино.
Только я начал подбирать актеров, как Пиппо нашел в Нью-Йорке шестилетнего мальчугана с сияющими глазами и светлыми волосами, идеально подходившего на роль. Его звали Рикки Шредер. Джон Войт, актер, которого я давно любил, увидев пробу Рикки, согласился сниматься в роли отца — мальчик произвел на него большое впечатление.
— Надо приложить все усилия, чтобы этот вундеркинд снимался, — сказал он.
А на роль матери мы взяли Фэй Данауэй.
Рикки сразу стал членом нашей большой семьи. Видже была ему нянькой, а Пиппо старшим братом. Нам надо было снимать последнюю сцену, где малыш пытается растолкать отца после матча, думая, что он жив. Мне не хотелось прибегать к обычным уловкам, которыми я пользовался раньше, чтобы ребенок плакал, и я нашел решение благодаря Пиппо, которого Рикки очень любил. Я сделал вид, что страшно недоволен работой Пиппо, накричал на него и грубо заявил, что увольняю. Рикки громко заплакал. Я велел снимать, и плача Рикки по поводу увольнения Пиппо хватило на всю сцену смерти отца. Между дублями малыш упрашивал меня, чтобы я простил Пиппо, и когда сцена была отснята, я согласился. Слезы Рикки растрогали всю съемочную группу.
Я снимал этот фильм с огромным удовольствием, в атмосфере, которая напоминала мне работу прежних лет. При этом я был уверен, что критика не примет фильм из-за его откровенной сентиментальности, а зрителям он понравится. Так и вышло. MGM всего за год получила колоссальную прибыль в сто сорок шесть миллионов долларов, а вложила всего девять.
Кеннет Тайнен, критик, который когда-то очень хвалил мою первую театральную постановку «Ромео и Джульетты», жил теперь в Калифорнии. Я не терял его из виду со времен «Олд-Вика» и пригласил на один из первых просмотров «Чемпиона». Он считался очень строгим критиком, и я был готов к самой жесткой реакции. Но ошибся.
— Этот жанр мне никогда не нравился, — сказал он. — Но ты победил. Ты заставил меня плакать, как я не плакал много лет. Какой стыд! — И в глазах у него снова появились слезы.
Как ни странно, «Чемпион» — мой единственный фильм, который понравился Доналду Даунсу.
— Вот это кино, — сказал он. — Хватит с тебя Шекспира, наигрался. Пришло время перейти к современной классике, позаботиться о настоящих человеческих переживаниях.
В заключение Доналд добавил, что он ошибся во мне, и я, оказывается, вполне гожусь не только в театральные, но и в кинорежиссеры.
Успех, который фильм имел у зрителей, должен был сделать меня любимцем MGM, но получилось совсем по-другому. Американское кино, непонятно почему, периодически сотрясают внутренние кризисы. В результате летят головы руководства, а пришедшие, забрав все в свои руки, каждый раз начинают с нуля.
Мой добрый приятель Дик Шеперд, который поверил в «Чемпиона» и пробил постановку, был уволен. Те, кто занял его место, спокойно проглотили заработанные нами доллары, не сказав ни слова благодарности и не предложив ничего на будущее. На меня они смотрели почти с неприязнью. Тайны Голливуда…
Итак, надо было уезжать из Лос-Анджелеса, но Беверли-Хиллз меня приворожил. Только мысли о предстоящей в Европе работе заставили меня принять решение. Мне предложили поставить «Кармен» в Венской опере, и я с нетерпением ждал новой встречи с Карлосом Клейбером.
Как и при постановке «Отелло», передо мной опять распахнулся новый мир, полный неожиданностей и удивительных событий. Воспоминаний об этом периоде хватило бы не на один том. Расскажу только об одном случае, о котором нельзя умолчать.
Однажды утром Клейбер задержался у директора театра и опоздал к началу репетиции. Оркестр, не дожидаясь дирижера, заиграл увертюру. Клейбер поспешит в зал, но остановился и стал слушать. Потом вышел к оркестру, поаплодировал и сказал:
— Молодцы! Вы так прекрасно играете, что я совершенно вам не нужен. Какие глупости все эти разговоры про дирижера… Абсолютно бессмысленный персонаж.
К всеобщему изумлению, он ушел в гостиницу и начал собирать чемодан. Руководители театра прибежали к нему и умоляли простить неудачную шутку. С трудом его убедили вернуться в театр, но он упрямо продолжал повторять, что дирижеры не нужны.
— Дирижировать должна первая скрипка, когда-то так и было. Оркестр — это войско, которое не нуждается в генерале, ему нужны только отличный капитан и хорошие солдаты.
Работая с Клейбером, я не переставал удивляться, сколько скрытых сокровищ рассыпано в шедевре Бизе. Мы трудились в полном взаимодействии, оба были заряжены одинаковой творческой энергией, мысль одного подхватывалась другим.
Поразительно, как тихий и скромный Бизе вдруг неожиданно создал такой ураган, беспрецедентный в тогдашней музыке. Карлос с радостным изумлением пытался до конца осмыслить каждую ноту. Отчетливо помню выражение блаженства на его лице, когда он дирижировал вступлением в третий акт — большим симфоническим фрагментом, неожиданным в той части оперы.
— Это созерцание лунной ночи в горах Сьерра-Морена, — пояснял он и погружался в музыку, как дитя в объятия матери.
От его острого чувства театра не могли укрыться проблемы, неизбежные при постановке такой оперы, как «Кармен». Связаны они с тем, что драматургическая структура оперы составлена непосредственно по новелле Мериме, то есть не отфильтрована театром.
Клейбер сразу согласился со мной по поводу сценического беспорядка в первом акте. Сначала у Бизе не было выходной арии Кармен, он видел ее появление на сцене таким, как было написано у Мериме — дикая черная кошка возникает на сцене, пересекает ее и исчезает за кулисой. Вспыхивает как молния и скрывается, привнеся тревожную ноту. Но исполнительница роли на парижской премьере, знаменитая Селестин Галли-Мари, хоть и была страшно увлечена своей героиней, потребовала от Бизе выходной арии, угрожая все бросить и уйти, если он не согласится.
Бедняга композитор отстаивал свою идею как мог, но в конце концов сдался. Однако, как он ни старался, из-под его пера не рождалось ничего, что бы пришлось певице по вкусу. Он написал две или три арии, которые были с негодованием отвергнуты и разорваны в клочки (что за прелесть они были, наверно). В отчаянии Бизе пошел в библиотеку при консерватории и в сборнике народных песен Антильских островов нашел хабанеру, которая очень понравилась Галли-Мари. Остальное известно. Нетрудно представить огорчение Бизе, ведь это единственный фрагмент гениальной партитуры, который ему не принадлежит.
Я всегда думал, какой могла быть опера в первоначальном виде, как ее задумал Бизе. Попробовал сказать об этом Клейберу, и он сразу согласился:
— Это плохая музыка. Чувствуется, что она не отсюда. Ты прав.
Тут я осмелился предложить:
— А давай попробуем на репетиции исключить ее. Посмотрим, что будет, а?
Мы оба знали, что это только игра. Ведь и вообразить невозможно было дать оперу без хабанеры! Попробовали, и получилось прекрасно. В первый раз в истории оперы и, к сожалению, в последний мы услышали то, что написал Бизе: таинственный и дерзкий выход дикой цыганки.
Клейбер не мог забыть этот эпизод: «Жалко, что тебя еще не было, когда Бизе писал оперу, — говорил он. — Ты бы сумел убедить Галли-Мари не требовать от него выходной арии, ведь она никому не нужна. Ах как жалко!»
Когда мы с Ленни Бернстайном сидели за фортепьяно над «Аидой», он часто прерывался и восторженно восклицал:
— Ты только послушай этот пассаж, эту фразу, а этот звук — ты вообще не ждешь ничего подобного! Верди просто гений! Гений! Гений!
Его ужасно возмущало, и с каждым разом все больше и больше, как обошлись с «Аидой» после премьеры в Каире «эти свиньи критики». А потом еще в Париже и в «Ла Скала».
«Отвратительное старье, прогнившая манера сочинять оперы! Хватит! Хватит с нас Верди! Пусть отправляется в богадельню и даст дорогу новой музыке». Действительно невообразимые отзывы, и они страшно возмущали и раздражали Ленни.
— Старым он для них, видите ли, был! Это Верди-то!
Он даже вынашивал идею, которую, к сожалению, не удалось реализовать, — собрать целую книгу обо всех премьерных провалах величайших шедевров театра и музыки. Услышав об этом, я «сделал стойку», потому что и у меня с критикой отношения складывались не слишком гладко. Действительно, как ни странно, в XIX веке, золотом веке оперы, очень мало шедевров было принято критикой благосклонно. Перечень ругательных отзывов, грубых и бесцеремонных, как редко бывает в других жанрах, грозил оказаться бесконечным.
Многие деятели искусства, особенно художники, были приняты в штыки в начале карьеры (всем известна судьба Ван Гога, Модильяни и других). Но композиторы, создатели опер, были намного более уязвимы и легко теряли веру в себя и свое творчество.
После жестокой критики премьеры «Аиды» в Каире Верди взялся за следующую оперу только через пятнадцать лет. А сколько шедевров он мог бы нам подарить! Сколько прекрасных произведений не увидело свет из-за предвзятости критики! Сколько настойчивости понадобилось Арриго Бойто и Джулио Рикорди, чтобы убедить Верди написать «Отелло». Никто не желает помнить об ответственности критики, которая поколениями пила кровь гениев. Это чудовище до сих пор не удается усмирить, несмотря на все удары, которые достаются ей от истории и публики.
Так что у Ленни Бернстайна (он тоже получил свою долю критики) была тысяча причин надеяться, что кто-нибудь напишет книгу (две, три, пять) обо всех провалах опер, вскоре ставших признанными шедеврами: «Дон Жуан», «Севильский цирюльник», «Норма», «Травиата», «Мадам Баттерфляй»… «Кармен»!
Собственно, «Кармен» и навела меня на эти размышления о критике.
Премьера «Кармен» 13 марта 1875 года провалилась. Возможно, этого ожидали, учитывая новизну и смелость музыки и содержания. То, что было написано после премьеры, в самом деле потрясает. Уже одного этого хватило бы на целый том, о котором мечтал Ленни. Приведу несколько выдержек.
Вот рецензия Ашиля де Лозьера: «Опера теперь отдана на откуп дивам низкого пошиба. Не счесть сценических образов проституток, с каждым разом все скандальнее и отвратительнее… Мы думали, что Манон Леско и Маргарита Готье привели нас на самое дно, но вот настал черед самой бесстыжей… Кармен, с ее животными страстями».
А вот что писал Жан Анри Дюпен: «Либретто можно пересказать в двух словах. Мужчина встречает женщину — акт первый. Во втором они встречаются и занимаются любовью. Потом она понимает, что больше его не любит — это третий акт. А в четвертом он ее убивает. Это что, сюжет? Вы это называете сюжетом?» Да, и он называется «Кармен».
Но кое-кто сразу понял, что это шедевр. Чиновник Венской оперы, герр Нитше, немедленно принял решение показать оперу в Вене. Правда, предложил внести кое-какие изменения. Во-первых, не считать «Кармен» опереттой и заменить речитативы прелестной музыкой, сочиненной Эрнестом Жиро. Во-вторых, максимально использовать зрелищные возможности четвертого акта, добавив несколько танцев (из других опер Бизе) и торжественное шествие тореадоров в финале.
«Кармен» показали в Вене 23 октября 1875 года. Успех был грандиозным! Весь город пришел посмотреть на это чудо, и затем опера с неизменным триумфом пошла на сценах мира.
Единственная печальная нота во всей истории: бедняга Бизе, в отличие от Верди, который устоял против злопыхательства критиков, не выдержал напряжения. Он умер от сердечного приступа 3 июня 1875 года, прожив всего тридцать семь лет. Обстоятельства его смерти покрыты мраком. Говорили даже, что во время представления «Кармен», когда Галли-Мари в третьем акте пела чудную арию о картах, перевернув карту и мрачно пропев «La mort, toujours la mort!», она увидела на ней лицо умирающего Бизе.
Вполне понятно, что потрясенная Галли-Мари с тех пор ни разу не пела «Кармен».
XIX. О Виолетта, милая Виолетта!
Знаете, что такое вещий сон? Вам наверняка снилось когда-нибудь совершенно незнакомое место, где вы никогда не были и не видели его даже на фотографии, но твердо знаете, что оно действительно существует. У меня часто бывали такие сны или видения мест, где я впоследствии оказывался: деревенская площадь, интерьеры с величественным убранством… Я видел даже Назарет, марокканскую деревню, и нашел ее именно такой, какой представлял. Одно из таких видений я помнил очень долго: берег моря, длинный ряд пальм и бесконечный песчаный пляж. Очень четкая и немного тревожная картина.
Закончив съемки «Чемпиона», я вернулся в Тунис. Тарак бен Аммар, ассоциированный продюсер фильма «Иисус из Назарета», повез меня вглубь страны до пустыни Сахары, где между бесконечными волнообразными дюнами изредка встречаются оазисы с водоемом, окаймленным пальмами. Мне вспомнился мой сон, хотя картины были немного другими. Я определенно видел то место где-то в Северной Африке. Но где и когда?
Постепенно память сформулировала ответ: в Египте, более десяти лет назад. Я собирался снимать фильм по «Аиде» и говорил об этом в Нью-Йорке с моей приятельницей Розмери Канцлер, которая в свое время, при открытии новой сцены «Метрополитен-опера», добилась участия Фонда Форда в постановке «Антония и Клеопатры». Тогда возникла идея устроить масштабное культурное мероприятие с целью улучшения отношений между Египтом и США. Война не позволила реализовать эти планы, но еще до нее, в 1967 году, я поехал в Египет посмотреть места для съемок фильма.
Через неделю после приезда в Каир я купил в гостинице марки, и меня удивило изображение на них президента Насера на фоне пылающего города. Я спросил у портье, что это за город. Он ответил: «Тель-Авив». У меня кровь застыла в жилах. Неужели это произошло за то короткое время, что я осматривал пирамиды? Нет еще, гордо сказал портье, но это случится очень скоро. Я сел в первый же (и последний, как оказалось) самолет и вернулся в Италию. На следующий день началась Шестидневная война, которая, к счастью, вовсе не закончилась пожаром Тель-Авива.
С тех пор прошло больше десяти лет. Я не мог понять, почему так и не вернулся к тому проекту. После Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом положение на Ближнем Востоке изменилось, и препятствий для съемок фильма в Египте не было.
Верди написал «Аиду» для торжественного открытия Суэцкого канала, который должен был соединить Европу с исламским миром. И теперь моя идея снять «Аиду» в кино опять стала вполне актуальной. Я сразу переговорил об этом с Тараком. В его культуре опера как таковая не существовала, но он видел в Вене «Кармен» и был покорен. Да и сам по себе замысел вызвал его интерес. Так проект «Аиды» приобрел видимые очертания.
Снять оперу в кино означало для меня соединить две великие любви моей жизни. Мне всегда хотелось показать оперу языком кинематографа. Многие режиссеры уже опробовали этот путь: Бергман снял «Волшебную флейту», Лози — «Дон Жуана», Жан-Пьер Поннель — телефильмы «Женитьба Фигаро» и «Тоску». Больше всего я сожалел, что не успел снять ни одного фильма с Марией Каллас.
Летом 1980 года мы с Тараком отправились искать места для съемок. Однажды, когда мы плыли по Нилу, гид велел причалить к берегу и повел нас к плантации финиковых пальм недалеко от реки. Пальмы были старые-престарые, лет по сто, не меньше, и конца-краю им не было видно. Я узнал место, которое мне снилось, то самое побережье с пальмами и песком — так я и представлял себе «Аиду». Сон стал явью, и я нашел идеальное место действия оперы. Все совпадало удивительным образом. Там еще был широкий проход между древними пальмами, и я подумал, что лучше места для триумфального марша не придумать…
Полные энтузиазма, мы с Тараком вернулись в Каир и занялись организацией съемок. Отец Тарака, друг Анвара Садата и его жены, устроил нам встречу у него в резиденции. Мы рассказали Садату о проекте, и он сразу одобрил его. Он страстно мечтал вывести Египет из изоляции, а «Аида» помогла бы показать, что между Северной Африкой и остальным Средиземноморьем существует глубокая культурная связь.
Я вернулся в Америку и позвонил Леонарду Бернстайну, которому мечтал поручить музыкальную часть. Он с радостью согласился. Два месяца я просиживал все выходные у него дома в Коннектикуте, и нам удалось подготовить подробный сценарий, к которому я приложил эскизы планов, сцен и костюмов. Тарак был поражен объемом проделанной работы. А пока он искал источники финансирования, я приступил к съемкам моего второго американского фильма.
«Бесконечная любовь» — современная версия «Ромео и Джульетты», сентиментальный фильм вроде «Чемпиона». Он вышел в июле 1981 года. Реакция критики была скорее недоброжелательной, но успех у зрителя был настолько велик, что картина только за первые недели проката собрала более восьмидесяти миллионов долларов.
Очень приятное воспоминание связано у меня с песней из фильма, которая тоже называется «Бесконечная любовь». Ее написал Лайонел Ритчи и спел вместе с божественной Дайаной Росс. Она прилетела для записи посреди ночи на частном самолете после концерта в Лас-Вегасе. Дайана была голодная, и хотелось ей жареной курицы, которую с трудом удалось найти в круглосуточном KFC. Наконец она запела. Уже почти наступило утро, но Дайана, несмотря на усталость, была в отличной форме. Мы все чувствовали необыкновенный эмоциональный подъем. Мне казалось, что я снова вернулся во времена, когда «живьем» слушал великолепную четверку «Битлз». Кстати, песня быстро стала очень популярной и немало способствовала успеху фильма.
Вскоре после окончания съемок, в январе 1981, года я вернулся в Италию, где меня ждал контракт с «Ла Скала» на новую постановку «Сельской чести» и «Паяцев». Это и стало для меня долгожданной возможностью снять фильм по опере. Итальянское телевидение собиралось показать обе оперы в прямой трансляции, как «Отелло», но на этот раз, во избежание недочетов и ошибок, я предложил снять их по всем правилам кинематографа. Часть снимали непосредственно в театре, правда, без публики, а часть — на Сицилии, чтобы сделать фильм красочнее. Пласидо Доминго исполнял главные партии в обеих операх, а это очень привлекало телекомпанию «Юнитель». По моему настоянию «Ла Скала» пригласил для «Паяцев» (только на съемки, потому что в театре была занята другая певица) гречанку Терезу Стратас, с которой я работал в «Метрополитенопера». Стратас была блестящей актрисой и внешне очень подходила на роль Недды.
Оба телевизионных фильма-оперы были приняты в Европе очень хорошо. Но ничто не могло сравниться с успехом в Америке, где их показали по Третьему каналу. «Паяцы» получил премии «Грэмми» и «Эмми». Совершенно необыкновенным был высочайший рейтинг прослушивания — как у новостных программ. Горы восторженных писем наглядно продемонстрировали, что оперная публика гораздо многочисленнее, чем можно было предположить. Это подтверждает мою мысль о том, что опера, вырвавшись из закрытых пыльных театров, которые ограничивают ее популярность, могла бы стать поистине массовым искусством.
Ободренные успехом «Сельской чести» и «Паяцев», мы решили, что настало время для «Аиды». «Юнитель» опять проявила к ней интерес и готова была взять на себя обеспечение половины бюджета вместе с английским, французским и итальянским телевидением, претендовавшими на приобретение прав. Казалось, все готово. Но пока я ездил в Аргентину на премьеру «Чемпиона», пришло ужасное сообщение: во время военного парада в Каире убит президент Садат. Никогда мне не было так стыдно, что я принадлежу к роду человеческому, столь легко убивающему собственных детей. Надежды, которые пробудил этот человек, мечты о мире на Ближнем Востоке и о сближении арабских стран с Европой, в одно мгновение рухнули. В Египте после смерти Садата воцарились хаос и ужас, и уже нечего было и думать о съемках нашего фильма.
Из всех несостоявшихся проектов я больше всего сожалею об «Аиде». Его крушение подтверждает, что искусство перестало быть орудием мира и гармонии. Да и было ли когда-то?
Жизнь всегда каким-то образом возвращает назад то, что отнимает, хотя делает это совершенно неожиданным способом. В ноябре 1981 года меня пригласили в красивый средневековый городок Витербо на вечер, посвященный сбору средств для бездомных животных — я очень болею душой за это дело.
Организаторы прислали за мной в Рим машину с водителем, спокойным, хорошо воспитанным молодым человеком, которого звали Лучано. Поскольку он говорил, только если я к нему обращался, я подумал было, что поездка пройдет в тишине. Но что-то в моем водителе, какая-то значительность, мало соответствующая возрасту, заставила меня разговориться с ним и вызвать на откровенность. Ему был двадцать один год, он только что вернулся из армии и искал работу. В Витербо была безработица, поэтому он брался за все, что ему предлагали, но мечтал найти свое место в жизни. Мне Лучано показался симпатичным, а на обратном пути в Рим он вдруг стал рассказывать мне свою жизнь.
Легко представить, что я почувствовал, когда узнал, что Лучано незаконный ребенок и никогда не знал отца. Мать, которую он очень любил, не имела возможности о нем заботиться, поэтому первые тринадцать лет жизни он провел в детском доме, на попечении монахинь. (У него не было тети Лиде, которая помогла бы ему вырасти и поверить, что его очень любят!) Учиться он закончил в восемнадцать лет. От жизни не ждал ничего особенного, но все же стремился получить работу, через которую смог бы найти себя, свой путь.
Я сразу понял, что в этом пареньке много прекрасных качеств, которые помогли ему пережить трудное детство, и ощутил внутреннюю близость с ним.
Вскоре мне предстояло ехать в Америку для постановки «Богемы». Вернувшись, я узнал, что Лучано не теряет надежды на поддержку с моей стороны. Мне нужен был водитель и вообще кто-то, кто бы занимался моими делами, в общем, доверенный человек. Я с удовольствием предложил ему это место.
Пиппо тогда был в Америке и работал в кино. В 1985 году он вернулся для съемок «Отелло», а потом я поручил ему совершенно невыполнимое дело — навести порядок в моем рабочем графике. Постепенно наши отношения переросли в отношения между отцом и сыном, то же произошло и с Лучано. Так в жизни у меня оказалось два близких человека, к которым я очень привязался. Два друга, без которых я уже не мог обходиться.
Я никогда не совершал ошибку, типичную для Лукино, — не смешивал личные и деловые отношения. У Лукино постоянно бывали романы с артистами, которые у него играли, — мужчинами и женщинами, потому что ему хотелось владеть ими безраздельно. А я всегда придерживался принципа, что эти две стороны ни в коем случае нельзя соединять. Режиссер всегда инстинктивно любит своих артистов, и хотя я старался удержать эту любовь в рамках служебной необходимости, все равно порой возникали затруднения. Иногда актер неправильно понимал мою порывистость или профессиональную влюбленность и ожидал каких-то других проявлений чувств, чего я никогда себе не позволял. Когда я замечал, что отношения рискуют перейти некую грань, то становился более осмотрительным. Уж слишком часто мне приходилось наблюдать, что может случиться, если эту грань нарушить. Тот же Лукино очень повредил своей репутации большого художника, когда изо всех сил пытался сделать актера из Хельмута Бергера. А Пазолини часто терпел публичные оскорбления на съемочной площадке от молодых людей, с которыми находился в близких отношениях вне работы.
В конце 1981 года я уехал в Нью-Йорк ставить «Богему», которую впоследствии критика оценила как «революционный подход к шедевру Пуччини». Однако необходимо помнить, что большинство идей, которые кажутся революционными, уже есть в самой музыке. Единственное что может сделать режиссер, — углядеть то, чего до него не замечали другие. Все, например, считали, что мое решение пригласить на главные роли в «Ромео и Джульетту» двух юных актеров — дерзкое и опасное предприятие. А это было именно то, чего хотел Шекспир, когда поставил играть Джульетту четырнадцатилетнего мальчика.
А теперь мне придется вернуться на много лет назад, думаю, читатель уже привык к таким поворотам. Я хочу начать рассказ с того времени, когда наша флорентийская компания снимала самую густонаселенную мансарду Рима; к тому же к нам часто наезжали земляки. И вот однажды появилась девушка, которая впоследствии стала гордостью Флоренции. Звали ее Ориана Фаллачи. Она ни на секунду не закрывала рта, что немного раздражало, но она была настоящей флорентийкой, и слушать ее было интересно. Не успели мы с ней толком познакомиться, как девушка исчезла. Правда, время от времени обрушивалась на нас, как снег на голову. Жизнь в Ориане так и бурлила, но мы, с тех пор как узнали, что она убежденная коммунистка и довольно агрессивно настроена, уже не испытывали к ней большой симпатии. Она была журналисткой, быстро получила известность; кто-то ее любил, кто-то ненавидел, но все очень высоко ценили.
Ориана была очень хорошенькой и могла очаровать кого угодно. Зная это, она часто провоцировала двусмысленные и неприятные ситуации, а в один прекрасный день буквально сбежала с одним из наших приятелей. Мы долго ничего о ней не знали, кроме того, что было известно из официальных источников: Ориана отлично писала, очень сильно и энергично, и к тому времени публиковалась в лучших газетах мира.
Я видел Ориану редко и всегда случайно, но однажды она прислала мне свою книгу. «Очень надеюсь, что тебе не понравится», — было сказано во вложенной в книгу записке.
Настоящее потрясение, связанное с Орианой, я испытал в Лос-Анджелесе много лет спустя. Не помню точно, ни когда это было, ни что именно я делал тогда в Америке. Я был ошеломлен, когда мне на глаза попалась фотография американских астронавтов (начало семидесятых?), которые готовились к высадке на Луну. Четыре мужские спины, а между третьей и четвертой — улыбающееся лицо Орианы. На Луну она не летала, но один из четверых возил с собой ее фотографию, может, для храбрости, а может, у них были особые отношения. Его звали Эдвин Олдрин.
Потом я узнал, что у Орианы был с ним пылкий роман, совершенно в ее стиле. Страсть, чувства и их источник подвергались анализу и выворачивались наизнанку, а в качестве конечного продукта возникало этакое «литературное соитие». Так она умела любить, так представляла себе любовь.
То же самое случилось и с Панагулисом, выдающимся деятелем греческого Сопротивления. Вокруг него также было нагорожено Бог знает что, перемешаны политика, любовь, секс, добро и зло. Ориана отдавала все и хотела получить все. Не помню, чем закончилась эта история, я не очень-то следил за ней. Не знаю, спасла Ориана Панагулиса от смертной казни или от одиночного пожизненного заключения. Мне был рассказан только финал. Вроде бы после того как весь мир был приведен в движение, после того как она написала о нем одну из лучших своих книг, склонила на свою сторону президентов и глав государств, ей удалось соединиться с ним и поселиться вместе. Безумная любовь, которая потрясла весь мир, закончилась только потому, что, живя с Панагулисом, Ориане приходилось стирать ему носки. Пара грязных носков положила конец великой саге!
Не берусь утверждать, что все было именно так. Жаль, если не так, потому что противоречивый характер Орианы в этой истории — как на ладони, да и сама история неплоха.
Наши пути не пересекались годами, но однажды в Нью-Йорке я встретил ее на улице. Мы расцеловались и наговорили друг другу массу приятных слов. Но тут она задала вопрос:
— Ты так радуешься потому, что уже прочитал мою статью в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс»?
Мне совершенно нечего было ответить. Она и в самом деле была очень популярна благодаря интервью и книгам, которые всегда попадали в десятку. На свете не было великого человека, который бы не мечтал, чтобы Ориана взяла у него интервью. Она стала самой знаменитой итальянкой на земле.
Я снова обнял ее и сказал с самым искренним видом, на какой только был способен:
— Ты прекрасно знаешь, что я всегда плевать хотел и на твой ум, и на твой успех. Я всегда сходил с ума от твоей красоты и до сих пор не понимаю, почему мы ни разу не оказались вместе в постели!
Мы зашли пообедать в ресторанчик в Линкольновском центре, оба страшно довольные встречей. Говорили только о ней, сдабривая наши спагетти именами, воспоминаниями и персонажами. Вскоре она как будто очнулась, заметила меня и спросила, что я поделываю в Нью-Йорке. Я ответил, что ставлю «Богему». У нее засверкали глаза:
— «Богема» — моя любимая опера!
Я сказал, что ее будут давать в «Метрополитен-опера» на следующий вечер. Она, не задумываясь, сказала:
— Найди мне на завтра два места. Я обязательно приду:
— Это будет нелегко, — попробовал возразить я.
— А ты найди.
Я с трудом раздобыл два места в ложе первого яруса, это были лучшие места. Ориана пришла вовремя, с подругой. На ней было элегантное черное платье, широкополая шляпа и темные очки. Ей удалось поразить и заинтриговать даже суперснобскую публику «Метрополитен-опера».
«Богема» имела очень большой успех. После премьеры в фойе был устроен торжественный ужин. Я усадил Ориану за стол со спонсорами, чьи жены отлично знали историю с астронавтом и с фотографией на Луне. Дамы в сверкающих в ярком электрическом свете бриллиантах смотрели на нее со смесью зависти и подозрительности. Постепенно обстановка разрядилась, и за столами, где сидели обладатели половины всего богатства земного шара, постоянно слышались смех и веселые шутки. Ориана тоже была очень оживлена, но несколько удивлена.
— Мне никогда не приходилось видеть столько веселых богатых людей, они смеются так, как умеют смеяться только бедняки. — Она послала мне воздушный поцелуй: — Я тоже плакала. Хорошо, что у меня были темные очки.
На зрителей произвел большое впечатление новый подход к образу Мими, хилой, умирающей от туберкулеза девушки, на чьей любви с молодым поэтом Родольфо и основан сюжет. Во всех постановках «Богемы», которые я видел, Мими появлялась в мастерской, где жил Родольфо с друзьями, в виде молодой жизнерадостной женщины (иногда с приличным лишним весом). А у меня была удивительная певица Тереза Стратас, которая умела быть красивой и одновременно хрупкой и ранимой. Вместе мы по-новому «посмотрели» на туберкулез, который веками косил молодых и завоевал себе важное место в искусстве — живописи, музыке, театре.
И у Пуччини в «Богеме», и у Верди в «Травиате» главные героини — жертвы болезни. Это неслучайно. Чахоточный больной поражал воображение загадочной бледностью, отрешенной, словно неземной красотой, которая многим казалась очень притягательной. Известно, что немало молодых людей, здоровых и крепких, находили особое удовольствие в романах с несчастными, стоящими на краю могилы. Такие девушки часто вели себя иначе, чем было принято, и на этом построены обе оперы. Иногда в них просыпалась надежда, наступал период ремиссии и прилива сил, но он очень быстро заканчивался. Тема «Травиаты» и «Богемы» — это как раз крушение надежд на исцеление несчастных девушек, проживающих свою любовь как отчаянную попытку прижаться к кому-то, полному сил и здоровья, как к столпу, держась за который, можно обрести спасение.
Классическая иллюзия чахоточных — любовь спасает. Когда Стратас показывалась на пороге мастерской Родольфо, она уже так глубоко входила в образ Мими, так переживала ее жестокую долю, что выглядела умирающей, без кровинки в лице. Она кашляла, падала в обморок, и лишь когда Родольфо подводил ее к огню, бледность растворялась в жарком дыхании любви.
Только изящная, худенькая и трепетная Стратас могла выиграть эту трудную битву. И только Хосе Каррерас выглядел юношей, способным внушить ей надежду и чувство безопасности. Это было уникальное сочетание талантов: где еще я мог бы найти такую идеальную пару, чтобы рассказать о прекрасной истории любви Мими и Родольфо? Так почему бы сразу не снять и фильм с этими замечательными исполнителями? Но не «Богему», потому что «Метрополитен» уже планировала показать ее по телевидению, и мы все этого очень ждали.
Я думал о «Травиате». О фильме «Травиата», который так и не сумел снять с Марией.
После выхода «Богемы» я позвонил Тараку в Тунис и поговорил с ним об этом проекте, отложив «Аиду», которой мы посвятили столько сил и времени. Он сразу же связался с несколькими потенциальными инвесторами арабского мира и нашел средства для фильма, а от компании «Юниверсал» добился контракта на прокат. Когда я сказал об этом Терезе Стратас, она сразу предупредила меня:
— Будь осторожен. Из-за меня у тебя могут быть большие неприятности. Буду с тобой откровенной, Франко, потому что я тебя люблю.
Многие из тех, кто хорошо ее знал, тоже советовали не связываться с ней, но для меня после совместной работы в Милане и Нью-Йорке она была безупречным профессионалом. А с другой стороны, что мне оставалось? Весь проект был ориентирован на нее, крутился вокруг нее — голос, внешность, актерское дарование внушали надежду, что «Травиату» можно снять. Ни о какой другой исполнительнице я и думать не хотел.
К сожалению, Каррерас отказался сниматься по состоянию здоровья. Пласидо Доминго считал, что на роль Альфреда не подходит по возрасту, но согласился с условием, что я помогу ему выглядеть убедительно. Он обещал похудеть и к началу съемок действительно скинул десять килограммов.
Пласидо оказался великолепным Альфредом, и, надеюсь, он простит меня, если я скажу, что вся затея все же держалась на Стратас в роли Виолетты. Виолетты страдающей и умирающей, Виолетты, чья жертва и великодушие во имя высшей и невозможной любви заставляют нас лить слезы. Каллас была непревзойденной в этой роли. Я с удивлением увидел, что во многом Стратас ее напоминает, в ней было такое же стремление проникнуть в суть образа, такая же всепоглощающая страсть и, может быть, поэтом)7 та же хрупкость и та же потребность в защите и тепле. С такими артистками работать нелегко, но по-настоящему работать стоит только с ними.
У нас начались неприятности, как только мы стали записываться в Нью-Йорке с хором и оркестром «Метрополитен-опера» под управлением Джеймса Левина. Тереза еще приходила в себя после тяжелого бронхита, голос ее был в тот момент не в лучшей форме, и ей это было известно лучше других. Но мы объяснили, что эта запись только основа для съемок и откладывать ее нельзя. Потом можно вносить любые коррективы и переделки, а пока что надо просто сделать ее и снимать с этим промежуточным вариантом.
Это ее не успокоило, а когда на съемочной площадке она услышала саму себя, то стала страшно нервничать и раздражаться. Пьеро Този, художник по костюмам, принес ей изящное домашнее платье для последней сцены, где Виолетта на смертном одре. Тереза вырвала его из рук Пьеро, швырнула на пол и принялась топтать ногами.
— Ни за что не надену, — кричала она.
Пьеро остолбенел, а потом принялся защищать свое произведение:
— Тереза, ты только померяй. Увидишь, тебе оно очень понравится.
Тереза смотрела на него с ненавистью, и тут я вдруг осознал настоящую причину ее все возрастающего раздражения: она поняла, что для нас это своего рода перевоплощение Марии Каллас в роли Виолетты. Я был не менее «виновен», чем остальные. Любое движение, о котором я просил Терезу, любая мелочь в исполнении, как бы я ни скрывал, все равно были продиктованы памятью о работе, проделанной много лет назад с Каллас. Мы все с помощью Стратас пытались реанимировать воспоминания и чувства, которые пережили с Марией.
— Я не призрак, — кричала Тереза. — Я тоже гречанка и тоже пою, но я не призрак другого человека. — И добавила, словно из глубины души: — Благодарю за честь. Но я не Каллас. Посмотрите на меня. Все, что у меня есть — это маленькое и худое тело. Только это. Мне нетрудно будет заставить поверить, что я вот-вот умру, мне хватит рубашки, в которой видно, какая я худая и хрупкая. А ходить я буду босиком.
Ее слова меня поразили. Позже, надеясь успокоить Терезу, я показал ей несколько отснятых сцен. Это оказалось роковой ошибкой. Она обиделась на главного оператора Эннио Гварньери, которому якобы не удалось передать ее истинный характер. Тереза прекрасно знала, что Гварньери делал единственный фильм с Каллас — «Медею» Пазолини, но стала обвинять его, что он снимает ее так, как снимал Марию. Она вернулась в артистическую вне себя. На другой день, приехав на съемочную площадку, мы обнаружили, что Тереза исчезла. Съемки были прерваны на два или три дня, и мы боялись, что фильма не будет вообще. Тарак, страшно встревоженный, бросился ее искать, нашел в Лондоне и убедил вернуться к работе.
Весь фильм мы спорили и искали компромиссные решения. Если Тереза не пела, то проводила все время в студии, дублируя отснятое исполнение. Однажды я поехал туда и стал тайно за ней наблюдать. И только увидев, как она старается добиться невозможного с помощью того инструмента, которым наделил ее Господь, я понял, как велико стремление к совершенству этой изумительной певицы.
К концу съемок я действительно устал от бесконечных перепадов ее настроения, и лишь когда начался монтаж, смог думать о ней с благодарностью. Последняя сцена, когда она, босая, подходит к Альфреду и протягивает к нему бледные истощенные руки, разрывала сердце. Безусловно, права оказалась Тереза.
Фильм был готов к концу 1982 года, и его впервые показали в Лос-Анджелесе на частном торжестве, которое устраивал Грегори Пек, тогдашний президент Киноакадемии. Список приглашенных выглядел внушительно: Джимми Стюарт, Кэри Грант, Фред Астер, Джордж Кьюкор, Винсент Миннелли, Джек Леммон, Дайана Росс, Барбра Стрейзанд, Бетт Дэвис… После просмотра я обнаружил Бетт Дэвис, которая рыдала на ступеньках, потрясенная картиной. Игра Стратас покорила ее. Бетт все время повторяла: как удивительно, что она не только прекрасная певица, но и прекрасная актриса. Какой успех, какой триумф Терезы! Она сделала то, чего не сделала Каллас, а может, и не смогла бы сделать: она создала прекрасный, запоминающийся кинематографический образ Виолетты.
Когда в апреле 1983 года фильм вышел на экраны, я очень беспокоился, как примет его зритель. Если «Травиате» суждено занять место только среди экранизаций, если ее хорошо примут лишь любители оперы, значит, я не достиг цели. Так что в один прекрасный день в Нью-Йорке я отправился в кинотеатр, на самый обычный сеанс. На экране Виолетта старалась убедить Альфреда и саму себя, что не собирается умирать. В темном зале кинотеатра я услышал довольно громкий непонятный шум, напоминавший звук далекого прилива: многие плакали и пытались это скрыть, шурша платочками.
Несмотря ни на что, Терезе удалось создать Виолетту, о которой я мечтал. Еще раз взглянув в ее огромные черные глаза, умоляющие о любви и о жизни, я почувствовал, что и сам рыдаю.
XX. Отелло
После «Травиаты» мне хотелось сразу же снять еще один серьезный фильм. Но, как уже случалось и раньше, наступил необъяснимый период штиля. Мне не попадались интересные сценарии. И раз я не занимался кино, то вернулся в театр: поставил в начале 1983 года «Марию Стюарт», к открытию сезона в «Ла Скала» — «Турандот», опять с Пласидо и под управлением Лорина Маазеля. А между этими спектаклями — пустота.
«Мария Стюарт» Шиллера шла во Флоренции, Риме и Милане. Прекрасный и очень дорогостоящий спектакль, с двумя звездами драматического театра Италии — Валентиной Кортезе в роли Марии и Росселлой Фальк в роли Елизаветы. Уборная Валентины всегда была уставлена туберозами, и сцена пропиталась их стойким запахом. Может быть, поэтому она несколько раз падала в обморок, и спектакль приходилось останавливать. Однажды после очередного такого случая мой друг Альфредо Бьянкини, который тоже был занят в спектакле, вышел на авансцену и обратился к публике:
— Поскольку мы вынуждены прервать спектакль, давайте хотя бы я расскажу, чем там дело кончается…
И вечер прошел с успехом.
Постановку «Марии Стюарт» финансировал Сильвио Берлускони. Я познакомился с ним за несколько лет до этого, когда работал в «Ла Скала». Как-то вечером я оказался в подвальчике, где играла группа молодых джазистов и пели песни всех времен и на всех языках. Обстановка была очень живая, но меня немного раздражал шум. Мое внимание привлек молодой человек с сияющим лицом, он играл и пел. Несколько лет спустя я встретил его снова. К тому времени он стал преуспевающим бизнесменом и весьма активно занимался невиданным для Италии делом — частным телевидением. Был один канал, владел им, если мне не изменяет память, некто Рускони, который в буквальном смысле порезал на мелкие кусочки «Ромео и Джульетту», напичкав рекламой в самых неподходящих местах. Я был страшно возмущен и подал на него в суд, надеясь, что мои коллеги режиссеры ко мне присоединятся. Надежды не оправдались. Хотя наболело у всех, протест заявил один-единственный режиссер, и тот антикоммунист, и это стало одной из причин, почему никто не выступил даже для защиты собственных интересов. Я выиграл дело, но не получил никакого возмещения ущерба и ни малейшего морального удовлетворения.
А тот молодой бизнесмен, который вскоре перекупил у Рускони его канал, захотел со мной побеседовать о проблемах, которые могут возникнуть с частным телевидением. Как защитить авторов? Я сказал, что можно сделать, как в Соединенных Штатах, где авторы прекрасно знают, что их фильмы будут показывать по телевидению, и сами указывают, куда вставлять рекламу. Не просто произвольно резать, где ни попадя, а в тех местах, где это позволяет логика повествования.
Он слушал меня с возрастающим интересом и обещал, что обязательно учтет то, что я ему рассказал. Так я познакомился с Сильвио Берлускони, и вот уже много лет мы друзья.
В конце 1984 года я вернулся к своему обычному рабочему ритму. В октябре поставил своего первого Пиранделло — комедию «Это так, если вам так кажется» с Паолой Борбони. Затем последовала новая постановка «Травиаты» под управлением Карлоса Клейбера, сначала во Флоренции, потом в Париже и наконец в «Метрополитен-опера». Работать с Клейбером было большим удовольствием. У нас появилась новая Виолетта, молоденькая Чечилия Гасдия, которую Карлос увидел по телевидению и настоял на ее приглашении. Поначалу я отреагировал довольно скептически, уж больно она была молода, но быстро изменил мнение. Чечилия — очень умная и восприимчивая девушка. Обычно певцы не любят, когда им объясняют, что надо делать. А она была увлечена актерской игрой и все время просила совета и подсказок. Мы много работали над образом, и игра Чечилии была прекрасно принята публикой. Голос у нее был не очень сильным, но здесь Клейбер сумел оказать ей неоценимую помощь.
Декорации в принципе повторяли фильм, а основой по-прежнему служила далласская постановка, но с новым техническим оснащением, таким как смена декораций на глазах зрителей и очень медленное поднятие занавеса, которое продолжается почти всю увертюру к первому акту. Для меня это был большой личный успех, потому что родной город не часто предоставлял мне возможность показать свою работу. Фестиваль «Музыкальный май» не приглашал меня со времен «Эвридики» и «Волчицы» в шестидесятых годах, и это было знаком явного политического бойкота. На следующий год мы привезли нашу «Травиату» в Париж (дирижировал Зубин Мета, Клейбер отказался), где состоялся торжественный праздник, на котором дамы были одеты, как Виолетта, в платья XIX века, а мужчины во фраки. По части светских мероприятий французов не превзойти никому.
В начале 1985 года я принял предложение «Ла Скала» поставить «Лебединое озеро», хотя никогда раньше не занимался балетом. Я считал, что это дело профессионалов, и я там окажусь просто выскочкой, но потом вспомнил, что Дягилев, самый великий постановщик балетов XX века, сам не танцевал и не был балетмейстером. Идея привлекала меня все больше. Я подумывал вернуться к первоначальному варианту Чайковского, который провалился на премьере в Петербурге, после чего балет многократно переделывали и перекраивали. Вообще-то сюжет «Лебединого озера» совсем не похож на сказку, к которой мы привыкли. На самом деле это что-то вроде фольклорной легенды северных стран, пересказанной в соответствии с требованиями символизма семидесятых годов XIX века, в стиле Гюстава Моро, Пюви де Шаванна и Одилона Редона. Скорее романтическая греза, чем пестрый узор, ее основное содержание — победа Любви над Смертью.
Я использовал спецэффекты — освещение, показ документальных кадров и слайдов, чтобы создать эффект присутствия настоящих лебедей, с шумом садящихся на воды озера; подлетая, они попадают в густой клубящийся туман и выходят из него девушками. Эта сцена производила на всех сильное впечатление, хотя нашлись, конечно, консерваторы, которые восприняли ее как посягательство на традицию. Из-за нововведений, в том числе и из-за отказа от традиционных пачек, не дал согласия на участие в спектакле Михаил Барышников, которого мы надеялись заполучить на роль принца Зигфрида. К счастью, его великолепно заменил Маурицио Беллецца. Одилию танцевала Карла Фраччи, а Одетту Алессандра Ферри. И конечно, огромна заслуга в постановке балетмейстера Розеллы Хайтауэр. Балет имел большой успех, и это сгладило серьезные волнения во время репетиций: в Италии случились сильные морозы, и декорации, изготовленные в Риме, не смогли вовремя доставить в Милан, так что премьеру пришлось перенести на пару недель. Постановка балета как личный творческий опыт мне не очень понравилась. Ссоры, соперничество, интриги, злоба — балет в этом смысле даже хуже оперы, а танцоры еще более беспардонны и требовательны и очень высокого о себе мнения, причем с первых же лет карьеры.
Сразу после «Лебединого озера» — новая постановка «Тоски» в «Метрополитен-опера» с Пласидо Доминго и Хильдегард Беренс. Это один из самых удачных моих спектаклей с очень эффектным сценическим решением третьего акта. Сцена начинается на бастионе замка Сант-Анджело. В то время как оркестр ведет тему тенора, вся сцена с помощью технических приспособлений поднимается и открывает подземелье, в котором томится Каварадосси. После встречи с Тоской легкий, почти веселенький марш сопровождает Каварадосси на расстрел, и действие снова возвращается на бастион. К слову сказать, этот марш вызывал пристальный интерес Леонарда Бернстайна, он приводил его как пример гениальности Пуччини:
— Как он здорово придумал! Любой другой на его месте написал бы медленную похоронную мелодию. А он, понимаете ли, марш, который выглядит веселой шуткой. А все потому, что для Тоски это действительно шутка, ведь она верит, что Марио не будут по-настоящему убивать и сразу после якобы расстрела они вдвоем умчатся навстречу свободе и вечной любви!
Эта «Тоска», скажу без ложной скромности, стала окончательным вариантом, и «Метрополитен» дает ее с неизменным успехом.
Только подумать, сколько времени мне понадобилось, чтобы вернуться к «Тоске» после работы над ней с Марией в Лондоне. Очень не скоро я понял, что нельзя вечно оставаться «безутешным вдовцом» Каллас, и согласился на постановку в Нью-Йорке.
В то время, когда я работал над «Тоской», Пласидо Доминго однажды спросил, не хочу ли я снять еще фильм-оперу, — одна крупная продюсерская компания предложила ему финансирование «Отелло». Найти деньги на такое предприятие — не самое простое дело, и мне было интересно, кто стоит за этим проектом. Выяснилось, что это два американо-израильских продюсера, Менахем Голан и Норам Глобус; их компания «Кэннон Филмс» возникла и выросла всего за несколько лет. Я был уверен, что у нас ничего не выйдет, потому что они специализировались на плохом массовом кино, и опера вряд ли могла их заинтересовать.
Я не мог запомнить их имена и прозвал их «гамма-глобулинами», потому что впоследствии оказалось: они приносят большую пользу киноиндустрии, как гамма-глобулин человеку. Познакомившись с ними, я понял, что судил неверно. Это были образованные люди, со средствами, достаточными для финансирования новых идей, умеющие быстро принимать решения, и это мне очень в них понравилось. А поскольку Пласидо был лучшим исполнителем Отелло в опере Верди, сомнений в выборе не возникло.
«Кэннон» объявила о готовящемся проекте в мае, на Каннском фестивале, а энтузиазм Голана и Глобуса оказался столь заразителен, что я сразу кинулся подбирать съемочную группу. На роль Дездемоны я без колебаний выбрал Катю Риччарелли, очаровательную певицу с идеально подходящей внешностью, которая в моей постановке «Турандот» в «Ла Скала» пела Лиу. Пуэрто-риканский баритон Хустино Диас исполнял партию Яго, а это роль особенная, ключевая для понимания всей оперы и требует не только вокальных данных, но и большого актерского дарования. К сожалению, Карлос Клейбер, который блестяще дирижировал «Отелло» с Доминго в «Ла Скала» в 1976 году, не согласился на компромисс, неизбежный для кинематографического варианта оперы, и мне пришлось скрепя сердце принять его отказ.
Жертву кинематографу оказался готовым принести Лорин Маазель. Он понимал, что режиссер иногда вынужден вносить изменения в музыкальный текст, и придется что-то подрезать, а что-то удлинить. Мы были готовы к тому, что пуристы будут вопить от ужаса. Но ведь Верди и Бойто обошлись с Шекспиром так, как я собирался обойтись с ними самими, то есть привести поэтический и музыкальный текст в соответствие с требованиями кинематографа, потому что кино диктует свои законы и пользуется другими способами повествования.
Этот фильм объединил целую плеяду талантливых людей. Многие из них выросли, годами работая вместе со мной, наблюдая и набираясь опыта у Лилы де Нобили, Пьеро Този и Ренцо Мондасардино. А теперь им предстояло воссоздать сокровища венецианского искусства в голых залах крепости в Барлетте[100], в порту Гераклион на Крите и, наконец, в павильонах «Чинечитта» в Риме. Мне хотелось, чтобы место действия было не только фоном, а способствовало раскрытию характера персонажей. Кабинет Отелло я заполнил различными инструментами эпохи Возрождения — астролябиями и огромными линзами, которые могли использовать мореплаватели того времени, что должно было свидетельствовать о его незаурядном уме и прекрасном образовании. Отелло не первобытный дикарь, он воплощение великой христианской культуры Запада, который научил его всему, кроме одного — защищаться от зла.
К концу ноября мы закончили снимать в величественной крепости Барлетты и переехали на Крит. Там уже была воссоздана большая часть порта, в котором предполагалось снять самые зрелищные сцены, начиная с прибытия корабля Отелло после победы над сарацинами. Чтобы создать впечатление шторма, тема которого звучит в музыке, мы залили всю сцену водой из брандспойтов критских пожарных команд. Работать в таких условиях было нелегко, но уже с первых кадров стало ясно, что результат превосходит все ожидания. Я даже не надеялся, что такое можно снять.
В огромном пространстве порта, целиком выложенного камнем и превращенного в арсенал старинного оружия, мы сняли мучительную сцену, в которой Отелло обвиняет Дездемону в неверности. И здесь полностью раскрылось актерское дарование Кати Риччарелли. Я понял это еще во время съемок, но был просто потрясен, когда посмотрел отснятый материал. Поначалу Кате было нелегко играть под фонограмму посреди непередаваемой суматохи, которая всегда бывает на съемках и очень мешает собраться. Но как настоящая профессиональная актриса, она тщательно проанализировала все, что происходит вокруг нее, с особым вниманием пригляделась к игре Пласидо, который уже хорошо был знаком с практикой кино, внутренне сосредоточилась и как львица ринулась вперед — с ошеломительным результатом. Хустино Диас по этому поводу шепнул Пласидо: «Теперь нам не придется спать спокойно!»
Они боялись, что Дездемона будет для них камнем на шее, а вместо этого пришлось признать, что Отелло и Яго — не единственные звезды фильма.
Я был очень доволен тем, как продвигалась работа с моими певцами-актерами, но возникли совершенно непредвиденные обстоятельства, которые внушили мне серьезную тревогу. После съемок шторма, когда мы все вымокли до нитки, половина труппы заболела какой-то редкой легочной инфекцией (был конец ноября, и мы после вынужденного купания страшно промерзли). Проклятый вирус начал постепенно набирать силу и косить одного за другим. Я еще как-то держался, видно, из-за количества адреналина, который циркулировал по моим жилам, но к концу съемок на Крите почувствовал страшную усталость и в конце концов свалился с воспалением легких. Как только съемки в Гераклионе закончились, меня сразу засунули в самолет и отправили в Рим.
Последние недели 1985 года я провел в клинике «Сальватор Мунди» (ничего не напоминает?), а продюсеры старались изо всех сил, чтобы наша съемочная группа и артисты не разбежались. Мы с Питером Тейлором воспользовались вынужденной паузой и смонтировали отснятый материал, чтобы понять, нужно ли что-то переснимать. Такая возможность режиссеру предоставляется крайне редко и свидетельствует о высоком профессионализме наших израильских продюсеров.
Любовный дуэт первого акта — это, по-моему, эмоциональный стержень всей оперы. Верди и Бойто переделали Шекспировскую трагедию, убрав венецианский акт и начав с прибытия Отелло на Крит во время шторма. Так опера становилась куда более зрелищной, но приходилось как-то объяснять брак Отелло и Дездемоны, и Верди прибег к музыкальным флешбэкам. В кино же можно было показать всю историю и проиллюстрировать дуэт воспоминаниями главных героев: детство Отелло, смерть матери, рождение любви… Вот очевидный пример того, чего можно достичь, соединив две формы искусства, и насколько кино может расширить горизонты оперы.
Прежде чем «Отелло» вышел в массовый прокат, он был показан на Каннском фестивале 1986 года, где его приняли на ура и объявили отличным образчиком киноискусства. Все были убеждены, что он получит «Золотую пальмовую ветвь», хотя лично я сомневался. Учитывая общую тенденциозность Каннского фестиваля, трудно было предположить, что высший приз получит фильм-опера, да еще режиссера Дзеффирелли, известного своими далекими от левых политическими взглядами. Накануне дня, когда жюри должно было принять решение, на фестиваль прислали только что законченный фильм «Миссия»[101], который показали на следующее утро. Фильм не был анонсирован на конкурсном показе, но поскольку кроме него никто не мог составить конкуренцию «Отелло», он в результате получил приз, несмотря на вопиющие нарушения правил фестиваля.
Этот неприятный инцидент никоим образом не повлиял на общее настроение «гамма-глобулинов», которые изо всех сил трудились над прокатом фильма. Еженедельно в какой-нибудь точке земного шара проходил премьерный показ «Отелло», причем в самых знаменитых залах и в присутствии королей и глав государств. В Америке фильм хорошо приняла и критика, и публика. Особенное удовольствие мне доставила статья в «Вашингтон Пост». Хочу привести несколько фрагментов из нее, не для самолюбования, а чтобы показать, как критик очень верно воспринял наш замысел.
«При ближайшем рассмотрении фильм, показанный в „Серкл Макартур“, — это не „Отелло“ Шекспира и даже не „Отелло“ Верди, хотя в нем достаточно материала от обоих авторов. Конечно, если учесть, что величины, с которыми мы имеем дело, — это Шекспир и Верди, „Отелло“ Дзеффирелли может прозвучать странно, но боюсь, что так, и только так этот фильм будут называть во всем мире. Мастер английского языка и мастер итальянской музыки оказались тесно спаянными благодаря мастеру зрительного образа, который довел картину до совершенства. Он с безусловным почтением относится к источнику, из которого черпает, но это почтение творца, а не архивариуса. Он не боится вносить поправки в Верди, чтобы адаптировать его к новым задачам, так же как Верди внес поправки в Шекспира, сочинив оперу по его трагедии… Дзеффирелли расширил произведение, создав его кинематографический образ».
К сожалению, когда фильм вышел в Калифорнии, рецензия в «Лос-Анджелес Таймс» на него была заказана не кино-, а музыкальному критику, который оценивал «Отелло» как фильм-оперу, а не как киноверсию. То есть случилось именно то, о чем с чувством сказал Пласидо в одном из интервью: «Ради Бога, не говорите друзьям, что это опера! Это настоящее кино. С очень хорошей музыкой».
И хотя с коммерческой точки зрения «Отелло» оказался не самым успешным фильмом, «гамма-глобулины» очень хотели снова со мной работать. «Мы будем счастливы снимать с тобой фильмы до конца наших дней», — сказали они мне и предложили контракт еще на три фильма, в том числе на «Много шума из ничего» с Барброй Стрейзанд. К сожалению, как и многие другие, этот проект тоже покоится на «кладбище усопших ангелов», как я его называю. В конце концов замечательная сила «гамма-глобулинов» была поглощена Голливудом. Попытка проникнуть в джунгли голливудской промышленности закончилась неудачей — их попросту раздавили. Я всегда вспоминаю этих людей с большой благодарностью.
Снимая «Отелло», я практически достиг пределов приспособления оперы к кинематографу. Искать сюжет для следующего фильма стоило в других местах. Я прошелся по Шекспиру, сделал современную версию «Ромео и Джульетты» и решил, что наступило время сделать что-нибудь оригинальное.
Во время поездки в Бразилию я вспомнил, что Артуро Тосканини дебютировал как дирижер в девятнадцать лет в Рио-де-Жанейро, при обстоятельствах, которые произвели на меня сильное впечатление. Тосканини был виолончелистом в оркестре, который сопровождал итальянскую оперную труппу в турне по Южной Америке. В Рио-де-Жанейро, в Императорском театре, перед началом спектакля — давали «Аиду» — публика освистала одного за другим двух дирижеров. Могло сорваться все турне. И тут кто-то из оркестра вспомнил, что есть молодой виолончелист Тосканини, который помнит наизусть все оперы. Его буквально вытолкнули за пульт, и публика, увидев такого юнца, с любопытством притихла. Властным движением руки закрыв партитуру, Тосканини начал дирижировать по памяти, и это был настоящий триумф. Так началась одна из самых блестящих карьер в истории музыки.
Это показалось мне неплохим сюжетом, и я убедил Элизабет Тейлор сыграть роль примадонны. Но фильм родился под несчастливой звездой. Брат бразильского президента, третьесортный писатель, что-то написавший о дебюте Тосканини в Рио, заявил, что в основе картины лежит его замысел. Подобное заявление было совершенно беспочвенным, потому что сама по себе история основана на реальных фактах, подробно рассказанных во всех биографиях великого дирижера. В суд он обратиться не мог, но стал чинить нам столько препятствий, что снимать в Бразилии оказалось невозможным. К тому же сценарий имел серьезные недостатки, которых не могли скрыть ни операторская работа, ни красота интерьеров. Но критики не осудили «Молодого Тосканини» — по той простой причине, что он так и не вышел в прокат.
Несмотря на мое упорное сопротивление, продюсеры во что бы то ни стало захотели показать фильм на фестивале в Венеции. Я прекрасно знал его слабые стороны, знал снобизм и левацкие настроения итальянской кинокритики, которая не могла простить мне успеха в Голливуде и популярности «Иисуса из Назарета», и понимал, что такой возможности отыграться они не упустят. Мало того, незадолго до открытия фестиваля я оказался поневоле втянутым в скандальную историю, которая прогремела на весь мир.
Тогда только что вышел очень спорный фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Меня все время просили дать по этому поводу интервью, но я отказывался. Фильм мне не понравился, я нашел его слабым, однако не в моих привычках публично нападать на коллег, да и обижать Скорсезе не хотелось. Кое-кто написал, что на вопрос, почему еврейские продюсеры снимают столько фильмов об Иисусе, я якобы ответил: «Они его убили, а теперь их мучает совесть».
Разумеется, мне и в голову не могло прийти делать подобное заявление. Я сразу же дал опровержение, но отыграть назад уже было нельзя. Мое положение оказалось более чем странным: только подумать, я всю жизнь был другом евреев и всегда защищал их, в частности, от коммунистов, с которыми они теперь объединились против меня. Среди моих лучших друзей и помощников в работе было много евреев, от Лью Грейда до Голана и Глобуса, от Ленни Бернстайна до Джимми Левина, и масса других. За год до этого события я был в Иерусалиме и представлял «Отелло» в присутствии президента страны, получил почетного доктора в университетах Иерусалима и Тель-Авива.
К тому времени, как я приехал в Венецию, ситуация уже вышла из-под контроля. На показе «Молодого Тосканини» для критики зрителям даже были розданы свистки, и когда на экране появилось мое имя, раздался шквальный свист и оскорбительные выкрики.
Свист и свисток — древнейшее средство для выражения прямого протеста. Настоящее смертоносное оружие против театрального мира и спорта, которым громогласно караются халатность и ошибки звезд, и чем они знаменитей, тем больше им стоит бояться быть освистанными.
Мальчишкой я был влюблен в оперу, часто ходил во Флоренции в театр, разумеется, на галерку. Свистков, единичных или ураганных, мне довелось услышать множество, и я всегда очень веселился. Помню «Трубадура», где пел знаменитый Джакомо Лаури Вольпи, великолепный, но очень неровный певец. В тот вечер было понятно, что спектакль не задался. Зрители с нетерпением ожидали знаменитой арии Манрико в третьем акте. К несчастью, его верхнее до было скорее похоже на крик раненого зверя или скрежет железа, и вся публика, от партера до галерки, прямо взорвалась свистом. Занавес уже пошел вниз, но Лаури Вольпи, недолго думая, выскочил на авансцену и закричал, чтобы занавес подняли обратно. Потом обратился к дирижеру и попросил (скорее, потребовал) еще раз сыграть арию:
— Давайте-ка, маэстро, еще разок, я не собираюсь войти в историю как тенор, пустивший петуха в «Трубадуре».
После чего он великолепно спел, с таким верхним до, которого я больше никогда не слышал. Вопли и свист как по волшебству сменились громом аплодисментов. Лаури Вольпи кланялся, счастливый, что в последний момент спас репутацию, потом сорвал парик и исчез за кулисами.
Почему мне так приятно вспоминать этот эпизод? Потому что свист, который едва не обрушил крышу театра, был спонтанным, зрители любили этого певца и не носили в кармане свисток. Когда его специально приносят, он становится орудием для выполнения заранее продуманного плана, а не средством непосредственного и страстного протеста. Это то, чем пользуются трусы и подлецы, и причиной свиста никогда не бывает выступление жертвы само по себе. А еще всегда есть кто-то, кто направляет таких носителей свистков, и вовсе не с благими намерениями.
В тот вечер в Венеции я вернулся в гостиницу в большом огорчении, налил себе виски, и тут зазвонил телефон. Было три часа ночи. Это звонил Берлускони, с которым мы уже давно были друзьями, и сказал, что расстроен и возмущен тем, что случилось. О свистках он тоже знал. «Вот мерзавцы, мне просто стыдно, что я итальянец, — сказал Сильвио. — Мы должны держаться все вместе, тогда они поймут, что мир сильно изменился».
Этот жест дружбы и солидарности удивил и тронул меня. Мы часто общались с 1983 года, когда вместе работали над «Марией Стюарт», поддерживали дружеские отношения, и Берлускони показал себя как человек, с которым легко идти одной дорогой. В 1984 году зашла речь о двух крупных совместных проектах в рамках его попытки долгосрочного сотрудничества с французским телевидением. Мы объявили о них на большой пресс-конференции, которую Сильвио устроил в зале Микеланджело в Лувре. Первый проект — телевизионная шестичасовая эпопея о Французской революции по случаю ее двухсотлетнего юбилея в 1989 году. Второй — «Флорентийцы» — я задумал уже много лет назад, и он был мне особенно дорог. Увы, союз итальянского и французского каналов так и не состоялся, и ни один проект не был осуществлен.
Но Сильвио — человек, который умеет ценить дружбу. Он верен друзьям и помнит о них. Я часто вспоминал этот ночной звонок в Венецию, так меня поддержавший.
XXI. Три суперзвезды
Данте Алигьери был изгнан из Флоренции в результате политических интриг и никогда больше не возвращался в родной город. Скитаясь по Италии, он размышлял над прожитой жизнью и ошибками и пытался понять, чего ждать от будущего. Его «Божественная комедия» — удивительное воображаемое путешествие, которое останется вершиной поэзии всех времен и народов. Путешествие сквозь Ад, Чистилище и Рай — это аллегория жизненного пути человека, смятения и метаний его души.
Хотя я вовсе не собираюсь сравнивать себя с Данте, я тоже, как и он, в середине жизненного пути оказался в положении, когда пришлось сделать остановку и всерьез задуматься. Позади остались суматошные, перегруженные работой годы, открытия, завоевания, которым всегда сопутствовало нетерпение и беспокойство удачливого азартного игрока. С «Отелло», правда, не так повезло, потому что он не стал по-настоящему популярным фильмом, а остался фильмом-оперой. Не говоря уж о «Молодом Тосканини», с которым все пошло шиворот-навыворот. Короче говоря, я действительно очутился в «сумрачном лесу», а «правый путь» кино потерял. Шекспир, Евангелия и классическая опера — вот три кита, на которых держалось «мое кино». А теперь я оказался в вакууме, на ничейной земле, и не понимал, в каком направлении двигаться.
Хотя зрители любили мои фильмы, истеблишмент Голливуда так и не захотел меня признать, несмотря на огромные доходы, которые принесли «Чемпион» и «Бесконечная любовь». Я был нестандартным случаем, был занесен в разряд классического кино, связанного с оперой и театром, к которым крупные кинокомпании не испытывали большого интереса, а симпатий — и того меньше.
Причиной провала «Молодого Тосканини» стал, как обычно, плохой сценарий. Я к тому времени еще не успел понять, что хороший фильм — конечно, дитя режиссера, но и ему чудо не по силам, если нет хорошего сценария. Возьмем, к примеру, американский и английский кинематограф, в котором писатель — действительно движущая сила. Много работая над Шекспиром, я все же остаюсь выходцем из итальянской культуры, и это, возможно, сумеет объяснить многое. Итальянский кинематограф даже в лучшие моменты своей истории всегда был искусством гениальной импровизации. Большая часть наших шедевров писалась, можно сказать, во время съемок.
Режиссеры терпеть не могли приходить на съемочную площадку с уже готовыми законченными сценами, потому что, как они говорили, это убивает творческое начало. Итак, с одной стороны, я был приучен доверять гениальной импровизации итальянского кино, с другой — вынужден был действовать в жестких рамках мирового кино, в котором и шагу ступить нельзя без сценария. Где же было мое место? Причин не включать меня в число итальянских режиссеров более чем достаточно — я не снял ни одного фильма на родном языке. А англичане с трудом приняли бы мои фильмы, будь они сняты не по Шекспиру или хотя бы по произведениям другого классика английской литературы.
Поэтому мой путь в кино ни на что не похож, хотя успех, иногда огромный, и сопровождал его. Больше всего я горжусь тем, что сам свободно выбирал, что снимать, и никогда не соглашался работать из-за денег или дешевого успеха. То же самое и в театре. Я бы не ставил, если бы то, что я делаю, мне не нравилось. Но в опере и в театре действуют механизмы, которые очень отличаются от кино. В первом случае важно все твое мастерство, творческий опыт, и они так или иначе берут верх даже при возможном провале. А в кино учитывается только то, сколько собрал фильм за первые выходные, и если в кассе дела неважные, то ты — никто, и тебе приходится начинать сначала. Известность известностью, а деньги найти будет трудно.
Вот и получилось, что пришлось мне пересматривать всю свою работу и всю свою жизнь. Мне нравится сравнение с Данте тем, что я, как и он, был вынужден задуматься о том, что сделал и что могу еще сделать. Я понимал, что не могу соперничать с режиссерами последнего поколения, людьми с планеты новых технологий и спецэффектов. Это жанр, который не вызывает у меня интереса, как не вызывает его кино современного социального реализма, зеркала сегодняшнего общества. Я не совсем понимаю это общество и не нахожу в нем никакого источника вдохновения. Вместо того чтобы посвящать два года жизни какой-нибудь посредственной теме на злобу дня, я был готов переждать какое-то время и вернуться в кино, чтобы продолжить собственный путь.
Кроме того, в минуты неуверенности и сомнений мне было куда возвращаться, моим надежным прибежищем оставалась опера. Мать, учительница, подруга, сестра, которая не разочарует и не предаст. И неважно, что в театре мне тоже придется выносить какого-нибудь зануду-критика, об этом вообще можно не думать, потому что никому не удастся отравить мне радость успеха.
В тот период размышлений я часто вспоминал Мать Терезу, необыкновенную женщину, с которой мне выпало счастье познакомиться. Я был глубоко поражен простотой ее подхода к такому труднейшему вопросу, как сочетание идеи вечности, безначальной и бесконечной, с нашим смертным уделом. Мать Тереза смотрела на жизнь как на очень незначительную часть вечности, как на сегмент бесконечной линии, по которой проходит божественная энергия, творящая земную жизнь в ее материальной форме, чтобы в конце привести ее к истинному и вечному бытию. Ухаживая за умирающими, принимая их последний вздох, она говорила: «Он покинул только тело, материю, но его дух с нами, и мы с ним».
Так просто выраженная Матерью Терезой вера в то, что существовавшее в прошлом определяет настоящее, а будущее есть и будет всегда, стала приобретать для меня все большее значение, становиться почти навязчивой идеей. Я давно веду такую мысленную игру: сохраняю первоначальный замысел спектакля, часто на клочке бумаги, и достаю его, когда проект уже доведен до конца. Как правило, если первоначальный замысел хорош, результат с ним совпадает. Фактически это означает, что когда я по вдохновению нарисовал несколько первых штрихов, уже существовал общий замысел, и готовый спектакль не отступил от начальной догадки.
Вспоминаю, как Рол позвонил мне однажды в Позитано, когда я купался в море, так как почувствовал, что мне угрожает опасность. Я мог удариться головой о камень, утонуть. Это внутреннее предупреждение, которое срабатывает у отдельных людей, эта необычная способность «прочитать» все, что есть вокруг нас, как раз и объясняется тем, что в нашей жизни уже все есть. Не случается, а именно есть. От рождения до смерти все, что происходит, уже предрешено, уже написано. Мать Тереза объясняла это проще, очень доступно и ясно. Мы на Земле проживаем и настоящее, и прошлое и будущее, и смерть — не конец чего-то, а продолжение процесса, который существовал еще до нашего зачатия.
Мне уже много лет, и, наверно, поэтому я сожалею, что потратил столько времени на всякие пустяки. К счастью, мне удалось пронести сквозь бури на моем пути главные ценности. Я спас сокровище и храню его. Но я бы смог сделать гораздо больше, если бы во мне не было грубости и самодовольства, которых хватает во всех нас. Пора уже признать, что я, так же как остальные, участвую в «мышиной возне»: работа, амбиции и успех — постоянные составляющие моего существования, и, как у всякого другого человека, у меня тоже случаются депрессии и тоска из-за неудач и несбывшихся надежд.
В 1989 году я вернулся в «Метрополитен-опера» для постановки «Травиаты» под управлением Клейбера. Мои отношения с этим нью-йоркским театром очень укрепились с 1981 года, когда меня пригласили ставить «Богему». Как ни странно, в те годы в «Метрополитен-опера» вообще не было реквизита для трех шедевров Пуччини — «Тоски», «Турандот» и «Богемы», трех китов оперного репертуара, и его приходилось брать напрокат в других театрах. В 1981 году было принято решение создать собственное оформление опер Пуччини и начать именно с «Богемы», а финансировать его бралась Сибил Харрингтон, главный спонсор театра. Вдова Доналда Харрингтона, нефтяного магната из Техаса, она за несколько месяцев потеряла мужа и единственного сына, но сумела пережить эту трагедию, посвятив жизнь благотворительному фонду, созданному еще при жизни мужа и при его участии. «Метрополитен-опера» оказался среди тех, на кого изливалась ее великодушная щедрость. У нас сразу установились очень теплые отношения. Однажды она сидела на репетиции, а потом сказала: «Из-за тебя, Франко, мне хочется давать на оперу все больше и больше».
В 1985 году, опять же в рамках проекта «Шедевры Пуччини», она предложила мне поставить «Тоску». Как я уже говорил, у меня не было желания возвращаться к этой опере после легендарной постановки с Марией Каллас в «Ковент-Гардене» за двадцать лет до этого. Я согласился, потому что не хотел огорчать добрую Сибил, которая еще через два года спонсировала «Турандот», тоже в моей постановке.
Благодаря этим трем спектаклям я стал основным режиссером-постановщиком в «Метрополитен-опера», а Сибил удалось воплотить свою мечту и через оперу увековечить память мужа. Вот уже двадцать лет, как эти оперы Пуччини стоят в репертуаре каждого сезона. У Сибил была слабость: она любила появляться на сцене среди хора или в массовых сценах и играть в спектакле. Я узнал, что у нее есть своя артистическая, где она с маниакальной скрупулезностью одевается и гримируется к спектаклю. Однажды во время репетиций «Богемы» я довольно невежливо схватил за руку белошвейку с Монмартра, которая делала что-то не так, и увидел, что это Сибил, которая сияла от счастья, что может не только финансировать «большую игру», но и участвовать в ней.
При мысли о своей работе в опере я испытываю глубокое удовлетворение от того, что, начав с самой высокой точки, то есть с оформления спектакля в «Ла Скала», сумел удержать позиции на протяжении более чем пятидесяти лет. Мои постановки и оформление не только пережили новые театральные течения и сохранились спустя столько времени, на них по-прежнему очень большой спрос по всему миру. Более того, театрам не так легко с ними расстаться, и многие остаются в репертуаре целые десятилетия. «Метрополитен-опера» попытался заново поставить «Богему» и «Фальстафа», но ничего лучше моих придумать не смог, а «Дон Жуан» в Венской опере оказался настолько неудачным, что театр вынужден был как можно скорее вернуться к варианту 1972 года. «Тоска», поставленная в «Ковент-Гардене» в 1964 году, не сходила со сцены сорок лет, а когда наконец ее сняли, спектакль немедленно перекупил Чикагский оперный театр. Зрители всегда ценили мою работу, и это полностью компенсирует мне порой негативный прием у тех критиков, которые считают меня ретроградом и противником всего нового.
Я никогда не придавал серьезного значения отрицательным отзывам критики, потому что реально они не оказывали никакого влияния ни на мою работу, ни на предложения, которые поступали со всех концов света, а главное, на отношение зрителей. Но бывает так, что предвзятость и клевета настолько очевидны, что не могут оставаться безнаказанными. Вот пример. В отзыве на постановку «Турандот» в «Метрополитен» критик «Нью-Йорк Таймс» написал, что Ева Мартон, исполнявшая главную партию, пела очень неуверенно до арии «In questa reggia». Так вот, In questa reggia — это первые слова, которые произносит Турандот. Критику, должно быть, померещилась музыка, которую никто, кроме него, не услышал, потому что ее попросту нет. Я направил в газету возмущенное письмо, которое они поначалу отказались напечатать, но в результате под давлением читателей опубликовали… и сменили музыкального критика. Необразованность, некомпетентность и особенно безразличие ряда критиков бросаются в глаза. Для некоторых из них я антиквариат, представитель того театра, который современные режиссеры давно уже оставили в прошлом. И то, что моя работа по-прежнему живет, несмотря на их отрицательное отношение, вызывает у них страшное раздражение.
Я даже не знаю, как можно определить новый подход к классической опере, который сейчас распространяется во всем мире. В Зальцбурге и в Байройте режиссеры просто «ушли в астрал» и потерялись в нем. Среди музыкантов и певцов царит покорное отвращение, и мало кто готов выступить с энергичным протестом. Это настоящее безумие — иначе не скажешь — появилось в Германии и заразило весь земной шар. Режиссеры получили полное право дать разгуляться собственной фантазии, вообще не принимая во внимание ни автора, ни зрителя. Псевдопсихологический подход, который первым использовал в начале XX века Эдвард Гордон Крейг, родился из следующего посыла: необходимо исследовать идеи автора, чтобы понять, что «он думал на самом деле». Поэтому уже никто не стремится к анализу самого текста, а занимается поиском психологической позиции автора в момент создания произведения. В реальности такой подход выливается в полное отсутствие уважения и серьезного отношения к музыке, более того, ее просто перестают замечать или идут ей наперекор, а это непростительно.
В результате опера превратилась в гимнастический зал, в котором режиссеры могут тренировать собственное «я». Если это и есть конечная цель, то было бы гораздо честнее создать собственный материал и работать с ним, а не скверно использовать то, что сделано другими. Заметим, что одна из причин, допускающих такое отношение при одобрении многих критиков, заключается в том, что эти люди на самом деле не любят оперу и относятся к ней как к старухе, которая не заслуживает уважения, внимания и интереса. Ее можно унижать и топтать как угодно. К счастью, певцы потихоньку поднимают бунт. Я недавно прочитал интервью с сопрано Ангелой Георгиу, которая называет таких режиссеров «самыми настоящими преступниками», а их скандальные постановки — тщетной попыткой прикрыть собственную бездарность. Георгиу, что особенно мне приятно, приводит в пример меня и рекомендует режиссерам изучать мою работу и учиться, при этом отмечает, что хотя многие мои спектакли созданы еще до ее рождения, они продолжают жить на главных сценах мира и являются образцами для подражания. Спасибо, Ангела!
Мой творческий метод весьма прост. Работая с классическим произведением, я думаю, что бы стал делать автор, будь он еще жив, и при этом учитываю все возможности современной техники и требования публики. Но отделиться от самого произведения я не могу. Если бы мне захотелось поставить совсем другого «Гамлета», я не стал бы прибегать к тексту Шекспира, а написал бы свои слова, не стал бы переиначивать классика для удовлетворения личных причуд. Мои постановки вовсе не застыли неподвижно: они изменились, потому что изменились мои собственные идеи. Я иду вперед и открываю новые способы «служить» авторам, которые — и это важно понимать — тоже не стояли бы на месте, а учитывали бы веяния времени и без нашего участия. Пуччини очень любил свою «Богему», хотя и шептал на ушко друзьям, что это уже пройденный этап, а вот «Тоска» — значительный шаг в развитии музыкальной драмы!
Дирижеры тоже принимают участие в этой окопной войне и храбро бросаются в бой. Жорж Претр сказал журналисту, бравшему у него интервью:
«Для меня существует два типа постановщиков оперы: первые обладают глубоким знанием музыки и актерского мастерства — это Висконти, Дзеффирелли, Стрелер, например, а вторые неизвестно из какого театра взялись и вообразили себя оперными режиссерами, не имея ни малейшего представления о музыке и ни капли любви к ней. Дирижеры не должны потворствовать ограниченности этих вторых и их разрушительной деятельности. Постановку оперы можно сравнить с ларцом, в котором хранится сокровище, созданное композитором. Голоса, звуки — это переливающиеся драгоценные камни. И задача режиссера — выпячивать не собственное „я“, а выставить напоказ сокровище, которое было ему доверено; в его руках должна зазвучать наполняющая ларец музыка, а не беспорядочные мысли, которые залетают ему в голову».
Наконец-то! Спасибо Жоржу, мы вместе славно поработали над последней «Нормой» Марии Каллас в «Гранд-опера», а до этого в «Ла Скала» над блестящей сдвоенной постановкой «Сельской чести» и «Паяцев» с Пласидо Доминго (они записаны на DVD, и я всем рекомендую их посмотреть и особенно послушать, потому что это прекрасные уроки истинного сценического Мастерства).
Клейбер, который считается самым крупным дирижером послевоенной эпохи, часто звал меня работать вместе, и я удостоился чести быть единственным режиссером, с которым он ладил. С самой первой нашей совместной работы в «Ла Скала» мы почувствовали, что сумеем понять друг друга. «Необыкновенно приятно знать, что сегодня есть хотя бы один режиссер, который знает свое дело», — сказал он мне без обиняков.
Вместе мы работали над «Отелло», «Кармен», двумя постановками «Богемы» и тремя «Травиаты». Однажды его спросили, почему он никогда не дирижирует современной музыкой, и он ответил именно так, как ответил бы на его месте я:
— Потому что опера как идеальный союз драмы и музыки кончилась со смертью Пуччини. Но каждый раз, как я притрагиваюсь к «Травиате» или «Богеме», они заново расцветают, как будто были написаны вчера. Опера — это чудо, которое возрождается всякий раз, когда оказывается на сцене, потому что всякий раз заново происходит творческий процесс. И еще: это не то, что прекрасная картина на стене, на которую можно любоваться всякий раз, как захочешь. Опера живет, только когда поднимается занавес и ее поют и играют на сцене. Каждый раз она живет по-разному, каждый раз она новая и удивительная, хотя всегда одна и та же — она как дорогая сердцу возлюбленная.
Говоря о «передовой» режиссуре, Клейбер не прибегал к эвфемизмам, а в нескольких случаях попросту отказывался дирижировать.
— Я не слышу музыки из-за невнятности того, что доносится со сцены, — говорил он. — Я все пытаюсь понять, зачем тратить столько времени и столько сил на пустое дело. Если вам не нравится опера, которую вы ставите, оставьте ее и не трогайте, а если полюбили, то помогите ей стать вашей возлюбленной, отдайтесь любви вместе с автором!
— Un ménage à trois?[103] — как-то раз спросил я смеясь.
— Вот именно. А как же иначе?
После «Отелло» и «Молодого Тосканини» я решил больше не ставить фильмы по опере, а использовать свои силы в другом жанре. У меня появилось много идей, но много и ушло. Как ни странно, больше всего, пусть и недолго, я работал над проектом фильма по «Богеме». Я слышал об Андреа Бочелли, молодом теноре, который трагически потерял зрение в одиннадцать лет, и его история меня тронула и заинтересовала. Когда мы познакомились, мне стало понятно, что его творческое «я» еще не нашло своего выражения, но оно есть, очень сильное, и рвется на свободу, несмотря на беду, которую пришлось пережить молодому человеку. Этот случай заставил меня задуматься над равновесием решений судьбы, которая, казалось, сказала Андреа: «Я посылаю тебе много страданий, но за это вот тебе дар, который сможет тебя утешить, — чудесный голос».
Я представил его в роли Родольфо. У Андреа очень привлекательная внешность, а Родольфо мог бы быть молодым интеллигентом с плохим зрением и всегда в очках. Эта идея родилась у меня при виде портрета Шуберта в маленьких очках с очень толстыми стеклами. Показывая на экране слепого человека, не стоит делать вид, что проблемы не существует как таковой. А Бочелли, используя свой физический недостаток, мог бы создать достоверный и интересный образ персонажа, который постоянно занят поиском очков.
Хотя бюджет был очень скромным, в американской киноиндустрии так никто и «не навострил ушки», в частности, потому что Бочелли был практически никому не знаком. А снимать фильм с неизвестной личностью в главной роли, да еще с таким дефектом, расценили как настоящее безумие. Моя «проблема» состоит в том, что я часто вижу вещи раньше других. Так произошло с «Ромео и Джульеттой». Ровно через год Бочелли сделал головокружительную карьеру, и крупнейшие кинокомпании локти себе кусали, что не послушали меня. Но к тому времени к нему уже было не подступиться, а я был занят другими проектами. Итак, та «Богема» тоже отправилась на «кладбище усопших ангелов».
Когда я снова созрел для работы в кино, то уже хорошо себе представлял, что могу вернуться только к великим источникам культуры и не соглашусь на компромиссы, которые предлагает Голливуд. Мне бы никогда не удалось снять «Космическую одиссею» лучше Кубрика, но «Гамлет» у меня мог получиться лучше, чем у многих других. Последний «Гамлет» был снят в 1948 году с Лоуренсом Оливье. Я обсудил идею со старым приятелем Эдом Лимато из агентства ICM, и он согласился, что эту серьезную историю уже пора предложить молодежи. Лимато был у меня помощником во время съемок «Укрощения строптивой», и я устроил его работать с моим агентом Джанет Робертс в «Уильям Моррис». Он сделал отличную карьеру и теперь ведет дела многих голливудских звезд.
Для меня самое трудное и неприятное дело — выбор актеров для нового фильма. У моих фильмов, безусловно, масса недостатков, но подбор актеров всегда был на высоте: Тейлор и Бартон в «Укрощении строптивой», молодые герои «Ромео и Джульетты», Роберт Пауэлл в «Иисусе из Назарета», Доминго в «Отелло» и так далее. С актерами я всегда попадал в десятку. Для «Гамлета» мне были нужны новые кумиры, которые могли бы привлечь внимание молодежи и заинтересовать ее. Я остановил свой выбор на трех актерах: Шон Пенн, Мэтью Модин и Мел Гибсон. Каждый из них мог привлечь современную публику, и не только молодую.
Из этих трех Мел Гибсон, известный своими боевиками, был, пожалуй, самым смелым выбором. Он нравился мне еще со времен «Галлиполи». Он начал карьеру в Австралии как театральный актер. Играл Ромео и как-то сказал, что мой фильм был решающим этапом в формировании его актерского «я». Голливуд не очень представлял себе, что с ним делать. Он уже собирался возвращаться в Австралию, когда Эд Лимато предложил стать его агентом. Положение Гибсона не слишком отличалось от положения Ричарда Бартона: большой театральный актер приехал в Голливуд и проклинает свой успех. Бартон мечтал вернуться к Шекспиру, и его мечта дала мне возможность поставить «Укрощение строптивой». Чутье подсказывало мне, что удача, подобная случаю с Бартоном, недалеко.
Я внимательно пересмотрел все фильмы с Гибсоном и даже собрал на одной пленке различные моменты его игры, в которых видел качества, нужные мне для Гамлета. Пленку я привез в Лос-Анджелес и сказал Эду Лимато, что хочу встретиться с Мелом.
— Конечно. Ты хочешь поговорить с ним о чем-то конкретном? Есть проект?
— Да, — ответил я. — Я ведь говорил тебе, что хочу снять нового «Гамлета» для современного зрителя.
Лимато, который в свое время с энтузиазмом отнесся к моей идее, подскочил на месте, узнав, что мне нужен Гибсон.
— Что? Ты собираешься говорить с Мелом о Гамлете? Погоди-ка. Должен тебя предупредить, что у нас в ICM не настроены делать из него классического актера. Более того, мы прилагаем все усилия, чтобы содрать с него остатки этой шкуры. Если хочешь, я устрою тебе встречу, но не думаю, что предложение может его заинтересовать. Наверняка у тебя найдется для него еще кое-что.
На другое утро Лимато мне перезвонил.
— Мне очень жаль, — печально сказал он.
Я решил, что Гибсон отказался со мной встречаться.
— Да нет, — произнес Лимато похоронным голосом. — Он хочет поговорить с тобой о Гамлете. Он заинтересовался, и даже очень.
И в воскресенье мы отправились вместе обедать в «Four Seasons». Мел сообщил, что на следующий день уезжает в Австралию, но я сразу понял, что мое предложение для него большое искушение. Он не стал ходить вокруг да около и напрямую задал мне вопрос:
— А почему я? Почему вы считаете, что я смогу убедительно сыграть Гамлета?
Я рассказал ему о своем опыте постановки Шекспира в Англии, и он слушал с большим вниманием. Мое предложение его притягивало и соблазняло, как будто в нем оживали не до конца уснувшие воспоминания и мечты.
— Но почему все-таки я? — спросил он опять.
Я ответил, что давно слежу за его работой, и добавил, что есть пленка, на которой собраны важные для меня моменты его игры. Мел заинтересовался и захотел посмотреть пленку. Я показал ему фрагменты «Галлиполи», «Безумного Макса» и все остальное, что, на мой взгляд, могло пролить свет на тысячеликого Гамлета. Гибсон был поражен: я безусловно подогрел его самолюбие и любопытство. Мы расстались в девять вечера — самый длинный обед на свете, а через два дня мне позвонил Лимато. Он был еще серьезнее, чем в последний раз.
— Уж не знаю, что ты там ему наговорил, — мрачно сказал он, — но теперь Мел и вправду хочет сниматься в «Гамлете».
Большие компании, как и Лимато, словно с Луны свалились и даже не захотели говорить о проекте. Но Гибсон, у которого была собственная, довольно крепкая продюсерская компания, так хотел этого, что сам решил финансировать фильм.
Эту трагедию Шекспира часто представляют как высшее проявление экзистенциализма, да еще нагружают всякими философскими сложностями. Мне хотелось вернуться к первоисточникам — ревности и мести. Шекспир написал настоящую историческую драму, богатую, остросюжетную и волнующую: король, убитый родным братом при пособничестве королевы: убийство раскрывает сын жертвы. Это трагедия мести, семейная сага, рассказанная как эпос и изобилующая действиями. Именно это привлекало зрителей к пятичасовому «Гамлету» в театре «Глобус».
Подготовка к «Гамлету» продолжалась больше года: Мел должен был разделаться со своими обязательствами, а я с большим интересом занялся новой постановкой «Дон Жуана» в «Метрополитен-опера». Королева опер, с которой я столкнулся, когда делал самые первые шаги, а затем в зрелый период в Вене, теперь ставилась в «Метрополитен» с прекрасными исполнителями и оркестром под управлением Джеймса Левина, с которым мы многократно удачно сотрудничали. «Гамлет» и «Дон Жуан» в один и тот же период! Судьба снова улыбалась мне.
Новая версия «Дон Жуана» вся была построена на XVIII веке. Я придумал механизм, который позволял менять декорации, не прерывая музыки, то есть приложил к традиционным формам театра барокко достижения современной техники, чтобы подчеркнуть переходный период, который переживала тогда музыка: барокко уходило, а неоклассицизм и романтизм еще не наступили. Колонны и порталы декораций появлялись и исчезали, образуя на сцене сад, дворец, кладбище. А на кладбище разверзалась чудовищная картина ада: гробы распахивались, выставляя напоказ скелеты и страждущие души грешников, и небо обрушивалось сверху на весь мир. После этого ужасающего катарсиса и сошествия Дон Жуана в ад все изменялось, и персонажи, пережившие трагедию, медленно поднимались наверх в холодном свете новой зари и новой надежды.
На публику спектакль произвел большое впечатление. Часто бывает, что когда поднимается занавес, зрители аплодируют прекрасной мизансцене, но на этот раз в зале стояла мертвая тишина — все были полностью погружены в спектакль. Даже критики, обычно такие суровые, опустили оружие и хорошо отозвались о постановке. Правда, выходя к публике поблагодарить, я испытывал сожаление. Успех был необыкновенным, но я прекрасно знал, что опять не попал в цель, что так и не ухватил суть этого недоступного произведения.
В самом деле, «Дон Жуан» — опера, в которую невозможно проникнуть, загадка или головоломка. Я ставил ее много раз, и она по-прежнему остается для меня тайной: кажется, вот, она у тебя в руках, но она снова ускользает. Вроде бы ничего сложного, но чувства и переживания, которые порождает «Дон Жуан», настолько сложны, что, нацелясь на одни, забываешь о других. Может быть, я еще поработаю над этой оперой, поищу новые пути, но прекрасно знаю, что не получу от нее ясного, точного, определенного ответа. Она будет привлекать меня, притягивать мои мысли и оставаться неразрешимой загадкой.
В некотором смысле «Дон Жуан» очень близок к неуловимому духу «Гамлета»: насилие и противоречия гнездятся в сердце обоих героев и подавляют их личности. Обоим приходится сталкиваться и осмыслять соотношение возможностей человека и предела, которые устанавливает Бог человеческим иллюзиям и самоуверенности. Оба бросают вызов божественному величию, но между ними большое различие: Дон Жуан восстает против Бога и в бессильной ярости до последней минуты проклинает все, а Гамлет в конце обретает покой: «Дальше — тишина»[104].
Всякий раз, как я начинаю работать над новым произведением, мне кажется, что рождается новая жизнь. И хотя одна постановка, кино- или театральная, отличается от другой, имеет свои особенности, все равно все они берут начало в моей культуре, опыте, интуиции и поиске. Я представлял Гамлета не как принца с серьезными комплексами, а как честолюбивого молодого человека, воспитанного, очень умного и циничного, жаждущего выделиться из своего окружения, стать «сверхчеловеком», самым лучшим. Всегда натянутого как струна, стремящегося максимально приблизиться к пределу и преодолеть его, даже если он не слишком точно очерчен.
Гибсон блестяще подходил для этой роли в том виде, в каком я хотел показать персонажа. Да и вообще идея отдать главную роль в таком известном классическом произведении герою голливудских боевиков оказалась очень выигрышной. Как когда-то «Ромео и Джульетта», «Гамлет» открыл зрителю, не знакомому с Шекспиром, новый мир, и это, бесспорно, дало положительный результат.
Для меня работать с Гибсоном было непросто, но невероятно интересно. Его противоречия внушали беспокойство, но возникали всегда по конкретным причинам: как достойно читать Шекспира, как отрешиться от предыдущего голливудского опыта, насколько довериться мне (а у меня, в свою очередь, тоже были «гамлетовские» сомнения по поводу возложенной на меня ответственности). Кроме того, Мел в глубине души всегда был больше постановщиком, чем исполнителем. В нем росло непреодолимое желание стать режиссером. Поэтому во время работы над фильмом он, как только мог, оказывался позади камеры и задавал вопросы по поводу всего — освещения, дублей, фокуса и прочего.
Перепады его настроения стали привычными: никто по этому поводу больше не волновался, и утром, приходя на площадку, мы перестали интересоваться, откуда дует ветер. Мы хорошо знали, что любой ветер за день не раз поменяет направление.
Дайсон Ловелл, который был мне опорой во время всего этого трудного предприятия («Иисус» — безделица по сравнению с «Гамлетом»), помог подобрать исключительную группу, цвет английского театра и кино, так что я продолжил свою ставшую известной традицию снимать только лучших из лучших.
Мне кажется необходимым вспомнить здесь об актерах, которые способствовали успеху фильма: Гленн Клоуз в роли матери, Пол Скофилд — Тень отца Гамлета, Алан Бейтс — король Клавдий, Иен Холм — непревзойденный Полоний, Хелена Бонэм-Картер — Офелия. Все — первые величины английского театра, давшие согласие участвовать в фильме, как мне шепнул Дайсон, из уважения ко мне, раз я снимал по Шекспиру уже третий фильм, несмотря на недоверие, которое внушал им в роли Гамлета «этот австралиец». Между прочим, Гибсон этот момент недоучел. Его очевидное желание самому режиссировать съемки под самыми разными предлогами натолкнулось на непрошибаемую стену солидарности актеров, и ему пришлось отказаться от тайной мечты, хотя он не оставлял попыток. В конце концов он даже обвинил меня в алкоголизме (будучи сам в списке лос-анджелесской полиции за вождение в нетрезвом состоянии).
Мы снимали в Шотландии в марте при очень необычной погоде: яркое солнце, мороз днем и полярные холода по ночам. В одну из таких ночей в ожидании съемок я попросил принести виски, чтобы вся группа могла немного согреться. В это время появился Мел и неожиданно ужасно разозлился (только потом мы поняли, что он был совершенно пьян). Мы разругались в пух и прах, и он пригрозил, что погонит меня вон со съемок (как известно, это была его заветная мечта).
Разъяренный Мел ушел с площадки, сжимая в руке почти пустую бутылку, и встретил Пола Скофилда, одетого Тенью отца Гамлета, который очень вежливо взял у него из рук бутылку. Совершенно выйдя из себя, Мел заорал:
— Я требую, чтобы на съемочной площадке не пили!
Пол очень спокойно ответил, что отлично слышал его слова и даже угрозу сменить режиссера и снимать самому.
— Что касается меня, то я согласился участвовать в фильме только потому, что восхищаюсь Дзеффирелли. На этот счет в моем контракте есть отдельный пункт, — сказал он, отхлебнув из бутылки и глядя Мелу прямо в глаза. — Сегодня ночью холодно, как на Северном полюсе, и минимум того, что можно сделать, — это выпить по глотку виски, к которому, как я погляжу, ты уже хорошо успел приложиться.
Этих слов Пола, всеми уважаемого и любимого актера английского театра, оказалось достаточно, чтобы навести порядок в мозгах Мела, который, однако, продолжал мечтать о режиссуре и, действительно, сразу после «Гамлета» снял несколько фильмов, причем неплохих. Но все отметили в нем довольно неприятную черту — непреодолимую страсть к кровавому насилию, доходящую до крайности, что явствует из «Патриота», «Храброго сердца», не говоря уж про «Страсти Христовы».
Во время съемок «Гамлета» случился эпизод, который заставил нас всерьез призадуматься и открыл кое-что в характере Мела.
«Крыса!» — восклицает Гамлет в очень сильной сцене. Он яростно обвиняет мать, королеву Гертруду (Гленн Клоуз), и вдруг обнаруживает, что за ковром что-то или кто-то шевелится. Он обнажает шпагу и разит вслепую. Раздается полузадушенный вопль: «Эй, люди! Помогите, помогите!», и Гамлет с яростью кричит: «Что? Крыса? Ставлю золотой — мертва!» Из-за ковра появляется смертельно раненый Полоний (великий актер Иен Холм) и испускает дух.
— Стоп! — закричал я. — Камеру сюда.
Холм лежал с широко раскрытыми глазами. Мел стоял рядом со мной за камерой и внимательно смотрел на этот крупный план.
— Можно мне кое-что сказать? — спросил он и пояснил: — Когда ты убиваешь неожиданно, убитый не смотрит широко раскрытыми глазами в никуда.
— А как должно быть?
Мел подошел к Холму и, опустившись возле него на колени, пробормотал:
— У смертельно раненого животного взгляд не останавливается, его глаза бегают, сначала вместе, потом, как у косого, в разных направлениях. До смешного.
— А ты откуда знаешь? — спросил Холм.
— Я много раз видел смерть, — улыбнулся Мел. — Глаза останавливаются последними, через несколько секунд после сердца.
Мне стало интересно.
— Мел, ты так и не ответил Иену, откуда ты знаешь?
Он пожал плечами и сказал:
— Чтобы расслабиться, я, когда могу, еду к себе на ранчо в день, когда забивают скот, и убиваю бычков.
Мы остолбенели. Не обращая внимания на впечатление, которое произвели его слова. Мел продолжал как ни в чем не бывало:
— От выстрела они умирают слишком быстро. Можно лучше понять, что происходит, когда перерезаешь им глотку.
Тут мы услышали стон и, обернувшись, увидели, что Гленн, которая лежала на кровати и слышала весь разговор, потеряла сознание.
Этот гениальный человек в самом деле загадка: великий и исключительно умный актер, которого так привлекает необузданное насилие. Чтобы снять напряжение и расслабиться, он проводит выходные на ранчо и забивает бычков!
Когда несколько лет спустя я узнал, что Гибсон решил снять фильм о Страстях Христовых, то всерьез забеспокоился. И не зря. Я подозревал, что к такому трудному делу Мела привела не столько евангельская весть, сколько непреодолимое влечение к крови и страданию плоти. Вот откуда такое количество спецэффектов! К концу фильма испытываешь потрясение, отвращение, сам чувствуешь себя истерзанным и тяжко страдающим. Не исключено, что кто-то из зрителей потерял сознание, как Гленн Клоуз.
Что за чертяка этот Мел, все ему удалось: море крови и море миллиардов! А нам-то что досталось?
Еще одно небольшое отступление. Кто-то сказал, что после фильма Гибсона все остальные фильмы об Иисусе «кажутся бедными родственниками». Этому человеку я хочу напомнить, что наш «Иисус из Назарета» 1977 года (который видели, как считается, более двух миллиардов зрителей) получил почти два десятка «Оскаров» и «Золотых львов». Съемки и освещение — Армандо Наннуцци, лучший итальянский оператор послевоенного времени, и Дэвид Уоткин (три или четыре «Оскара»), костюмы — Марсель Эскофье, один из лучших художников по костюмам XX века. При таком раскладе трудно чувствовать себя «бедными родственниками» кого бы то ни было. Уж не говоря о сюжете, который после глубокого изучения материала написали Энтони Берджесс и Сусо Чекки Д’Амико, твердо придерживаясь принципов Папы Павла VI, который в энциклике «Nostra aetate» и заключительных актах Второго Ватиканского собора раз и навсегда снял с евреев обвинение в Богоубийстве.
Подумать только, прошло всего тридцать лет, а кинематограф не может предложить ничего лучшего, чем поверхностный фильм Гибсона, состоящий исключительно из спецэффектов, крови и насилия. Сам собой возникает вопрос: а не начать ли все сначала?
За «Гамлетом» и «Дон Жуаном», над которыми я работал в волшебные 1990 и 1991 годы, удивительным образом последовал третий шедевр, может быть, лучшая театральная пьеса XX века: «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло.
Я начал готовить постановку сразу после премьеры «Гамлета» в апреле 1991 года в Лондоне, в «Ройал Комманд Перформанс». Спектакль был поставлен в Таормине, а затем на следующий год показан на языке оригинала в Национальном театре в рамках Европейского театрального фестиваля.
Луиджи Пиранделло — национальная гордость Италии. Это писатель, который изменил лицо театра XX века: не будь его гения, современная драматургия вообще бы не возникла. Судьба его сложилась непросто. Пиранделло — сицилиец, до Первой мировой войны жил в Германии, а потом в Вене, и тем самым его личность как бы раздвоилась: суть в нем сицилийская, форма — центральноевропейская. Эти очень разные силы переплелись, и читателю не всегда понятно, где он находится — в Берлине или в Агридженто[105].
Меня всегда необыкновенно притягивала склонность Пиранделло к умозрительности и загадке, и мне кажется, что если режиссер не будет искать особого подхода к этому сложному, полному противоречий миру, то ему не удастся вникнуть в суть творчества Пиранделло. Навязчивым переплетением реальности и вымысла пронизаны все его драматические произведения, и в первую очередь «Шесть персонажей в поисках автора» — абсолютный шедевр.
Мне кажется, что этот спектакль — одна из лучших моих работ в драматическом театре. У меня была отличная труппа во главе с великим Энрико Мария Салерно и популярнейшей Бенедеттой Буччеллато. Я выбрал совершенно новый подход, особенно для декораций и освещения. Спектакль имел большой успех в Италии, а в Англии стал настоящим откровением.
Англичане признали наконец, что благодаря Пиранделло театральные мерки стали совершенно иными, но поскольку его произведения не следуют англосаксонской логике, более того, являются полной ее противоположностью — им не удается вобрать его в свою культуру. Язык Пиранделло очень сложен даже по-итальянски, он всегда направлен вглубь самого слова. Никакой перевод не может передать ту словесную игру, в которую нас, бедных, втягивает Пиранделло. На этот раз у английской публики появилась возможность включиться самой в эту игру, глядя на то, как проживают ее герои на сцене, даже не обращая внимания на сальто-мортале, которые проделываются в диалогах. Кто-то сказал, что этот спектакль — отличный урок, чтобы показать секреты Пиранделло, потому что на самом деле к ним надо относиться не как к тревожной тайне, а как к гениальной забаве.
Вот что написала «Файнэншл Таймс»:
«Спектакль Франко Дзеффирелли полномасштабен, и это хорошо. Фон состоит из квадратов и прямоугольников, иногда очень ярко освещенных… Но не стоит думать, что режиссура хочет противопоставить стиль и сущность, скорее, наличие стиля подчеркивает значимость драмы… Эта постановка доказывает, что „Шесть персонажей“ — вне всяких сомнений один из величайших шедевров драматургии XX века».
Критик из «Таймс» Бенедикт Найтингейл тоже отозвался о спектакле с большим воодушевлением:
«Ревизионизм Дзеффирелли привел к поставленной цели. На сцене бушуют непреодолимые силы. Я даже вдруг поверил в безумные истории, которые шесть персонажей требуют актеров разыграть… Энрико Мария Салерно (как Отец) умеет в одну секунду от торжественности перейти к двусмысленности, от юмора к тоске… это куда более полный персонаж, чем тот, который мне довелось видеть в английских постановках „Шести персонажей“, и его одного хватило бы, чтобы увековечить постановку Дзеффирелли».
«И здесь мы вышли вновь узреть светила»[106].
Как и Поэт, я оставил темный этап позади. После продолжительного периода неуверенности и сомнений успех «Дон Жуана», «Гамлета» и «Шести персонажей» указывал мне, что я на «правом пути».
Это был великий момент. В те месяцы со мной происходило что-то необыкновенное. Все пути — опера, кино, театр — вели меня на вершины, о которых можно было только мечтать: шедевры трех гениев — Моцарта, Шекспира и Пиранделло. Я был еще слишком погружен в работу, чтобы понять, какая мне выпала великая удача — иметь дело с памятниками искусства такого масштаба и почти одновременно! Но все было именно так. И пока я жив, не устаю благодарить судьбу, Промысел, родные души, не покидающие меня, за удивительную возможность, которая была мне предоставлена в те месяцы. Вообще-то это могло бы стать идеальным завершением карьеры. Но этот час еще не пробил. Я чувствовал, что должен продолжать, потому что мог еще много сделать, дать, сказать.
По обычной схеме моей жизни за положительными силами следовали отрицательные в некоем постоянном циклическом движении, но, как и Данте, я уже научился видеть вещи в ином освещении, научился узнавать эти приливы и отливы и даже находить их весьма стимулирующими, уповая, что дурное пройдет, а хорошее вернется.
Но и в эти два прекрасных года вкралась большая скорбь — умер Леонард Бернстайн. Я был в Лондоне, занимался монтажом «Гамлета», когда это случилось. За несколько месяцев до этого мне позвонил его агент и сообщил: Ленни просил предупредить всех друзей, что решил больше не дирижировать. Обычно дирижеры работают до очень пожилого возраста, поэтому решение Ленни мне показалось очень серьезным и необычным.
Я к этому времени давно с ним не разговаривал, потому что всякий раз не мог до него дозвониться. Я не знал, что семья изолировала его от всех, не знал и причин этой изоляции. Однажды я нашел его старый личный телефон, позвонил, и Ленни неожиданно ответил. Для меня было шоком услышать его хриплый, неузнаваемый голос. Казалось, он даже дышать не может. Он едва выговорил несколько слов:
— Франко, конец… Спасибо… Я тебя люблю…
Он умирал в удушье от какой-то таинственной болезни легких. Он всегда пил, курил и не обращал внимания на здоровье. Я всячески пытался еще раз связаться с ним, но больше не смог, последний телефон тоже перестал отвечать. Родные хотели оградить его, но способ, к которому они прибегли, оказался мучительным для его друзей и для него самого, доброго старого Ленни.
Я помню о нем столько замечательного. Как-то летом он приезжал в Позитано, одновременно у меня гостил и Клейбер. Двух более разных людей невозможно себе представить. Карлос не любил проводить отпуск с другими музыкантами, особенно с такими напористыми и шумными людьми, как Ленни. Туда мне прислали первые пленки фильма «Богема» в моей постановке в «Ла Скала» под управлением Клейбера. Я знал, что Карлос не признает никаких вмешательств, и обещал, что на просмотре кроме нас двоих никого не будет. Боясь, что Ленни может помешать нашей работе, я попросил его держаться подальше, пойти в деревню, в общем, не соваться. Он сказал, что прекрасно все понимает, и исчез. Я не очень-то ему поверил и велел Пиппо за ним присматривать.
Когда мы уселись за работу, Ленни начал демонстративно прогуливаться под окнами нашей гостиной, и Пиппо приходилось всякий раз его уводить. Когда я считал, что он действительно ушел, он появлялся в другом окне. Это напоминало фильмы братьев Маркс. В конце концов Ленни на цыпочках вошел в гостиную, сказал, что хочет налить себе чего-нибудь выпить, и с грохотом опрокинул ведерко со льдом. Чем больше он старался не мешать, тем больше шума производил, спотыкался о стулья, стонал от боли, при этом просил извинения, что помешал, пока мы не предложили ему сесть с нами в надежде, что он успокоится.
Но успокоиться он не мог, это было сильнее его. Он начал выбивать ритм и наконец совершенно перестал сдерживать свои чувства. Забыв обо всем, он схватил за руку Карлоса, неподвижного и холодного, как статуя. Я умолял Ленни успокоиться и не мешать Карлосу. Напрасный труд. В душераздирающем финале оперы, когда действительно трудно сдержать слезы, Ленни испустил отчаянный крик, напоминающий крик раненого зверя, и зарыдал. Обильно поливая слезами бедного Карлоса, он просил у него прощения, целовал ему руки и пытался объяснить, что в этом месте оперы он всегда рыдает, даже когда дирижирует сам, потому что вспоминает Фелисию, недавно умершую любимую жену (хочу при этом заметить, что с Фелисией он разошелся за много лет до этого, развод был тяжелым, и отношения между бывшими супругами так и остались очень плохими).
В общем, как всегда Ленни хотел быть первым всегда и везде, чего бы это ни стоило другим. Ему это удалось. Для Клейбера вечер был безнадежно испорчен.
XXII. Ах, эти проклятые тосканцы!
Мы, жители Тосканы, всегда были забияками, а флорентийцы — первые драчуны из всех. Даже пытаться не буду перечислить случаи исторической несправедливости и агрессии в отношении тех, кто отважился иметь точку зрения, отличную от нашей. Демократия — это, конечно, свобода, но это еще и терпимость к другим. Так вот, она во Флоренции просуществовала далеко не в идеальном виде всего лет пятнадцать за всю историю города, в начале XVI века. Да и сегодня нельзя сказать, что там царит открытый политический и общественный климат, располагающий к свободному диалогу.
Футбол — идеальный клапан, которым можно регулировать задиристость флорентийцев. Игра эта очень древняя. Уже в эпоху Возрождения она воспламеняла сердца с такой же страстью, какой отличаются сегодняшние болельщики, которые давно стали «образцом» нашей вечной грубости и жестокости. Говорят, что в 1530 году осажденные папскими и императорскими войсками флорентийцы, обессиленные долгими месяцами нужды, согласились на уговоры Медичи, которые снова хотели взять город в свои руки (и взяли еще почти на три века), и решили сдаться, но прежде чем открыть городские ворота, украсили весь город флагами и собрались на площади Санта-Кроче для последнего футбольного матча «свободной Флоренции».
Осаждающие, тоже уставшие, глядя сверху вниз на праздничную картину в осажденном городе, ничем не напоминающую унылую атмосферу, которая должна была царить при таких обстоятельствах, уже готовы были снять осаду и не поверили своим глазам, когда делегация горожан явилась к Медичи для вручения ключей от Флоренции.
У нас нелегкий характер, это верно, мы склонны к бессмысленному упрямству, но способны на благородные и мужественные поступки.
Нельзя сказать, что спортивный климат, особенно в футболе, сильно изменился за прошедшие века. У нас до сих пор играют во флорентийский футбол, к сожалению, больше известный как исторический футбол. Город разделен на четыре команды, по числу исторических кварталов: зеленые — квартал Сан-Джованни, синие — Санта-Кроче, белые — квартал за рекой и красные — Санта-Мария-Новелла. В тридцатые годы флорентийский футбол претерпел существенные изменения, и матчи, а точнее, жестокие сражения, где бились до крови, снова вернулись на площадь Санта-Кроче. Но теперь они красочно оформлены: как и в XVI веке, от площади Санта-Мария-Новелла идет праздничное шествие, которое изумительно смотрится на наших прекрасных улицах и площадях.
К сожалению, футболисты у нас такие, что по ним плачет тюрьма, и матчи становятся непристойными сражениями, в которых сводятся личные счеты, находят выход ненависть и неприязнь или попросту жажда насилия.
И шествие, и матч всегда вызывают большой приток туристов, которых вообще много в июне. Как ни печально, но им часто приходится становиться свидетелями недостойных картин, а организаторам — приостанавливать шествие и матчи. Толпа зрителей по своей агрессивности ничем не отличается от болельщиков на стадионах.
Мой дядюшка брал меня еще ребенком с собой на стадион, и я очень рано стал ярым болельщиком цветов нашего первобытного племени. Футбол вообще дает возможность современному человеку выразить таящиеся под спудом первобытные пристрастия: флажки, майки, кепки и вся остальная разноцветная атрибутика — все это мало чем отличается от раскраски диких африканских племен. Цвет флорентийской команды «Фьорентина» фиолетовый, и им окрашены самые тайные мои страсти. Но ведь еще есть цвета соперников, и нам, флорентийцам, черно-белые флажки команды «Ювентус» — что красная тряпка быку.
Почему я трачу столько времени на разговор о футболе? Потому что из всех споров, которые я вел в свой жизни, самыми жаркими были споры насчет «Ювентуса». Всякий раз, как они возникают, я моментально теряю голову.
В 1983 году «Ювентус» и ее тогдашний президент Джампьеро Бониперти подали на меня в суд за то, что я открыто заявил, что черно-белая команда выиграла добрую половину своих призов благодаря необъективности и коррупции судей. А еще я сказал, что мне больно видеть, как эта команда, которая в Европе считается одной из лучших, марает руки о всякие мафиозные делишки. В 1989 году меня признали виновным по всем статьям обвинения, и мне пришлось выплатить штраф в тридцать семь миллионов лир[107] команде «Ювентус» и ее президенту.
Я вслух заговорил о наглости и коррупции «первой леди» итальянского футбола — черно-белой команды — в то время, когда она была неприкасаемой, и заплатил гигантский штраф. Мои слова были основаны на простейшем наблюдении: на разнице между числом побед черно-белых в Италии (огромное) и в Европе (очень мало). В Европе «Ювентус» не имел «преимущества», как на чемпионатах страны.
Прошло двадцать лет, и я с удовольствием могу констатировать, что оказался прав. Сегодня уже найдены доказательства, что тридцать семь миллионов мне пришлось заплатить за то, что я не побоялся вслух сказать о постыдной зависимости судей от «Ювентуса». Теперь это общеизвестный факт в связи со скандалом из-за прослушивания телефонных разговоров. Разумеется, я потребую возмещения этих денег.
Отлично. Ура! А дальше-то что?
Много лет назад мой лондонский агент Деннис ван Таль отечески пытался успокоить меня по поводу какого-то горячего спора, которых так много было в моей жизни. Он процитировал мне Талмуд: «Никогда не растрачивай силы на пустые и ненужные дела, приходя в ярость и теряясь в лабиринтах, из которых никогда не выйдешь с победой. А если и выйдешь, то все равно задумаешься, стоило ли растрачивать себя на дело, которое этого не заслуживало». Умница Деннис, он совершенно прав.
А с другой стороны, у меня такой характер: если я вижу вещи, которые вызывают во мне возмущение, то не могу оставаться спокойным. Вскипаю и уже не могу действовать рассудочно.
В начале 1991 года при поддержке Брижит Бардо и ряда других знаменитостей международного уровня я учредил комитет в защиту животных, чтобы привлечь внимание к варварским обычаям конных соревнований в Сиене. На заре скачек, которые проходят ежегодно на очень красивой площади дель Кампо в историческом центре города, использовалась только одна местная порода лошадей, тяжеловатых, но достаточно резвых. Постепенно их заменили чистокровными лошадьми, но легких и хрупких животных приходилось накачивать наркотиками, чтобы они могли выдержать препятствия и опасные повороты. Дело дошло до того, что многие из них погибали прямо во время скачек, и ужас и жестокость этих сцен я даже не хочу описывать. Десятки тысяч зрителей каждый год съезжаются в этот средневековый город на существующую уже несколько веков церемонию и при этом даже не замечают чудовищных страданий лошадей.
Благодаря единомышленникам по всему миру нам удалось раздуть международный скандал. Город подал на меня в суд за диффамацию и потребовал астрономическую сумму за моральный ущерб. Я выиграл дело, и хотя Сиена так и не признала, что мои обвинения имеют под собой серьезные основания, однако в организации скачек были проведены все те реформы, которые мы считали необходимыми. Судебные издержки власти города отказались платить, и дело это тянется до сих пор. Никаких судов, ни при каких обстоятельствах: проиграешь, даже если выиграешь.
Во время битвы, а точнее драки, с Сиеной я снимал документальный фильм о Тоскане по заказу правительства области. Из принципиальных соображений я заявил, что ноги моей в Сиене не будет. Естественно, что фильм о Тоскане, где не было бы одного из самых славных и красивых городов, мог показаться очень странным и вызвать нездоровое любопытство. Поэтому администрация города была уверена, что я все равно окажусь у них, и поджидала меня «у входа». Но их постигло разочарование: я нанял вертолет и снял чудесные церкви, башни и колокольни Сиены, так и не ступив ногой на ее мостовые.
Хоть я и признаю талмудическую мудрость совета Денниса ван Таля, мне никогда не удавалось ему следовать. Не то чтобы я ищу приключений во что бы то ни стало, просто не умею пройти мимо того, что мне кажется неправильным. Я только и делаю что даю интервью, собственноручно пишу статьи в газеты и выступаю по телевидению, защищая свою точку зрения, и, конечно, часто оказываюсь в бурном море. Меня, например, сильно раздражает нетерпимость ислама, которую мне пришлось испытать на собственной шкуре, когда я представлял документальный фильм о Тоскане в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Фильм собирались показать на арабских телеканалах для привлечения туристов в Тоскану. Когда его представили разным арабским чиновникам, они хором заявили, что фильм прекрасен. Но… необходимо вырезать из него «Давида» Микеланджело и «Венеру» Боттичелли!
— Мы не можем показывать народу такие откровенные картины, — сказал мне один высокопоставленный чиновник.
— Значит, вы не покажете ему ничего, — заявил я. — Мне все равно, приедете вы во Флоренцию или нет. Но если приедете, вам придется принять и уважать нашу культуру, как делают все цивилизованные люди.
Я очень скоро понял, что это только крохотная часть гигантской и очень серьезной проблемы. Я жил в посольстве Италии на правах гостя посла и его супруги. Дело было в субботу, и я спросил, можно ли в воскресенье утром пойти на мессу. Супруга посла бросила быстрый взгляд на арабскую прислугу, сделала мне почти незаметный жест, взяла за руку и повела в сад. Она уже собралась было что-то сказать, но тут ей показалось, что кто-то прячется в кустах. Тогда она предложила прокатиться на машине и, остановившись возле тихой аллеи, пригласила меня пройтись.
— В этой стране говорить о мессе нельзя, — сказала она. — Мы ходим на мессу каждое воскресенье в одиннадцать, ее служат в потайной комнате посольства. Один из наших секретарей на самом деле священник. Но это секрет, помните.
Я онемел. В Риме, как и в других городах мира, мы разрешили мусульманам построить мечети и свободно исповедовать свою веру, а в их странах христианам запрещено иметь свою церковь! В Саудовской Аравии не только церковь вне закона, но и крестное знамение — кощунственный знак, и не мусульманин не может быть погребен на освященной земле! В этой стране работает много католиков, в частности, с Филиппин, и бедные семьи не могут даже отправить домой прах родных для погребения. Более того, иногда христианам приходится отрекаться от веры, чтобы найти работу.
Я всегда испытывал к мусульманам братские чувства, прекрасно работал с ними в их странах, я храню самые теплые воспоминания о любимых мною Марокко и Тунисе. Поэтому отношение саудовских арабов особенно задело меня. Вернувшись в Рим, я даже написал докладную и подал ее в сенат.
Королева Иордании позвонила мне, узнав о случае с документальным фильмом. Немного смущенно она объяснила, что правила на арабском телевидении отличаются от наших, но что она лично готова взять на себя организацию просмотра полной версии для высококультурного круга королевских приближенных.
— Это подготовленная публика, — сказала она. — Они смогут понять.
Увы, ей пришлось признать, что пропасть между исламской и западной культурой в настоящий момент огромна.
Во время этих треволнений я не забывал и о работе. У меня в голове вертелось много проектов, а в конце 1991 года я поехал в Америку на встречу с Эндрю Ллойдом Уэббером, который хотел поручить мне постановку его мюзикла «Сансет-бульвар», который интересовал меня, пока я не услышал музыку — бедную и пустую. Этим все и кончилось.
В Лос-Анджелесе многие друзья рассказывали мне, что «откладывают на черный день» собственную кровь на случай, если срочно придется оперироваться. Несмотря на жесткий контроль, было уже несколько случаев переливания крови, зараженной СПИДом, и «откладывать» кровь стало модно. Так что я тоже решил «положить в кубышку» немного крови.
У меня не было никаких оснований предполагать, что эта кровь может мне скоро пригодиться. Я всегда внимательно относился к своему здоровью и замечал любую мелочь. За годы жизни я научился задавать вопросы организму и наладил с ним отличный диалог, а за работой внутренних органов слежу, как начальник производства за рабочими, и помогаю им, когда они устают или не в форме. Поэтому как только я заметил, что у меня что-то не так в нижней части живота, то сразу обратился к своему лос-анджелесскому врачу Арнольду Дарвину. Никаких симптомов или болей у меня не было, только инстинктивный сигнал тревоги. Дарвин внимательно обследовал меня, но не нашел ничего особенного.
Как-то ночью мне приснилась мама, какой я запомнил ее с детства. Я был на кухне и смотрел на плиту.
— Не слушай их, они ничего не понимают, — сказала мама, тыкая в меня деревянным половником. — Что-то я беспокоюсь. Проверься-ка еще разок.
Разумеется, сон очень меня встревожил. На следующий день я позвонил Дарвину и сказал, что хочу провериться еще раз. Снова все оказалось в полном порядке. Но прошло еще несколько ночей, и мама опять приснилась мне.
— Почему ты не обращаешь внимания на мои слова? — спросила она, нервничая. — Тут кругом одни дураки, нечего им верить. Послушай меня, у тебя там что-то нехорошее.
Я снова позвонил Дарвину, правда, с некоторым смущением, потому что боялся, что он пошлет меня ко всем чертям. Он отличный врач, но когда я рассказал ему о сне и попросил осмотреть меня еще раз, бросил трубку. Я же продолжал нервничать из-за снов и звонить ему, пока он не отправил меня к урологу, который обнаружил у меня начальное раковое образование в предстательной железе.
Дарвин онемел.
— Да такое и предположить было невозможно, — расстроено бормотал он. — Надо немедленно делать операцию.
К счастью, совсем незадолго до этого наука открыла такие возможности хирургического вмешательства, которые никоим образом не влияли на половую жизнь, и я оказался одним из первых счастливчиков, опробовавших на себе новую технику.
После операции хирург показал мне удаленные ткани. Под увеличительным стеклом раковые клетки выглядели как россыпь мелких звездочек и напоминали галактику. То, что буря, возникшая в каком-то органе человеческого тела, может отозваться астрономическим явлением, наводило на «глобальные» мысли и вопросы, на которые нелегко найти ответ. Может быть, звезды и планеты не слишком отличаются от клеток человеческого тела? В совсем другом, в миллионы раз увеличенном масштабе их форма, структура и гармония те же, что и в нашем организме?
Дарвина очень заинтриговали обстоятельства, при которых я узнал о грозящей мне опасности, и он отвел меня к своему другу психиатру. Тот отнесся к моим вещим снам с тем же скептицизмом, что и сам Дарвин. Он объяснил, что я просто-напросто нахожу утешение в образе матери, когда ощущаю какую-то угрозу, и использую этот знакомый и родной образ в конкретной ситуации. Иными словами, не душа матери предупредила меня об опасности, но моя собственная тревога вызывала ее, когда я нуждался в утешении и поддержке. Этот анализ напомнил мне, как Христос объяснял чудеса, которые Ему приписывали: возможность совершать чудеса сокрыта в каждом из нас, и мы наделены силой, которая помогает эту возможность активизировать, а наша вера, дух действуют как проводники. «Не бойтесь, только веруйте и спасетесь»[108].
В конце года, в канун Рождества я увидел еще одно настоящее чудо. По телевидению показали, что в России с башен Московского Кремля сняли советские красные флаги, и ветер развевает над куполами кремлевских соборов древний бело-сине-красный триколор. Эти три цвета — цвета Непорочного Зачатия Девы Марии[109]: Пресвятая Дева одета в белое и голубое, а под пятой Ее поверженный красный дьявол. Я невольно вспомнил 1977 год, когда Папа Павел VI принял меня в Ватикане вскоре после выхода «Иисуса из Назарета». Он отметил нашу работу как новый шаг на пути укрепления веры при помощи последних технических достижений. В конце аудиенции он спросил, что может сделать для меня церковь.
Этот вопрос прозвучал для меня совершенно неожиданно.
— Мне бы хотелось показать фильм об Иисусе в России, — горячо воскликнул я.
Папа подумал немного и сказал:
— Это необязательно. Господь уже с ними, но однажды божественный образ Марии, цвета Ее Непорочного Зачатия явятся в небе над Россией и победят большевизм. А вы это увидите.
Когда в 1978 году Ватикан избрал Папу Иоанна Павла II, первого не итальянца за четыре века, я вспомнил слова Павла VI. Он знал, что путь церкви лежит на восток, и очень хотел, чтобы его преемник на папском престоле происходил из Восточной Европы. Неизбежный распад большевизма начался после ужасов Будапешта и Праги, которые показали полную беспочвенность надежд на будущее коммунизма и открыли глаза даже самым истовым его приверженцам. Польша в силу своего географического положения веками была полем сражений между Россией и Западом. Польские рабочие при поддержке католической церкви восстали против навязанного стране общественного устройства, а произошло это, как ни странно, в Гданьске, где началась Вторая мировая война.
После преступлений в Венгрии и Чехословакии советская система достигла пределов собственных возможностей. Польское движение надо было раздавить, но «чудовище» уже было смертельно больно, и ему оставалось только умереть. Польша указала путь, подняв непобедимое оружие — Крест Христов, который крепко держал в руках поляк — Папа Римский. Так рассеялся многолетний мираж коммунизма.
Как правило, все главные события истории сопровождались кровопролитиями, но в России коммунизм умер без единой капли крови — он растаял, как свеча на ветру. Цвета Непорочной Девы, реющие над куполами и башнями Московского Кремля, — одно из самых впечатляющих зрелищ, которые мне довелось увидеть.
В начале 1992 года я поставил «Богему» в Риме. У меня есть постановка оперы в «Ла Скала» и есть в Америке, в «Метрополитенопера»; они всегда включены в репертуар, потому что имеют успех у зрителя. Всякий раз, когда идет мой спектакль, я испытываю ликование, потому что одержал победу над незавидным уделом большинства постановок — плохих, хороших, никаких: они живут одно мгновение и сразу становятся воспоминаниями.
Однако у этой особой судьбы есть и своя отрицательная сторона: театры очень редко разрешают мне сделать что-то совершенно новое, реализовать идеи, возникшие за прошедшие с предыдущей постановки годы. Мне, например, много лет хочется переделать «Паяцев», которых я поставил в «Метрополитен-опера» в 1970 году и которыми никогда не был по-настоящему удовлетворен; этот спектакль уже превратился в старую выцветшую открытку.
Со временем у меня родилось другое прочтение оперы, «Метрополитен» же и слышать не хотел о смене постановки, которая по-прежнему собирала полный зал. Но замысел нового спектакля не выходил у меня из головы. Поэтому, когда в апреле ко мне пришел директор римского Оперного театра Джан Паоло Креши, старый друг и большой умница, и предложил поменять оформление «Паяцев», я сразу же согласился. А потом он заявил, что опера стоит в программе на начало мая! Это значило, что у меня всего четыре недели на подготовку и постановку — обычно на такой проект уходят месяцы, если не годы. Но я уже поднял перчатку, и мне ничего не оставалось, как застегнуть ремень безопасности и окунуться в работу в нечеловеческом ритме, хотя и при всеобщей поддержке.
С многих точек зрения эта постановка «Паяцев» — самая революционная из всего, что я когда-либо ставил. Обычно я не склонен изменять время действия, но в этом случае мне показалось справедливым перенести события «Паяцев» в наши дни. Леонкавалло построил свою оперу на реальном происшествии, о котором тогда писали все газеты. Опера вызвала повышенный интерес у публики еще и потому, что казалась хроникой последних событий. Со временем она утратила злободневность и стала зарисовкой эпохи, что автор вовсе не имел в виду. Я подумал, не может ли подобная история найти свое место в современном обществе, и понял, что это вообще единственная возможность донести ее до зрителя, показав живых, а не ходульных персонажей. Окраины южных городков, как тот, где произошел послуживший основой сюжета случай, по-прежнему бедны, по-прежнему суетой и шумом напоминают базар. И в таких бедных кварталах по-прежнему появляются актеры-бедолаги и показывают спектакли про извечные любовь, измену и смерть, которые распаляют воображение и чувства простых людей.
Такое новое видение (на самом деле вовсе не новое, а то, к которому стремился Леонкавалло) принесло шумный успех, и спектакль уже объехал полмира. Когда четыре года спустя его показали в Лос-Анджелесе, я был поражен энтузиазмом зрителей Калифорнии. Я не сомневался, что спектакль с Пласидо Доминго в роли Канио привлечет очень широкую публику даже в городе, где смотрят только кино, но такого приема не ожидал. Барбра Стрейзанд заявила, что это лучший мюзикл, который она видела в своей жизни.
— А нельзя ли сделать английский вариант? — на полном серьезе спросила она. — А если сделать по нему драму ревности женщины-клоуна? Не сомневаюсь, что при твоем богатом воображении… Такой спектакль уж точно побьет все рекорды по сборам.
А на родине меня ждал новый «Дон Карлос», которым должен был открываться сезон 1992–1993 годов в «Ла Скала», с дирижером Риккардо Мути, Паваротти и очень неровным составом исполнителей. Это одна из самых трудных опер, написанных Верди. Она пронизана какой-то бесконечной скорбью, которая гениально отражается во всеобъемлющей меланхолии персонажей и атмосфере, в которой разворачивается действие.
Много лет назад я побывал в Эскуриале и ощутил внутренний дискомфорт, беспокойство, царившие в мире, куда не проникали свет и тепло любви. Дворец и собор очень торжественные и мрачные, но самые тяжелые ощущения испытываешь при посещении королевской усыпальницы: императоры, короли, принцы и принцессы всех возрастов, включая крошечные надгробия из драгоценного мрамора для младенцев…
Ни гробницы Елизаветы, ни гробницы Дон Карлоса я не увидел и попросил гида их показать. Он проводил меня в самый дальний угол огромной усыпальницы. Здесь один против другого спали вечным сном злосчастные любовники. Старый и тоже несчастный Филипп II насильно разъединил их при жизни, но перед всесильной смертью сдался и позволил молодым людям, которым высшие государственные соображения принесли столько горя, навеки упокоиться рядом.
На меня нахлынула вдруг чудовищная тоска, в глазах стояли слезы. Но больше всего на меня подействовала мысль, что Верди тоже спускался в эту усыпальницу и тоже ощутил этот дух страдания, тоски, горя и предчувствия смерти, которые потом так удивительно отразились в музыке «Дон Карлоса». Я вернулся в гостиницу и включил пленку с записью оперы. При первых же звуках мне представились две уединенные могилы в гигантской усыпальнице. «Она никогда не любила меня», — с болью поет одинокий император.
В мире оперы встречаются и пересекаются многообразные характеры и силы — певцы, дирижеры, постановщики, музыканты, и их задача — создать некую общую гармонию, без которой невозможно добиться положительных результатов.
Я с благодарностью вспоминаю те из моих постановок, где я чувствовал себя частью целого, состоящего и из дирижеров, и из исполнителей. Только в таких условиях я могу работать с полной отдачей. Мой творческий путь пересекался с такими мастерами, как Серафин, Клейбер, Бернстайн, Караян, Гаваццени и многими другими великими артистами и хорошими товарищами. Риккардо Мути очень от них отличается, хотя и в мире музыки нередки случаи самодовольства и тщеславия. Но у Мути в голове только одно: во что бы то ни стало доказать и показать собственную гениальность, которая и так широко за ним признана, но он не знает границ, не приемлет критики, не выносит никакого соперничества.
Из-за него работа над «Дон Карлосом» проходила в состоянии полного дискомфорта, в леденящих душу подозрениях и недоверии, которые постепенно захватили всю труппу. Выкрик «браво» в адрес Паваротти глубоко ранил Мути, как будто на такое имел право только он и больше никто. К сожалению, на премьере случилась большая неприятность, именно из-за Паваротти, который слегка ошибся в большом концертато второго акта: капелька слюны заставила его на десятую долю секунды сфальшивить в трудной ноте. В любом другом случае ему бы это простили сразу, но в тот вечер галерка только и ждала повода его обшикать. Наверно, миланцы не смогли простить ему, что в предыдущем сезоне он отменил три спектакля «Любовного напитка», или что-нибудь еще.
По правде сказать, никто и никогда не исполнял Дон Карлоса так, как Паваротти. Я до сих пор слышу его золотой голос в этих труднейших пассажах. Мне страшно хотелось, чтобы Лучано получил то признание, которого заслуживал.
И он его получил. Существует великолепная запись спектакля, а протест галерки давно забыт.
Я всегда считал, и научился этому от великих мастеров, с которыми мне довелось работать, что успех труппы никогда не бывает заслугой кого-то одного и не принадлежит одному. Более того, успех одного человека стимулирует творческий подъем остальных.
Как я уже говорил, этот «Дон Карлос» существует в записи, и каждый сам может удостовериться, как он хорош. Не могу сказать, чтобы эта постановка оказалась для меня чем-то особенным. Более того, можно даже было подумать, что мрачная тень Эскуриала накрыла сцену «Ла Скала» — таким было напряжение, при тайных симпатиях и антипатиях и полном отсутствии мирного и спокойного подхода к своим и чужим заслугам.
Но, к сожалению, это касалось не только «Дон Карлоса». В «Ла Скала» вообще была очень тяжелая атмосфера. Как мы потом убедились, маэстро Мути оказался замешан в сложные спорные ситуации, и в театре разразился кризис. Не собираюсь о нем говорить в этой книге, хотя бы потому, что все еще очень горячо, хоть уже и не раскалено добела. В результате серьезного конфликта с оркестром Мути пришлось покинуть театр, который обратился к нему с просьбой найти себе другое «пристанище».
Как жаль его блестящий талант!
«Воробей»[110] — еще один мой фильм, пострадавший от недостатков сценария. Это невеселый, но один из самых популярных романов Джованни Верги. Я любил его со школьной скамьи и, когда еще только начинал карьеру режиссера, хотел снять по нему фильм. Действие происходит в Катании в середине XIX века, во время эпидемии холеры. Это история хрупкой девушки Марии из дворянской семьи, которая ребенком лишается матери, а отец женится на другой женщине — богатой и циничной. Девушку отсылают в монастырь, мачеха рассчитывает сделать из нее монахиню. Но когда в городе разражается эпидемия холеры, Мария вместе с семьей едет в деревню и там влюбляется в юношу по имени Нино. Когда волшебное лето заканчивается, она возвращается в монастырь, но по-прежнему любит Нино и, наконец, находит в себе силы сказать о своих чувствах. Однако выясняется, что молодой человек, сердце которого разбито, женился на ее сводной сестре, которая ждет от него ребенка. Мария возвращается в монастырь, к своей судьбе, и навсегда отказывается от радостей жизни.
Ванесса Редгрейв — актриса, которую я знаю много лет и очень высоко ценю, несмотря на полную противоположность наших политических взглядов. Наконец-то я получил возможность пригласить ее на маленькую, но очень важную роль — безумной монахини, практически заживо погребенной в монастыре. У нее в фильме только два эпизода, но в них и заключается драматизм всей истории, и ей удалось блестяще его передать, особенно в сцене, когда она прерывает торжественный обряд в соборе. Это была такая потрясающая игра, что вызвала овацию всех, кто присутствовал в церкви в тот момент.
В этом фильме есть эпизоды, которые очень мне дороги, несмотря на то что в сценарии так и не удалось как следует выстроить весь сюжет. Когда меня спрашивают, какие свои фильмы я люблю больше всего, я отвечаю обычно: «Те, которые не имели успеха. Я люблю их, как любят ребенка-инвалида: здоровый ребенок сам за себя постоит, а больному нужны поддержка и очень много любви».
В ноябре римский Оперный театр выпустил «Аиду», которую я ставил в «Ла Скала» в 1963 году. Джан Паоло Креши помнил тот спектакль и предложил его возобновить. По непонятной причине, но к большой нашей удаче, «Ла Скала» сохранил весь реквизит, хотя за прошедшие тридцать лет показывал «Аиду» всего два раза, и рассчитывать на перемены во время царствования Мути не приходилось. Очень много реквизита уничтожается из-за нехватки места для хранения, но к этой «Аиде» было такое почтительное отношение, что никто не осмелился на нее посягнуть, и место было найдено. Я уговорил Лилу де Нобили, художника-постановщика спектакля, приехать в Рим и привести в порядок оформление, и ее восхитительным египетским фантазиям удалось сохранить то волшебство, которое произвело такое сильное впечатление на зрителей «Ла Скала» тридцать лет назад.
Не могу передать радостное волнение, которое охватило меня, когда я увидел, как ожил старый спектакль. Сцена была оформлена в стиле самой первой каирской постановки 1871 года, она была такой насыщенной и такой живописной, что и в Риме тридцать лет спустя зрители были околдованы и потрясены.
Я не терял связи с Клейбером и рассчитывал снова привлечь его к совместной работе, настойчиво предлагая ему всевозможные варианты: «Трубадур», «Фальстаф», «Дон Жуан». Он всегда находил повод отказаться, но я продолжал надеяться. До меня стали все чаще доходить слухи о его решении окончательно оставить работу. В самом деле, он дирижировал в последний раз в 1994 году. Но я не сдавался. Я всегда сам стремился не оставаться без работы и не мог согласиться с тем, что такой огромный талант, как у Клейбера, невостребован. Я рассказал ему по телефону о так порадовавшем меня возвращении «Аиды», и он проявил определенный интерес. Это обнадеживало, но в общем ничего конкретного. Поэтому я совершенно не ожидал увидеть его на генеральной репетиции, в одиночестве сидящего в ложе. Он крепко пожал мне руку и долго держал ее в своей, не говоря ни слова. Суматоха большого театра, которую он увидел на сцене, взволновала, а может быть, и потрясла его. Тут я его возьми да и спроси, как последний дурак, почему бы нам снова не начать работать вместе. Он сразу сменил тему.
В конце репетиции я вернулся в ложу, но его уже и след простыл.
Позже он позвонил и извинился, что уехал, не дождавшись конца. Мы долго и очень приятно разговаривали, как часто случалось и раньше. Он расспрашивал меня, как нам с Лилой удалось создать оформление в полном соответствии с музыкой Верди.
XXIII. Политика и призраки
В начале 1994 года мне позвонил Сильвио Берлускони, сильно встревоженный сложившейся политической ситуацией. В России коммунизм пал окончательно, и надпись «конец» уже подвела черту под советской властью, но теперь он грозил с легкостью воскреснуть в моей собственной стране. По всей Италии шли расследования, миланский суд так и сыпал обвинениями, и все демократические партии, простоявшие у власти сорок лет, разваливались на глазах. «Чистые руки» мгновенно уничтожили весь демократический центр, но еле коснулись, причем довольно доброжелательно, коммунистической партии, которая объявила о внутренней перестройке, но изменила только место и время, ничуть не изменившись по сути. Коммунисты готовились одержать решающую победу на грядущих выборах с помощью «забавной военной хитрости», как выразился тогдашний секретарь партии Акилле Оккетто.
Берлускони понял, что его гражданский долг — вмешаться в политическую борьбу, ибо только так можно создать оружие, которое сумеет помешать коммунистам взять власть. Он призвал всех итальянцев, верящих в демократические ценности, присоединиться к нему и основать новую партию «Вперед, Италия!»
Он обратился ко мне одному из первых как к старому и проверенному другу, известному антикоммунистическими убеждениями. Его позиция сразу показалась мне очень убедительной. Именно это было нужно нашей несчастной стране, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в результате распада партий, и собрать все демократические силы для противостояния коммунизму. Хотя я был уверен, что Берлускони как следует обдумал свое решение, мне оно казалось по-прежнему немного «донкихотским». Берлускони — самый богатый человек в Италии и наиболее удачливый из всех, кого я знаю. Для него, руководящего гигантской экономической империей, это значило рисковать буквально всем. Но Сильвио сказал, что провел в одиночестве десять дней, обо всем подумал, взвесил все «за» и «против» как с профессиональной, так и с личной точки зрения.
— Я готов, даже если рискую потерять все, что имею, нам нужно что-то делать немедленно, работать изо всех сил ради нашей страны и ради будущего наших детей. Итальянская культура — это поле, на котором коммунисты пасутся уже пятьдесят лет, они командуют без стеснения в школах, в университетах и на телевидении, управляют профсоюзами и средствами массовой информации, прокуратурой и судами. Если они получат большинство в парламенте, у них в руках окажется вся страна. — И он еще раз твердо сказал: — Если они победят, то установят железную власть, и мы снова, на этот раз навсегда, потеряем свободу.
Не раздумывая, я обещал ему любую поддержку, какая потребуется. Он предложил мне выставить свою кандидатуру в сенат от одного из трех округов, на выбор, — Флоренции, Вероны и Катании. Я сразу сказал, что Тоскана — пропащее дело, в политическом смысле она одна из последних «коммунистических республик в мире», вроде Кубы и Северной Корси. С Вероной у меня всегда была особая связь, как культурная, так и душевная, но Катания привлекала меня больше. Я попал туда, когда делал первые шаги в кино (фильм Висконти «Земля дрожит»), всегда любил этот город и даже в конце концов «обручился» с ним, когда снимал там «Воробья». Чудесный город, один из самых красивых. Люди там прекрасно воспитаны, умны, очень тонкого поведения. За время съемок «Воробья» я залезал в самые укромные уголки и знакомился с людьми всех возрастов и уровней, особенно с молодыми. Мне очень нравилась перспектива опять вернуться к ним и вместе попытаться решить проблемы, которые нависли над их городом и над всей Италией. А проблем было множество.
Я поехал в Катанию и очертя голову, с большим энтузиазмом и нахальством, бросился в предвыборную кампанию. Что, неужели правда? Я действительно собираюсь стать сенатором? Я в самом деле готов к такой ответственной работе? Как режиссер, я привык обращаться к актерам, техническому персоналу и массовке с очень понятными словами, по-дружески, чтобы меня легко понимали, слушали и уважали. Иными словами, я подошел к этому мероприятию как к новой увлекательной роли, которая позволит мне вплотную приблизиться к проблемам и надеждам людей. Мне все показалось очень легким и простым, да так все и прошло, без каких-либо усилий. Мои предвыборные встречи никогда не следовали установленным правилам. На них царили веселье, шутки, а серьезные разговоры всегда были конкретными, а не умозрительными. Основной целью было убедить людей голосовать за меня на выборах, победив врожденное, более чем оправданное, недоверие к деятелям театра и кино, которые берутся за политику.
Это вовсе не означает, что предвыборная кампания ничего мне не стоила. В тот момент я прекрасно себя чувствовал и был в отличной физической форме, но чудовищный образ жизни того периода подверг мое здоровье очень большому стрессу. Перегруженные дни и ночи, минимум сна, нерегулярное питание. А главное — постоянная говорильня и постоянное внимание всем и каждому. Всегда бокал виски в руках. Одно из самых тяжких последствий — я снова закурил, хотя не прикасался к сигарете уже шесть лет, после того как в Гераклионе подхватил пневмонию. Где ни окажешься, везде полные дымящиеся пепельницы, потому что курят все. Но это пустяк по сравнению с тем, что я увидел, оказавшись в сенате: там пепельницы напоминали памятники, попадались на каждом шагу и всегда были доверху полны окурками; целый отряд лакеев занимался только тем, что менял и чистил пепельницы, которые мгновенно наполнялись снова.
Берлускони приехал в Катанию в конце моей предвыборной кампании. Его приезд вызвал необычайный энтузиазм, Италии вновь улыбнулась надежда. Внутреннее горение Сильвио передалось и мне, а я постарался воспламенить своих избирателей.
Во вторник, 29 марта 1994 года, были объявлены результаты выборов. Я был избран сенатором от моего округа: из 120 000 человек за меня проголосовали 65 329, то есть больше половины. Спасибо, Катания! Наступало время засучить рукава и сдержать обещания, данные избирателям. Развлечения закончились, начинались рабочие будни.
Сенат произвел впечатление даже на меня, привыкшего к самым величественным зрелищам. Это был абсолютно новый для меня мир, торжественный и важный, где груз ответственности ощутимо давил на плечи. Самым первым в новом сенате, собравшемся 16 апреля, стало мое предложение отреставрировать и вернуть к жизни древний греко-римский театр в Катании. Это предложение должно было символически обозначить тот круг вопросов, которыми я собирался заняться.
С самого начала моего участия в политической жизни я дал понять, что могу и хочу работать только в той сфере, с которой хорошо знаком, — искусство, образование и социальные проблемы. Здесь я действительно мог оказаться полезным.
Катания — удивительно красивый город, весь в стиле барокко, который испанцы, правившие в те времена Сицилией, полностью восстановили после чудовищного землетрясения 1693 года, обратившего в руины всю юго-западную часть острова. Города превратились в груды развалин. Древний Ното, основанный еще греками, был разрушен до основания, и великолепный новый город, тоже в стиле барокко, был выстроен неподалеку. Та же трагическая судьба коснулась Рагузы, и она тоже воскресла благодаря испанцам. Видимо, испанцы были просто влюблены в Сицилию. Вообще, Сицилия — место, которое пленяло бесчисленных завоевателей острова. За всю свою историю она никогда не принадлежала себе самой, зато завоеватели всегда отдавали ей самое лучшее, что у них было, — от греков до римлян, от арабов до норманнов, французов, испанцев, бурбонской династии. Я вовсе не уверен, что последние хозяева, династия Савойя, соответствовали всем предыдущим. А уж о римском послевоенном правлении и говорить нечего.
В Катании масса серьезных проблем, в том числе социальных. Одной из первых моих забот стала организация поддержки детям из «трудных» семей: отец сидит, мать вынуждена зарабатывать проституцией, дети, вместо того чтобы идти в школу, болтаются на улице и часто попадают в нехорошие компании. Вместе с необыкновенным человеком, отцом Сальваторе Пиньятаро, я с особым рвением занялся защитой и образованием этих детей, не жалея усилий на поиск средств для целого парка микроавтобусов, которые забирали их утром из дома, везли в школу, а вечером привозили обратно. Эта услуга была организована для неимущих, но очень скоро и другие дети захотели ездить на автобусах отца Пиньятаро, потому что в компании одноклассников им было гораздо веселее, чем на машине с мамой или папой.
Одновременно с проблемами детей я начал изучать проблемы стариков и подумал, что они прекрасно могли бы помогать друг другу. Дети работающих допоздна родителей часто оставались после школы одни или на попечении соседей. А ведь столько было стариков без внуков, которые с радостью готовы были стать «альтернативными» бабушками и дедушками, а не сидеть в пивной или перед телевизором! Я помнил, как много сам узнал от деда, как ценно было проведенное с ним время, хоть он и был человеком со странностями, а может, как раз поэтому. У дедушек и бабушек много свободного времени, и дети благодаря им могли бы получить массу знаний, развить воображение, фантазию. У меня родился проект создать некую структуру, которая позволила бы объединить интересы всех возрастных групп. Для детей это означало общение, воспитание, добрый совет, может быть, кого-то, кто будет водить ребенка на море, на спортивные занятия, кто поиграет и погуляет в парке. С другой стороны, старикам предоставлялась возможность почувствовать себя нужными и передать малышам свой опыт и знания.
Это была отличная мысль, и все могло бы сложиться успешно. Но, к сожалению, она была так хороша, что очень скоро возбудила зависть, враждебность и вызвала массу осложнений. Первыми против нее выступили профсоюзы и все левые, которые в принципе не любят реформы и перемены. По их словам, старики могут отнять работу у штатных социальных работников. Следующим встал вопрос ответственности: кто будет отвечать, если с ребенком что-то случится. В общем, посыпались замечания, критика и сомнения, к которым, разумеется, имел самое прямое отношение клан политических деятелей, проигравших на выборах. Но зато проект был прекрасно встречен многими гражданами, которые договорились между собой частным образом и его реализовали.
Очень скоро я заметил, что мой сенаторский путь грозит оказаться весьма тернистым. Мэр Катании не принадлежал к нашему политическому крылу, более того, о нем было известно, что он ставленник крупных экономических концернов, которые и держали в руках весь город. В Катании говорят: «Пути Господни неисповедимы, но еще более неисповедимы пути власти». Главная местная газета ни разу не упомянула моего имени ни по одному поводу, то же самое и местное телевидение. Все, что я делал, говорил или писал, не могло выйти за пределы некоего заколдованного круга. Мне пришлось издать брошюру со всеми выступлениями в сенате, которую я тысячами раздавал избирателям, чтобы они хотя бы знали, что в Риме я не сижу без дела.
Это мое новое политическое поприще создало проблемы, о которых я и подумать не мог. Я твердо сказал как Берлускони, так и моим избирателям, что совершенно не имею намерения отказываться от основной работы и отдавать все свое время сенаторским обязанностям. Сильвио прекрасно понял, что если я в конце концов заброшу творческую деятельность и потеряю популярность, то «Вперед, Италия!» уж точно ничего не выиграет.
В июле 1994 года в качестве сенатора я полетел специальным правительственным рейсом в Лос-Анджелес на финальный матч чемпионата мира по футболу между Италией и Бразилией. Для человека, который любит футбол так, как люблю его я, это был царский подарок. К сожалению, матч был запланирован на 17 июля — несчастливое для меня число, и я заранее знал, что мы проиграем.
На почетной трибуне рядом со мной оказались Джордж и Барбара Буш, бывший президент Соединенных Штатов с супругой. Я познакомился с ними в Италии и был очень рад снова встретить. Барбара, так же как и я, обожает собак, это очень цельная и остроумная женщина. Я сразу честно предупредил ее, чтобы она не изумлялась тому, что может увидеть, и сказал:
— Какая удача, что вы не знаете итальянского языка, потому что могли бы услышать ужасающие вещи. Когда речь заходит о спорте, мы, итальянцы, превращаемся в диких зверей, и очень может быть, что я буду себя вести совсем не так, как подобает сенатору.
Во время игры, которая, как я уже сказал, закончилась неудачно — Италия проиграла по пенальти — меня охватило страшное возбуждение, и я орал и вопил, как последний тифози. Иногда я замечал, что Барбара поглядывает на меня, как на психа. Но в перерыве она сказала мне любезно:
— Я никогда в жизни не видела футбольного матча и не знала, что это такой прекрасный и азартный вид спорта. Хочу, чтобы внуки научились играть в футбол. — И весело добавила: — Но самое интересное зрелище — это вовсе не игроки, а болельщики.
Перелистывая дневник за тот год, я вспоминаю свое рабочее расписание. Так, одну неделю мне пришлось заниматься различными политическими делами в Риме и в Катании, проектом празднования трехтысячелетия Иерусалима, для организации которого меня пригласили в Израиль, оформлением декораций и костюмов «Кармен», моего первого спектакля в Вероне, который должен был выйти через год, и прочей «мелочью» в том же духе.
Совершенно неожиданно на меня свалился проект фильма по великолепному роману Шарлотты Бронте «Джен Эйр». Мои друзья из кинокомпании «Медуза Продакшнс» составили тайную интригу с Риккардо Тоцци и с милейшей Джованнеллой Дзаннони, чтобы этот фильм достался мне. Джованнелла хорошо помнила, что в прошлом мы неоднократно говорили о том, как можно было бы снять фильм по «Джен Эйр» — я всегда считал, что это один из лучших английских романов XIX века. Но меня поражали не только его литературные достоинства — еще когда я прочитал роман впервые, на меня произвела глубокое впечатление удивительная современность его героини: первая женщина в истории (по крайней мере, литературы), которая осмеливается крикнуть в лицо любимому, что любит его всем своим существом, но вынуждена подавить в себе это чувство, потому что он ей солгал. Любовь без уважения — не любовь, это отрицание любви!
Сколько же лет с тех пор прошло! Но надо признать, что это исторические слова, и они полностью изменили общество и мир. И особенно самосознание женщины.
Говорят, что великий Толстой, прочитав книгу Бронте, испытал сильное потрясение. Именно он, так часто лгавший женщинам и в свою очередь бывший жертвой их лжи. Рассказывают, что однажды к нему в Ясную Поляну приехала то ли английская, то ли американская журналистка — точно не помню, которая хотела взять у него интервью после потрясающего успеха «Войны и мира». Молодая женщина была полна энтузиазма, что вполне понятно, и не уставала с восторженным придыханием выспрашивать великого старца, как ему удалось подняться до таких высот. Судя по всему, Толстому льстили восторги красивой журналистки, и он очень терпеливо стал объяснять ей, что работа писателя, по сути, зиждется на трех китах, как их ни маскируй.
Первым великим источником вдохновения на протяжении тысячелетий является, вне сомнений, «Орестея»[111], где речь идет о классической ситуации, бесчисленное множество раз переработанной, — отец, мать, сын, сестра и возлюбленный/возлюбленная. Не менее трети всех драм и романов, существующих во всей мировой литературе, черпали из этого непревзойденного источника, который стимулировал написание массы всякой ерунды, но иногда и шедевров.
Далее следует «планета Любви», которая, надо признать, играет на очень немногих струнах, но им совершенно невозможно противостоять. «Я люблю тебя, а ты меня» или «я тебя люблю, а ты меня нет» и так дальше, хотя вариантов немного. Но если любовь вообще убрать из литературы — рухнет все. «Ромео и Джульетта» — идеальный образец.
И наконец, третий источник вдохновения — два женских персонажа, которые изменили мир: Джен Эйр и Кармен.
Журналистка была поражена и смущена: ни один из двух персонажей не был ей известен. И Толстой начал объяснять ей, что это нечто совершенно новое, едва рожденное и открытое нашим обществом, не успевшим еще понять, насколько этим двум удивительным фигурам суждено изменить положение женщины.
Одна из них (Джен) находит мужество сказать человеку, которого любит:
— Люблю тебя всем своим существом, но не уважаю, потому что ты солгал мне, а любовь, в которой нет уважения, — как небо, в котором не сияют звезды.
А вторая (Кармен) просто-напросто кричит в лицо человеку, от любви к ней потерявшему голову:
— Я и вправду любила тебя всем своим существом и готова была отдать за тебя жизнь, но я больше не люблю тебя; делай что хочешь, можешь даже меня убить, но не проси о любви.
— Вот и все: почти все романы, драмы, рассказы, уже написанные и те, которые только пишутся, — добавил в заключение Толстой с улыбкой, поглядев на журналистку и, наверно, отечески потрепав по щечке, — так или иначе построены или вдохновляются этими двумя образцами. Но не тревожьтесь. Очень скоро вы, женщины, загоните нас, мужчин, в самый темный уголок и возьмете на себя все тяготы совместной жизни, — закончил он улыбаясь.
Мне очень понравилась эта история про Толстого, я прочитал ее, не помню где, много лет назад и с тех пор часто вспоминаю. Ведь в моей режиссерской карьере мне тоже пришлось иметь дело с этими «основополагающими» персонажами, которых так хорошо обозначил Толстой.
И вот после всего этого мои друзья у меня за спиной устроили целый заговор, потому что хотели во что бы то ни стало, чтобы я снял фильм по «Джен Эйр». Они знали, как мне дорог этот персонаж. Думаю, они много говорили об этом между собой, потому что моя режиссерская деятельность сильно тормозилась в тот период почетнейшим титулом сенатора со всеми вытекающими последствиями.
Решение было найдено благодаря дружескому и плодотворному участию Сильвио Берлускони, который предложил достойный и удачный выход. Он сказал мне с очень важным видом, что проблема только в одном: я должен снять хороший фильм, а обо всем остальном позаботится он.
В сенате мне довольно легко предоставили отпуск (может, еще потому, что я своими смелыми предложениями создавал массу проблем коллегам) с условием, что я обязательно вернусь в Рим на выборы, где каждый голос может оказаться решающим.
Я решил пригласить на роль Рочестера Уильяма Харта, еще когда в первый раз встретил его в Нью-Йорке и несмотря на его довольно негативную славу. Он показался мне обаятельным и рассудительным человеком, даже подумать было нельзя, что с ним придется так трудно, хотя несколько коллег предупреждали меня на его счет. Мы начали снимать в октябре в Хаддон-холле в Дербишире, и ничего красивей я и представить себе не мог. Древний замок, леса, быстрые речки, зеленые луга того особенного цвета, который можно увидеть только в Англии. Освещение менялось и создавало всякий раз совершенно новую картину: мягкие тона, от золотого до зеленого, от коричневого до желтого… Просто дух захватывало от красоты и неожиданности. Могу понять Франческо Коссигу[112], влюбленного в эту зелень и говорящего о ней с таким пылом, как можно говорить только о возлюбленной.
Но очень скоро из-за Харта атмосфера на съемочной площадке стала тяжелой и вязкой, как в болоте. Я нашел замечательную девушку, очень подходящую на трудную роль Джен, — Шарлотту Гейнсбург. Харт сразу же решил показать свою власть над ней и замучил ее советами, преследованиями и замечаниями, которые ничего, кроме полной неразберихи в голове, создать не могли. Он все время старался вынудить ее сделать прямо противоположное тому, что рекомендовал я. В отличие от Мела Гибсона, который по крайней мере не скрывал своей решимости саботировать мой авторитет на съемках «Гамлета», Харт был опасен как бесшумная и ядовитая кобра. Мел был «честным негодяем»: он хотел стать режиссером (и самый первый фильм «Патриот» снял сразу после «Гамлета»), поэтому подвергал все мои слова и действия критике как будущий честолюбивый режиссер, а не как актер. Но это был умнейший человек, и он всегда исправлял свои ошибки, хотя и был чересчур самолюбив, чтобы признаваться в них.
С женщинами все гораздо проще, они сделаны из другого теста. Они не сопротивляются, когда их направляют, хотя и могут оказаться блуждающими снарядами и создать серьезные неприятности. Но если они вам доверяют, то позволяют взять себя за руку и отдают лучшее, что в них есть, не считая, что это ставит под угрозу их свободу выбора. Маньяни, Каллас, Тейлор — я специально называю тех, кого считали образцом неуправляемости и себялюбия, — со мной были всегда послушны и честны. Иногда они изящно посылали меня куда подальше, но это было лишь свидетельством полноты дружбы.
Так вот, возвращаясь к «Джен Эйр»: в течение всего периода съемок это было сплошное мучение. Харт всячески пытался изолировать меня от всех, отводил людей в сторонку и Бог знает чем забивал им голову. С актерами становилось трудно работать, он делались неуверенными, потерянными и реагировали на мои подсказки и объяснения неубедительно и без энтузиазма. Харт даже попытался «манипулировать» Дайсоном Ловеллом, продюсером и моим верным другом, и внушить ему сомнения в моей профессиональной пригодности. К счастью, к концу фильма Харт приустал от своих бесплодных игр, которые оказались никому не нужны, а ему меньше всех, потому что он был блестящим актером, но врагом себе самому. Положение резко улучшилось. Харт не стал просить извинения за свое поведение, но последние съемки прошли гораздо спокойнее и приятнее.
Иметь дело с большими актерами и управлять их талантом не всегда легко. Харт очень трудный и колкий человек, однако к работе он относится с серьезностью фанатика. И должен признать, что хоть он и устроил мне сущий ад, но вынудил меня быть абсолютно четким и очень строгим и внимательным, что, безусловно, пошло на пользу фильму. Кто-то написал, что «Джен Эйр» — мой самый выдержанный фильм, совершенно без стилевых или ритмических сбоев. Наверно, этим я обязан той нелегкой атмосфере, в которой мы оказались из-за Харта. Ни одного веселого и беззаботного съемочного дня. Но, как говорится, нет худа без добра.
Съемки закончились, и в канун Рождества я вернулся в Рим, чтобы немедленно опять приступить к обязанностям сенатора. Уж в чем в чем, а в том, что я пренебрегал этими обязанностями, меня точно обвинить нельзя. Я столько времени и сил потратил на исполнение своего долга еще и потому, что знал: мое избрание было встречено многими с предубеждением. «Ах, эти деятели искусства, они в политике ничего не понимают. Он долго не задержится».
А вот и нет, я задержался, да еще как!
В начале 1995 года лондонский журнал «Screen International» назвал меня фашистом, потому что меня избрали вместе с Берлускони; статья была на целую страницу. Такое оскорбление пропустить безнаказанно я не мог. Мой адвокат посоветовал подать на журнал в суд и потребовать компенсацию в двести тысяч фунтов. Издатель сразу же понял, что серьезно рискует, и предложил официально опровергнуть обвинение в журнале. Я напомнил ему знаменитый случай с Кэри Грантом, когда одно американское издание заявило, что он гомосексуалист, но потом сразу же решило исправить ошибку, публично попросив извинения. Грант ответил, что с удовольствием откажется от иска (он требовал десять миллионов долларов!), если газета гарантирует, что каждый, кто читал оскорбительную статью, прочтет и опровержение, а это, разумеется, невозможно. «Screen International» тоже не мог мне ничего гарантировать, и мы дошли до суда. Суд вынес решение выплатить мне сто тысяч фунтов. Я отвез свеженький чек в Катанию и передал его епископу Боммарито в качестве поддержки организациям, помогающим детям.
В мае того же года меня пригласили в Эдинбург на праздник Шотландской гвардии по случаю пятидесятилетия победы во Второй мировой войне. Еще был жив кое-кто из ветеранов, пришли дети и внуки тех, кого уже не было. На меня нахлынули воспоминания военных дней, всего того, что пришлось пережить, минуты прекрасные и торжественные — и совсем другие. Я снова обнял Джимми Ридделла, моего «брата по крови», шофера Гарри Кийта. Мы не теряли друг друга из виду. В 1950-е и 1960-е годы он часто наезжал в Лондон с женой на мои спектакли и навестил меня, когда мы снимали в Шотландии «Гамлета». А теперь мне представилась возможность познакомиться с его миром, миром Firth of Forth[113], о котором я был так наслышан со времен войны. Больше всего на этом веселом празднике меня поразило количество виски, которое шотландцы в состоянии выпить. Во время паломничества по домам друзей я выяснил, что почти каждая семья производит собственный виски по ревностно хранимому семейному рецепту или по особой традиции перегонки, и у каждого свой неповторимый вкус.
— А попробуй теперь этого, — настаивали они. И я пробовал. А в это время кто-то горячо шептал мне в ухо: — Попробуй, попробуй, только потом поедем ко мне, и я тебе дам выпить настоящего виски.
Так я пробовал, переходя из одного дома в другой, домашний виски, и в самом деле совершенно не похожий один на другой ни по вкусу, ни по аромату. А пробовать приходилось все, и не вздумай отказаться! Иначе — смертельная обида. К концу дня я еле держался на ногах.
Гвардейцы устроили настоящий праздник с танцами: мужчины, женщины и дети танцевали народные танцы, а выпитое сказывалось все сильнее. Настал момент, когда волынщики приподняли килты, чтобы показать, что под ними ничего нет, как и положено по традиции. Самые молодые, внуки и внучки моих товарищей по оружию пятидесятилетней давности, приготовили номер специально для меня, очаровательный и безумный, с танцами и песнями, который очень меня развеселил и растрогал, — что-то вроде тарантеллы на шотландский манер под неаполитанские мелодии, исполненные на волынке.
В Лондон я вернулся совершенно одуревшим. Я буквально падал, но кто-то, кто выпил немного меньше, усадил меня перед телевизором и включил трансляцию необыкновенной церемонии из Альберт-холла в честь пятидесятилетнего юбилея окончания Второй мировой войны, на которой присутствовали королева и все королевское семейство, аристократия, генералы, адмиралы и бесчисленное множество военных в парадной форме.
Под печальный и торжественный звон поминального колокола с потолка огромного зала пошел дождь из красных лепестков, которые медленно падали на стоявших совершенно неподвижно присутствующих, и в первую очередь на королеву. Каждый лепесток как капля крови тех сотен тысяч англичан, что отдали жизнь за родину.
Незабываемое зрелище, неописуемое чувство.
Тем летом я вновь вернулся к опере, впервые с тех пор как стал сенатором. Меня уже давно приглашали поставить спектакль в Вероне для знаменитого фестиваля, который проходит каждое лето на их гигантской римской Арене.
Я каждый раз откладывал, но понимал, что это необходимо, что этого названия еще нет в моем послужном списке. Я видел много спектаклей на Арене. Впервые я попал туда с Лукино, на «Аиду», в которой пела Мария Каллас. У меня Арена ассоциировалась с чем-то грандиозным и немного пошловатым, где великие певцы могут развлекать зрителей своими руладами. Еще я помнил, что Тосканини никогда там не дирижировал, потому что считал, что на воздухе хорошо играть в городки, а не исполнять хорошую музыку.
На самом деле во мне не было никакого протеста и никакого предубеждения. Просто-напросто мое «колесо» еще не довертелось до Арены, так уж вышло. В римском театре Вероны я ставил «Ромео и Джульетту», и это был очень удачный опыт, несмотря на подлый дождь, который в тех местах имеет обыкновение проливаться на вас в самую неподходящую минуту.
Меня попросили поставить для Арены новую «Кармен». Это одна из моих любимых опер, впервые я ставил ее в Генуе и, вероятно, слишком рано, когда я еще не созрел для нее. Потом в 1978 году у меня появилась счастливая возможность поставить ее в Вене, с Клейбером, где я окончательно влюбился в этот шедевр. Я задумался над ней и вдруг осознал, что действие всех четырех актов оперы происходит на улице… Вот вам и городки, дорогой маэстро Тосканини, ведь играют же в них иногда и в помещении.
Когда я приехал в Верону на репетиции, все были немного смущены моим статусом. Люди инстинктивно стараются держаться на расстоянии от политиков, а я был сенатором, и это могло внести неясность в мое положение режиссера. Я слышал неуверенность в голосе тех, кто со мной здоровался: «Здравствуйте, сенатор» или «Здравствуйте, маэстро»? Я сразу решил уточнить, что на работе я снимаю сенаторский «колпак» и надеваю режиссерский. Никто не хотел верить, что я по-прежнему принимаю участие в парламентских дебатах и выборах. Трагедия и радость моей жизни всегда заключались в способности сразу заниматься несколькими делами. А это, разумеется, создает проблемы тем, кто хочет расставить всех по ранжиру и навесить ярлыки. Но я оставался по-пиранделловски неуловимым, и не без успеха.
Я мог рисовать, ставить, играть и всегда получал почти болезненное удовольствие от того, что умел делать одновременно совершенно разные вещи, и неплохо, перескакивая с одной на другую. Но это отрицательно повлияло на мою карьеру, особенно в Голливуде, где очень любят привесить тебе ярлык, впору на лбу начертать, кто ты такой. Часто на лацкан пиджака тебе цепляют карточку с твоим именем. А когда с уверенностью этого сделать не могут, ты становишься никем, и о тебе быстро забывают. Мне пришлось так рисковать не один раз.
Если посмотреть мои ежедневники, легко понять: загнать меня в какую-то одну категорию — задача непростая. Всего за несколько месяцев я побывал в Лондоне, чтобы навести последний глянец на «Джен Эйр», потом в Токио для обсуждения постановки «Аиды», которой собирались открывать новый Императорский театр, а также для встречи с «Сони Пикчерс» на предмет проекта фильма «Мадам Баттерфляй», затем в Пекине по поводу возможности постановки «Турандот» в «запретном городе» и, наконец, в Риме и Катании в связи со своей политической деятельностью. Все это незадолго до моего семьдесят третьего дня рождения. А чтобы жизнь медом не казалась, в марте 1996 года правительство ушло в отставку, и пришлось назначать новые выборы. Так я снова оказался в центре предвыборной кампании именно тогда, когда готовил премьеру «Джен Эйр» в Нью-Йорке.
Кроме того, я был инициатором движения за реконструкцию театра «Ла Фениче» в Венеции, в котором после пожара был полностью уничтожен прекрасный зал, где когда-то Лукино для фильма «Чувство» снял незабываемую сцену спектакля при свечах. Сразу же возник яростный спор по поводу того, как его восстанавливать — делать все заново или реставрировать. Были сторонники идеи, что каждое поколение должно оставить свой след, но я, как сенатор, входивший в комиссию по реконструкции театра, категорически выступал против того, чтобы возвести еще один кошмар плюс к уже построенным таким образом «Карло Феличе» в Генуе и Королевскому театру в Турине (оба театра были разрушены бомбежками), и предлагал без лишних слов последовать примеру флорентийцев, которые восстановили взорванный немцами мост Санта-Тринита в первозданном виде. И если сегодня кому-то, не знающему истории, объяснять, что он восстановлен с нуля, это будет воспринято как издевка.
В конце концов победили мы, «ностальгирующие ретрограды». И через семь лет после пожара, в 2003 году, «Ла Фениче» восстал из праха абсолютной копией старого театра. Реставрационные работы велись так профессионально, что приезжие удивляются, когда им объясняют, что театр был полностью разрушен пожаром всего несколько лет назад, а перед ними — копия[114]. Совершенно так же, как во Флоренции.
За последние две недели предвыборной кампании у меня в Катании было примерно по десять митингов в день. Я был переизбран 68 400 голосами, то есть на 3000 больше, чем в предыдущие выборы. Для сената это был очень почетный результат, если учесть, что обычно три четверти сенаторов не переизбираются, и победить дважды подряд на выборах — редкий и завидный итог. Это означало, что избиратели доверяют мне, поскольку я сдержал свои обещания.
Но на этот раз Берлускони и партия «Вперед, Италия!» не победили. Была создана коалиция левоцентристских партий, составивших правительство на ближайшие пять лет, в течение которых Берлускони проявил себя как «политическое животное» редчайшей породы, потому что блестяще сумел выжить в избирательных округах оппозиции и взять реванш на выборах 2001 года. Как говорил мой кумир Уинстон Черчилль: не умеешь принять поражение — не сумеешь победить. А Сильвио Берлускони не пал духом и не утратил решимости. У меня, к сожалению, другой характер и другие стремления, и я потихоньку сдался. Когда ты у власти, перед тобой распахиваются все двери, но сенатору от оппозиции ветер всегда в лицо, и жизнь невероятно усложняется. Никто не выслушивает твоих предложений, ты не принимаешь участия в решениях. Я сказал Берлускони, что мне пора честно уйти в отставку и уступить свое кресло тому, кто лучше меня сможет послужить делу партии, кто лучше подготовлен и более терпелив, чем я, но он и слушать меня не захотел. Кроме того, моя отставка повлекла бы новые выборы в Катании, невероятно тяжкое мероприятие. Так что мое положение сделалось еще более сложным и утомительным.
Дом в Позитано стал за долгие годы убежищем, надежным и приятным местом, где все мои друзья, знаменитые и неизвестные, молодые и старые, с удовольствием жили под одной крышей, как у Данте[115], которого я всегда вспоминаю, когда думаю о Позитано:
Приятно видеть, как актеры, певцы, писатели и коронованные особы встречаются в общем гнезде. Грегори Пек обедал с семейством Лоуренса Оливье, Клодетт Кольбер праздновала свое восьмидесятилетие, на которое приехали Доминго, Лайза Миннелли, Нуреев, принцесса Маргарет… Анна Маньяни, сестры Кесслер (каждый год всегда в одно и то же время со всеми своими анекдотами), Мэгги Смит, Стинг, Элизабет Тейлор, Бернстайн, Клейбер, Карла Фраччи… Ух! Бесконечный список знаменитостей, и это без учета подающей надежды молодежи (из которых многие впоследствии тоже стали знаменитостями), и все они прекрасно проводили время на «Трех Виллах».
Звонки начинались еще весной:
— Можно нам приехать в Позитано на две недели во второй половине июля?
— Конечно.
— А кто у тебя будет?
— Отличная компания, не волнуйся, в этом году приедет Лиз Тейлор…
— Говорят, у нее паршивый характер, и она неприятная.
— Ничего подобного. Она очень славная, немного сумасшедшая и очень хороший человек. Познакомишься — сразу увидишь.
Все, что я в жизни заработал своим трудом, я вложил в эту сказку, я украшал и улучшал ее каждый год.
Тот русский безумец, Михаил Семенов, который обнаружил Позитано, был богачом и наследником огромного состояния до революции, он скупил почти все побережье со всеми виллами и поселился там после падения царского режима. Так он и жил там до самой смерти в 1960 году, чудный старик, я был с ним знаком. Один список его безумств мог составить целую книгу. Достаточно сказать, что поездами и собственными пароходами он привозил летом в Позитано из Петербурга цвет Императорского балета, все легендарные имена — Карсавина, Павлова, Нижинский и многие другие, их «Елисейские Поля» были на море. Память о них живет во всем и везде, начиная с того самого зала, специально устроенного Семеновым так, чтобы они могли репетировать и танцевать, с до сих пор сохранившимся великолепным деревянным полом из Сорренто.
Почти век спустя Михаил Барышников приехал ко мне в Позитано поговорить о фильме про Нижинского, которого ему страстно хотелось сыграть, хотя я уже объяснял ему, что этот проект будет слишком сложно воплотить. Несколькими годами раньше мы думали над ним с Рудольфом Нуреевым, который и должен был играть главную роль, но так все и кончилось ничем. Михаил прилетел из Лос-Анджелеса ужасно уставший, даже не смог поужинать. Он сразу пошел спать, а наутро мы собирались поговорить.
Я попросил приготовить ему большую комнату, которую Семенов превратил в репетиционный зал, чтобы в нем могли тренироваться русские танцовщики. Именно с широкого подоконника этого зала Нижинский осуществил свой знаменитый жете для балета «Призрак Розы» — легендарный прыжок в распахнутое окно. Но рассказать это Барышникову прежде, чем он пойдет спать, я не успел.
На следующее утро мне сказали, что видели Михаила в саду в рассветные часы. Когда он появился, я заметил, что у него бледный и утомленный вид, и спросил, как ему спалось.
— Я не спал ни минуты, — сказал он в ответ. — Вообще глаз сомкнуть не мог.
Потом он отвел меня в сторону и спросил с безумным видом:
— Слушай, а ты уверен, что в этом доме не водятся привидения? — И объяснил, что, ложась, оставил открытым окно, чтобы видеть лунный свет и слышать шум моря. Но когда стал засыпать, почувствовал чье-то присутствие, какая-то прозрачная тень почудилась ему в оконном проеме. Ему показалось, что кто-то сидел на подоконнике, а потом слетел к нему в прыжке и обнял.
Такое происходило на «Трех Виллах» впервые, кто бы ни был гостем, жившим в той комнате. Мне стало очень интересно, и я начал вспоминать, кто же там ночевал до него — масса друзей, звезд мужского и женского пола, но танцовщик ни разу… Я попросил Барышникова рассказать поподробнее и в конце понял, что это не выдумки. Ведь он ничего не знал о подоконнике Нижинского и о том, что «Призрак Розы» был создан именно там. Что же я мог подумать? Я вспомнил о слухах, которые ходили среди моей прислуги и жителей Позитано, — рано или поздно всем попадались призраки. Жена Али чуть в обморок не упала со страха, встретив на террасе призрак Доналда, в халате и с книгой в руке, прямо перед дверью в его бывшую комнату. Все сказали, что это выдумки, что это от сильной жары, но вскоре все на том же месте призрак увидели и Али, и садовник. Милый Доналд, он и сам бы в это не поверил…
Доналд провел последние годы жизни в Калифорнии вместе с вдовой брата, Полли, тоже очень пожилой и больной. Я знал, что материально они живут неблестяще и не могут себе позволить постоянную сиделку. Я умолял его вместе с Полли приехать в Позитано и все организовал для переезда, но он вечно находил предлог отказаться.
— Я не полечу самолетом с посадкой в Нью-Йорке, — заявил он. — Я поклялся, что никогда больше не увижу этот мерзкий город.
— Тебе незачем его видеть, — уговаривал я его. — Тебе надо только пересесть с самолета на самолет.
— Ни за что. Вонь Нью-Йорка будет ощущаться и в самолете.
Было понятно, что он уже поставил на всем жирный крест, но я продолжал надеяться.
Его смерть застала меня врасплох. Я был в Европе, и прошло несколько недель, прежде чем я смог поехать в Калифорнию повидаться с Полли. Доналд не оставил завещания, поэтому все подлежало продаже. Пришел какой-то чиновник из суда и на все предметы, принадлежавшие Доналду и так напоминавшие мне о молодых годах в Позитано, навесил какие-то смешные бирки с ценами. Я предложил Полли достаточно денег, чтобы выкупить все, и увез с собой вещи, наполненные дыханием прошлого, чтобы вернуть их в тот дом, которому они по праву принадлежали, — на «Три Виллы». Вместе с вещами туда вернулся и прах Доналда, который мы захоронили на террасе синего дома, в том самом месте, где он каждое утро пил кофе, глядя на залив поверх утренней газеты, или возмущался американской внешней политикой, или сетовал на ошибки садовника, который работал совсем не так хорошо, как работали садовники в его молодые годы…
А теперь его дух глядит на залив, который он так любил, и надеюсь, покоится с миром.
XXIV. Скорпионы с виа Торнабуони
Как и прочие проекты, «Чай с Муссолини» я вынашивал в голове десятилетиями, иногда он закипал и вырывался на поверхность, а потом опять долго ждал, пока я занимался чем-нибудь еще. Сюжет был наполовину автобиографический, в его основе лежали годы моего отрочества во Флоренции, среди «скорпионов», как называли во Флоренции странных пожилых англичанок. Я этот фильм задумал еще в 1953 году. И даже название ему придумал — «Враги». Тогда я работал с Лукино и только мечтал, что когда-нибудь стану театральным режиссером. Доналд Даунс тоже был влюблен в тот исчезающий мир и написал черновик первого сценария. Так это осталось планом, ни с чем не связанным и повисшим в воздухе среди разных событий моей жизни. Я много раз к нему возвращался. Но, видно, подходящий момент все не наступал.
Это была мечта, за которую я упрямо цеплялся и не давал ей умереть. За долгие годы я успел поговорить об этом с Ларри и Джоан Плоурайт, и они тоже поддались обаянию идеи. Я обещал Джоан, что если когда-нибудь буду снимать фильм, она станет идеальным воплощением мисс О’Нил, женщины, которая научила меня всему, что хоть чего-нибудь стоит. Она часто мне про это напоминала, но искренне удивилась, когда я объявил, что нашел продюсеров и мы, наконец, можем снимать фильм. Мои друзья из кинокомпаний «Медуза» и «Каттлея», с которыми мы так прекрасно поработали над «Джен Эйр», просто влюбились в эту историю и провернули все дело со скоростью света. Я сразу попытался связаться с Мэгги Смит и пригласить на роль второй главной героини, но она тяжело переживала смерть Беверли Кросса, своего мужа, и слышать ни о чем не хотела. Джоан посоветовала мне не отступать, потому что работа, да еще среди близких друзей, очень помогла бы Мэгги справиться с болью. Так и произошло: я поехал в Лондон, и к Мэгги снова вернулись надежда и желание работать. Она даже роль читать не захотела, согласилась с закрытыми глазами.
Представьте себе мою радость: «скорпионы» возвращались к жизни, как археологические находки из недр земли! Когда Джуди Денч, игравшая в Нью-Йорке, узнала, что ее ближайшие подруги Джоан и Мэгги собираются работать вместе, да еще со мной, она закричала с другого берега Атлантического океана:
— А как же я? Неужели для меня не найдется роли?
Роль для нее была, а то как же. Все, что требовалось для фильма, в том числе разрешения на съемки в галерее Уффици и на проход танков по площади Синьории, я получил благодаря необыкновенному усердию всех жителей Флоренции во главе с мэром. На этот раз мне повезло и со сценарием, он тоже был прекрасным, его написал Джон Мортимер.
Это был дивный союз талантов и друзей, а лично для меня — огромная радость встретиться с моими любимыми англичанками. Все три актрисы были отличными товарищами по работе: Джоан — в двух комедиях Эдуардо де Филиппо, которые мы ставили в Лондоне, «Суббота, воскресенье, понедельник» и «Филумена Мартурано»; Мэгги была блестящей героиней «Много шума из ничего» в «Олд-Вике» и, наконец, Джуди в 1960 году дебютировала со мной как Джульетта в том же «Олд-Вике», тогда у нас с ней был настоящий роман, о котором я вспоминаю с большой нежностью. А теперь я собрал их в один букет из талантов, воспоминаний и трепетной дружбы!
Фильм начинается на прелестном романтическом английском кладбище во Флоренции, в годовщину смерти Элизабет Баррет Браунинг, похороненной там вместе со своим мужем Робертом Браунингом и многими другими знаменитыми англичанами. Этот уголок Флоренции — настоящий островок (увы, островок посреди проезжей части), но там до сих пор сохранилось то романтическое обаяние, которое почти исчезло из других мест во Флоренции. Каждый год «скорпионы» встречались на этом чудном кладбище, памятнике старинной дружбы англичан и флорентийцев. Они приходили в лучших нарядах, поношенных, но по-прежнему очень элегантных, с кружевными зонтиками и в соломенных шляпках, украшенных вуалетками и цветочками. Читали стихи обоих поэтов, пели старинные куплеты. Постепенно церемония переходила в обмен новостями и светскую болтовню. Кладбищенские сторожа попросили нас расписаться в книге посетителей, и мы с удовольствием оставили в ней свои имена. Мэгги замерла с ручкой в руке, я стоял рядом и подумал: что-то не так, но она с обычной своей иронией сказала, глядя на могилы:
— А что написать? Ждите, я скоро присоединюсь к вам?
В фильме постоянно присутствуют флорентийские англичанки, но есть и американки, очень богатые, назойливые и непредсказуемые. На главную роль американки, рядом с моими прекрасными англичанками (и в противоположность им) мне удалось заполучить Шер. Я искал в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе актрису, которая сумеет сыграть эту роль, тем более сложную из-за необходимости противостоять трем английским тигрицам, которые кого хочешь приведут в трепет. Шер пришла, когда я начал подбирать группу, и сказала, что важнее всего для нее (помимо удовольствия сниматься у меня, сказано было очень любезно) — это как раз помериться силами с «теми». Шер — очаровательная женщина и давно уже кумир молодежи, она великолепно играла в кино и заработала «Оскара» фильмом «Лунатик».
В фильме столкновение между англичанками и этой богатой и беспокойной американкой, красивой и развратной, порождает массу веселых ситуаций, которые, надо сказать, часто вполне соответствовали реальному положению на съемочной площадке.
Мои англичанки, безусловно, актрисы самого высокого уровня, но с популярностью Шер им не сравниться, поскольку за ней — бесчисленные поклонники. Когда мы начали снимать, она как раз была объектом самого пристального внимания прессы, потому что только-только записала новую песню, сразу завоевавшую популярность, и выпустила автобиографическую книгу, ставшую бестселлером.
У всех актрис были совершенно одинаковые условия контракта, и три мои английские дамы начали внимательно следить, чтобы американской кинозвезде не перепало чего-нибудь лишнего. Мы уже пересекли минное поле начальных титров фильма и решили писать все имена в алфавитном порядке (что характерно, Шер стояла в нем первой). Но потом дамы обнаружили, что Шер живет в гостинице, где на одну звезду больше, и страшно возмутились. Они стали все время жаловаться на свой отель: и движение шумное, и кондиционеры плохо работают, и пятое-десятое, пока я не догадался, в чем дело, и не уговорил продюсеров переселить их в отель, где жила Шер. Но в ту самую минуту, когда грозная троица с триумфом вселялась в новое жилище, Шер выезжала из него со всеми своими чемоданами.
По причинам, о которых она никого не поставила в известность, Шер решила перебраться в скромную гостиницу, которую держали ее друзья, куда более спокойную, а троица осталась от этой истории под большим впечатлением.
Однако пятеро женщин (там была еще Лили Томлин, яркая комедийная американская актриса) вовсе не были самой серьезной проблемой, которая встала передо мной на съемках. Нужно было еще подобрать актера, то есть даже двух актеров — восьми и шестнадцати лет — на роль «меня». Помимо того, что они должны были быть хоть немного на меня похожими, от них требовалось хорошо говорить и по-английски, и по-итальянски. Я искал повсюду, даже тайком следил за выходящими из школ ребятишками, рискуя быть обвиненным в педофилии! И однажды, как раз после окончания уроков в итало-английской школе, нашел идеального кандидата — Байрда Уоллеса.
Американец из очень славной семьи, он отлично говорил на обоих языках и, что особенно важно, не имея никакого опыта игры, абсолютно естественно вел себя перед кинокамерой. Он всегда был самим собой, всегда «настоящим». Уоллес — это одна из тех находок, которыми я известен и которыми очень горжусь. Во время работы я часто останавливался понаблюдать за пареньком, когда он играл какие-то важные моменты моей юности, и ощущал волнение и грусть, которые не могу объяснить, но которые, наверно, вполне понятны. Ведь я еще раз проживал свою собственную жизнь.
Но это вовсе не было спокойным, тихим воспоминанием. Тогда было очень весело, и это очень поддерживало нас — и меня, и остальных, даже война была частью всеобщей великой истории — и общей памятью.
Мне кажется, на съемках этого фильма я больше всего веселился и больше всего умилялся.
В марте 1999 года Туллио Кезич в газете «Репубблика» написал:
«Фильм „Чай с Муссолини“ на „ты“ с Историей. Автор, как бы рассказывая о каких-то частных событиях своего отрочества, открывает очень широкие горизонты. Дзеффирелли с удовольствием развенчивает идолов. Уже в „Воробье“ он неожиданно обрушился на церковников. Теперь же откровенно правый режиссер снял самый антифашистский фильм за всю историю нашего кино. Тут, наконец, стало понятно, что Франко Дзеффирелли политически классифицировать нельзя. А в тот момент, когда одно за другим низвергаются капища левой политической культуры, его фильм предлагает такой отрицательный портрет Муссолини, подобный которому найти в кино невозможно, даже у режиссеров коммунистов… Так что мы поняли, что Франко Дзеффирелли настолько независим, что готов выступить против всех. Он может показаться несправедливым и непоследовательным, но в нем много страсти и огромный талант. Приходится принимать его таким, какой он есть».
После солнечного цикла «Чая» последовал цикл лунный. Вечное чередование радости и боли, света и тени. Но на этот раз на меня обрушился целый ураган несчастий.
Мне трудно об этом писать, да и читать будет невесело. Я бы первым опустил эти события, но мой долг рассказывать обо всем, что со мной произошло, потому что жизнь — это не бесконечный праздник, счастье, успех и розовые лепестки, как говаривала тете Лиде. Я бы сказал, что радость и боль выдаются нам в абсолютно равных дозах.
Десятью годами раньше мне успешно сделали довольно простую операцию по имплантации бедренного протеза, а теперь, с учетом моего образа жизни и работы и новых изобретений в этой области, пришла пора его заменить, потому что он стал сильно меня беспокоить. В начале февраля 1999 года я вернулся в больницу «Сидарс Синай» в Лос-Анджелесе. Доктор Гольдштейн, блестящий хирург, который привел мне в порядок бедро десять лет назад, внезапно, после смерти горячо любимой жены, отказался работать и передал меня доктору Брейкеру, своему ассистенту на первой операции. Брейкер по-английски означает «разрушитель», и уж мне-то стоило обратить на это внимание. Это был человек атлетического сложения, страстный лыжник, накануне операции он вернулся с гор с прекрасным загаром. Все под контролем, говорили мне врачи и санитары. Новый протез готов, он идеальный, «как все, что делается в „Сидарс Синай“ — самой знаменитой клинике мира».
Я попал в операционную, полный самых радужных надежд. Но операция, которая должна была длиться три часа, не закончилась и через восемь. Протез, увы, оказался совершенно неподходящим.
Мне наложили временные швы и сказали, что операция с новым протезом будет сделана через два дня. Операция другая, но «музыка» та же — девять часов под наркозом. В конце концов меня зашили, вполне удовлетворенные результатом. А вскоре я обнаружил, что новый протез совсем не лучше, чем предыдущий. Но и этого было мало: в операционной произошло кое-что куда более серьезное, если не сказать преступное.
Почти через год мне стало известно, что во время операции меня заразили смертельным вирусом Pseudomonas aeruginosa, так называемым вирусом операционных. Шансов выжить у зараженных практически нет. В общем, меня как следует упаковали и подготовили к отправке в лучший мир. Но самое отвратительное заключалось в том, что великие светила «Сидарс Синай», которые меня оперировали, прекрасно знали, что обрекли меня на смерть, но даже не попытались спасти или хотя бы предупредить Пиппо и Лучано. Они решили держать нас в полном неведении (видимо, из страха перед тяжелейшими уголовными последствиями). Мне сказали, что выздоровление будет долгим, и прописали лечение, абсолютно бесполезное в моем случае.
Я вернулся в Италию и при интенсивных занятиях физио- и гидротерапией возобновил работу. 18 марта, через пять недель после операции, состоялась премьера «Чая с Муссолини» в присутствии принца Чарльза. Я еще плохо стоял и нуждался в костылях, с которыми необученным калекам приходится нелегко. Я хромал и постоянно спотыкался. Принц Чарльз смотрел на меня с сочувствием и беспокойством, а на другой день прислал мне очень тонкий подарок — изящную палку из янтаря. Мне кажется, я видел подобную палку в руке королевы Виктории на старинной фотографии. Своей я пользуюсь только по торжественным случаям.
В конце июня, почти через пять месяцев после операции, я по-прежнему чувствовал себя плохо и уже начал беспокоиться. Я вернулся в Лос-Анджелес и показался своему врачу Коблину и Брейкеру, который провел эту злосчастную операцию. Оба меня заверили, что все идет как следует и что я выздоравливаю.
В этот тяжелый период я работал над несколькими проектами: подготовка съемок фильма с Джессикой Ланг по роману Колетт «Душечка», Верона ждала от меня новой постановки «Трубадура», Дэвид Геффен и Джефф Катценберг очень надеялись на «Флорентийцев». Но единственное, что действительно занимало меня, был проект восстановления Иерусалимского храма, осуществить который мне предложило министерство культуры Израиля, — первого постоянного Храма приверженцев иудаизма после веков рассеяния. Проект такого масштаба подразумевал колоссальную исследовательскую работу. Дело стало увлекать меня все сильнее. По результатам раскопок можно было восстановить точные пропорции Храма. Документы содержали необходимую информацию и описания деталей, их стиля и назначения. К сожалению, политическая ситуация в Израиле, напряженность между арабами и евреями в конце концов помешали реализации этого грандиозного замысла. Но я все еще надеюсь, что настанет день, и этот проект все же будет воплощен в жизнь.
Мне поступали предложения и от оперных театров. Но я никак не мог избавиться от странного ощущения подвешенности, как будто со мной вот-вот должно случиться что-то серьезное. Я упорно продолжал работать над тем, за что уже взялся раньше, особенно над презентациями и прокатом фильма, который пользовался большим успехом во всем мире. При этом я постоянно чувствовал усталость и с трудом двигал правой ногой. Шер позвонила мне и пригласила на свой концерт в Милан. Мне не случалось быть на рок-концерте со времен гастролей Майкла Джексона в Риме много лет назад, и я совсем не был готов к адскому представлению, но поехал в Милан, потому что мне было приятно повидать Шер.
Концерт был назначен на 4 ноября, на другой день после представления «Чая» в Мадриде. Я сразу улетел в Милан и, хромая, явился на концерт. Меня встретила секретарша и сказала, что Шер хотела со мной увидеться до начала концерта. Шер, возможно, человек неровный, но в работе она высочайший профессионал и образец дисциплины. Я нашел ее уже одетой и загримированной, абсолютно готовой к концерту внутренне. Она была очень благодарна, что я примчался к ней прямо из Испании, потому что знала, как тяжело мне дается дорога. Когда я выходил из ее уборной, она вложила мне в руку пакетик со словами: «Может, тебе это понадобится».
Сев на свое место, я открыл пакетик и обнаружил затычки для ушей. Шер помнила, что я ненавижу оглушающий шум рок-концертов!
Я вернулся в Рим и старался держаться накатанной колеи в работе и в жизни, пока, наконец, не случилось то, чего я боялся. 29 декабря ночью у меня чудовищно поднялась температура. Меня отвезли на скорой в больницу, где обнаружили перитонит и срочно прооперировали. Мой аппендикс вырос до размеров хорошей мыши. Этот маленький бесполезный орган стал первой мишенью и последней защитой от инфекции, которая вот-вот должна была распространиться по всему моему организму, снизу вверх.
Анализы выявили наличие вируса Pseudomonas aeruginosa, полученного в Лос-Анджелесе во время бесконечных операций на бедре. От меня не стали скрывать опасность инфекции, но не сказали, что проклятый вирус угрожает жизни и что, завладев моей ногой, он пробирается дальше, захватывая новые и новые участки.
Аппендикс был последним оплотом сопротивления. Я вспомнил, что когда мне было четырнадцать лет, мне должны были его удалить, но потом по какой-то таинственной причине так этого и не сделали. Врачи долго обсуждали, вырезать или нет (он же все равно ни к чему!). Помню, у меня был ужасный насморк, и это решило дело. Сложись тогда по-другому, у меня не осталось бы этой защиты, и сегодня я бы уже давно был на том свете. Еще раз провидение, судьба или что бы там ни было дали мне время пожить.
Я уже провел всю подготовительную работу для постановки в честь столетнего юбилея «Тоски», которая впервые была показана на сцене 13 января 1900 года в тогдашнем театре Костанци, ныне Оперном театре Рима. Через четыре дня после операции я был на ногах и помчался работать, потому что все должно было быть готово к 13 января. Пели Паваротти, Салазар, Понс, а дирижировал Доминго. Великолепные исполнители, но, увы, всего один спектакль.
Для такой исторической постановки я выбрал необычное оформление — поместил оркестр на сцене, сделав его действующим лицом драмы наряду с главными героями. Я придумал большое скругленное пространство, отделанное бархатом кроваво-красного цвета, на котором исполнители в любой момент действия находились в непосредственной близости друг от друга. Оркестр окаймлял их наподобие гирлянды, а по другую сторону гирлянды там и сям появлялись очень эффектные декорации — увеличенные фрагменты скульптур барокко, документальные съемки Рима, воспроизводящие городскую атмосферу, в которой Пуччини писал свою оперу. Оформление слегка напоминало огромный праздничный торт, украшенный по краям большими букетами красных роз. Но главное — оно подчеркивало постоянное присутствие оркестра как настоящего главного действующего лица, что на самом деле следует из партитуры оперы.
Вспоминаю, что много лет назад, еще работая в «Ла Скала», я пользовался каждым удобным случаем побывать на репетициях оркестра, которым управлял Виктор Де Сабата, особенно на репетициях «Тоски». У меня накрепко засели в голове и в душе слова маэстро:
«В „Тоске“ вы все — главные действующие лица настоящего чуда, от самого малого и незаметного инструмента до голоса ведущих солистов. Вы все одинаково необходимы для того, чтобы могла воцариться полная гармония».
Вот я и решил отметить столетие оперы в духе слов маэстро Де Сабата.
Это был удивительно трогательный вечер. От пения Паваротти зал наполнился чарами, которые может создать только его голос.
Позже он стал расспрашивать меня о здоровье и отругал за то, что я не последовал его совету и не обратился к его докторам в Нью-Йорке, отказавшись от своих лос-анджелесских. Помню, что он предпринял последнюю попытку уговорить Пиппо как раз в тот момент, когда меня везли в операционную.
Какой ангел вдохновил его? Уже было чересчур поздно, но его настойчивость, постоянные уговоры заставили меня подумать о том, что я человек, который все время с упорством маньяка вопрошает судьбу. Как он мог так явно почувствовать угрожавшую мне опасность? Что нас так сильно связывало?
Много лет назад, когда мы оба работали в «Метрополитенопера», произошел такой случай. Его отец был очень болен, Лучано сильно переживал и нервничал. Узнав, что он лежит в «полуитальянской» клинике в Нью-Джерси с плохой раковой опухолью, я вспомнил, что хорошо знаком с профессором Каганом, лучшим онкологом, который работал в «Нью-Йорк Хоспитал». Он был большим любителем оперы и страстным поклонником Паваротти. Лучано не стал поступать, как я теперь, и внял доброму совету. Он уговорил отца, хотя тот чувствовал себя как дома среди итало-американцев в своей больнице в Джерси, и перевез его в Нью-Йорк, где Каган спас ему жизнь.
Так что у нас с Лучано был такой взаимный долг, и он правильно делал, что продолжал настаивать, чтобы я его послушался, учитывая, какие беды на меня уже свалились. Но ведь в жизни важно только то, что происходит, а Лучано так и не удалось убедить меня прожить «его» историю.
Я полетел в Лос-Анджелес на встречу с доктором Брейкером и иммунологом Полсанским, в чьих руках была моя история болезни и мое будущее. Пиппо сразу понял, что они абсолютно спокойны, в отличие от последней встречи несколько месяцев назад. Было начало февраля, прошел год с той злосчастной операции в «Сидар Синай». Мои «доктора», вероятно, успокоились: двенадцать месяцев, в течение которых можно подать на них в суд по американскому законодательству, только что закончились. Они уже не рисковали миллиардными штрафами и международным скандалом, который угрожал им, если бы стало известно, что в этой мерзкой больнице Франко Дзеффирелли умер от прямых последствий лечения мафиозной банды так называемых врачей, виновных в самом настоящем человекоубийстве.
Я встретился с ними в последний раз. Они радостно улыбались, и совсем не потому, что вне опасности был я, а потому что опасность не угрожала больше им. Человек, который стал для меня воплощением подлости и предательства, чьей жертвой я стал, — доктор Коблин, точнее, доктор Роберт Коблин, мой лечащий врач, которому я долгие годы доверял свое здоровье. Если бы был суд, в который можно было обратиться, я бы не усомнился ни на минуту, ведь он знал, что мои дни сочтены и что медицина могла и должна была сделать попытку меня спасти. Но для него и его банды это означало признаться в сделанных ошибках, и он не отважился на этот шаг. Подлец!
Мне прописали слабые антибиотики, абсолютно не подходящие и неэффективные при такой тяжелой инфекции, чтобы поддержать во мне иллюзию выздоровления. И я, не подозревая о своей судьбе, уехал из больницы ободренный и полный надежд.
Я вернулся в Италию с инстинктивным ощущением, что мне угрожает что-то страшное. Мои итальянские врачи порекомендовали срочно обратиться к профессору Легре из известной ортопедической школы в Марселе, у которого была клиника во Флоренции. Счастливая звезда, которая направила меня к Легре, зажгла во мне новую надежду. Он осмотрел меня и сказал, что необходимо срочно оперироваться. Серьезность положения стала очевидной, когда я спросил, нельзя ли отложить операцию на пару недель до открытия выставки моих работ во Флоренции в палаццо Веккьо. Мне было сказано, что нельзя терять ни минуты.
Профессор Легре вынул чудовищный протез, который мне поставили американские хирурги.
Считаю своим долгом сказать, что в руки этой банды бездарных и подлых врачей меня привела судьба или неудача, как хотите, но к миру американской медицины и науки они не имеют ни малейшего отношения. Ему, этому миру, мы обязаны, не побоюсь этого слова, самыми серьезными открытиями. Но Добро и Зло существуют везде.
Перед тем как поставить новый протез, профессору Легре пришлось огромными дозами гентамицина, мощного антибиотика, избавлять меня от инфекции. Это единственное средство, которое могло как-то повлиять на засевший во мне вирус, но если принимать его большими дозами в течение долгого времени, он может очень сильно повредить зрению, слуху и вестибулярному аппарату. Через месяц Легре поставил новый протез. Сразу после операции я пришел в себя и ощутил прилив бодрости, желание работать и творить назло всему. Я попросил принести бумагу и карандаши и принялся рисовать эскизы к новой постановке «Трубадура» на Арене ди Верона, заказанной к сезону 2001 года. Новые идеи рождались во мне, с небывалой силой пробивались на свет. За десять дней я закончил эскизы всего спектакля — невиданный для меня срок. А Легре тем временем по-прежнему медленно, но неукоснительно воплощал свой план по возвращению меня к жизни, потому что, хоть я и не хотел об этом даже думать, пари еще не было выиграно.
В клинике и вне ее стен я все время работал. Профессор Легре обследовал меня еще раз и подтвердил, что коварный вирус уничтожен, но был очень озабочен возможными последствиями антибиотика для зрения, слуха и особенно для вестибулярного аппарата.
Я полетел в Нью-Йорк на консультацию к доктору Познеру, одному из лучших неврологов мира. Надо было знать, что меня ждет в будущем, и я хотел услышать, каковы мои реальные перспективы. Познер с холодной откровенностью рассказал о том, что есть, и объяснил, что возможности восстановления ограничены.
— Но я вижу, вы очень хотите продолжать работать, а роль внутреннего порыва наука не в состоянии рассчитать, — сказал он. Я не понял, что он имел в виду. — Если вы хотите продолжать жить и работать, — объяснил он, — возможно, сможете найти в себе самом необходимый инструмент, который поможет выжить после нанесенного вашему здоровью ущерба. Но это зависит от вас, и только от вас: с одной стороны, существует железная научная и медицинская статистика, а с другой — удивительные исключения, зависящие от личности человека.
Так я до сих пор и живу между этими двумя полюсами, хотя изо всех сил цепляюсь за те самые «исключения». Не так уж важно, сколько лет я еще проживу, пять или десять, эпилог все равно один. Но мне бы хотелось быть к нему готовым, а я этой готовности в себе еще не ощущаю. Может, это отчаянное нахальство и удерживает меня на плаву.
Позже, когда я в Тель-Авиве готовил постановку «Паяцев», мне посоветовали обратиться за консультацией к доктору Гольдфарбу, крупному светилу израильской медицины в области неврологии, которому я заранее передал мою медицинскую карту. Это был очень живой человечек в традиционной кипе на затылке — настоящий образчик еврейского ученого, который завоевывает все Нобелевские премии. Он радостно вышел мне навстречу, протянул руки и наговорил массу приятных слов. Он обожал музыку и хорошо знал мое творчество в театре и кино. Естественно, что он и его жена, тоже моя верная поклонница, с нетерпением ждали «Паяцев». Не дав мне времени передохнуть, он усадил меня за письменный стол, сам сел напротив и взял в руки мою историю болезни:
— А вы знаете, что вы везунчик? — весело воскликнул он. — Я внимательно изучил вашу историю болезни: вы были на грани потери слуха и зрения и сегодня могли бы оказаться слепым, глухим и в инвалидном кресле. — Он нервно засмеялся и радостно закончил: — А у вас только нарушения в вестибулярном аппарате. И вы приехали ставить здесь один из ваших шедевров. Это, конечно, неприятно, я понимаю, но ведь еще никто не умер от нарушения равновесия!
Вот они, евреи, мастера терпения и доверия, пережившие за свою историю тягчайшие испытания и не потерявшие надежду, которая и есть утешение праведника!
Всякий раз, когда меня одолевает недоверие и я прихожу в отчаяние оттого, что не могу больше делать то, что делал раньше, мне на память приходит радостный оптимизм Гольдфарба.
— Подумаешь, нарушение равновесия! Боитесь упасть? Ну и что с того? Все могло быть намного хуже! Перестаньте хныкать и будьте благодарны судьбе!
Благодарю, дорогой друг, за безумную и неиссякаемую надежду, ты открыл мне эликсир долголетия, в котором я так нуждался.
В театре Верди в Буссето всего двести пятьдесят мест, а просцениум шириной лишь семь метров, это один из самых маленьких оперных театров мира. Когда Фонд Артуро Тосканини пригласил меня поставить у них оперу к столетию смерти Верди, они, вероятно, ждали, что я выберу что-нибудь подходящее для такой маленькой сцены, «Травиату» или «Фальстафа» — оперы, которыми Тосканини дирижировал в этом театре в 1913 и в 1926 году.
Но я, ко всеобщему изумлению, предложил «Аиду», одну из самых зрелищных опер всего вердиевского репертуара. «Аида» в Буссето в постановке Дзеффирелли? Старик впал в маразм? Оперный мир горел желанием увидеть, как режиссер грандиозных представлений будет держать пари с самим собой.
У меня уже давно закралось подозрение, что эта колоссальная опера на самом деле очень личная история, и ее можно будет реализовать именно на таком маленьком пространстве. Верди ясно показал, с самых первых нот увертюры, что в «Аиде» не только духовые инструменты, трубы и барабаны. Далекое пианиссимо скрипок постепенно нарастает, напоминая шум вод Нила, от истоков в Эфиопии, где родилась Аида, до Египта, где она стала рабыней. Эта навевающая воспоминания музыка — словно далекое эхо другой планеты, она проникает в душу как колдовство, как чары.
Моя последняя постановка «Аиды» в 1998 году для открытия Императорского театра в Токио была квинтэссенцией торжественности и зрелищности, какие только можно показать на сцене. Помню, что, глядя на шестьсот исполнителей, я думал: «До чего ж, наверно, надоело Верди, что его „Аида“ — это повод поднимать на сцене такой шум».
А в Буссето мне предоставлялась возможность попытаться свести «гигантскую машину» к минимуму и сделать оперу маленькой, частной и совершенно новой. Мне давали небольшой оркестр и молодого талантливого дирижера Массимилиано Стефанелли, который каждому инструменту позволял прозвучать и быть узнанным. На этот раз певцам не пришлось бы мериться силами с оркестром, они могли бы петь человеческими голосами и с душой, так, как, собственно, опера и была задумана автором.
Когда распространилась новость, что мы ищем молодых и неизвестных исполнителей для «Аиды», они стали слетаться стаями со всех континентов. Но я сразу понял, что если хочу найти своих исполнителей, то придется самому искать их по белу свету. Я организовал поездку в Нью-Йорк в конце октября (спектакль был назначен на конец января!) и провел три дня, слушая молодых певцов всех американских оперных школ. Передо мной прошел легион талантов, молодых, отлично подготовленных, хорошо знавших театр и музыку, потому что в Америке опера очень популярна и много талантливых актеров.
В моих жилах заиграли новые силы, как будто я получил толчок сверху и изнутри.
Я сразу нашел трех молодых певцов на главные роли: Адина Аарон, Кейт Олдрич и Скотт Пайпер. Но были и другие, прекрасные и многообещающие. Такой цветник, в котором я буквально утонул. С этими исполнителями, которые совпадали с указаниями Верди о персонажах, — молодыми, красивыми, влюбленными, я начал готовить спектакль.
Я привез троих американцев в Буссето и передал их одному из лучших теноров XX века, Карло Бергонци, который был моим Радамесом в легендарной постановке «Аиды» в «Ла Скала» в 1963 году. У Бергонци в Буссето школа оперного пения, которая пользуется большой популярностью. Карло с удовольствием согласился быть нашим художественным руководителем, и в результате именно он сумел обеспечить всю постановку.
Это был очень веселый месяц, мы много работали, очень сдружились и многое открыли. Приехали в Буссето и другие артисты, не только итальянцы, но и из соседних стран, слетелись как голуби на голубятню. Прелестный городок наполнился молодежью, полной энтузиазма и сил.
Я был в полном упоении, результаты не могли не быть великолепными. Международное признание и успех спектакля в Буссето и других театрах, где он был показан, подтверждает, что эта маленькая «Аида» — действительно самая удачная оперная постановка за всю мою жизнь.
Лучшее лекарство от моих болезней.
В день премьеры 27 января 2001 года, в столетнюю годовщину со дня смерти Верди, в театре собрались особенные зрители. Там были Рената Тебальди и Джульетта Симионато, которые когда-то, в годы славы, великолепно пели Аиду и Амнерис по всему миру, и нередко вместе с Бергонци в роли Радамеса.
После любовного дуэта третьего акта растроганные зрители пять минут аплодировали стоя. Невинность и чистота этих молодых певцов, с точки зрения как вокала, так и актерского мастерства, сделала их персонажей живыми, и публика без памяти влюбилась в них.
На этой крохотной сцене все выглядело как в увеличительном стекле — не пропадал ни жест, ни выражение лица. Наконец-то восторжествовала деликатная, трогательная история любви. Для меня это было самое большое достижение.
Не знаю, смогу ли еще когда-нибудь так удачно что-нибудь поставить, как поставил эту «Аидочку», маленькую, но огромную. Как будто какая-то удивительная сила соединила в прекрасном геометрическом узоре талант всех участников, от самого последнего члена массовки до прекрасных исполнителей главных партий: Адина Аарон — Аида, о которой можно было только мечтать, прекрасная, черная, полная страсти; Кейт Олдрич — Амнерис, властная царственная тигрица; Скотт Пайпер — Радамес, мужественный сильный воин, настойчивый и честолюбивый, но уязвимый и ранимый.
Я очень люблю этот период своей жизни, потому что он выпустил на свободу новые жизненные силы как раз тогда, когда я уже собирался сказать всем последнее прости. Доктор Познер оставил мне надежду и луч света в том мраке, который окутывал мое будущее. А теперь все снова засверкало в ослепительном свете. В волнах этого света, как в отблеске буссетовской «Аидочки», состоялся и мой второй спектакль на Арене ди Верона, тот самый «Трубадур», которого я задумал на больничной койке в клинике профессора Легре. В этой опере ручьями льется кровь, там столько насилия, столько страсти — вот так молодой Верди неожиданно заявил о себе на всех сценах Европы. «Берись за работу и не сомневайся, не хнычь о здоровье», — слышал я внутренний голос, звучавший как приказ. Ослушаться я не мог — и нырнул в эту позитивную атмосферу.
Я представил, а скорее, увидел мир «Трубадура» как мир оград и решеток, оружия, жестоких битв, страстных цыган, любовной горячки, пыла страсти и ревности. Сцена так и возникла перед моим внутренним взором, воплотить ее в реальности оказалось просто, и Арена получила отличный спектакль в год памяти Верди. Один из самых моих лучших спектаклей, он убедил меня, что я снова наконец на верном пути.
Кроме того, пока я готовил «Трубадура», мы с Мартином Шерманом работали над сценарием для фильма «Каллас навсегда», который я начал снимать, едва выпустил спектакль в Вероне.
Я вновь обрел мечту, муки творчества, отвагу и безумие золотых лет.
XXV. Четырежды двадцать
После смерти Марии Каллас мне неоднократно предлагали сделать фильм о ней — о ее жизни, успехе и бесконечных сплетнях и интригах, окружавших ее. Болезненное любопытство продюсеров больше всего возбуждал треугольник Каллас — Онассис — Жаклин Кеннеди. И всякий раз мне приходилось с твердостью заявлять, что я был слишком близок к Марии и ее проблемам, чтобы браться за такую деликатную тему. Уж если я и решусь снимать о ней фильм, то пойду совсем другим путем.
Время от времени мысль об этом опять приходила мне в голову, но я ждал, что появится какая-нибудь «главная идея», как у меня обычно бывает. Какой-нибудь неожиданный и очень убедительный поворот, который даст возможность рассказать о личности такого грандиозного масштаба, как Мария, чья женская судьба при этом оказалась столь несчастливой. Я часто задумывался о проекте фильма «Кармен», который когда-то предлагал Марии через принцессу Грейс. Все фильмы-оперы снимаются под запись. Я думал воспользоваться потрясающей записью «Кармен» 1964 года под управлением Жоржа Претра. Мария в свое время не очень-то обнадежила меня, когда я заговорил об этом еще до неудачной попытки принцессы Грейс:
— За сколько времени до съемок вы обычно записываете оперу? — спросила она.
— По-разному… Иногда проходит несколько недель, иногда несколько месяцев, прежде чем начинаются съемки.
— Вот-вот. А не двенадцать лет, как хочешь ты. Ты предлагаешь мне сделать подделку, фальшивку. Я больше не хочу об этом слышать.
На этом проект застопорился окончательно.
Я потом часто задумывался над тем, что было бы, если бы Мария тогда согласилась, и потихоньку проект нового фильма стал вращаться вокруг этого предположения, вполне имевшего право на существование. Действительно, технические достижения могут быть полезны таланту, предоставить ему новые средства выражения. Они могут даже задержать наступление того времени, когда творческий потенциал и талант перестанут соответствовать физическим возможностям. Последняя «Норма», которую Мария пела в Париже, была, безусловно, самой глубокой трактовкой образа героини, изумительной и наиболее зрелой. Ее прочтение персонажа достигло невиданных высот. Но голос, главный инструмент, ее подвел.
Думаю, что такова всеобщая судьба. В то время как наш разум и творческие способности достигают вершин, судно, несущее этот драгоценный груз по волнам жизни, начинает разваливаться.
Настоящая драма Марии заключалась в том, что она, истинная гречанка, отказывалась признать, что ее дух терпит поражение из-за распада материи, поэтому сама стала способствовать его увяданию. Рассказать об этом в фильме нелегко, но я выбрал именно такой нелегкий путь. В том и состояла моя «главная идея» — как остановить процесс с помощью технических достижений. Конечно, это тоже ненадежный способ, потому что никто и никогда не сможет замедлить безжалостный ход времени.
Передо мной встала серьезная проблема — найти актрису, которая убедительно сыграет такую сложную героиню, как Мария, этакого окостеневшего всемирно известного идола. По некоторым соображениям мне казалось, что это должна быть певица, и я подумал о Терезе Стратас. И хотя она не обладала величественной статью Марии, чертами лица и блеском в глазах очень ее напоминала. Она тоже была гречанкой и тоже переживала в тот момент неизбежный кризис голоса и карьеры.
Ее ответ на мое предложение был абсолютно негативным:
— Франко, ты шутишь? — были ее первые слова.
Но позже, как следует подумав, она поняла, что фильм может стать для нее возможностью начать работу в ином направлении, и согласилась приехать в Рим на кинопробу. В гриме и парике она была необыкновенно похожа на Марию, так, что смотреть было страшно. Ей не хватало только удивительной властности Каллас: когда та входила в помещение, казалось, что вошла королева. Но в общем Тереза была хороша в этом образе, и я даже решился дать объявление для прессы. Но она внезапно исчезла, а через несколько дней написала из Америки, поблагодарила за доверие и извинилась, объяснив, что не готова взять на себя ответственность за провал такого фильма. Она слишком любила меня и уважала память Марии, чтобы позволить себе такое.
Я стал думать о других вариантах, и мне пришла в голову Фанни Ардан, которая в Париже уже сыграла Каллас в комедии «Мастер-класс» Теренса Макнэлли. Я давно следил за этой актрисой, она мне очень нравилась. Я договорился с ее агентом, что как только закончу буссетовскую «Аидочку», приеду в Париж на встречу. Но Фанни, практичная и решительная женщина, узнав, что я хочу снимать ее в этом фильме, решила не терять времени, бросила то, чем занималась, и сама примчалась со мной повидаться.
Мы встретились в холле гостиницы. Фанни сказала, что совершенно не собирается ждать, пока агенты обеих сторон условятся о встрече. Это было какое-то чудо. Сила и решительность этой уникальной женщины ни с чем не сравнимы, ее человеческое тепло и острый ум сразу покорили меня. Последние сомнения исчезли, и в тот же вечер я позвонил продюсерам сообщить, что Каллас найдена.
Никогда еще я не был так увлечен созданием персонажа, как во время работы над этим фильмом. День за днем Фанни Ардан постепенно воплощала идеальный образ Марии Каллас. Я даже стал чувствовать себя виноватым: игра Фанни была настолько убедительной, что мне казалось, что произошло настоящее перевоплощение Марии. Даже Джоан Плоурайт и Джереми Айронс, которые не были лично знакомы с Марией, чувствовали особое напряжение, играя с Фанни, — им казалось, что они таинственным образом приблизились к Каллас, и это ощущение их сильно волновало.
Мы снимали в драматическом театре Бухареста 11 сентября, ближе к вечеру, когда сообщили, что в одну из башен-близнецов в Нью-Йорке врезался самолет. Поначалу все решили, что это ужасный несчастный случай, но следующий самолет врезался во вторую башню, а потом еще два самолета взорвались в других местах. Сомнений не было: это был неслыханный террористический акт. Трагедия мирового масштаба. Мы видели по телевидению душераздирающие картины разрушения и боли, но еще не понимали вселенских масштабов катастрофы.
Только потом мы догадались, что это объявление войны нашей цивилизации, культуре, всему нашему миру. Но враг был вовсе не из какой-то другой цивилизации, это были преступники из безграмотных и отчаявшихся отбросов мусульманского общества.
По окончании съемок меня опять ожидала опера. Я сдержал слово и с удовольствием вернулся в Буссето год спустя после «Аиды» ставить на очередной юбилей Верди всеми любимую «Травиату». То прочтение, которое я впервые использовал с Марией в Далласе в 1958 году, осталось для меня незыблемым, и я без колебаний обращался к нему в каждой постановке. Это вовсе не «режиссерская находка», это путь, предложенный самим автором, который недвусмысленно указывает на него уже в музыке увертюры.
Такой подход требует развертывания всей оперы между двумя схожими увертюрами — первого и третьего акта, и таким образом все события предстают перед зрителем как долгий флешбэк.
Я говорил о том впечатлении, которое опера произвела в Далласе. В Буссето я остался верен первоначальной идее, но со времени Далласа прошло немало лет, и у меня появились и новый опыт, и новые возможности. Например, в некоторых своих постановках я использовал геометрический подход и решил прибегнуть к нему и в маленькой «Травиате» в Буссето. Я построил декорации из прозрачной пластмассы, с концентрическими конструкциями, которые едва заметно крутились одна внутри другой, по-разному организуя пространство и объем, но подчиняясь сценическим и драматургическим требованиям Верди.
В результате получился самый «авангардный» — после железной чертовщины «Трубадура» — из всех моих спектаклей.
А труппа была великолепной, и вела ее волшебная дирижерская палочка Пласидо Доминго. Такую Виолетту, какой стала Стефания Бонфаделли, можно встретить разве что в раю, как говорят англичане, жизнерадостным Альфредом был Скотт Пайпер, который пел у меня в «Аиде» Радамеса, а Жермон… О, Жермоном стал несравненный Ренато Брузон! Идеальный, прекраснейший Жермон. Какое удовольствие было видеть и слышать его. Такое не забывается…
В то лето 2002 года в Вероне были показаны три мои постановки: восстановленные «Кармен» и «Трубадур» и новая монументальная «Аида». По-моему, это самая грандиозная «Аида», которую когда-либо ставили, как кто-то про нее написал, но в любом случае она очень отличается от всего, что я делал раньше. Все оформление было как гигантский калейдоскоп из позолоченного металла. Свет падал на него под разным углом, и он все время отсвечивал по-новому. Публика была потрясена.
Но ведь, как писал, кажется, Леонардо, цель поэта — подтолкнуть воображение и вызвать восторг, удивление и мечту; и даже если это сказал кто-то другой, смысл не меняется.
Об Арене ди Верона могу сказать только самое хорошее. Спектакли, которые я создал для этого единственного в мире театра под открытым небом, идут не один сезон и имеют успех. Публика там очень требовательная и съезжается со всей Европы, чтобы увезти домой незабываемые впечатления. Критики тоже не дремлют и не забывают о своих вечных «если бы» и «однако», но ждут меня с нетерпением, потому что я всякий раз даю им возможность как следует сэкономить на похвалах, которые щедро получаю от восторженной публики.
Это наши старые развлечения, и я стал искренне веселиться с тех пор как перестал воспринимать их всерьез и думать о них как о чем-то очень важным. С другой стороны, «политкорректность», у которой я давно в черном списке, — дело слишком серьезное и актуальное, хотя люди вроде меня позволяют себе считать его занудством, вроде назойливого комариного писка. Меня гораздо больше волнует судьба молодежи, которая сегодня пытается приблизиться к «планете культура». Она-то в этих рамках выросла и навсегда рискует застрять в своем неприступном культурном гетто.
В речи, произнесенной в Организации Объединенных Наций в 1961 году, Джон Фицджеральд Кеннеди говорил о политкорректности, которая уже тогда начала отравлять мозги и души. По его словам, политкорректность — «это не что иное, как отвратительный конформизм, настоящий тюремщик свободы мнений и первый враг распространения новых идей. Величайший механизм, который порождает культуру, вдыхает в нее жизнь и дает силы, никакого отношения не имеет к этим молчаливым ползучим правилам поведения, ограничивающим свободу ума».
Увы, достаточно взглянуть на плоды этого явления. Кажется, мудрость мира иссякает на глазах. Где великие столпы культуры? Где они, новые художники, писатели, скульпторы, музыканты, драматурги? Кругом голая безрадостная пустыня. На какие маяки должны держать путь новые поколения?
Сегодня, как это ни печально, творческое начало стало весьма редким явлением. Маленький скромный огонек нет-нет да и вспыхнет то там, то сям, но нигде не оставляет следа. Кому сегодня писать «По ком звонит колокол», «Дьявол во плоти» или «Равнодушные»? Где сегодняшние Сартры, Кальвино, Палаццески и многие другие? Литература вертится вокруг собственной оси, выдает книги, годные разве что на корм кинематографу. А где великие мюзиклы «Моя прекрасная леди», «Вестсайдская история», «Кабаре», «Эвита»? А куда подевались театральные пьесы? По иронии судьбы английская сцена первой была поглощена политкорректностью после Джорджа Бернарда Шоу, когда в американском театре еще гремели Теннесси Уильямс, Миллер, Олби. Живопись вообще оказалась «потерянным раем»; у нас теперь художники вроде Каттелана с его нестерпимым абсурдом: Папа Римский, на которого падает метеорит, повешенные на деревьях дети, слон в белом саване. Да еще за миллионы долларов! В архитектуре пока удается создавать потрясающие шедевры, но это уже не искусство, а чудеса техники.
Давно было решено, что мой фильм «Каллас навсегда» будет показан первый раз в Париже на двадцать пятую годовщину со дня смерти Марии, в сентябре 2002 года. К сожалению, в тот момент большая часть французской культуры и массмедиа была откровенно настроена против всего итальянского, потому что у нас в стране к власти пришел Берлускони. Это выглядело глупо и некрасиво и явно было продиктовано деятелями культуры коммунистического толка, которые быстро нашли последователей среди левых французских болтунов. Они не пощадили даже великолепную, несравненную Фанни, не простили, что она «переметнулась к врагу».
Отголоски такого отношения французской критики донеслись и до Италии, но большого эффекта не имели — там фильм понравился, как понравился в Японии, где собрал рекордные суммы, и в России, где стал культовым. А в Греции успех был таков, что министр культуры Евангелос Венизелос наградил меня почетным гражданством.
Зато в Америке к фильму изначально отнеслись отрицательно. Американским зрителям Каллас была знакома как американка греческого происхождения, и они с трудом приняли актрису-француженку. Более того, картина была сразу воспринята как фильм-опера.
«Каллас навсегда» была показана в Нью-Йорке на День Колумба. Премьера в «Зигфельд Театре» стала классическим парадным вечером: красные дорожки, шампанское и папарацци, а потом прием в мою честь, данный Лоуренсом Ориана, очаровательным человеком, председателем Фонда «Коламбус Ситизен».
Билет на это вечер стоил в среднем тысячу долларов. Сбор составил полмиллиона, которые пошли на организацию Фонда Дзеффирелли. Это стало для меня чудным сюрпризом, я и знать не знал, что ежегодно от моего имени назначаются две именные стипендии для обмена между итальянскими и американскими студентами. Фонд помощи молодым талантам в области изобразительного искусства должен был разместиться, разумеется, во Флоренции. Не могу не сказать, что это доброе дело, которое будет ежегодно пополняться новыми молодыми именами, очень тронуло меня.
На другой день был собственно праздник. Он начался торжественной обедней в соборе Св. Патрика, которую служил епископ Иген. Я успел после службы обменяться с ним парой слов, достаточных, чтобы понять, что он тонкий человек и остроумный и приятный собеседник. Очень надеюсь встретиться с ним еще.
Главная часть торжеств — это традиционный парад по Пятой авеню. Я открывал его как «Великий маршал», с роскошной бело-золотой перевязью, на прекрасной старинной итальянской машине, под дождем из конфетти и серпантина и под аплодисменты толпы, которая выстроилась вдоль улицы, где в минувшие времена проходили все великие люди Америки.
Один паренек, по-моему, мексиканец, подошел ко мне и возбужденно спросил с горящими глазами:
— А я вас знаю, видел вас по телевизору. Вы ведь с Луны прилетели?
— Боюсь, что нет, — весело ответил я. — Я всего лишь из театра «Метрополитен-опера». Но уверяю тебя, что там куда интереснее, чем на Луне. Я тебя туда свожу.
После парада — нью-йоркская биржа, где я, как положено, объявил об окончании рабочего дня ударом молоточка. В тот день, как ни странно, индекс Доу Джонса поднялся очень высоко после продолжительного спада. Может, и это положительные волны?
Но день еще был далек от завершения. По счастливому совпадению, в тот вечер в «Метрополитен» давали «Турандот» в моей постановке, которую я не видел ни разу после премьеры 1987 года. Это было очень приятно — как будто увидеть любимое дитя, сделавшее блестящую карьеру. Я сидел в директорской ложе и с душевным трепетом вспоминал переживания и радости той далекой премьеры. В антракте меня узнали зрители и приветствовали аплодисментами.
Так мне представилась возможность оценить постановку спустя много лет. Казалось, будто я сделал ее вчера — хороший спектакль, который до сих пор вызывает энтузиазм зрителей. Еще одна моя вещь, которая сохранила молодость после долгих лет жизни.
Когда опера закончилась, я вышел на сцену. Кто-то, очевидно, предупредил хор и артистов, что я хочу их поприветствовать, потому что не ушел никто. Не могу передать, как я был растроган выражениями любви и уважения, которыми меня встретили. В день, когда праздновалась дружба между итальянцами и американцами и я играл главную роль, так приятно было услышать, как хор из-за занавеса запел гимн Италии!
Сценарий «Каллас навсегда» был написан Мартином Шерманом, с которым много лет назад меня познакомил Кристофер Хэмптон, работавший тогда над моими «Флорентийцами». Мартин меня очень интересовал с тех пор, как я посмотрел на Бродвее его комедию «Склонность» с Ричардом Гиром. Мне он очень импонировал как человек, живой, очень умный и непредсказуемый. Когда мы работали над фильмом о Каллас, зашла речь о моих спектаклях на британской сцене, и я выразил сожаление, что никогда не ставил в Англии Пиранделло. Я не переставал об этом сокрушаться, и Мартин помог найти продюсера. Мне всегда хотелось отыскать английского писателя — «брата-близнеца», чего не удалось сделать в кино, и я предложил Мартину сделать перевод одной из лучших пьес Пиранделло «Это так, если вам так кажется». Написанная в 1917 году, она — настоящее сокровище, в котором уже есть все новые течения XX века, и одна из точек отсчета современного театра. Мартин подготовил идеальную адаптацию текста: он прекрасно ухватил тайну языка Пиранделло, его невинный и в то же время колкий юмор, игру двусмысленности, которая и раздражает, и приводит в восторг зрителя.
В начале нового года я стал почетным гостем кинофестиваля в Палм-Спрингс, где мне вручили специальный приз за достижения в кинематографе. Организаторы фестиваля были чрезвычайно любезны, хотя в таком месте, как Палм-Спрингс, где все мило и неброско, быть любезным не так уже трудно. На фестивале показали «Каллас навсегда», зал аплодировал стоя, но в Голливуде никто на это не обратил внимания. Назвали фильмом-оперой, пусть и хорошим, удачным и достойным внимания — так в тот кузов и полезай.
Хотя Лос-Анджелес ассоциировался у меня с недавними тяжелыми переживаниями в связи с медицинскими проблемами, это все-таки было место приятных воспоминаний. Там жили любимые друзья, и я с радостью встретился с ними. Тогда же случилась особенная, совершенно неожиданная встреча.
Среди предметов реквизита, использованных в моих фильмах и несколько месяцев назад выставленных на аукционе «Сотбис», было большое распятие, изготовленное для фильма «Брат Солнце, сестра Луна», копия старинного распятия, перед которым произошло обращение Франциска Ассизского: Распятый заговорил с ним и изменил его жизнь. Франциск своими руками построил на отшибе маленькую церковь Св. Дамиана и перенес распятие туда.
У нас в распоряжении было достаточно материалов и исторических документов, чтобы художники, используя старое дерево и краски, изготовленные по старинным рецептам, могли создать копию, способную обмануть лучшего из знатоков. Когда фильм был закончен, распятие так и оставалось среди развалин церквушки, которую мы построили для съемок, под дождем, снегом, палящим солнцем — не знаю, сколько времени.
Кто-то напомнил мне о нем, и я решил вернуться в те места, где много лет назад мы снимали фильм. Распятие по-прежнему было там и производило такое впечатление, что мне показалось кощунством оставить его там гнить. Я привез его домой, но подобрать ему место оказалось трудно. Это был предмет, имеющий собственную историю, и эта история вовсе не должна была завершиться на стене моего кабинета.
Эксперты из «Сотбис», приехавшие, чтобы отобрать для аукциона предметы, которые я использовал на съемках, сразу обратили внимание на распятие и сняли с моих плеч большой груз, забрав его с собой.
То, что я сейчас расскажу, не шутка и не придуманная история. Когда я пришел к обедне в наш приход в Беверли-Хиллз, в церковь Св. Викентия на Сансет-бульваре, я остановился как вкопанный, потому что увидел над главным престолом наше распятие из церкви Св. Дамиана. Это было идеальное для него место, оно придавало всей церкви, современной и некрасивой, особо сакральный вид.
Я встал на колени и надолго погрузился в молитву, чтобы успокоиться от нахлынувших воспоминаний. Меня действительно поразила судьба этой вещи — предмет, реквизит для съемок, нашедший постоянное прибежище в городе грез и иллюзий. Его домом стал Голливуд!
Вот вам и мудрая судьба!
По правде говоря, мы такие, какими сами себя видим. Наше представление о себе может быть настолько убедительным для других, что возникает соблазн поверить, что все так и есть на самом деле. По мере приближения февраля я стал смиряться с тем, что придется отмечать восьмидесятилетие. В жизни человека есть два совершенно особых возраста: двадцать лет — первое приветствие жизни и всему, что она несет, и восемьдесят — время размышлений и подведения итогов.
Когда меня спрашивают о возрасте, я непринужденно отвечаю «четырежды двадцать», и это оттого, что я ощущаю себя четырежды двадцатилетним! А когда я смотрюсь в зеркало, мне кажется, что я среди тех, кому от шестидесяти до семидесяти пяти. Неужели восемьдесят? Господи помилуй!
Я догадывался, что совсем избежать празднования дня рождения не удастся, и подозревал, что кое-что уже готовится, потому что Пиппо и Лучано последние дни вели себя странно, куда-то все время исчезали, вели тайные переговоры по телефону, не отвечали на мои расспросы и все время где-то пропадали. Я решил, что они заняты организацией праздника, и умолял их сделать его поскромнее, потому что не так уж рвался отмечать эту дату.
Целую неделю по телевидению показывали мои фильмы, а газеты публиковали статьи о моем творческом пути, моем невозможном характере и о «постыдной» политической ориентации. Волей-неволей календарную дату отмечать было надо. Ощущение грядущего празднования витало в воздухе, но я даже не подозревал, какой снаряд вот-вот разорвется над моей головой. Я и представить себе не мог, что Пиппо и Лучано организовали колоссальное торжество в Оперном театре Рима, которое в прямой трансляции передавалось по телевидению.
Пришли все, все мое поколение, даже мои «исторические» противники, все, кто всю жизнь создавал мне трудности (они скривились и в этот день, когда приехал Берлускони, который вместе с Джанни Летта захотел лично меня обнять). Я получил массу подарков от далеких и близких друзей. Принц Чарльз прислал очень трогательное письмо, которое прочитала леди Джессика Шеперд, супруга посла Великобритании. Друзья, которые не смогли присутствовать лично, прислали видеозаписи: ах, какие поздравления я получил от Пласидо Доминго, Джоан Плоурайт, Мэгги Смит, Джуди Денч, Роберта Пауэлла, Оливии Хасси и многих, многих других. Хор «Метрополитен-опера» спел для меня поздравление вместе с солистами и техническим персоналом. Очень любезным и красивым было приветствие от токийского Императорского театра, далее следовали прелестный, специально сочиненный дуэт моих любимых близняшек сестер Кесслер, безумный танец цыганской труппы из Андалузии и еще, и еще, и еще… Казалось, вся планета, на которой я живу, хотела убедить меня в крепкой и долговечной любви и дружбе!
После того как было зачитано письмо принца Чарльза, моя приятельница Лина Вертмюллер сказала как бы шутя:
— Ну, хватит уже, тут только Папы Римского не хватает.
Не успела она произнести эти слова, как в заключение поздравлений я получил особое благословение Папы Иоанна Павла II.
В предыдущих главах я не стал рассказывать о важном решении, принятом в 1999 году, в тяжкий год, когда у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Если мне удалось пережить этот непростой период и вернуться к активной жизни, то обязан я этим поддержке и преданности моих ребят, Лучано и Пиппо, которые ни разу не отошли в сторону от моих проблем, не выказали усталости или неверия. Я давно решил, что должен дать им тот официальный статус, который они заслужили долгими годами тепла и привязанности, согревшими мои зрелые годы, и в 1999 году официально усыновил их.
Моя тетя Лиде говорила, что родных не находят в колыбели, а родственники часто оказываются сущими змеями. Настоящее родство не по крови, а по любви.
Со временем узнаешь людей, притираешься к ним, живя рядом, внимательно наблюдаешь, как они ведут себя в разных обстоятельствах, открываешь для себя их сущность, видишь, как они преодолевают жизненные препятствия. И наконец понимаешь, что отношения дружбы и взаимоуважения переросли в нечто большее — любовь между отцом и сыновьями.
Я уже рассказывал, что в последние годы на меня сыпались бесконечные неприятности со здоровьем: неудачно проведенные операции в самых знаменитых клиниках мира, инфекции, сердечная недостаточность и все прочее. Крестный путь, который я не сумел бы пройти без двух этих верных, неутомимых и упорных ребят. Я так зову их, потому что считаю их сыновьями, но это зрелые мужчины, и у каждого своя личная жизнь, на которую они имеют полное право. Так случилось, что их жизнь чудесным образом пересеклась с моей. И все эти годы они ни на минуту не оставляли меня, следовали за мной из больницы в больницу, из театра в театр, с одной съемочной площадки на другую, всегда поддерживали меня и несли радость. Не преувеличиваю, говоря, что мой творческий путь продолжается благодаря им. Если я до сих пор могу браться за очень серьезные дела (что следует из моего рабочего расписания за последние семь лет), то этим я обязан им, и только им.
Как можно не признать за собственных сыновей людей, которые отдают тебе всю жизнь, не впадая при этом в уныние и тоску? Для них ордена за гражданские заслуги будет мало, не то что акта об усыновлении!
Вскоре после своего дня рождения я поехал в Лондон, чтобы начать репетировать вторую комедию Пиранделло — напомню, что итальянская версия «Шести персонажей в поисках автора» в Национальном театре в 1991 году была очень удачной. Я никогда не видел хорошей постановки Пиранделло на английском языке. Мы с Шерманом много работали над проблемой его адаптации. В результате появился текст, который не был буквальным переводом, но очень «по-английски» передавал суть комедии.
В английском варианте она называлась «Absolutely! Perhaps?» и была очень созвучной Пиранделло. Уже само итальянское название «Это так, если вам так кажется» (Cosi è se vi pare) подчеркивает относительность реальности и иллюзии, потому что в конечном итоге Пиранделло видит жизнь как некий трагический фарс. И чем дальше он идет в этом направлении, тем больше захватывает зрителя. Это настоящий шедевр геометрии в драматургии: то, что кажется незыблемым сейчас, в следующее мгновение подвергается сомнению. Загадка растет, приводит в исступление действующих лиц на сцене и зрителей в зале. Каждый персонаж одновременно прав и неправ. Такой подход, характерный для всей драматургии Пиранделло, поставил массу неразрешимых вопросов в Англии, где ты можешь залезать в любые дебри, но в конце концов должен сказать, кто прав, а кто неправ, кто виновен, а кто нет. И вот, хорошо помня про сложные взаимоотношения англичан с театром Пиранделло, я сделал очень веселый спектакль, который с самого начала захватил зрителей и держал в напряжении до конца.
Как же мне было приятно вернуться в лондонский театр! Соня Фридман, продюсер спектакля, сумела сделать все легким, приятным, окружила меня вниманием и даже чрезмерной заботой. Джоан Плоурайт играла в обеих комедиях Эдуардо де Филиппо, которые я ставил в Лондоне, работала со мной в кино. Мы давно и часто говорили о постановке новой пьесы, и она очень обрадовалась, когда разговоры переросли в реальность. Для меня Джоан больше чем друг и великолепная актриса, это родственная душа. Она, как и я, на долгое время уходила из театра, и я почувствовал, что она возвращается к зрителю с большой осторожностью. Джоан прекрасно знала, что со мной она может укрыться от всех ветров, но все равно чувствовала себя немного одинокой и потерянной, поскольку за много лет привыкла к поддержке Ларри.
Актеры, которые работают со мной впервые, часто с трудом принимают то, как я провожу первые недели репетиций. На этом этапе я еще не полностью владею актерами, не могу определить их отношений с персонажами и моих собственных отношений с ними. Поэтому мои соображения кажутся, да и есть на самом деле, довольно сумбурными. Джоан тоже доставалось в эти сложные для меня периоды, но теперь она уже знала, чего от меня ожидать.
Однажды, когда мы репетировали Эдуардо, я услышал, как она успокаивает одного недоумевающего взволнованного актера:
— Расслабься, работай и увидишь: с Франко главное происходит в последние дни, когда все на сцене, в костюмах и гриме, при освещении. Только когда у Франко перед глазами полная картина, уже обретшая форму, все и происходит. Вот тогда тебе и придется побегать быстрее ящерки, так что будь готов.
Это очень точный диагноз, и он полностью соответствует действительности. Когда все кусочки мозаики наконец передо мной и я могу разложить их в том порядке, которого от меня ожидают, тут-то и начинается настоящее дело, тут и включается моя фантазия. Идеи, которые крутились у меня в голове с самого начала, обретают жизнь, схлестываются и рождают в этом круговороте новые, которые поражают в первую очередь меня самого. Когда я понимаю, что самый первый рисуночек на клочке бумаги стал цельным законченным спектаклем, я испытываю то, что в Англии называют artistic orgasm.
Сложный петляющий путь пьесы Пиранделло с бесконечными и безвыходными ситуациями напомнил мне мозаику со знаменитым лабиринтом, которую я видел в Равенне в церкви Сан-Витале. Я оформил сцену, имея в виду эту яркую завораживающую мозаику, она отражалась и преломлялась в огромных настенных зеркалах и как бы сопровождала публику в ее отчаянном безнадежном поиске точного ответа в жестокой и изматывающей игре, которую приготовил Пиранделло.
Принц Чарльз тоже пришел посмотреть спектакль и потом пригласил меня на ужин в Сент-Джеймский дворец. Нас было всего пятеро или шестеро. Я наконец познакомился с Камиллой Паркер-Боулз, к которой еще до знакомства испытывал инстинктивную симпатию, и не был разочарован: она оказалась умной и сдержанной, со знанием дела могла говорить о многих предметах, но только если ее спрашивали. Это признак высшего класса и большая редкость!
За ужином я с интересом слушал принца Чарльза, который рассказывал мне о своей деятельности в области охраны окружающей среды и о том, что он намеревался сделать в своем поместье Хайгров, которое целиком было отдано под сельскохозяйственные угодья. Его королевское высочество очень интересный человек с широкими взглядами. Уверен, что он сумеет стать прекрасным государем, если взойдет на английский престол.
Работая снова в Лондоне, я почувствовал себя дома. Как вовремя я туда вернулся! Я никогда не терял связи с театром, с кино и особенно с английскими актерами — Боже упаси! Разве я могу снимать без них фильмы?
Я познакомился с молодой женщиной — продюсером, которая за несколько лет сумела завоевать Вест-Энд. Это Соня Фридман. Работать с ней одно удовольствие. Это человек, который умеет всегда смотреть вперед, который знает, что ты скажешь, когда ты рта еще не открыл, который читает твои мысли. Она очень разумно организовала рекламу пьесы Пиранделло и обставила мое возвращение на лондонскую сцену.
Англичане были весьма великодушны, рецензии превосходны и полны похвал не только постановке и исполнителям, но и самой комедии. А это прекрасный результат, потому что, хоть Пиранделло и известен во всем мире как великий драматург, англичанам никогда не удавалось переварить его до конца и включить в свою культуру, как произошло, например, с Чеховым или Ибсеном. Но больше всего мне понравилось это ощущение дома в английском театре, где я пережил удивительный опыт, благодаря которому вырос и созрел, как в университете. А на улице или в ресторане публика часто узнавала меня.
Я с удивлением рассказал об этом Соне. «Естественно, — ответила она, — ты же в Англии ходячая легенда, ты же на нашем английском Олимпе, тебе можно только поклоняться!»
Thank you, England.
В Лондоне, во время одной из «тайных бесед» с моим организмом, я почувствовал, что где-то в области сердца раздается сигнал тревоги. Диагноз показал сердечную аритмию, с которой легко справиться, если установить кардиостимулятор.
Теперь кардиостимуляторы имплантируются так просто, что сегодня их ставят все подряд, и если тебе больше пятидесяти, а кардиостимулятора нет — значит, ты вообще никто. Но я был постоянно занят репетициями, и единственный день, когда это было бы возможно, была Великая пятница, которая в тот год попадала на 17 апреля. Боже мой, пятница, да еще 17 число![116]
Поначалу я решил ничего не делать, но потом стал задумываться: ведь получалось, что цивилизованный человек ставит свой выбор в зависимость от глупых предрассудков. Я даже составил себе более аккуратное пояснение: число, вещь, человек становятся для тебя тем, что ты думаешь о них. Если ты считаешь, что 17 — несчастливое число, то ты сам, и больше никто, создаешь вокруг него отрицательные, несущие неудачу волны. Если не думаешь об этом, то и день этот будет таким, как все остальные, и ничего не случится. Не могу сказать, что чувствовал себя глубоко убежденным, но согласился с некоторым сердечным трепетом сделать эту простейшую операцию 17 числа. Все прошло благополучно.
Это прекрасное приспособление поставил мне отличный английский хирург доктор Роуланд, и два дня спустя я уже мог вернуться к работе.
Меня ждала волнующая встреча, и не очень легкая: почти через сорок лет я возвращался в лондонскую Королевскую оперу. Тогда, в 1964 году, я ставил там «Тоску» с Каллас. И хотя в последующие годы я неоднократно получал от них предложения, всегда страшился возвращаться из-за клубка сожалений, грусти и воспоминаний, слишком прекрасных, чтобы попытаться вернуть их в реальность.
Но на этот раз я не мог уклониться. Меня просили о постановке «Паяцев» с Пласидо Доминго, сделанной в Лос-Анджелесе. Кроме Доминго предполагалось участие и других блестящих исполнителей: Ангелы Георгиу, Ладо Анатели, в роли Сильвио — русского баритона Дмитрия Хворостовского. Вот как!
В «Ковент-Гардене» прошла капитальная реконструкция, и он стал одним из самых современных и передовых театров мира. Но я чувствовал глубокую грусть и сожалел о старом театре, с которым были связаны мои первые успехи в Англии. К тому же новое здание — настоящий лабиринт бесконечных коридоров, которые пришлось покрасить в разные цвета, потому что в них нельзя не потеряться. Красный цвет — администрация, зеленый — артистические, синий — балетные репетиционные залы, желтый — сцена и так дальше. Каждый сектор имеет свои лифты и лестницы, и я чувствовал себя как персонаж моего Пиранделло, потерявшийся в лабиринте. Надежду вернул мне маэстро Энтони Паппано, который должен был дирижировать «Паяцами». Благодаря ему я понял, что эпоха большой музыки в «Ковент-Гардене» не закончилась. Когда я услышал, как он дирижирует «Паяцами», у меня так поднялось давление, что никакой кардиостимулятор не мог помочь! Вот великий артист, вот сила, которая переполняет тебя чувствами, — мощная и деликатная одновременно.
Несмотря на очень сильную простуду, которая мучила меня уже несколько дней, возвращение на эту сцену обещало радостные и светлые минуты.
Совершенно неожиданно я почувствовал себя как бы не у дел. В душе и в голове нарастали беспокойство и страх перед возвращением. Я испугался, что не выдержу груза воспоминаний, что они раздавят меня. Генеральная репетиция представлялась настоящей пыткой. Это был новый мир, прекрасный и свежий, но внутри него таился другой, очень далекий, а теперь он становился все ближе и заполонял собой все настоящее.
Я был в «Ковент-Гардене», моей любимой Королевской опере, с прекрасной труппой и «Паяцами», но воспоминания о других репетициях, других артистах, больших и маленьких, не давали мне покоя: Каллас и Гобби в «Тоске», Сазерленд, дебютирующая в «Лючии ди Ламмермур», Сьепи, Шварцкопф, Герейнт Ивенс и множество других соединились в моей голове с теми, кто в эту минуту репетировал на сцене. Они появлялись на мгновение и исчезали, как комбинированные съемки в фильмах ужасов, где прошлое и настоящее, реальность и воспоминания перемешиваются, чтобы свести с ума.
Я слышал музыку Леонкавалло или Пуччини? А может, Верди? Или Доницетти? Я смотрел на хористов и массовку «Паяцев» и представлял, что это дети или даже внуки тех, кто пел здесь сорок-пятьдесят лет назад. Передо мной в круговороте мелькали лица, взгляды: как же их звали? Мэри? Джоан? Сибил?
Я изо всех сил пытался определить, где мое настоящее, но не мог. Из-за простуды я ничего не чувствовал, плохо слышал, дышать было трудно, глаза застилало. Я спустился в зал, сел позади маэстро Паппано, который блестяще дирижировал своим оркестром, и признательно сжал ему локоть.
Продолжая дирижировать, он обернулся:
— Да что ты говоришь? Это тебе спасибо — то, что я вижу на сцене, просто сказка.
Он был прав — сказка, драматическая фантазия, выдумка. Мне пришлось сесть в кресло, я боялся упасть. У меня никогда не было психофизических коллапсов такой силы. Я испытывал смертельную тоску.
Ночью мне не удалось сомкнуть глаз. Пиппо был страшно обеспокоен и вызвал доктора Роуланда, который нашел сильнейшее перенапряжение в результате, вероятно, усталости, простуды и переживаний. Я сказал, что хочу немедленно вернуться в Рим. Роуланд удивился, что я не остаюсь на премьеру, на которую они с женой давно заказали билеты. Но он понял, что я переживаю кризис, который ни врачи, ни лекарства не могут вылечить.
На другой день я вернулся в Рим, никому не сказав ни слова и не попрощавшись. Самое трусливое и подлое решение за всю жизнь, которое я не могу себе простить.
XXVI. Ради блага этого Дзеффирелли
В прошлые годы я несколько раз бывал в России. В первый раз в 1968 году с «Ромео и Джульеттой», потом с «Волчицей», где играла Маньяни, и, наконец, во время гастролей «Ла Скала», с «Богемой» и «Турандот». Большой театр часто приглашал меня, но все как-то не складывалось. Большой продолжал настаивать и когда снова пригласил меня в 2003 году, я решил предложить мою малышку «Травиату». Она задумывалась для крохотного театра в Буссето, но была удачно воссоздана на сцене Большого, которая по крайней мере в три раза больше.
Вернувшись в Москву много лет спустя, я с удивлением и радостью узнал, что русские знают обо мне и все эти годы следили за моей работой. Они прекрасно помнили все, что я сделал (многого они даже не видели), и относились ко мне с восхищением и уважением. Я постоянно получал свидетельства такого отношения от самых разных людей. Мне вручали сувенир, открытку, цветок, подарок, не имеющий никакой стоимости, но принесенный от чистого сердца.
Однажды меня после репетиций долго ждала какая-то скромно одетая пожилая дама. Она попыталась поцеловать мне руку, и я почувствовал, как в ладонь мне падает колечко, которое она сняла с пальца. Простое золотое колечко с маленьким камушком.
— Что вы, что вы, — произнес я смущенно, — я не могу это принять.
Но она настаивала и, оставив кольцо у меня в руке, пошла к выходу. Я догнал ее.
— Вы сделали мне прекрасный подарок, — сказал я, возвращая кольцо, — а теперь я дарю его вам.
Эта женщина с ее непонятной щедростью возбудила мое любопытство, и я попросил переводчика помочь мне разобраться в этой истории. С сияющими глазами, на прекрасном языке, которого я, увы, не понимаю, она рассказала, что когда была молоденькой, смотрела со своим возлюбленным «Ромео и Джульетту». Она запомнила этот поход в кино навсегда, потому что, как я понял из ее путаного рассказа, молодой человек, с которым она тогда была в кино и за которого собиралась замуж, внезапно таинственным образом исчез и никогда больше не возвращался. Больше мне ничего не удалось узнать: женщина вдруг чего-то испугалась, как будто сказала лишнее, еще раз поцеловала мне руку и торопливо ушла. Переводчик дал мне понять, что в ее рассказе явно могла быть политическая составляющая, таких историй в этой стране было множество.
— Или, — добавил он с едва заметной улыбкой и пожал плечами, — она просто сумасшедшая.
Таких людей, полунормальных — полусумасшедших, полно в России. Это мечтатели с горящими глазами и пылким воображением, как множество персонажей прекрасных русских романов, которых мы узнали и полюбили. Толстого, Достоевского, Чехова мы любим именно за то, что они воспели этих мечтателей.
Несмотря на семидесятилетнюю трагедию большевизма, они сумели каким-то чудом сохранить вечные ценности своей великой культуры — культуры дореволюционной России. Стране пришлось перенести неслыханные беды: три поколения граждан всех социальных слоев — обыватели, интеллигенты, люди свободных профессий — более пяти миллионов человек были уничтожены Сталиным. Россия, отдавшись во власть коммунизма, поступила сама с собой и со своими лучшими сыновьями с невиданной жестокостью. Но любовь русских к красоте, способность к состраданию, мечты, музыка, искусства продолжают жить в сердце этого удивительного народа, творящего ангелов и бесов, и приносить плоды.
Удивительно, но культурное наследие России и ее великие традиции не были уничтожены коммунизмом. Прошло семьдесят лет, а вечные ценности сохранились. Мало того, Россию не охватил тот распад, который пережила западная культура по вине пресловутой политкорректности, по-прежнему бушующей в нашем обществе, где избыток свободы привел к плоскому и живучему конформизму. А в России нет или пока нет.
Один из самых потрясающих вкладов России в мировую культуру, очень значительный для меня лично, — это музыка и вокал. И то, и другое — часть традиции, уходящей глубоко в прошлое. Россия подарила миру величайших певцов. Я ревниво оберегаю дружбу со звездой первой величины, одним из самых красивых голосов мира — Еленой Образцовой. Впервые мы работали вместе над «Балом-маскарадом» в 1972 году в «Ла Скала», потом в 1978 году в Вене над незабываемой «Кармен» с Доминго под управлением Клейбера, и между нами сразу установилось полное взаимопонимание, что бывает весьма редко. Когда судьба делает такой подарок, ты хранишь тепло и память о нем, пока жив. В последний раз мы встретились в 1981 году на «Сельской чести» в «Ла Скала». Но Образцова — это лишь одно имя из множества великих певцов России и тех новых поколений, которые только начали свой путь в искусстве.
Когда Мария Гулегина, которая пела в моей «Аиде» в Токио, рассказала, что родилась в маленькой украинской деревушке, мне захотелось узнать всю ее историю и путь, который привел ее на вершину такой блестящей карьеры[117]. Она сказала, что в России поют все, но ребенком она и не подозревала о существовании оперы, пока ее дядя не привез из Петербурга (тогда Ленинграда) пластинку с ариями из опер.
Чей-то голос поразил ее воображение (Каллас? Тебальди?), и она попыталась сама воспроизвести пение незнакомой певицы. В четырнадцать лет Мария пела так, что ее отправили учиться в консерваторию. Все остальное принадлежит истории. Видимо, примерно так же все происходило и с другими талантами, рожденными Россией и поющими сейчас на всех оперных сценах мира (а иногда и диктующими свои условия).
Даже страшно становится, когда подумаешь, что наши оперные труппы могли бы остаться без певцов из Восточной Европы.
По этому поводу не могу не вспомнить эпизод, который произошел совсем в другом месте, но, мне кажется, уместен именно в этом контексте. Дело было в 1978-м, когда и года не прошло со времени выхода фильма «Иисус из Назарета», успех которого привел в бешенство всю нашу коммунистическую мафию. Однажды, когда в Венской опере шла «Кармен», во время антракта я дал телевизионное интервью. Из четырех главных партий две исполняли русские певцы: Образцова — Кармен и Мазурок — Эскамильо. Газета «Унита» опубликовала на первой полосе статью за подписью Фортебраччо[118] как ответ на письмо читателя. Вот это письмо:
«Дорогой Фортебраччо,итальянское телевидение (2-й канал) вечером 8 января передало трансляцию из Вены оперы Бизе „Кармен“. В перерыве режиссер Франко Дзеффирелли сделал заявление о состоянии оперы в наши дни, которое звучало примерно следующим образом: в Западной Европе интерес к опере не очень высок, а в социалистических странах она в большом почете, у нее много поклонников, она постоянно рождает великих солистов. „Как вы это можете объяснить?“ — спрашивает его интервьюер. „Может быть, тем, что режимы Восточной Европы не дают своим гражданам возможности свободно говорить, — отвечает Дзеффирелли, — но легко разрешают петь“».
Согласен, шуточка не из лучших, но вот как отвечает Фортебраччо:
«Дорогой товарищ Буччи,лично я, прочитав заявление господина Дзеффирелли, поражаюсь наглости и бесстыдству этого ганимеда, церковного прихвостня, режиссера шоколадных конфеток. Никто не отрицает и не будет отрицать, что подавление инакомыслия в странах Восточной Европы достойно всяческого порицания, и никто не запрещает и не должен запрещать Дзеффирелли заявлять свой протест. Но он говорит как итальянец и как итальянский антикоммунист, причем выступает в Риме, где, как я полагаю, и проживает. Так вот: именно в Риме, а не где-нибудь насчитывается целых шестнадцать жертв терроризма, а по всей Италии идет волна убийств, похищений, грабежей и нападений. Школа в состоянии распада, больницы не работают, безработных уже два миллиона, а в Неаполе десятками умирают дети, которых убивают без всяких болезней антисанитария и равнодушие…
Господин Дзеффирелли — один из корифеев этой шайки господ, на которых, хотят они этого или нет, лежит ответственность за развал страны. Господин Дзеффирелли бесстыжий нахал, дорогой товарищ, и я желаю ему, ради его же блага, навсегда потерять всякий стыд, иначе ему не пережить собственную низость».
Полагаю, читатель этих строк потерял дар речи, как я когда-то. Если кто-то недопонял — статья, озаглавленная «Ради блага этого Дзеффирелли», была опубликована на первой полосе газеты «Унита» в январе 1978 года за подписью знаменитого Фортебраччо.
В одном интервью в России меня попросили рассказать поподробнее о выставке моих театральных работ, которая проходила в Риме, в Национальной галерее в Афинах и в палаццо Веккьо во Флоренции. Все началось как раз во Флоренции в 1985 году, когда милейший отец Спинилло предложил мне выставить несколько театральных эскизов в монастыре Сан-Марко, где я провел немалую часть своей юности, в двух шагах от шедевров Фра Беато Анджелико, которые так хорошо были мне знакомы. И то, что задумывалось как небольшая выставка из пятидесяти рисунков, стало расти и в конце концов выросло до ста двадцати картин, эскизов декораций и костюмов, причем многие из них мне пришлось забирать у людей, у которых они давно уже осели.
Я сказал тогда журналисту, что мне бы очень хотелось показать эту выставку в России, добавив к ней последние произведения, которых не так мало, и некоторые из них совсем неплохи. Вскоре со мной связался Михаил Куснирович, очень милый человек, влюбленный в нашу страну настолько, что быстро выучил итальянский язык и даже своей компании дал итальянское название «Bosco di ciliegi», напоминающее одну из моих любимых пьес Чехова[119].
Куснирович сказал, что его компания традиционно представляет в мае различные события культурной жизни, и ему бы хотелось устроить ретроспективу моих фильмов и одновременно выставку моих работ на ближайшем майском фестивале. Слышать это, конечно, было очень приятно, но мне хотелось, чтобы выставка проходила в серьезном музее. Я мечтал, чтобы ее показали в Москве просто как выставку живописи, а не как творческий путь художника-постановщика. Куснирович сразу понял, что я имел в виду, но просто потряс меня, когда несколько недель спустя позвонил в Рим и спросил, согласен ли я на проведение выставки на следующий год в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Музей Пушкина! Одно из лучших собраний мира! Еще бы!
Среди многих интересных людей, которых я встретил во время той поездки в Россию, я очень полюбил писателя и журналиста Сергея Николаевича, большого поклонника оперы, умнейшего человека, блестяще знающего английский. Его незаурядный ум и широчайшая культура простирались до необозримых горизонтов. Он пригласил меня на ужин в шикарный ресторан (кстати, тоже «Пушкин»), который стал для меня местом любопытных открытий. Большой двухэтажный ресторан, великолепно сохранившийся во всех деталях в строго классическом имперском стиле конца XIX века — от деревянной отделки до обоев, посуды, столовых приборов и даже лифта из бронзы и латуни. Официанты выглядели как персонажи Тулуз-Лотрека. А кухня, la cuisine, просто чудо. Мне так понравилось там, что захотелось узнать побольше: как, например, удалось сохранить дух того счастливого и беззаботного времени. Сергей не дал мне прямого ответа, только сказал, что ресторан открыли всего несколько месяцев назад.
— Ты хочешь сказать — закончили реставрацию? Молодцы, просто шедевр.
— Нет, — сказал он, — строительство завершилось несколько лет назад. Но понадобилось время, чтобы воссоздать интерьер, до сих пор еще не все закончено.
До меня так и не доходило:
— Ты имеешь в виду реконструкцию, а не строительство?
Сергей рассмеялся, встал и снял со стены фотографию:
— Вот так было семь лет назад.
На фотографии было здание, напоминающее казарму, с тоскливым, как у почты, фасадом. Я занервничал. Он что, смеется надо мной? Сергей позвал метрдотеля, который принес альбом с фотографиями, сделанными во время работ. Я не мог поверить своим глазам.
— А резчиков по дереву, а кузнецов, а обойщиков где вы взяли?
— Работают они медленно, — объяснил мне Сергей, — но дело свое знают хорошо. Может, по наследству передавали, от отца к сыну.
И это тоже Россия.
У Сергея очень ясные и интересные взгляды на историю и политику. Когда я был свободен от репетиций, мы с удовольствием гуляли по Москве, и он знакомил меня с ее тайнами. Мне нравилось дышать воздухом «матушки Руси», а по мнению Сергея, Россия должна была вновь стать Русью-матушкой.
Мы говорили с ним обо всем. Я прошел с ним ускоренный курс русской культуры, перепрыгивая с одной темы на другую.
Однажды он неожиданно заговорил об Алексисе де Токвиле и спросил, читал ли я его. Не без гордости я ответил, что хорошо помню его книгу 1830 года «Демократия в Америке». И мы вместе стали вспоминать теорию де Токвиля, согласно которой после трагического краха Французской революции, разочарований, ошибок Наполеона, нежно лелеемая мечта о великой Европе рухнула. Де Токвиль считал, что будущее Европы будет зависеть от отношения двух великих политических образований: Америки и Англии на западе и России на востоке.
Сергей повторял наизусть теорию де Токвиля:
«Сегодня в мире существуют две великие державы, которые имеют одно назначение и одну ответственность за движение цивилизации вперед. Это русские и англо-американцы. Весь мир мается на одном месте, а эти две нации несутся вперед, как молнии. Любопытно наблюдать, как они движутся с очень разных исходных точек: одна от культа свободы, другая от идеи послушания Государю. Но обе избраны волею Небес, чтобы править доброй половиной Земли, от Сан-Франциско, через всю Европу и Россию, до Владивостока».
Больше всего поражает в пророческом видении де Токвиля то, что он за несколько десятилетий объявил о грядущем открытии новых источников энергии, которым суждено смешать все планы, и неважно, что источники оказались на самом деле не теми, которые он имел в виду.
«Вы в самом деле хотите вечно зависеть от шантажа арабов, которые в глубине души презирают вас и ненавидят, будучи непримиримыми врагами вашей культуры? Может, вы сумеете понять в будущем, насколько нуждаетесь в России, как Россия уже поняла, что нуждается в вас? Будущее этих двух культур не в бесконечном противостоянии, а в привычной гармонии, как у сестер — дочерей одного отца, христианства».
Сегодня Россия — планета, близость которой мы должны ощутить, у нас слишком много общих ценностей. Россия найдет свой путь к свободе, но на это не хватит жизни одного поколения. Ее свобода может очень отличаться от привычной нам, но это не обязательно дурно для них или даже для нас. Она может помочь нам пробудить идеалы, встряхнуться ото сна, в который мы погружены.
Конечно, столкновение с этой страной приводит нас к тревожным размышлениям. Русский народ стремится обрести ту свободу, которой был лишен три четверти века, тогда как мы наслаждались ею шестьдесят лет и теперь пользуемся каждым удобным случаем, чтобы поставить ее под удар. Трагическая ирония заключается в том, что те, кто задушил свободу России, пытаются сегодня отобрать ее у нас (я имею в виду все тех же злодеев).
Флоренция, которая считается самым цивилизованным городом мира, как раз в тот период стала ареной этого безумства, а от ее политического и культурного кредо остался лишь скелет. На город грозили обрушиться два несчастья. Одно — угроза всемирного слета антиглобалистов, которые после безобразий, продемонстрированных всему миру в Генуе, собирались развернуться в полную силу в неприкосновенной Флоренции. А второе — дискуссия вокруг проекта нового входа галереи Уффици. Был проведен международный конкурс, и его победителем стал японец Арата Исозаки. Первоклассный архитектор, если речь идет о «новой архитектуре», но все поняли, что хуже не придумать, когда он показал свой проект — гигантский «табурет» на четырех ногах, бетонный, высотой 36 метров, честное слово!
Большинство флорентийцев восприняло это как издевательство, оскорбление городу и бросилось всячески протестовать. Я, разумеется, сразу влез в первые ряды народного протеста. И кто, вы думаете, оказался рядом со мной? Ориана Фаллачи, только что вернувшаяся из Нью-Йорка.
Где мы с ней остановились? Разве кто-нибудь упомнит? Столько воды утекло, столько всего произошло и у нее, и у меня. Но важно, что в тот момент мы оказались рядом, чтобы помочь родному городу. И надо сказать, подняли такой шум в правительстве и в народе, призывая всех к протесту, что в это дело вмешался министр Урбани (знаю, что сделал он это очень охотно). Естественно, у нас возникла масса конфликтов с мэрией, которая вела себя с нами как с глубокими провинциалами, ретроградами и врагами всего нового, но в результате ей пришлось пересмотреть весь проект. В конце концов «табуретка» полетела вверх тормашками, и этим все закончилось.
Худшее было впереди — угроза антиглобалистов захватить Флоренцию. Ориана приняла очень близко к сердцу опасность, нависшую над городом, и, как умела только она, очертя голову бросилась в бой. Мы с ней действовали как сиамские близнецы и сумели разбудить город, который со времени наводнения никак не проявлял свою жизнеспособность. Мы подняли такой крик, что городские власти, торговцы, люди всех социальных и культурных слоев по-настоящему встревожились.
Ориана становилась все популярнее, она со всеми умела говорить на каком-то особом, подкупающем языке — в этом она была настоящим виртуозом. И при этом ничего не боясь, несмотря на угрозы, которые очень тревожили всех, кому Ориана была дорога. Эти угрозы достигли апогея после крестового похода, который она устроила против мусульман, написав под впечатлением трагедии 11 сентября бестселлер «Ярость и гордость».
За ней следовала целая дюжина охранников (они были всегда и везде, но их никто никогда не видел). Я охотно разъезжал с ней по городу, мы то и дело встречали друзей, которые, не скрывая, были на нашей стороне.
Во Флоренции трубили всеобщую тревогу, в магазинах ставили бронированные двери, куда-то исчезли автомобили, повсюду были военные.
Префект Серра, человек решительный и с очень ясной головой, заявил в мэрии, что не может гарантировать порядок в городе, располагая всего шестью тысячами человек.
— Если эта банда разгуляется, как в Генуе, я не могу взять на себя ответственность за безопасность города, я буду отвечать только за своих людей. Надеюсь, вам ясно?
Я был там, среди этой кутерьмы. Серра увидел меня и подошел. Мне совершенно не хотелось надоедать ему советами и паниковать. Пока я ждал, меня осенило, что мы в «священном» месте — во дворце Медичи, месте, полном сокровищ, ревностно собранных и хранимых многими поколениями. Я сказал милейшему Серра, что не собираюсь подливать масла в огонь.
— Все равно, — добавил я, — всем и так известно, что делать: просто перекинуть эту проблему на коммунистов. Если захотят, устроят все за пять минут.
— Хорошо бы так, — засмеялся Серра.
Я предложил ему на несколько минут забыть обо всем и пойти посмотреть «Шествие волхвов» Беноццо Гоццоли в залах как раз возле его кабинета. Он улыбнулся, извинился и вернулся в свое осиное гнездо, а я пошел еще взглянуть на эту дивную фреску, да так и остался стоять перед ней как вкопанный, забыв обо всем на свете. Флоренция такая и будет такой всегда, независимо от того, кто придет в ней к власти.
Выступление антиглобалистов прошло тихо. Число демонстрантов неимоверно увеличилось, потому что коммунисты всей Тосканы присоединились к генуэзцам, и не для того, чтобы выразить протест, а для поддержания общественного порядка, который не могли гарантировать власти. И если вдруг оказывалось, что какому-нибудь тупоумному антиглобалисту не все понятно, то, получив пару подзатыльников и пинок под зад, он быстро успокаивался.
Эти тосканские коммунисты — просто сказка. С двумя или тремя из них мы пошли ужинать на другой берег Арно. Ориана попросила рассказать ей все в подробностях и страшно веселилась. А на другой день потащила меня за собой в городок Барберино-ин-Муджелло лично благодарить мэра-коммуниста за спасение Флоренции!
Вернувшись в гостиницу, она обняла меня и сказала:
— Я же говорила, что все будет отлично!
С тех пор я больше ее не видел. Иногда, все реже и реже, мы обменивались телефонными звонками. В конце концов она переехала к семье в Греве, где за ней преданно ухаживали ее сестра Паола и другие родственники, люди, скроенные на старинный лад.
Ориана была больна и знала, что ее болезнь неизлечима. Съездила последний раз в Нью-Йорк показаться врачам — спокойно, без иллюзий и надежд, и вернулась в Италию, где легла в клинику во Флоренции «в ожидании событий».
Очень жаль, что наш мэр Леонардо Доменичи в это время находился очень далеко от Флоренции — в Токио, вместе с гастрольным турне ежегодного фестиваля «Музыкальный май». Город очень нуждался в его уме и власти, которые сдержали бы порывы недалеких чиновников, которых много разгуливает по коридорам мэрии.
Даже по такому поводу крайние левые депутаты не захотели смолчать и выразили свою неприязнь к Ориане и всему тому, что олицетворяла эта необыкновенная женщина. Ей отказали во вручении «Золотого флорина», которым награждаются самые знаменитые граждане Флоренции. Но и это еще не все: в ответ на просьбу назвать ее именем какое-то место, улицу, площадь ее родного города, куда она приехала умирать, эти деятели заявили, что просто «оскорблены таким неслыханным предложением».
А в Риме ходатайство совета городских депутатов о том, чтобы назвать улицу в память об Ориане, сразу же нашло отклик у мэра (цитирую по газете «Коррьере делла Сера»):
«Мэр города Вальтер Вельтрони заявил о своем полном согласии с предложением присвоить улице в Риме имя Орианы Фаллачи. Она была величайшей журналисткой и настоящим борцом за свободу. Неважно, насколько мы готовы разделять ее позиции. Было бы странно, добавил он в заключение, если бы в нашем городе имена улицам давались в зависимости от того, кто в данный момент находится у власти».
Могу лишь еще раз высказать сожаление, что в этот момент не оказалось на месте моего доброго друга Леонардо, человека тонкого и хорошо понимающего, как нужно действовать. Не случись этого, Флоренции удалось бы избежать такого позора.
Твой уход, дорогая Ориана, принес не только боль и потрясение. Как и многие миллионы европейцев, у кого есть голова на плечах, я тревожусь из-за смертельной опасности, которая угрожает нам всем и которую ты первая увидела так ясно после 11 сентября. Ты заявила о ней с присущим тебе мужеством, но цивилизованный мир не нашел в себе сил последовать за тобой.
Прошло пять лет, и теперь всем и каждому очевидно, как велика угроза всему Западу, который не только не препятствует — напротив, благодаря враждебности крайних левых политиков к умеренным мусульманам привечает, приглашает радикалов и поэтому готовится пережить уничтожение собственных ценностей, а может быть, и свое собственное уничтожение.
Мы не забудем тебя, Ориана, ведь ты раньше других поняла, что нас ожидает, и стала кричать об этом во весь голос миру глухих, слепых и трусов.
Раз уж зашел разговор об этой страшной теме, мне хотелось бы, чтобы и здесь просияла надежда.
Битва цивилизаций между Западом и мусульманами? В битве две стороны, два противника, и у каждого своя культура. А какая культура стоит за исламскими фундаменталистами? Чему они могут нас научить? Чему научились они сами? Было бы просто смешно, если бы в руках у этих варваров не оказалось смертоносного оружия, которым они пугают и шантажируют нас.
Я твердо знаю, чем это кончится. Нам придется вынести тягчайшие испытания (которые нам будут полезны), но если мусульмане останутся рабами своих духовных лидеров, у них нет ни малейшей надежды создать собственную свободную культуру, чтобы противопоставить ее нашей.
Так было и с нами в темные века, когда церковь управляла жизнью каждого человека, от нищего до императора. Но в конце концов ей пришлось вернуть свободному человеку ключи разума. Правда, на это, как мы знаем, ушли века ужасов и крови.
Пусть мусульмане хорошенько задумаются — даже самые умеренные — и не тешат себя иллюзией. Сама по себе сила в конечном итоге недорого стоит. В борьбе и войне побеждают только те, кто обладает знаниями и умением.
Я хочу поделиться с читателем этой мыслью, чтобы хоть чуть-чуть унять его тревогу о том, что происходит сейчас в свободном мире и в душе каждого человека.
XXVII. Сэр Франко
В январе 2004 года, возвращаясь из Москвы после краткого визита, связанного с организацией выставки, я заехал в Позитано, где уже давно не был. Несколько простых, но малоприятных хозяйственных вопросов требовали моего личного вмешательства.
После бесконечных поездок мне хотелось вновь увидеть «Три Виллы», хотя зима не лучшее для них время года. Я очень соскучился по этому месту и хотел понять, не стало ли для меня «потерянным раем» это чудесное убежище на скале, мой рождественский вертеп с бесконечными лестницами повсюду, если учесть мои неприятности с ногами.
Но окончательный приговор так и не был объявлен. А я подумал о своих пожилых друзьях, которые в прежние годы гостили на «Трех Виллах». Неужели никто из не очень молодых американских борцов за здоровый образ жизни не согласится совершать ежедневный моцион от моря к стоящим высоко на горе «Трем Виллам»? Однажды моей гостьей была Клодетт Кольбер, знаменитая дива тридцатых годов, которую уже мало кто помнит. Она как-то приехала с семьей Грегори Пека, потому что хотела познакомиться со мной и увидеть волшебный Позитано, о котором столько слышала от друзей. В то лето ей должно было исполниться восемьдесят, и она отпраздновала день рождения с нами. А в конце своего десятидневного визита выразила мне благодарность за то, что ей приходилось каждый день подниматься по множеству лестниц. «Я чувствую полное обновление, — говорила она. — Теперь мне надо навсегда забыть о лифте».
Восемьдесят лет Клодетт стали для меня утешительным воспоминанием, но в глубине души я затосковал. Помимо проблемы с лестницами, которая перестала быть проблемой, я вдруг осознал, что у меня на лето составлено плотное рабочее расписание — спектакли на Арене ди Верона, проект в «Ла Скала», сдача в издательство книги… Тот январский день дал мне немало поводов задуматься над многими вещами, например, представить себе Позитано не только как уголок, созданный для райского блаженства.
Конечно, мы должны как можно полнее наслаждаться чудесами, которые дарит жизнь, но мудрость призывает нас быть готовыми в любой момент с ними расстаться, не считая это несправедливостью.
Насчет судьбы Позитано у меня были кое-какие идеи, но ничего вполне определенного. Некоторые потенциальные покупатели уже забрасывали мне удочки, но я под разными предлогами уклонялся от ответа, как красивая и богатая дама, которая даже не собирается замуж. Может, теперь подошло время подумать всерьез о хорошем и выгодном браке и не оставлять моим ребятам камень на шее, с которым им тяжело будет справиться самим?
Поместье «Три Виллы», удивительное и единственное в своем роде, законно считается настоящей жемчужиной Амальфитанского побережья. И при всем том важно помнить, что это вовсе не «святилище божественной любви». Любви — да, но совсем не божественной. Это идеальное место для прекрасного отдыха, где должны бурлить жизнь и здоровье, где должно быть много молодежи, где всегда найдется хорошо защищенный густой и пышной зеленью уголок для тех, кто хочет поработать или подумать.
Сколько спектаклей родилось в моем кабинете на «Трех Виллах», в то время как из дальних залов доносились звуки фортепьяно, за которым творил Леонард Бернстайн! Эти звуки — я слышу их, когда приезжаю в это благословенное место.
И еще это счастливое место, оно всегда было в хороших руках, с тех пор как сумасшедший русский, Семенов, открыл его и придумал таким, каким оно стало. Надеюсь, его звезда будет сиять и дальше.
Когда я вернулся в Рим, ко мне неожиданно приехал Клаудио Ораци, директор Арены, с просьбой подготовить на открытие сезона в театре «Мадам Баттерфляй». Режиссер, которому это было поручено, заболел, и всего за четыре месяца до начала сезона они остались вообще без нремьерного спектакля! «Баттерфляй» — опера, которую мне предлагали ставить даже чаще, чем все остальные, но я, сам не знаю почему, всегда отказывался. Моя дружба с Сибил Харрингтон прервалась именно из-за «Баттерфляй». Для нее это была самая прекрасная из всех написанных когда-либо опер, и она мечтала увидеть ее в «Метрополитен». Мне всегда удавалось уклониться, сначала с «Богемой», затем с «Тоской», потом с «Турандот» и, наконец, с «Дон Жуаном». Но в 1993 году Сибил снова стала настаивать, и мне пришлось откровенно признаться, что эту оперу я никогда не буду ставить.
Откуда такое упорство? Прежде всего, это не типичная для постановки опера. Режиссеру остается разве что украсить цветком единственный в своем роде алтарь, воздвигнутый в честь солистки, ибо ее партия превосходит все, что когда-либо существовало в опере. И потом, всякий раз, когда я думал о ней, то вспоминал о Марии и ее полном неприятии роли Баттерфляй. Ей предложили эту роль в Далласе, после триумфа «Травиаты».
— Лучше умереть! — вот таким был ее окончательный приговор. Она сделала студийную запись с Караяном, великолепную, но даже слышать не хотела о том, чтобы петь на сцене.
Она считала, что в «Баттерфляй» очень много (не везде) прекрасной музыки, но сам персонаж просто смешон. Думаю, что могу привести на память ее слова в Далласе:
— Эта Чио-Чио-сан — не очень молодая и полноватая дамочка из итальянской провинции, которая прогуливается по столичной набережной в кимоно, привезенном приятелем из Японии. Помахивая раскрашенным бумажным зонтиком, тоже из Японии, она представляет себя пятнадцатилетней японочкой, именно пятнадцатилетней! Да еще хочет казаться моложе, этакой хрупкой маленькой девочкой, а бравый Шарплесс, пытаясь отгадать ее возраст, говорит, что ей десять! Вы шутите?
И Мария смеялась.
И вот теперь, после того как я всю жизнь бегал от постановки «Баттерфляй», ко мне является мой друг Ораци и на коленях умоляет спасти открытие сезона в Арене. Так что я в «нежном» возрасте был вынужден впервые ставить оперу, которая никогда мне не нравилась.
Мне, наверно, понадобится трепанация черепа, чтобы очистить голову от массы старых суждений и предрассудков. Еще одна проблема: пространство Арены так велико, что просто невозможно сосредоточить внимание зрителей на несчастной певице, которая целых три часа находится в центре сценического действия. При этом музыка хороша, но повторов слишком много, а сюжет душераздирающий.
Джулио Рикорди[120] тоже так считал, недаром, прочитав первый раз партитуру, не удержался от возгласа: «Ну и тощища!»
Мне продолжали настойчиво звонить из Вероны. Звонил даже маэстро Даниэль Орен, с которым я успешно работал в трех предыдущих спектаклях. Да, было от чего сойти с ума. К тому же очень серьезной проблемой, даже если бы я согласился, были сроки. Нельзя же засучить рукава и с криком «давай-давай» броситься в работу, если у меня даже отдаленной идеи о том, как ставить, не было. В конце концов я попросил у Ораци две недели, для того чтобы покопаться в самом себе и вытащить что-нибудь подходящее.
И тут выяснилось, что двое моих ближайших сотрудников свободны и готовы мне помочь. Настоящее чудо!
Пора уже посвятить моим друзьям и спутникам в стольких рискованных предприятиях строки, которые они, несомненно, заслужили: это Марко Гандини — постановщик и Карло Чентолавинья — художник-оформитель. Я много раз говорил о том, каков, исходя из моего опыта, путь человека, избравшего нашу профессию, как он интересен и привлекателен, но и как тернист.
Мне повезло, на моем пути было много прекрасных специалистов в любой области, с которыми я мог бы сотрудничать, если бы захотел, но выбрал я только двоих — Марко и Карло. Им было понятно то, что когда-то сразу понял я, наблюдая Висконти в творческом процессе: задача помощника — встать рядом с режиссером (или художником-постановщиком), увидеть, как он работает, уяснить, чего ищет, чего добивается, и помочь ему в этом. Это совсем непросто, это нелегкое дело. Зато после многих лет совместной работы, трудной, но прекрасной, они стали высочайшими профессионалами: Марко — режиссером, Карло — художником-постановщиком. Например, практически все четыре мои спектакля, продолжающие идти в Арене ди Верона, — в их руках и благодаря этому полностью соответствуют оригинальной постановке.
Для «Мадам Баттерфляй» их участие оказалось даже более ценным, чем обычно, главным образом, из-за очень ограниченного времени, которое оставалось нам на постановку. Если бы не они, боюсь, у нас возникли бы серьезные трудности с выпуском спектакля. А самая большая заключалась в том, что к февралю у меня в голове не было ни единого намека на решение.
Как обычно, я принялся искать «главную идею». К счастью, за долгие годы у меня набралось огромное количество материала по самым разным периодам истории и по костюмам, ценнейшее собрание, откуда я мог начать поиск.
Помню первые годы учебы и бесконечные часы, проведенные в библиотеках, вроде библиотеки Маручеллиана во Флоренции, и потраченные на сбор материалов для моих маленьких спектаклей в Сиене. Уже не говоря о том, что было позже: гигантские подборки для Висконти и для моих собственных оперных постановок.
В те годы фотокопировальных аппаратов не было, как и других полезнейших технических средств, которые сегодня к услугам каждого. Тогда, если удавалось найти в библиотеке что-то интересное, можно было фотографировать (на это требовалось много времени и денег) или копировать от руки, то есть перерисовывать необходимое. Если задуматься, то, что казалось утомительным делом, было истинным благословением: приходилось рисовать без остановки, не выпуская карандаша из руки, и, наверно, поэтому все в нашей компании легко и хорошо рисовали.
Этим же можно объяснить мою тягу к книгам, к которым я прикасался в библиотеках и маньяком которых стал с годами. Я всегда сидел в долгах не потому, что тратил деньги на красивые свитеры или рубашки, а потому, что был влюблен в книги, и покупал их, даже если приходилось оставаться иной раз без обеда.
Вот, например, эпизод 1964 года в Лондоне. Получив в «Ковент-Гардене» чек на оставшуюся часть гонорара за «Тоску», первое, что я сделал, — побежал расплатиться в свой любимый книжный магазин художественных изданий «Цвеммер» на Шафтсбери-авеню. Мне удалось ухватить там потрясающую семитомную серию иллюстраций к театральным спектаклям и королевским праздникам эпохи барокко, выпущенную знаменитым мюнхенским издательством «Пипер унд Ферлаг». Я до сих пор с удовольствием рассматриваю эти великолепные книги, которые часто служат для меня не только источником информации, но и генератором идей.
Всякий раз, когда мне удавалось что-то заработать, я старался расширить свою библиотеку. Так образовался целый архив специализированных изданий. Подобного, думаю, нет ни у кого, да я и сам о таком лет пятьдесят назад мог только мечтать.
Сегодня в моей библиотеке собран действительно очень ценный материал. Но для меня это нечто большее. Здесь год за годом, работа за работой накапливались все мои спектакли и фильмы. Могу с гордостью заявить (и многие, я думаю, это подтвердят), что в мире это единственное столь значительное частное собрание театрального искусства.
Я знаю, что им интересуются различные ассоциации и университеты (в основном, к сожалению, не итальянские), в первую очередь Нью-Йоркский университет. Но и здесь, как в случае с Позитано, я веду себя как старая дева, которая не желает замуж. Мне больно думать, что однажды придется с этим архивом расстаться, еще и потому, что я пользуюсь им постоянно. Как в случае с «Баттерфляй», к примеру: даже представить себе невозможно, что постановка состоялась бы, не будь у меня под рукой, в моем собственном архиве, обширной подборки по Японии, которой, наверно, нет даже в Национальном музее Токио!
А уж если говорить о том, что у меня на душе, то мне больно при одной мысли, что собиравшиеся мною всю жизнь ценнейшие материалы могут покинуть пределы моей родной страны и итальянцы не смогут ими пользоваться (при всем моем уважении к таланту вообще, итальянского он происхождения или нет). Ведь веками во всем мире считалось, что Италия — страна, где наиболее развито театральное искусство, достаточно вспомнить сказочные фантазии Леонардо.
Не скрою, что мой прах легче обретет вечный покой, если этому собранию, к которому впоследствии можно было бы присоединить и другие, найдется место во Флоренции, Милане или Риме. Пусть подумают над этим различные министры культуры, которые часто на своем месте просто спят.
Но вернемся к «Мадам Баттерфляй». Как я уже сказал, материалов по Японии у меня было предостаточно. Оставалось дождаться появления какой-нибудь стоящей мысли. И она наконец пришла.
Главной находкой стала живописная гора в Нагасаки, которая неожиданно и эффектно открывалась (Арена едва не обрушилась от аплодисментов), и появлялся маленький чудный домик Баттерфляй, гнездышко, в котором расцвела ее любовь, где она томилась в ожидании, отчаялась и умерла.
Спустя две недели, 20 февраля, я позвонил Ораци и обрадовал его, что «Habemus Papam»[121], а к началу марта уже был готов макет. Но была еще одна серьезная проблема — найти художника по костюмам, который смог бы быстро нарисовать и изготовить триста костюмов.
Я связался с известной японской художницей по костюмам Эми Вада, с которой был знаком много лет и которая работала с Куросавой и Копполой. Она с сожалением ответила, что очень занята, но на другой день перезвонила и сказала:
— Разве я могу упустить возможность с тобой поработать? Я же всегда об этом мечтала.
В начале апреля были готовы эскизы костюмов, но тут мы обнаружили, что в Италии нет пошивочной мастерской, которая возьмется изготовить их за такой короткий срок.
Но… наступило «время чудес». Нам пришла на помощь «Шошику Компани», самая известная и престижная театральная пошивочная мастерская в Японии. Все костюмы были изготовлены к нужному времени и на высоком профессиональном уровне. Более того (но это я узнал позже), их стоимость оказалась удивительно низкой. Как сказали в «Шошику Компани», это был своего рода дар из уважения их страны к моей работе и Арене ди Верона, хорошо известной всему миру. Действительно настоящий подарок, особенно если подумать, во сколько мог обойтись в Италии такой заказ. Дорогие ткани, настоящие ручные вышивки, не говоря уж об удивительно правдоподобном облике, который приобрели в этих костюмах наши хористы и массовка. Просто дух захватывало, особенно от двух десятков костюмов гейш, подруг Чио-Чио-сан.
Мои ноздри снова учуяли ни с чем не сравнимый аромат удачи и положительной энергии, разлитой вокруг этой постановки. То же самое я мог прочитать и в глазах моего друга Ораци, которому просто не верилось в такое счастье.
Я работал над «Баттерфляй» и одновременно готовил выставку в Москве, которую Пушкинский музей решил устроить на высоком уровне благодаря щедрой спонсорской помощи и прекрасной организации Михаила Куснировича. Директор музея Ирина Антонова очень хотела представить меня российской публике скорее как художника, чем как театрального постановщика. Она была убеждена, что моя работа вполне этого заслуживает. Так что на мои картины смотрели, как будто это произведения живописи, и соответственно судили о них. И хотя цель моей работы — театральная постановка, посетитель выставки получал возможность проследить за двусторонним развитием идеи, которая, изначально рождаясь как театральная, становилась живописью, а затем возвращалась в театр в окончательном воплощении.
Выставку посещало более полутора тысяч человек в день (для музея рекорд), ее пришлось продлить на две недели. Музей с радостью подержал бы ее подольше, но ей на смену шла выставка Матисса! Фестиваль моих фильмов, многие из которых никогда не шли в России, тоже имел большой успех, и некоторые картины пришлось показывать по много раз.
Прежде чем официально приступить к постановке «Баттерфляй», я решил обратиться за советом к Клейберу. Я позвонил ему, и он очень четко изложил мне свою позицию.
— Как дирижер я вполне благодарен Пуччини за этот шедевр: музыка действительно божественная, — сказал он, — но будь я режиссером, то бежал бы от этой оперы со всех ног.
— А почему? — спросил я, заинтригованный.
— Раз ты к ней до сих пор не притрагивался, неужели сам не понимаешь, почему? — Тут я снова стал перебирать в голове все соображения, по которым я отказывался ее ставить. — Не сомневаюсь, что твоя интуиция подсказала бы тебе вырезать из нее не меньше половины, но сделать этого ты не можешь, а в результате у тебя останется неприятный привкус, — продолжал Клейбер. Он отлично понимал, какую проблему «Баттерфляй» ставит перед режиссером. — Но если тебе удастся сделать ее живой, не вырезав ни кусочка, ты — гений. — Он минуту помолчал и добавил: — Но ты же гений, так что давай делай, все получится.
И получилось. Это стало в моем творчестве настоящим чудом. Мне казалось, что я выиграл невозможную битву с самим собой.
Прошу простить мне привычное нахальство, но я совершенно искренне считаю, что побил абсолютный рекорд, создав такой спектакль меньше чем за четыре месяца. У меня опять возникло ощущение, что меня кто-то или что-то защищает — положительные силы ли, добрые волны? Все указывало на то, что «Баттерфляй» будет иметь успех. Солисты труппы, и в первую очередь Чедолин, сумели не только выдержать такую постановку, но и слиться с ней, как должно было случиться, чтобы она стала волшебным обрамлением их таланта.
А с Даниэлем Ореном мы отпраздновали наш четвертый союз на Арене. Помня, что сказал мне Клейбер, я особенно внимательно следил за его работой над этой «проклятой» партитурой (это я говорю с иронией, потому что кажется, что «Баттерфляй» — самая любимая и часто исполняемая опера во все времена). Даниэль указал на многие мои ошибки в оценке оперы, но кое в чем я продолжаю стоять на своем. «Баттерфляй» по-прежнему остается для меня несовершенным шедевром, если можно так выразиться.
В Арене ди Верона есть нечто, какая-то мощь, которую нельзя почувствовать, если не прожить. Артисты, технический персонал, солисты, хор, оркестр, массовка, танцоры живут вместе по три месяца и создают пять-шесть великих или величайших спектаклей. Возникают дружеские отношения, романы, кто-то кого-то ненавидит или любит — там есть все. А в конце сезона, когда наступает минута прощания, рыдают все.
Синоптики предсказывали дождь и грозу на вечер премьеры, но я чувствовал положительные волны вокруг нас и повторял:
— Не волнуйтесь, дождя не будет!
Я был абсолютно убежден, что ничто не испортит нам вечера. Спектакль закончился в одиннадцать пятнадцать. В одиннадцать тридцать публика стоя продолжала аплодировать, и тут разразилась гроза, которая очень быстро превратилась в настоящий ураган. Зрителей сначала потряс спектакль, а затем на них обрушился дождь. Но все унесли с собой прекрасную память о чудесном вечере.
Во время репетиций я часто позванивал Клейберу — рассказывал, как идут дела с «Баттерфляй», приглашал приехать, но точно знал, что он не приедет. Он всегда находил повод для отказа: слишком жарко, слишком далеко, неприятности в семье — любой предлог был хорош, лишь бы не ехать. В последний раз я говорил с ним 23 июня, пытаясь уговорить его дирижировать «Дон Жуаном», которого мне предложили ставить в Риме на следующий год.
— Да ну что ты! Это такая скучная опера! Неужели еще никто этого не заметил?
— Карлос, ты шутишь? — ответил я смеясь.
— Там два удачных места — начало и конец, — признал он.
Было совершенно очевидно, что он больше не хочет обсуждать этот вопрос. Я заметил, что его голос звучит глуше, чем обычно, хотя он по-прежнему говорил обо всем с обычной твердостью. Ходили слухи, что у него рак. Я что-то слышал об этом, но ничего конкретного. Он умер две недели спустя, в тишине, никто ничего не знал, как он и хотел. Его похоронили в Словении, а нам сообщили о его кончине только после похорон. Величайшая потеря.
Хотя Клейбер в последнее время дирижировал мало и очень немногими операми, он известен во всем мире (не в упрек остальным) как величайший дирижер послевоенного времени. Когда он дирижировал, вокруг него распространялась радость и жизненная сила, непреодолимая, бурная, становившаяся особенно заразительной, если к этому добавлялись положительная атмосфера и удачный коллектив. Воспоминания о наших встречах — одни из самых дорогих, и я буду хранить их всегда.
Все больше места в моей жизни занимали русские. У меня появилось много друзей, мы строили совместные планы и проекты. Неутомимое стремление укрепить дружбу с Россией — одна из причин, по которой я так уважаю и восхищаюсь Сильвио Берлускони. Я заметил это по все возрастающему интересу и дружескому отношению, которые окружали нас, итальянцев. По статистике, итальянцы самые любимые в России иностранцы. И именно Сильвио Берлускони, как человек, умеющий смотреть вперед, распахнул двери для создания прочной дружбы между нашими странами.
Один из плодов этой дружбы коснулся и меня лично. В ноябре 2004 года Берлускони и российский президент Путин совместно учредили премию за особые заслуги для русского и итальянца, которые много сделали для взаимопроникновения культур обеих стран, — Премию двух президентов. Каждый должен был рекомендовать кого-то из деятелей культуры другой стороны. Берлускони назвал Ирину Антонову, мою приятельницу, директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина, как просвещенного и неутомимого борца за взаимопроникновение культур Италии и России. А Путин — вполне сознательно — выбрал меня, о чем говорю без ложной скромности.
Премии были вручены во время потрясающего приема в Кремле. Кремль — это не дворец и не ансамбль дворцов, министерств, казарм, театров и т. д., это отдельная планета, невероятная и даже немного устрашающая. Километровые коридоры, анфилады залов до самого горизонта. Кремль отлично отреставрирован, каждая деталь доведена до идеала. Одни материалы чего стоят: ценнейшие породы мрамора, алебастры, малахит, базальт, яшма, и везде золото, золото, золото… Когда совершенно одуревший выходишь, побывав в этом мире, хочется закричать во все горло: «Хватит, не могу больше!»
Не надо забывать, что я родился и вырос во флорентийской сдержанности, где даже немногое уже кажется перебором. Неудивительно, что я смотрел на богатства Кремля не просто с изумлением, а почти с ужасом. Но это не настоящий ужас. Ведь Россия — это еще и необузданный Восток: мир сказок и чудесных легенд. Как она при этом может быть так близка нам во многом другом — вот загадка. Кто знает, возможно, Восток и Запад нашли способ встретиться и объединиться благодаря ошибкам и чудесам этой необъятной страны.
Даю совет всем тем, кто хотел бы больше узнать о «планете Россия» и попытаться ее понять: обязательно сходите в Третьяковскую галерею — вы получите там ответы на все вопросы, честное слово, на все.
Я говорил, что ощущал вокруг себя что-то торжественное и праздничное, но даже представить себе не мог, что меня ожидало. Едва я вернулся в Рим, как получил от посла Великобритании в Италии короткое, но очень любезное письмо, в котором он с типично английской сдержанностью, порой выводящей из себя, спрашивал, не соглашусь ли я принять награду, которой хочет удостоить меня королева Елизавета — посвятить в рыцари Британской империи. Иными словами, удостоить меня титула сэра! Не соглашусь ли я?! Разве, получив такое сообщение, кто-то может ответить «нет, спасибо»?!
Так что 24 ноября посол Айвор Робертс, устроив очень красивую церемонию с коктейлем, вручил мне ценную награду и грамоту, собственноручно подписанную королевой, в присутствии сотни счастливых и потрясенных не меньше меня друзей. Многие прибыли прямо из Англии. В последнюю минуту приехал Сильвио Берлускони вместе с вездесущим Джанни Летта. Сильвио не произнес никакой речи (как можно было ожидать от главы правительства), потому что не хотел привлекать внимание к своей персоне. Они приехал, чтобы лично выразить радость и гордость за честь, оказанную итальянцу, да еще старому другу. Позже я узнал, что этого почетного титула нет больше ни у одного итальянца.
Я сразу вспомнил (не мог не вспомнить) историю моей долгой дружбы с английским народом. Как были бы потрясены мои старые «леди-скорпионы», если бы могли предвидеть, что их знакомый итальянский сопляк через пол века станет сэром!
В последнее время у меня создалось впечатление, что в «Метрополитен-опера» возникли большие сложности с постановками, политика которых успешно сложилась в восьмидесятые годы. Стоимость сменной работы выросла до астрономических чисел, притом, что в «Метрополитен» по-прежнему придерживались принципа, что спектакль должен идти каждый вечер, кроме понедельника, но зато в субботу два спектакля, то есть в неделю семь. Вообще-то это правило, которому, на мой взгляд, должны следовать все театры. Многие так и делают, Венская опера, например. Но она находится полностью на балансе государства, которое несет все бремя расходов. А «Метрополитен» — частный театр, он живет за счет спонсоров и сборов. Именно эту его особенность мне хотелось перенести в итальянскую действительность и избежать правительственного финансирования в любой форме (со всеми вытекающими политическими играми и шантажом), которое лежит в основе всех несчастий, связанных с администрированием театрами. Не буду говорить сейчас об идеях и предложениях по выходу из национального кризиса оперных театров; возможно, я вообще не буду поднимать этой темы, потому что просто разворошу осиное гнездо, что проделывал неоднократно за мою полную сражений и скандалов жизнь, приобретая в результате неприятности и врагов.
В «Метрополитен» меня стали спрашивать, что делать, чтобы облегчить и упростить некоторые мои крупные постановки. Я кое-что предложил им, но потом обнаружил, что они как ни в чем не бывало продолжают тратить целые состояния на новые постановки, одну уродливей другой, не менее, а часто более дорогостоящие, чем мои, которые при этом зрителю не нравятся, и зал остается пустым.
Поэтому «Богему», «Тоску» и «Травиату» можно до сих пор увидеть в том виде, в каком я создал их и в каком их любит и признает публика. Серьезная проблема возникла с «Дон Жуаном», который действительно может быть показан в облегченном варианте. Моя версия, выпущенная в 1990 году, была «постановкой из постановок», достойной этой «оперы из опер». Могу утверждать, что она останется в памяти всех, кто ее видел, как «Дон Жуан» из «Дон Жуанов», с отличными исполнителями каждой партии и под блестящим управлением Джеймса Левина. С самой премьеры в течение многих лет спектакль всегда имел небывалый успех.
Но встал вопрос об управлении гигантской постановочной частью, особенно при условии ежедневной смены спектаклей в театре: в четверг «Аида», в пятницу «Баттерфляй», в субботу днем «Кармен», а вечером «Дон Жуан». Я прекрасно понимал, что это действительно трудно, и мне пришла в голову мысль, которая поначалу представлялась невероятной, но в конце концов оказалась практичной и разумной.
По случаю двухсотпятидесятилетнего юбилея со дня рождения Моцарта римский Оперный театр просил меня поставить в январе 2006 года «Дон Жуана». Я предложил театру купить мой спектакль в «Метрополитен», который с удовольствием его продал (за очень разумную цену). Это оказалось удачной сделкой для всех, и в первую очередь для римской публики (что больше всего меня волновало) — она таким образом смогла познакомиться с работой, которой я так горжусь.
Только подумайте: мой любимый спектакль возвращался к жизни на римской сцене после долгих лет, преодолев океаны и материки и с отличной труппой. Настоящий подарок небес!
Так что все было отлично. Но, увы, не везде. Мое здоровье опять дало сбой, и мне снова пришлось преодолевать трудности, в которых я чудом уцелел благодаря отличным врачам и уходу моих ребят, настоящих ангелов-хранителей.
Не буду говорить об этом черном периоде, кое в чем напоминавшем плохой роман с гротескными сценами, вроде той, когда по моему настоятельному требованию меня вытащили из больничной койки и на носилках повезли в театр, с капельницей, прикрепленной к руке. Я хотел во что бы то ни стало (даже ценой жизни, как вполне могло случиться) присутствовать на генеральной репетиции, на которую были допущены студенты и те поклонники оперы, которым не достались билеты на спектакли. Успех был невероятный.
В конце я пришел в такой восторг и умиление, что отбросил трубки, вытащил иглу и поднялся на сцену поблагодарить, как за чудесное исцеление.
XXVIII. Флорентийцы
Наша флорентийская компания постепенно приобретала известность среди римской молодежи волшебных шестидесятых; нас называли «флорентийцами с площади Испании» или попросту «теми флорентийцами». Наш последний этаж вообще-то выходил не на саму площадь Испании, а на элегантную виа Дуэ Мачелли. Но на такой высоте, под колокольней церкви Св. Андрея, были видны только крыши старинных домов с увитыми цветами балконами и вездесущими котами, которые не имели постоянного пристанища и гуляли по крышам до знаменитой лестницы площади Испании.
Первыми из Флоренции в Рим перебрались я, только что расставшийся с Висконти, и Пьеро Този. Вскоре к нам присоединилась девушка, одноклассница Пьеро по художественной школе, крохотная, казалось, в чем душа держится, но на самом деле очень крепкая и неутомимая, — Анна Анни. Отличная рисовальщица, которую я сразу усадил за работу, чтобы успевать справляться со всем, что на меня сыпалось. Потом с нами поселился приятель из Пистои Мауро Болоньини, с которым мы вместе учились на архитектурном факультете. Он к этому времени уже начал работать в кино как помощник режиссера Луиджи Дзампы. Мы ему завидовали еще и потому, что он зарабатывал больше всех. Мауро был уравновешенным, спокойным и решительным человеком, добился многого, заняв в итальянском кинематографе одно из первых мест. Он подарил нам несколько прекрасных фильмов, достаточно вспомнить «Метелло» и «Плохая дорога»[122] — оба фильма сняты по прекрасным романам, в которых хорошо построен сюжет и ярко очерчены персонажи.
Сегодня уже не снимаются фильмы по великим романам, и причина этого, увы, проста: никто в наши дни не пишет великих романов.
Вернемся к «флорентийцам с площади Испании»: наша компания разрослась — к ней присоединился гений, Данило Донати, который тоже учился в художественной школе Флоренции вместе с Пьеро и Анной (ничего не скажешь, действительно кузница талантов).
Мы жили в лабиринте комнатушек и мансард, раскаленных летом и ледяных зимой. Но разве это было важно? У нас была терраса — над всеми крышами Рима. Зарабатывая, мы мало-помалу украсили ее цветами и декоративными растениями, которые приносили друзья, а чаще подруги.
Время от времени кто-нибудь наезжал из Флоренции, и мы всегда с удовольствием находили ему местечко. Особенно дороги нам были двое флорентийцев: Альфредо Бьянкини, актер, певец, острослов, мой друг по училищу с отроческих лет, и юный Паоло Поли. Кто следил за его ростом, отлично может себе представить, что это был за чертенок с самого начала и какое веселье он привносил в нашу компанию.
Такое объединение молодых флорентийских талантов произошло очень быстро. Одновременно подъехала молодежь из Романьи (один бриллиант уже сверкал — Данило Донати, который учился во Флоренции, но родом был из Романьи[123]). Среди них самой яркой фигурой был Умберто Тирелли, который впервые преодолел наши сто десять ступенек, просто чтобы сказать «привет» своему приятелю Данило. Он приехал в Рим попытать счастья, и мы, конечно, нашли ему уголок. За это он взялся наводить порядок в нашем живописном хаосе. Никогда у нас не было так чисто, как в те времена.
Уж не говоря о кухне. Благодаря Умберто и Данило мы стали центром паломничества оголодавшей фауны, которая всегда крутилась вокруг. Однажды под бурные аплодисменты мы присвоили нашим поварам титул «пятизвездочных» и прикрепили им на грудь по пять звезд, вырезанных из фольги.
Потом мы отвели Умберто в швейную мастерскую, которую держали две дамы, решившие уйти на покой. Он сразу завоевал их доверие и очень быстро взлетел наверх. Сегодня говорить об Умберто Тирелли — это рассказывать сказку про человека, который идет к цели, не упуская ни единой возможности. Со временем он овладел всеми премудростями и тонкостями наших театральных пошивочных мастерских, которым завидует весь мир, и укрепил династические традиции портных, закройщиков и других мастеров, которые были уже на грани исчезновения.
Он сделал Пьеро Този своим главным художником по костюмам, всячески ему помогал и даже заставлял творить шедевры, благодаря чему Пьеро давно уже стал самым знаменитым и любимым художником по костюмам в мире. И не сосчитать, скольким Умберто Тирелли помог найти свой путь. Он стал тем стержнем, вокруг которого бурлила творческая энергия театрального мира.
Возвращаясь к тем годам, могу сказать, что здесь же, у нас под крышей, происходили и сексуальные игры в разных вариациях (во многих ли — не уверен). Мы были прекрасной молодежью, полной сил и жажды жизни. Двери нашего дома были распахнуты для всех. Красотки в поисках счастья, какой-нибудь случайный юноша (электрик? рабочий?), студенты и студентки, мечтающие о карьере поп-певицы, морячки из Пьомбино и юные сопрано… Пожалуй, только эти последние чувствовали себя не в своей тарелке среди нашего бедлама, где было дозволено и принято все, кроме хамства, которое даже на порог не пускали.
Было еще одно слово, на которое у нас было наложено абсолютное табу, — «гей», оно вызывало бурю. «Сам ты гей, и дедушка твой тоже! Нет здесь геев, здесь есть мужчины на все времена года!»
Название прекрасного фильма Дэвида Лина очень всем понравилось, и его сразу приняла на вооружение вся компания, оно звучало как текст на визитке, который может значить многое и не значить ничего, но скорее все-таки многое.
Всегда с нами были «фронтовые подруги». С ними было уютно, и между нами был, можно сказать, общий секс. Всеобщий, с позволения сказать, секс! Женщины, о которых я говорю, были прежде всего умными и остроумными. Разве можно быть остроумным, не будучи умным? Бывает, бывает! Наши подруги Адриана Асти, Лаура Бетти, Аннамария Гварньери, Лючия Бозе и восхитительная Франка Валери были не только остроумными и умными, но обладали необыкновенным творческим складом ума.
Поймите меня правильно: «компания флорентийцев» была искрометно веселой, у нее были потрясающие шутки и развлечения, но основой наших дней и даже ночей была РАБОТА. Анекдоты и треп — все это имело место, но мы крутились на одной орбите, у нас были общие творческие интересы, о которых и велись главные разговоры, — и приходили открытия и озарения.
Так мы продолжали вместе расти, подпитываясь успехами друг друга, среди яростных ссор и нежной дружбы. Самой дорогой подругой для меня была (и остается по сей день) Адриана Асти. Как говорится, любовь на всю жизнь. С ней тоже, как когда-то с Кармело, хотя по другим причинам, возникла было опасность испортить прекрасную дружбу. Но мы все же смогли сохранить ее в целости.
Раздумывая над «флорентийцами с площади Испании», я по-прежнему не понимаю, как нам удалось (абсолютно всем!) завоевать блестящие позиции в работе и сделать прекрасную карьеру. Никто, ни один человек не потерялся в пути. Неужели было достаточно постоянного взаимопроникновения сил и энергии, новых идей и постоянного общения, чтобы удача улыбалась каждому? Не буду здесь описывать все наши пути, хотя и хочется пройтись еще раз по ним и уяснить, в чем же таится успех, что его поддерживает и ведет вперед, а что тормозит. Наверно, это было бы небезынтересно и читателю, но этому надо посвятить целую книгу, да и то будет недостаточно.
Есть одно яркое воспоминание, которое, возможно, укажет ключ, открывший нам все двери или, по крайней мере, показавший способ их открыть.
Иногда в нашей компании оказывался кто-нибудь, кого мы сразу относили к категории зануд, пессимистов, нытиков. Мы просто переставали обращать на этого человека внимание, поворачивались к нему спиной и старались избавиться, как от чумного. А если у него хватало духу вернуться со своими жалобами и нытьем, мы набрасывались на него без долгих рассуждений.
Помню, как однажды Умберто Тирелли закатил такому типу сцену, когда тот пришел к нам не облегчить душу, а сбросить на наши плечи свои проблемы. Вот как отреагировал на это Умберто. «К нам приходят радоваться, — вопил он. — Входишь в эту дверь — оставь проблемы, неприятности и жалобы на улице! Они нас не волнуют, это твое личное дело! Мы тебе тут не монахини-утешительницы, понял? Заруби это себе на носу!»
Поначалу к нам часто попадали люди с хмурыми лицами и потухшими глазами, но они получали немедленный отпор в стиле Умберто. Их становилось все меньше и меньше, а потом они и вовсе исчезли.
Загадка нашего движения вперед заключалась как раз в вере в жизнь, в оптимизме, чего бы это ни стоило. Именно так, очевидно, нам удалось преодолеть все преграды и трудности.
Вы искали ключ к успеху? Вот он! Но и талант здесь нелишний.
Все это происходило пятьдесят лет назад. К сожалению, сегодня жизненный путь многих уже завершен, в их числе Умберто, Мауро и Данило. Но многие живы, и мы по-прежнему плывем по бурным морям кино и театра.
Одним словом, сказка еще не кончилась. А потом начнутся новые сказки, и их будет очень много. Пьеро Този, самый знаменитый в мире художник по костюмам, доводит меня до белого каления тем, что отказывается от всех предложений. Он даже слышать о них не хочет — решил, что больше работать не будет. Вместо этого он намерен (и это единственное, что может меня с ним примирить) сосредоточить свои силы на преподавании. Думаю, молодежи очень повезло, что такой человек будет обучать их основам ремесла, которому они хотят посвятить жизнь. Как и в наше время, в их возрасте мы тоже учились у своих предшественников. Но в глубине душе у меня есть возражения. В нашем деле первое — это работа, а уже потом разговоры. Факты и только факты имеют, на мой взгляд, значение. А слова, даже очень умные, — это всего лишь сотрясание воздуха. Остается только то, что научились делать руки. Одним словом, покажи нам, как все происходит, а не рассказывай об этом.
Сегодня молодые поколения растут и формируются с трудом именно потому, что у них нет четко обозначенных вех и никто не может показать им, как надо работать. Их состояние должно внушать нам серьезную тревогу. Я вспоминаю, сколько у нас в юности было ежедневных, постоянных примеров, сколько было школ, которых больше нет.
Национальная Академия драматического искусства, в прошлом кузница актеров многих поколений, сегодня не в состоянии выращивать новые таланты. И совсем уж непростительно создание и узаконивание других направлений (которые при всем желании нельзя назвать школами), где молодежь обучают именно тому, что надо отправить на помойку.
Это места, где модному режиссеру разрешается провозглашать новое евангелие, по которому школы актерского мастерства вообще не нужны и все могут играть, ничему не обучившись. Следуя такой логике, отказывающей актеру в профессиональном достоинстве, почему бы и за строительство мостов не взяться тем, кто не имеет инженерного образования, или доверить больницы тем, кто не провел юность над учебниками по медицине, а «Травиату» на сцене пусть поют те, кто никогда не брал уроков музыки.
Режиссер, которого я имею в виду, на ком лежит ответственность за уничтожение искусства декламации, — это, если вы еще не догадались, Лука Ронкони.
«Ла Скала», мой любимый старый «Ла Скала», теперь полностью реконструированный, пригласил меня поставить к открытию следующего сезона новую «Аиду»[124]. Какое прекрасное возвращение через четырнадцать лет, после неудачного «Дон Карлоса» с Мути. Сразу хочу предупредить: несмотря на все волнения в вечер премьеры, я буду стараться рассматривать спектакль в перспективе будущего, а не как поиск утраченного времени. Уж скорее тогда обретенного. И обрести я его хочу как можно более празднично.
Мое рабочее расписание по-прежнему заполнено до отказа. Свою афинскую постановку «Паяцев» я хочу показать в Москве. А еще у меня есть новая «Травиата» для римского театра. Как, еще одна? Да, еще одна! Давайте не будем забывать Карлоса Клейбера, который был глубоко убежден, что любой шедевр живет столько раз, сколько раз поднимается занавес. Главную партию на этот раз будет петь Ангела Георгиу, остальные исполнители ей под стать. Опять же в Риме будет показан тот самый «Дон Жуан», а затем на веронской Арене новый «Набукко» — опера, которую я еще никогда не ставил. Существует какая-то причина? Загадка? Вовсе нет, я отлично знаю, почему. Это опера с чудесной музыкой, жемчужина которой — знаменитый хор, но на мой вкус она чересчур торжественна и легко может превратиться в изысканное снотворное.
Будем надеяться, что мне придет в голову какая-нибудь удачная идея и зритель не получит еще одну «тощищу». Ораци клянется, что эта опера на третьем месте по популярности в Арене. Ну, раз он в этом так уверен…
Что там у меня еще?
А, вот что: вокруг меня снова запели кинематографические сирены. Речь идет о проекте, который преследует и завораживает меня уже много лет. Сейчас расскажу.
В конце июня 2003 года я вернулся во Флоренцию поучаствовать в конференции, организованной всевозможными спонсорами по поводу подготовки празднования пятисотлетия «Давида» Микеланджело. Торжественный ужин проходил в Галерее Академии художеств, под наблюдательным и строгим взором моего любимого «Флорентийского юноши».
Английская колония была представлена очень широко, хотя отсутствие «скорпионов», увы, уже исчезнувшего вида, очень чувствовалось. Было много американцев, знаменитых и не знаменитых, но влюбленных в мой родной город, и множество других друзей Флоренции, на любой вкус. Сидя за роскошным столом во всю длину Галереи, я вспомнил те стародавние времена, когда в перерыве между занятиями в Академии мы, жуя хлеб с чесночной колбасой, ходили как раз к «Давиду» или к «Рабам».
Меню за ужином было изысканным, но чесночная колбаса, с жадностью поглощаемая в этом священном месте больше полувека назад, вспоминалась как нечто куда более вкусное и живое.
В конце ужина, после довольно скучных речей и приветствий, мы с несколькими старыми приятелями уселись на лавочках на площади Сан-Марко. Как нетрудно представить, сразу начались воспоминания о том о сем: окончание уроков в школе, уже ушедшие друзья, немецкие танки на этой площади 8 сентября 1943 года…
Эта книга воспоминаний и ассоциаций неизбежно должна была привести меня, с чувством благодарности судьбе, к размышлениям обо всех дарах, которыми щедро осыпала меня жизнь. Самым ценным даром, наверно, оказалось решение Творца подарить мне жизнь во Флоренции и возможность вырасти в этом городе в окружении высочайших достижений культуры и искусства.
В тридцатые годы я еще мальчиком жил с тетей Лиде на четвертом этаже на площади Сан-Марко, напротив доминиканского монастыря, который был построен Микелоццо по приказу Медичи, где Беато Анджелико оставил потомкам шедевры живописи. А на другой стороне площади — архитектурный факультет, Художественная школа, Академия художеств (школа и музей), где находится «статуя статуй» — «Давид» Микеланджело. Еще сто метров вперед, и вот площадь Благовещения Пресвятой Девы, место, где дух захватывает от гармонии и совершенства. Она была задумана Брунеллески, а затем доведена Делла Роббиа до идеала.
Одним словом, в те годы, такие важные для юноши, я жил и делал первые шаги как раз в этом волшебном треугольнике. Во Флоренции есть и другие места изумительной красоты, и их много, но они, как правило, связаны с властью, или правительством, или с честолюбием богачей. А у меня — гармония лучших источников знания в школах, куда съезжались ученики со всего мира.
В Академии художеств мы учились у таких мастеров, как Розан, Джентилини, Карена, Соффичи, а вокруг было лучшее из созданного великими художниками прошлого. В перерывах между занятиями мы часто заходили в Галерею, смежную с нашими аудиториями. Мы ели принесенные из дому бутерброды (тот самый хлеб с чесночной колбасой), стоя перед шедеврами без особого почтения, хихикали, ссорились, рассказывали анекдоты. Кто-то играл в мяч, будто в гимнастическом зале.
Должен признаться, что я испытывал некий священный трепет перед тем, что меня окружало. Не доев куска, молча отходил от ребят и шел к «Рабам» или «Давиду», к этим фантастическим и беспокойным творениям. Я долго смотрел на них, скорее, в каком-то оцепенении, чем в почтении. В голове у меня роились вопросы, росло стремление открыть тайну этого чуда.
Я думал о мире, который их породил, пытался представить, какой была моя Флоренция в XV и XVI веке, какие люди ее населяли. Не только те, которых по тем или иным причинам мы знаем из истории или по произведениям искусства, но и тысячи других, чьи имена были известны только по метрическим книгам, а может быть, даже и по ним неизвестны. Но ведь они жили, любили, страдали, была же причина, по которой они были посланы на Землю. Я представлял их лица, живые глаза, видел, что все они не похожи друг на друга, потому что от сотворения мира не было ни одного человека, абсолютно похожего на другого.
Так я мечтал с открытыми глазами и воображал себя человеком из того времени, персонажем той волшебной эпохи, когда проросли семена, брошенные в эпоху Возрождения и гуманизма. Это стало моей тайной забавой. Я только тем и занимался, что сочинял всякие истории о том мире, в котором прекрасно мог бы жить.
Эти фантазии все больше укоренялись во мне, становились «настоящей» реальностью, проходившей сквозь мою жизнь и оставлявшей по себе память.
Всякий раз, когда я возвращался в свой воображаемый мир, выяснялось, что он становится все конкретнее: к нему добавлялись детали и подробности, как обычно бывает, когда хочется немного оживить прошлое. В конце концов, какая разница (разве что приходится давать показания в суде) между тем, что реально случилось, и тем, что родилось в твоем воображении? Подумайте сами.
Так постепенно я вошел в мир и в жизнь той скандальной, вздорной, полной жизни, искрометной и энергичной Флоренции. Но главное — творческой, потому что творчество — и плод, и источник воображения.
Флоренция восстала против позолоченных ежовых рукавиц Медичи и изгнала их. Она отправила на костер безумного монаха Джироламо Савонаролу из-за его евангельского фундаментализма и обвинений церкви в искажении учения Христа. Очень странно, что после стольких веков церковь, которая попросила прощения за свою вину перед многими, до сих пор сама не простила (тем более не попросила прощения, что было бы правильнее) этого хоть и безумца, но пророка, который, как многие другие, умел «бдеть, когда другие спят». Савонарола предвидел все, что вот-вот должно было произойти с церковью и с папством, бывшим тогда у власти, и что потрясло до основания весь христианский мир.
Флоренция была городом, у которого в 1499 году хватило мужества бросить вызов всему миру и объявить себя «Первой республикой нового времени», это было настоящей провокацией для императоров, Пап, правителей. К сожалению, мечта о демократии не могла рассчитывать на длительное существование, но целых тринадцать лет Флоренции мог завидовать весь мир. Кроме того, это был прецедент, с которым впоследствии пришлось считаться.
В тот краткий период чада Флоренции слетелись под родной кров, как голуби на голубятню. Микеланджело, поработав в Риме для Папы, одним из первых возвратился во Флоренцию, еще и потому, что часто ездил в Каррару за мрамором. Именно в те плодотворные годы он создал «Давида» — настоящее землетрясение, которое ошеломило и воспламенило весь город.
Леонардо да Винчи тоже вернулся из Милана, чтобы открыть новые невиданные горизонты искусства и науки и завершить магический круг живописи «Моной Лизой» и «Мадонной в скалах». Это был расцвет лучших умов, как выразился Вазари. Никколо Макиавелли, владевший искусством политического мышления, опережавшим столетия; ученые и мореплаватели, как Джованни да Вераццано; картографы, среди которых был Америго Веспуччи, чьи карты сделали возможными грандиозные открытия, и весь мир признал за ним право назвать своим именем новый континент…
Это были сказочные годы, которые в буквальном смысле изменили мир. Недаром именно тогда перестали говорить о Средних веках и начали использовать словосочетание «новое время».
Так, постепенно, я представлял историю родного города и видел себя в нем. Я даже придумал себе имя — Марко Фьораванти, придумал семью, родственников и друзей. Город был маленьким, все жители знакомы между собой, великих художников и известных людей легко было встретить на улице. Мое воображение разыгралось. Я явственно слышал голос Микеланджело, хриплый, требовательный, перекрывающий оглушительные звуки молота и скрежет резца по мрамору. Голос Леонардо я тоже слышал. Он любил работать в тишине, под воркование голубей на крыше — «кисть должна касаться холста беззвучно». Непрестанный гул из мастерской Микеланджело, расположенной всего в нескольких шагах, наверно, сильно досаждал ему.
Так я начал составлять некую историю, вытаскивая на свет из глубины веков живую действительность, наполнять ее фактами и подробностями, пока она не стала историей жизни. Я подумал кое-что записать для будущей книги воспоминаний о настоящих событиях, людях, жизни. Или — об этом я стал задумываться все чаще — снять фильм, потому что величие того, что я видел и прожил, требовало визуального подтверждения. Даже не зная, какую в конце концов форму обретут мои воспоминания, я уже дал им имя: «Флорентийцы». Вот такое, очень простое. Я жил с этим проектом долгие годы, он стал моим тайным убежищем. Даже когда моя голова была занята совсем другим, мысленно я постоянно возвращался «к моим дорогим флорентийским друзьям», которые всегда встречали меня с радостью.
Микеланджело врывался в мое воображение как бешеный в сопровождении громких криков и ударов молота, разве что не зубами и ногтями освобождая от нагромождения лишнего мрамора своего «Давида». Слыша его вопли, люди выходили на порог своих лавочек и качали головами. Мальчишки на улице забывали об игре в мяч и слушали его бесконечную ругань, затаив дыхание. Голуби под крышей мастерской Леонардо в страхе улетали прочь, а чья-то рука торопливо закрывала ставни.
Могу себе представить, как мучился искавший полной тишины Леонардо, который писал в то время самый знаменитый портрет в истории — портрет Моны Лизы.
Я был отлично знаком с Лизой дель Джокондо, она была мне дальней родственницей по отцу. Мы во Флоренции практически все родственники. А что она стала самым известным в мире лицом — это, по-моему, чересчур. Правда, ходили слухи, впрочем, туманные и осторожные, что в молодости, еще до свадьбы с пожилым и богатым Франческо дель Джокондо, ее обрюхатил один из Медичи (наверно, Джулиано, младший сын Великолепного), но младенец родился мертвым.
Я никогда не видел, чтобы Лиза смеялась. Самое большее — она любезно улыбалась (эту ее улыбку и поймал Леонардо), но сразу опять становилась серьезной, а ее лицо — грустным и сосредоточенным, какое бывает у тех, кто навсегда утратил надежду на луч света в жизни.
В те годы я работал в палаццо Веккьо. Мой дядюшка, хорошо знакомый с Макиавелли, походатайствовал обо мне, и я стал трудиться у него в конторе с другими молодыми людьми. Я учился и сдал все экзамены хорошо. Тогда, как и сейчас, у меня был красивый почерк. Я очень надеялся сделать карьеру благодаря тому, что удалось пристроиться на работу к Макиавелли. Он, конечно, был очень закрытым человеком, всех держал на расстоянии. Мы постоянно чувствовали на себе его взгляд, который пронизывал насквозь. Он никогда не повышал голоса, но когда тихо произносил приказ или упрек, кровь стыла в жилах. Благодаря ему я узнал много важного: как, например, оставаться в тени (всегда присутствовать, но в сторонке, ожидая, что остальные начнут делать ошибки, а тебя позовут их исправлять). Увы, этот талант я так и не сумел применить на практике.
С большим удивлением я узнал, что он азартно болеет за мою команду — за «Синих». Только эта его тайная страсть выдавала, что он тоже человек из плоти и крови. Как большая часть молодежи, я обожал футбол, древний вид спорта, доведенный во Флоренции до настоящего искусства. Я играл неплохо и даже снискал некоторую известность. Моя команда гордилась мной, меня узнавали на улице и пожимали руку.
Учиться я мог не только у Макиавелли, многим флорентийцам было чему меня научить, с чем познакомить.
Самой большой загадкой для меня всегда был «Давид». Еще когда я разглядывал статую в Академии, жуя хлеб с колбасой, то все время думал про того молодого человека, который вызвал, сам того не сознавая, такие нечеловеческие переживания в душе Микеланджело. Он действительно существовал? Вопрос встает всякий раз, как посмотришь на этот величественный памятник «Флорентийскому юноше». Еще бы он не существовал на самом деле! Я отлично был знаком с ним.
Это был молодой крестьянин, который пришел из деревни Виккьо-ин-Муджелло, чтобы устроиться на работу в песчаный карьер на берегу Арно. Микеланджело увидел его впервые, когда он вылезал из реки, искупавшись после работы, прекрасный, как древние статуи, которые появлялись из-под земли во время раскопок в Риме. Это было началом бурной трехлетней связи между завоевателем и завоеванным, о которой много что говорили, но мало что знали. Никому точно не было известно, кто из них завоеватель, а кто завоеванный.
Вот так я близко узнал тех флорентийцев, которые населяли мою фантазию с академических лет. Мне уже пора написать о них книгу и рассказать много интересного.
Вы только подумайте, ведь я был первым человеком, который поднялся в небо! Не верите? Зря, это чистая правда. Вот как это было. Леонардо искал смельчака, кто бы согласился полететь на его необыкновенном аппарате, над которым он работал много лет. Он долго и тщательно изучал особенности полета птиц и пытался понять, к каким доступным человеку средствам надо прибегнуть, чтобы как птица подняться в воздух. Леонардо всю жизнь мечтал об этом. Он предполагал, что воздух «тверд», как вода, поэтому если человек может держаться на воде и плавать как рыба, то должен держаться и в воздухе и летать как птица. После долгих лет исследований и поисков, он, наконец, построил потрясающий аппарат.
Я, не раздумывая, согласился. Это удивительное приключение, которое невозможно описать словами. Немало времени — не могу сказать сколько из-за охватившего меня волнения и возбуждения — я находился в воздухе и понял, что значит парить, освободившись от веса тела, отдавшись на волю ветра. К сожалению, все закончилось не так уж хорошо, но могло быть значительно хуже. Жизнь мне спасла вода в заросшем тростником пруду, куда я упал вместе с летательным аппаратом. Чудом я не расшибся, отделался парой царапин. Но аппарат рассыпался на части, и огорченный Леонардо так и оставил его гнить в пруду.
Наверно, кто-нибудь спросит: «Как же ты всегда оказывался на месте в самые важные минуты?» Такой уж у меня характер, я вечно сую нос везде, где мне интересно. Так получилось, что я понравился Макиавелли, и он сделал меня помощником Бьяджио Мартелли, с которым мы каждые две недели ходили выплачивать жалованье Микеланджело и Леонардо. Я сделался у них своим человеком, они были рады видеть меня, потому что я приносил им деньги.
Леонардо смотрел на меня с особой симпатией, а Микеланджело всегда был возбужден и раздражен, хотя никто, и он сам в первую очередь, не знал тому причины. Больше всего меня удивляла его постоянная резкость с Пьеро — так звали паренька, с которого он ваял «Давида». Тот же, величественно красивый, оставался совершенно равнодушным к оскорблениям и угрозам и продолжал неподвижно стоять, будто уже был изваян из мрамора. Это его спокойствие в конце концов побеждало ярость мастера, который неожиданно становился миролюбивым и сговорчивым и возвращался к своей глыбе мрамора. Иногда он проводил рукой по коже юноши, чтобы ощутить под пальцами изгибы его тела.
Оба погружались в свою безмолвную напряженную работу, и тогда лучше было оставить их одних, ибо мрамор начинал наполняться жизнью.
Леонардо всегда встречал меня с удовольствием, трепал по щеке или гладил по голове с особой нежностью. Я оказывал ему мелкие услуги и приносил то, что ему было нужно для работы. Вместе с двумя приятелями, тоже работавшими во дворце, мы выпрашивали у охраны (тайком, потому что это строго запрещалось) трупы только что повешенных в Барджелло преступников, которые полагалось сбрасывать со стены на съедение свиньям. Когда становилось достаточно темно, мы перевозили тела на телеге какого-нибудь грубого ремесленника в мастерскую Леонардо, который ждал нас в нетерпеливом волнении с зажженными свечами. Он крепко запирал двери и окна и возвращался к своим анатомическим изысканиям. Отлично помню движения его рук, когда он вскрывал трупы, находил что-то интересное и набрасывал со скоростью молнии свои рисунки.
Мы, мальчишки, с отвращением смотрели в другую сторону и в конце концов усаживались куда-нибудь в уголок и засыпали. А пробуждаясь при первых лучах солнца, видели, что Леонардо по-прежнему погружен в работу и не торопится прервать ее, чтобы ремесленник мог забрать тело.
Макиавелли никогда со мной об этом не говорил, и я был уверен, что он ничего не знает. Но как-то он велел эконому выдать мне денег на расходы под названием «научные изыскания за счет городской казны».
Я настолько слился с жизнью моих флорентийских друзей, что их жизнь сделалась моей. А в довершение всего я безнадежно влюбился в Клариче, младшую дочь Лоренцо Великолепного. Мы были знакомы с детства и поклялись друг другу в вечной любви. Но потом Клариче со всей семьей отправилась в изгнание, и мы много лет прожили вдали друг от друга.
Мы уже стали взрослыми (мне — восемнадцать, ей — шестнадцать), когда снова встретились в Пизе, куда Макиавелли отправил меня по делам. Я сразу понял, что никогда не переставал ее любить. Мною овладела безумная страсть, я был готов на все, даже предать родной город, лишь бы она стала моей.
Воображение помогло мне найти способ соединиться с Клариче незабываемой ночью, и плодом этой страсти, разумеется, стало дитя. Мой сын и сын Медичи! Невообразимая, невероятная история! И чем же она могла закончиться? Очень просто. В моих воспоминаниях мечта стала реальностью! Чем-то, что я прожил на самом деле…
Поверьте, очень часто воображение может дать нам гораздо больше, чем любая реальность. Значит, флорентийцы — это не выдумка? Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что это так. В любом случае это история, которая вполне имеет право на существование, она действительно могла бы произойти. Это и объясняет мое упорное возвращение к проекту, в котором я всегда поддерживал жизнь, поливая и удобряя его, как растение, в надежде, что в один прекрасный день оно зацветет.
Меня утешает мысль, что многие художественные натуры (писатели, художники, музыканты, режиссеры) пронесли через всю жизнь какую-нибудь мечту, которая сохранялась в их душе, даже если никогда не была реализована.
Джузеппе Верди, например, после «Макбета» втайне мечтал о «Короле Лире». И хотя «Король Лир» так никогда и не был написан, музыка, которую Верди в душе посвятил ему, обогатила другие его шедевры. Сколько идей из нереализованного «Короля Лира» было в его голове, когда он задумывал «Бал-маскарад», «Симона Бокканегра», «Дон Карлоса» или «Отелло»?
Думаю, у каждого есть своя тайная мечта, которая питает и поддерживает творческий процесс. Я уже рассказывал вам еще об одной такой мечте, с которой прожил сорок лет, мечте, вдохновленной воспоминаниями об английских дамах Флоренции — о фильме «Враги», которым хотел дебютировать в кино в 1953 году. Благодарю Небо за то, что моя счастливая звезда заставила меня дожидаться этого фильма сорок лет!
Случай с «Врагами» — очень убедительный пример. Подходящее время снять его пришло через сорок четыре года после того, как я начал о нем мечтать! В 1997 году он стал «Чаем с Муссолини». В тот год моя звезда встретилась со звездами необыкновенных актрис: Джоан, Мэгги, Джуди, Шер, Лили. А блестящее перо Джона Мортимера, а непревзойденные съемки Дэвида Уоткина! Какие еще могут быть сомнения?
Серьезнее некуда: мы же говорим о звездах!
Дело моих «Флорентийцев» до сих пор открыто. Оно прошло со мной через всю жизнь, через многочисленные надежды и разочарования, но мы так и не расстались окончательно. Я не теряю надежды, и если мои звезды гармонично сойдутся в нужном месте, мечта станет чем-то более конкретным — реальностью. Я готов.
С годами кажется, что к другим становишься терпимее, переживаешь то неприятное, что было в жизни, с большим вниманием и желанием понять. Ты получаешь простые ответы на вечные вопросы, миришься со старыми врагами, а обиды забываешь. В сущности, можно сказать, что чем ближе к закату, тем лучше, человечнее, сердечнее мы становимся.
Не потому ли, что хотим заслужить себе место на небесах?
После кончины моей сестры Фанни, нежнейшего существа, давшей мне любовь, в которой я нуждался, мне пришлось заниматься всем, что осталось в доме, где отец прожил несколько десятков лет и где жил и я до отъезда в Рим. В такие минуты мы вынужденно возвращаемся к прошлому и часто, увы, становимся жертвой воспоминаний.
В углу чулана я нашел женский портрет. Это была жена моего отца, Коринна, наваждение и мука моих детских лет. Портрет был парным к портрету отца, который уже давно висел у меня в кабинете. А этот так и пылился в чулане. Я решил привести его в порядок и повесить рядом с отцом: так они снова вместе и обрели мир.
Бедная женщина, ее жребий так и не позволил ей простить меня за то, что я был для нее, хоть и невольно, источником стольких страданий. Но я эту милость — простить — получил. Ведь я стал объектом ее ненависти только потому, что она очень любила отца.
Удивительно, сколько недостойных, порой ужасных дел можно совершить, когда тебя толкает на это прекраснейшее в жизни чувство — Любовь.
Я с удовольствием рассказал бы вам еще много разных вещей, которые произошли со мной или о которых я узнал за свою долгую жизнь, поговорил бы о своих планах и надеждах, о мечтах и реальности. Но боюсь, мне уже нечего добавить, по крайней мере, на сегодня.
Мне было очень приятно пообщаться с вами, но, увы, мне пора. Меня ждут в «Ла Скала» на репетицию «Аиды».
Вместо послесловия / Ненужный разговор
(Мы с детства знаем, что «какой же русский не любит быстрой езды». А с возрастом мы понимаем, что «кто же из нас не любит поговорить». Чаще о себе. Реже — о собеседнике. Мне выпала честь и радость много разговаривать с великим автором этой книжки. Я удержался и в основном говорил о нем и о том, что он думает. Но я не удержался и один разговор записал. Я даже в одном нашем журнале его опубликовал и назвал это «нужный разговор». Мне впрямь кажется, что он нужный, и не только мне. Поэтому я повторно воспользовался положением и публикую этот нужный разговор ещё раз (конечно с согласия маэстро). В общем, здесь то, что кто-то хотел и стеснялся спросить у Дзеффирелли, а я не постеснялся спросить, а он захотел ответить.)
Михаил Куснирович: Можно я задам вам несколько вопросов?
Франко Дзеффирелли: Но для начала я тебе должен объяснить, что именно я хочу сказать о России. Россия поражает двумя вещами. Во-первых, своим безграничным богатством: тут есть сказочно богатые люди, у которых, правда, и я должен это признать, отсутствует культура богатства. Деньги свалились на них неожиданно, а не появились постепенно. С другой стороны, бывают такие люди, как ты, — люди, которые начали с мелких дел, и постепенно… Вот это и есть подлинный, деятельный дух России. Я привожу в пример тебя не потому, что ты помог мне, а потому что твой пример меня действительно интересует — это пример того, насколько трудолюбива, насколько изобретательна Россия, пример того, что из ничего может вырасти нечто невероятно важное.
МК: Но что вас так занимает? Российский потенциал?
ФД: Мне кажется, что Россия будет хозяйкой мира, будет играть одну из важнейших ролей, потому что вы сохранили свои великие традиции, а это очень важно. Несмотря на ваше прошлое, на социализм, на все эти глупые иллюзии и поражения.
МК: Каковы были ваши отношения с Россией во времена социализма?
ФД: Я продолжал любить ее, изучать ее, читать великие русские романы. Я ставил Чехова и видел Россию именно такой.
МК: А чисто физические взаимоотношения? Вы бывали здесь во времена социализма?
ФД: Я приезжал в 1970 году.
МК: В 1970-м? И как это было?
ФД: Сталина уже не было, был Брежнев. Со мной все в любом случае были невероятно любезны. Я привозил «Ромео и Джульетту», а в 1965 году я приезжал с Маньяни.
МК: В 1965-м или в 1975-м?
ФД: В 1966-м! Летом 1966-го.
МК: В год моего рождения!
ФД: Ну да. В первый раз я привез два спектакля — «Ромео и Джульетту» и еще одну постановку с Анной Маньяни.
МК: Где это было? В Большом?
ФД: Нет, только не Маньяни, это же был драматический спектакль, а не опера!
МК: Во МХАТе?
ФД: Как же это называлось… Московский художественный театр?
МК: МХАТ? Театр Станиславского?
ФД: Вот-вот! Я приезжал в театр Станиславского. А потом я привозил фильмы.
МК: «Травиату»?
ФД: Да нет, даже раньше. «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», где сыграла Тейлор. А потом я приехал с театром «Ла Скала», и вот тогда уже мы играли в Большом.
МК: В 1987-м, если я правильно помню? Знаете, чем я занимался в это время? Я работал в Большом дворником. Три года там проработал.
ФД: Вот видишь. Умный человек никогда не упускает шанса — за все цепляется, все понимает.
МК: В общем, я прекрасно помню, как вы приезжали в 87-м году.
ФД: Тогда в Москве был еще Шон Коннери, снимал тут кино.
МК: В чем, по-вашему, разница между советскими временами и нынешней жизнью?
ФД: В советские времена, как это ни прискорбно, была уничтожена самая сердцевина общества, то есть буржуазия, преподаватели, университетские профессора. Существовал некий новый класс, который по любому вопросу говорил то «да», то «нет». Впрочем, искусство пользовалось определенной свободой, вызывало большой интерес. В чем разница? Очень остро ощущалось уничтожение среднего класса (в нашем понимании это «интеллигенция». — Прим. ред.), прослойки между классом рабочих и классом крестьян, то есть тех самых людей, которые продвигают культуру вперед. Профессоров и всех остальных — всех, кто носит очки. С ними расправлялись, их погибло 5 миллионов или даже больше. Вот это была самая страшная вещь. И это большое чудо, что культура смогла сохраниться, потому что за ее сохранение отвечает как раз средний класс: они посылают детей учиться, они знают то, се, пятое, десятое. Это очень важно с точки зрения того, как западный, итальянский интеллектуал, христианин мог воспринимать Россию — безотносительно ко всему, что с ней случилось по ходу истории и что не оставило никаких следов, кроме уродливых. Но Россия воскресла, как она воскресала всегда. Единственное что: нужно очень сильно заботиться о нищих, о тех, кто находится за гранью бедности.
МК: Вы видите много нищих, когда приезжаете сюда?
ФД: Нет, потому что вы их прячете. Когда-нибудь, когда у меня будет больше времени…
МК: А почему же вы думаете, что нищих так много?
ФД: Потому что их много. Я тебе приведу один пример: вчера вечером Лучано проходил по подземному переходу, и там стоял бородатый пожилой человек, который рисовал соборы Кремля. У Лучано почти не было с собой денег, и он спросил, сколько стоят картины и нельзя ли вернуться с деньгами попозже. Так вот, цена была — три евро! Три евро за целый день работы! И видел бы ты, какой работы! Я уже убрал эти работы в чемодан, а то я бы тебе непременно их показал. Этот бедный художник работает целый день, чтобы выручить три евро за картину! И это только один пример — а их очень, очень много!
МК: В Италии я тоже видел немало бедных.
ФД: Да, но не настолько бедных! У нас есть государственная помощь, и каждому достается пенсия, хотя бы крохотная. Здесь пенсий ни у кого нет, а у нас каждый имеет свои 500 евро — при Берлускони стало даже 600.
МК: Объясните мне одну вещь. Почему Берлускони проиграл выборы?
ФД: Совсем ненамного. И то потому, что коммунисты подтасовали результаты.
МК: Но теперь-то он вернется?
ФД: Он не хочет возвращаться, все слишком сложно. В этом-то и трагедия.
МК: Жаль. Он был очень харизматичный человек.
ФД: И потом, он приехал в Россию, он понял, что Россия — наш будущий друг, что Россия должна быть Европе другом, потому что чем дальше, тем больше Европа будет зависеть от России, от всех ваших энергоносителей. Нам надо отшвырнуть арабов подальше, что бы они там ни выдумывали, и получать энергию непосредственно из России. Но арабскую нефть качают французы, американцы, англичане, все эти нефтяные компании. На самом деле нефть есть не столько у арабов, сколько у европейских нефтяных гигантов, которые не хотят уступать выгоду новым компаниям. Вот Шредер объяснил, что судьба Европы связана с Россией. Вчера вечером я понял, как сильно меня любят в России. Пришло пять тысяч человек, и все они радовались от души.
МК: Объясните мне одну вещь. Вчера вечером был грандиозный успех, позавчера — то же самое. У вас остается время на то, чтобы расслабиться, поболтать с соседями, обсудить, как вчера все хорошо прошло? Или вы сразу несетесь вперед?
ФД: Нет. У меня двойственное отношение, и это очень важно. Во-первых, я всегда все воспринимаю крайне критично. Успех, триумф — это хорошо, но меня интересует, что не получилось, пусть даже меня уверяют, что никто этого не заметил. Я-то заметил! И это портит мне весь вечер. Я не могу допустить, чтобы хоть что-нибудь, даже мелочь, пошло не так, как нужно. Я считаю, что истинный успех — это успех всеобщий, и я не могу быть счастлив, если не все заслужили финальные аплодисменты. Достаточно ошибиться одному — и успех всеобщим уже не будет. Точно так же как не хватит одного хорошего исполнителя, чтобы сделать успешным целое представление. В моей работе — не так, как в живописи, где ты распоряжаешься единолично. Это множество жизней, множество людей, и у каждого — своя история, свое творческое отношение, да и публика от раза к разу меняется. Ни одно представление не повторяет другое, всегда что-то выходит иначе, и вот эти-то различия меня и притягивают. Часто выходит так, что различие — это улучшение. Певец исполнял свою партию все время одинаково, а тут взял и сделал что-то необычайное. Это меня очень вдохновляет. В общем, работа непрерывная, мозг все время включен, и я никогда не расслабляюсь.
МК: Это проблема или преимущество?
ФД: Наверное, преимущество. Но это обходится очень дорого. Я все время в напряжении, не могу расслабиться, в результате у меня начинаются нервные проблемы.
МК: Да ладно вам.
ФД: Мне уже 84, и будущее передо мной не безгранично. Я все думаю, сколько мне осталось лет? Или сколько месяцев?
МК: Есть какая-то разница между публикой в Италии и публикой в России?
ФД: С моей точки зрения — нет. Меня очень хорошо воспринимают зрители. У моих фильмов есть душа.
МК: Как вы себя чувствуете в Голливуде?
ФД: Не совсем в своей тарелке. Я сделал в Голливуде два фильма, но там нужно постоянно соблюдать политкорректность.
МК: А как же Мел Гибсон?
ФД: С Мелом Гибсоном мы в результате отлично поработали, но это ужасный человек.
МК: Сложно с ним? А что вообще за люди американцы, как вам кажется?
ФД: У меня очень много американских друзей в мире искусства, в мире музыки, в театральном мире. Они все совершенно замечательные. А вот в кино у них одни деньги да деньги, они слишком сосредоточены на деньгах. И безо всякого стеснения снимают чудовищные фильмы. Хотя прекрасные тоже снимают. В Америке великая традиция кино, ведь этот вид искусства, фактически, американцы и изобрели.
МК: А в итальянском кино как обстоят дела?
ФД: Кино — это зеркало общества. Послевоенное общество снимало кино про Италию, которая жаждала жить и творить, которая унаследовала от фашизма…
МК: Это была голодная Италия?
ФД: Голод был скорее культурный. Нищеты не было, потому что американцы сразу начали нам помогать. Очень многие сформировались при фашизме. Фашизм — это была, конечно, катастрофа с точки зрения политики, но патернализм катастрофой вовсе не был! Очень многим художникам он помог: взгляни на архитектуру, квартал ЭУР в Риме — поразительный. То же самое с живописью: режим помогал великим художникам.
МК: Вы хорошо помните, что было при фашизме?
ФД: Куда же мне деваться.
МК: Во время войны вы были в Сан-Джиминьяно?
ФД: Не совсем. Об этом городке я снял кино (имеется в виду «Чай с Муссолини». — Прим. ред.), но я и сам жил неподалеку. Правда, дам отправляли не туда, они жили в другом месте.
МК: Фильм вышел замечательный.
ФД: Да, это один из моих самых успешных фильмов. Но пару дней назад меня потряс один русский молодой человек, который сказал, что его жизнь навсегда изменил другой мой фильм — «Брат Солнце». Так произошло со множеством людей по всему миру. Месяц назад я получил письмо от монахини-затворницы — она писала в день, когда исполнилось 25 лет с момента ее пострижения. И написала вот что: «Я должна Вам сказать, что 25 лет назад я сделала этот выбор, потому что я видела и знаю наизусть Ваш фильм о святом Франциске». Представляешь? Вот до чего доходит влияние кинематографа — к лучшему или к худшему.
МК: Ленин говорил, что из всех искусств для нас самым важным является кино.
ФД: Ну да, а религия — удел бедняков.
МК: Вы очень религиозный человек?
ФД: Поначалу я никак не мог определиться. У нас ведь люди рождаются католиками, сразу попадают в церковь. Вот и я все время бывал в церквях, в монастырях, общался с монахами. Но потом карьера моя пошла круто вверх, а когда я делал фильм о святом Франциске, меня постигло нечто вроде откровения. Я стал… Видишь ли, я сам очень многих вещей не понимаю, но другие люди понимают, а я им верю.
МК: Скажите, в человеческих отношениях, равно как и в отношениях между человеком и Богом, требуется посредник?
ФД: Очень многие продвинулись гораздо дальше меня в понимании божественных материй. Я могу дойти до какой-то точки, но они идут гораздо дальше, и я следую за ними. Вот, например, мать Тереза — это простая женщина, но она не просто говорила с Богом, она говорила божественными словами.
МК: Какие у вас отношения с матерью?
ФД: Моя мама умерла 75 лет назад. Но она всегда со мной.
МК: С Богом легче, чем с мамой?
ФД: Да нет. Но нужно понимать, что в христианстве, в католичестве заключена тайна: появление материнского персонажа. Ведь Мария на самом деле не играла важной роли — это была просто еврейская женщина, мать. Ее сын был важным человеком, помогал семье деньгами, у него же было много братьев и сестер. Но церкви, чтобы понять тайну Христа, понадобилось посредничество Марии. Ее как раз очень легко понять: это мать, она страдает, плачет, приносит себя в жертву. Ты обращаешься к ней с молитвой, чтобы она заступилась за тебя перед своим сыном, используем Марию как посредника. Она сделалась для всех нас самой близкой фигурой, потому что она почти что наша мать. И на религиозном уровне мы обращаемся к матери Христовой точно так же, как обращаемся к своей собственной матери — за советом, помощью, сочувствием.
МК: Эмансипированные женщины вам не нравятся?
ФД: Нет, это несчастные создания, они как животные. Встречаются, конечно, необыкновенные женщины. Но реклама и пропаганда внушают нам сейчас такой образ женщины… Эдакая длинноногая… В общем, полнейший ужас вместо образа справедливой, мудрой женщины, без которой общество не могло бы существовать.
МК: Но женщина должна быть сексуальной?
ФД: Идея сексуальности смешивается с идеей порока, наслаждения. Разумеется, нас всех — и мужчин, и женщин — привлекает наслаждение, нам необходима эта отдушина. Но надо отделять это от главных ценностей. Женщина — не только инструмент наслаждения, это еще и мудрое, тонко чувствующее создание, женщина очень важна для общества, потому что именно она дает жизнь, она рожает и воспитывает детей.
МК: Помните, вчера в ресторане мы видели очень красивую женщину, в которой не было никакой сексуальности? Или, по крайней мере, она не выставляла ее напоказ.
ФД: Вот-вот! Таким образцам и надо подражать. Вспомни, как она обращалась с девочкой, своей дочкой, и с ее отцом. Мне очень понравилась вся семья: веселый ребенок, заботливая мать.
МК: Важна ли в жизни семья?
ФД: Я бы сказал, что да, хотя у меня у самого семьи, в смысле родных по крови, не было. Зато были люди, которые меня любили, и их было много. Они меня подобрали, помогли мне, дали образование. Не отправили в приют.
МК: Для итальянской культуры семья важна?
ФД: Очень. Но, к сожалению, она распадается, потому что детей не так воспитывают, дают им слишком много воли.
МК: Они слишком независимые или слишком инфантильные?
ФД: Им дают слишком много воли. Сейчас принято считать, что детей нельзя воспитывать, нельзя их бить.
МК: А надо?
ФД: Надо бы. Но если отец поколотит сына, он отправится прямиком в тюрьму.
МК: По-вашему, хорошая пощечина бывает полезна?
ФД: За свою жизнь я получил их пять или шесть и отлично помню каждую, потому что каждую я заслужил. Но теперь времена уже не те.
МК: Меня ударили один раз в жизни.
ФД: Если отец ударит ребенка, его арестуют. Это серьезное преступление. Ваш треклятый коммунизм принес в мир сплошную разруху.
МК: Как вам московская погода?
ФД: Вчера было замечательно, солнце светило. Но вообще Москва мне всегда нравится.
МК: Как лучше, когда снег или когда солнце?
ФД: Да как сказать. Жизнь состоит из солнца и из снега.
МК: Но вы же в Риме привыкли к солнцу?
ФД: Да, но в Риме тоже бывает холодно.
МК: Холодный ветер?
ФД: Да, дурная погода, когда остается только сидеть дома и жечь камин. У меня в этом смысле хорошо, вокруг дома много зелени.
МК: Когда у вас появился этот прекрасный дом?
ФД: Году в семидесятом или семьдесят первом. Почти сорок лет назад.
МК: Вы его купили или построили?
ФД: Дом там уже стоял, но я все переделал. Когда ты приезжал?
МК: В последний раз — две недели назад. В первый раз — четыре года назад, было замечательно.
ФД: Тогда еще шел ремонт. Вот теперь там действительно замечательно.
МК: А что с вашими виллами в Позитано?
ФД: Продал.
МК: Когда?
ФД: Сделка завершается на днях. Я не могу их больше держать — у меня нет сил ездить туда-сюда. Да и смысла уже нет. Они напоминают о множестве замечательных людей, которые жили там вместе со мной и которых больше нет. Их очень не хватает. Я — обломок исчезнувшей эпохи. Бернштайн, Каллас, режиссеры, американские актеры. Грегори Пек, Лоуренс Оливье. Все умерли — нас осталось два или три человека. Жена Лоуренса Оливье, Мэгги Смит, иногда еще приезжает. Мы не молодеем. Мне 85, ей 81.
МК: Как же вы без этой виллы?
ФД: Все уже, дело сделано, и я не жалею. Я рад, что она перешла в хорошие руки.
МК: Вы долго там жили?
ФД: Я купил ее году в семидесятом.
МК: У вас появились свободные деньги благодаря успеху в кино или в театре?
ФД: У меня с деньгами всегда были проблемы. Я тратил еще прежде, чем зарабатывал, постоянно что-то собирал, бесконечно покупал книги. У меня одна из крупнейших в мире библиотек по театру и сценическим искусствам. Кому ее оставить, не знаю. Сейчас вот заинтересовались в Гарварде, или, может быть, во Флоренции.
МК: Музей?
ФД: Нет, культурный центр. У меня сохранились все постановки, которые я делал. Я маниакально собирал все отзывы, они у меня все разложены по ящикам, все учтено в компьютере.
МК: Вам понравилась выставка в Пушкинском музее? (Выставка «Франко Дзеффирелли. Искусство спектакля», которая стала частью фестиваля «Черешневый лес» в 2004 году. — Прим. ред.).
ФД: К сожалению, в итальянском издании этой выставке не придали должного значения. А ведь это невероятная честь для режиссера кино и театра — попасть в музей имени Пушкина! Там место фигурам из разряда Шанель.
МК: По-моему, речь идет о фигурах одного уровня — Шанель, Дзеффирелли.
ФД: Я хорошо знал Шанель, ей посвящена целая глава в книге. Я ее считаю одной из четырех величайших женщин века. Каллас, мать Тереза, Шанель и Тэтчер. Великих женщин-ученых в нашем веке не было, они все жили веком раньше. А эти четыре, каждая в своей области, поднялись на недосягаемую высоту. Шанель изменила все — от манеры одеваться до духов и души. Женщины в обществе сделались проще, доступнее, они перестали быть для своих поклонников красивыми игрушками. Получили больше свободы, поняли, что могут жить и сами по себе.
МК: Знали ли вы Стравинского?
ФД: Нас знакомили. Я его видел, но я был слишком молод. Я его видел, когда он приезжал во Флоренцию, на фестиваль «Музыкальный май» в 37-м или 38-м году. Дирижера Игоря Маркевича я тоже знал, это был искрометный человек.
МК: Вы всегда болели за «Фьорентину»?
ФД: А как же! С самого детства.
МК: А что Берлускони?
ФД: «Милан» и «Фьорентина» — дружественные команды, между ними бывают обмены.
МК: Хорош ли был Диего делла Валле?
ФД: Он хорошо вел дела — он же деловой человек. И он мне нравится, не то что этот идиот из «Интера», который только деньгами швыряется.
МК: Вы интересуетесь футболом?
ФД: Как иначе? Я знаю массу игроков, я видел, как они росли и взрослели. У них ведь жизнь очень короткая: десять лет — и все. Но они отлично позволяют нам всем выпускать пар. В футболе неважно, тебе семь или семьдесят: и ребенок, и старик вместе кричат «давай-давай!», у них одинаково сердце бьется. Опять же, не важно, какой ты национальности, из какой части света.
МК: Это появилось только в последние годы?
ФД: Нет, всегда так было. Футбол — потрясающий клапан, который позволяет всему обществу спустить пар. Если бы не футбол, в мире было бы гораздо больше преступлений. А когда уж твоя команда выигрывает кубок страны…
МК: Вы боитесь?
ФД: Умереть — не боюсь, а смерти — боюсь. Кто знает, какая смерть мне достанется. Я видел, как страшно умирали некоторые мои друзья. А у кого-то все было по-другому. В общем, я надеюсь на лучшее. И мне хочется верить, что этот момент не наступит, пока я еще на коне.
МК: Сколько лет вам было, когда вы впервые задумались о смерти?
ФД: Мне несколько раз очень сильно доставалось. В 69-м или 68-м году я вместе с Лоллобриджидой попал в страшную автокатастрофу. Вот тогда все и началось. Я был закован в гипс с ног до головы, 18 трещин в черепе, одна только дырка вокруг рта — чтобы есть. И еще глаз работал. С меня сняли цепочку с медальоном, которая у меня была с самого детства, и повесили в изголовье кровати. Лежа я смотрел на этот медальон со святым Франциском, и я сказал ему: «Дорогой святой Франциск, если я встану, обещаю, что я тут же сниму о тебе фильм». Все закончилось хорошо, я выздоровел, и как только вышел из больницы, заявил, что буду делать фильм о святом Франциске. Поскольку перед этим я сделал «Ромео и Джульетту», и был огромный успех, на студии «Парамаунт» немедленно согласились и дали мне денег. Я принялся за работу, и вышел «Брат Солнце». Вот такая история. Но с тех пор я начал задумываться о смерти и о том, кто не дает нам умереть и помогает в вечной жизни. Я нашел утешение, нашел надежду, но мы, к сожалению, материальны. Материя состоит из миллионов клеток, в которых живет душа. В общем, передо мной встала проблема жизни и смерти, которая раньше меня как-то не касалась. Раньше я думал об успехе, о сексе, о друзьях, о деньгах, тратил раньше, чем зарабатывал. А тут я столкнулся лицом к лицу со смертью и спасся только чудом. 18 трещин!
МК: Лоллобриджида тоже пострадала?
ФД: Она только колено повредила. Я ее заслонил. Она сидела рядом, когда машина вылетела с дороги, и весь удар пришелся на меня. Это был поворотный момент. С тех пор жизнь стала для меня альтернативой смерти, ожиданием смерти, подготовкой к ней. Только при этом надо жить, а не замирать в ожидании. Я не сторонник аскетической веры, моя вера — это моя работа. А людям я никогда не делал зла. И я очень люблю животных.
МК: Сколько у вас собак, шесть или семь?
ФД: Сейчас шесть. Сегодня вечером я их всех увижу.
МК: Всех помните по именам?
ФД: Конечно. Четверых я спас от живодеров в Румынии, когда в 2001 году ставил там «Каллас навсегда». Их чуть было не замучили, а я их вывез в Рим. Там у меня уже были Джек, Рассел — терьеры, которые жили со мной всю жизнь, они мне были как братья, только уже старенькие. Но когда появился молодняк из Румынии, они тоже почувствовали себя бодрее — пока не умерли все вместе три года назад. Им было 14, 15 и 16 лет.
МК: Да, да, я их помню, двое или трое были очень старые.
ФД: Тогда я тут же взял еще двух щенков, сейчас они вместе со старшими. Животные, природа — это настоящее счастье. А вот люди, страдания ближних, несчастные, не имеющие никакой надежды, бедняки, которым не на что дожить до завтра…
МК: Что тут можно сделать?
ФД: Ничего.
МК: Что я могу сделать?
ФД: Тут никаких твоих богатств не хватит, даже если ты поступишь как святой Франциск и раздашь все бедным. Эту проблему никто не сможет решить иначе как поменяв всю экономику, ликвидировав разрыв между очень богатыми и очень бедными. Но у нас еще есть средний слой, который составляет живой нерв общества, его сердцевину. Это те самые люди, которые учатся, усваивают и производят новое. У тех, кому внезапно свалилось на голову огромное богатство вместе с белыми «роллс-ройсами», мозгов нет, это случайное явление. Они ничего не привносят в культуру, ничего не дают для развития гуманитарных наук и искусства. У бедных просто нет возможностей, хотя среди них есть люди, которые на многое способны. Не надо забывать, что все великие художники Возрождения были из очень бедных семей. Микеланджело, Леонардо, Мазаччо, Боттичелли родились бедняками, но искусство сделало из них мастеров. Вот этот-то класс и уничтожил Сталин. Расправился со всеми, кто носил очки, чтобы читать и писать. А ведь они — хранители культуры, они отправляют детей учиться, они двигают вперед театр. Искусство — это не богачи и не бедняки, это как раз средний класс.
МК: У вас многие друзья умерли?
ФД: Все вообще. Я остался почти один.
МК: Что у вас были за отношения с Висконти?
ФД: У наших отношений была своя история, своя судьба. В какой-то момент мы почти разошлись, но потом снова начали общаться, когда он заболел. Я проводил с ним почти все время.
МК: А как с Антониони?
ФД: Ничего особенного. Мы были знакомы, но не больше. Я никогда в жизни с ним не сближался, да и фильмы его мне не нравились — пессимистичные, депрессивные.
МК: А Бертолуччи?
ФД: Если фильм ему удается, то это потрясающий фильм. Но он очень много ошибается. У него либо ошибка, либо шедевр, никаких других вариантов. Я вот, например, никогда не ошибаюсь, меня защищает профессионализм. В конце концов все приемы складываются в единое целое. Иногда выходит даже шедевр. Но ниже определенного уровня я не опускаюсь.
МК: Что такое шедевр, с вашей точки зрения?
ФД: Произведение, где все вышло удачно. Все составные части удачно сложились.
МК: У вас ведь случаются шедевры?
ФД: Некоторое количество.
МК: Как всегда, вы ваш самый строгий критик.
ФД: Да, но я могу без зазрения совести сказать, что шедевры у меня были. «Иисус из Назарета», например, — настоящий шедевр, очень качественная вещь. Я сказал именно то, что хотел сказать, и именно так, как хотел. Мне не пришлось, как это часто бывает (и со мной тоже), приспосабливать то, что получилось, под то, чего я на самом деле пытался добиться. «Богема» — шедевр, который останется в истории. Много было и спектаклей, и фильмов. Хотя с фильмами сложнее: это искусство, поставленное на поток, оно очень коммерческое, коммерческий успех тут жизненно важен. Есть масса плохих фильмов, которые собрали кучу денег. И масса прекрасных фильмов, которые никто не смотрел.
МК: Держать слово — это важно?
ФД: Я свое слово держу всегда. И работаю даже тогда, когда мне бы не следовало. Сейчас, например, я себя очень нехорошо чувствую. Ходить сложно, глаза начинают отказывать. А в моей работе без глаз никуда. Все органы чувств разлаживаются, вот и слух тоже. На репетициях могу не услышать рояля.
МК: У вас стопроцентный музыкальный слух?
ФД: Со временем мой слух улучшился, я начал различать детали. Вчера в какой-то момент я подумал: что-то не так. И спросил у Массимилиано (Массимилиано Стефанелли, дирижер, руководивший оркестром в ходе московской постановки «Паяцев» Леонкавалло): «Баритон ведь фальшивит? Или я не прав?» А он: «Да-да, ты заметил? Фальшивит, еще как!» Но, к счастью, никто больше не обратил внимания. К счастью, голова у меня все еще работает, как у молодого и здорового. Все беды начинаются, когда от мозга команды начинают поступать в мускулы. Ноги, например, у меня очень крепкие, но с равновесием проблемы — мне сложно поворачиваться, я теряю равновесие и падаю. Кошмар. Но я столько всего получил от жизни, что теперь пора и заплатить. Кроме того, за последние шесть лет я поставил, возможно, лучшие свои спектакли. В этом году в Риме я ставил с молодыми артистами «Травиату», она тоже прекрасно вышла.
МК: Теперь у вас будет «Тоска»?
ФД: Прекрасная «Тоска»!
МК: Сложно ставить одни и те же оперы по нескольку раз?
ФД: В жизни все каждый раз бывает по-новому. Это как снова встретиться с давним любовником.
МК: Когда вы вот так встречаетесь с любовниками, используете ли вы старые находки?
ФД: Я просто подхватываю прерванный разговор. Ты встречаешься с человеком и видишь много нового. Понимаешь, что этот человек мог дать тебе нечто, чего ты раньше не видел, а вот теперь видишь. Так что со временем постановки улучшаются. За исключением одной — «Травиаты», которую я поставил с Каллас в 58-м году. С тех пор я сделал восемь «Травиат», но с той ни одна не сравнится. За «Тоску» мне сейчас тоже страшно браться, потому что «Тоску» я ставил с ней, и у меня осталась полная запись — пятьдесят минут.
МК: Вы взялись бы за русскую оперу?
ФД: Когда я был очень молодой, в 59-м году, я ставил «Бориса Годунова» в Генуе. Мне очень понравилось.
МК: А «Евгений Онегин»?
ФД: Очень красивая вещь, но эта культура, романтическая опера, от меня далека. Вот «Хованщина» очень хороша. Только она очень, очень длинная, ее нужно резать и резать.
МК: Что вы думаете о русской музыке вообще?
ФД: Она прекрасна, и она сыграла важную роль в истории музыки. Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, его Первый концерт для фортепиано с оркестром.
МК: В этом году я устроил концерт номер один на Красной площади.
ФД: С фортепиано и оркестром?
МК: Да.
ФД: Потрясающе! (На этом месте оба начинают напевать. — Прим. ред.).
МК: Важны ли в жизни деньги?
ФД: Боюсь, что да.
МК: Как вам кажется, Буш — важная фигура?
ФД: В Америке есть масса вещей, которые важны всем — и республиканцам, и писателям, и экономистам. Это основополагающие ценности. А следом идет менее важное — если только не появляется кто-то вроде Рейгана или Джонсона. Эти двое были лучшими президентами столетия после Рузвельта.
МК: А Клинтон?
ФД: У Клинтона не тот масштаб. И он уступает Никсону. В какой-то степени Труман переделал весь мир. При нем сбросили атомную бомбу, при нем привели в порядок Европу с американской помощью. Он восстановил Европу, чтобы уберечь ее от вас, от русских.
МК: Правильно ли он поступил?
ФД: Правильно.
МК: Вы действительно боялись? И теперь тоже боитесь?
ФД: Глупости.
МК: А Путина не боитесь?
ФД: Нет.
МК: Что же тогда все так на него сердятся?
ФД: Россия внушает страх крупному капиталу. Крупный капитал завязан на арабах. Арабы пятьдесят лет добывают нефть, они неплохо заработали, но они много инвестировали в западную промышленность. Они скупили всю биржу. Так что всех пугает сама идея, что вдруг появится энергетический колосс вроде России, и тогда разорятся немцы, французы, испанцы, владельцы Standard Oil. Все эти нефтекомпании основаны на арабской нефти. И это абсурд, потому что мы, Европа, должны получать нефть из России. А не из Саудовской Аравии. Когда-нибудь построят прямой нефте- и газопровод, и Россия вернется на арену, как и предрекал Шредер. Немцы сразу поняли, в чем тут дело.
МК: Но боятся же!
ФД: Это не страх. Это финансовые проблемы. Они боятся, что их акции рухнут на бирже.
МК: Важна ли демократия?
ФД: У вас ее никогда не будет.
МК: И сейчас нет?
ФД: Она у вас была недели три, при Керенском.
МК: А при Горбачеве?
ФД: Какая там демократия!
МК: Но партии же есть?
ФД: Демократия — это очень тяжело. Взять хотя бы нас: после двадцати лет не такого уж страшного фашизма мы до сих пор не можем до конца приспособиться к демократии. Демократия работает по-настоящему в Америке, в Англии, во Франции.
МК: Во Франции это скорее социализм. А у вас — бюрократия.
ФД: Коммунистическая бюрократия. А у вас демократии никогда не будет, просто не может быть.
МК: Хорошо, демократия — это одно, а свободы — другое.
ФД: Свобода у вас более или менее есть, вы можете выражать свои мысли.
МК: Сейчас Путин станет из президентов премьер-министром, но останется на своем месте. Это хорошо или плохо?
ФД: Такого, как Путин, я бы с удовольствием оставил на месте. Он очень-очень много сделал для России.
МК: Где кончается хорошее и начинается плохое, в политическом смысле?
ФД: Хорошее: он дал возможность раскрыться. Он подстегнул экономику — посмотри, что делается в Москве. Плохое: рано или поздно придется наткнуться на препятствие в виде демократии. Демократии нет. Ни один Путин в мире не сможет сделать Россию демократической страной, это просто нереально. Всему есть предел: управлять придется так, как управляли Россией во все времена, и при царях, и при Ленине.
МК: Почему Россия всегда стремится получить царя?
ФД: Потому что это безграничный, огромный континент.
МК: Но ведь все империи терпели крах, ни одна из них не выжила.
ФД: Россия, на счастье или на беду, отчасти сохранилась.
МК: Может ли монархия подходить России больше, чем нынешняя система?
ФД: Демократическая монархия, как в Англии и в Испании, — да.
МК: А такая, как у нас была?
ФД: За императорской фамилией стояла огромная традиция. Все дети воспитывались так, чтобы в один прекрасный день они могли взойти на трон. Династию нельзя просто взять и учредить. Всем профессиям, и царской тоже, нужно учиться. Иначе потом невозможно будет управлять. А вот патернализм Путин может ввести. Я о тебе забочусь, как добрый отец, который печется о твоем благе и гарантирует тебе определенные права, но я — отец, а ты — сын.
МК: Разве Саддам Хусейн не делал чего-то подобного?
ФД: Даже сравнивать невозможно, ничего общего нет.
МК: Но он был отцом своей страны?
ФД: И расправлялся со всеми вокруг.
МК: Разве тут было не то же самое?
ФД: Нет, массовых убийств я тут не замечал.
МК: Как же Сталин?
ФД: Сталин, Гитлер… Это была эпоха великих злодеев.
МК: Разве вы не боитесь, что рано или поздно у нас снова начнется сталинизм, пусть даже в мягкой форме?
ФД: Эпоха диктаторов прошла. Тогда их было десять, двадцать, тридцать. В Испании, в Аргентине, где угодно.
МК: Во Франции и в Англии ничего подобного не было, не говоря уже об Америке.
ФД: Я сейчас говорю про Европу.
МК: В Европе диктаторы были только в Италии, Германии и Испании.
ФД: И в Хорватии. Зато в Чехословакии была действенная демократия.
МК: Вы знакомы с Гавелом.
ФД: Да, у нас есть общие друзья.
МК: А с нашим режиссером Любимовым? Которому 90 лет?
ФД: Да, очень старый и очень большой мастер.
МК: Как складывались ваши отношения с Россией? Впечатления всегда были однородные?
ФД: Я хорошо знаком с Россией. Я, например, познакомился с замечательным Евтушенко. Мы встретились здесь, он мне показал кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены все великие, в том числе и Достоевский. Хотел съездить еще к Толстому в Ясную Поляну, но не получилось. Мы очень подружились, а потом я вернулся в Италию, и он тоже туда приехал. Он хотел с моей помощью понять, что думают люди, нищие, проститутки. Я его отвез в одно место рядом с военными казармами, где в лесу, вокруг костра, всегда собирались проститутки. Феллини часто ездил туда на съемки. И вот Евтушенко совершенно сошел с ума. Он заявил, что непременно должен переспать с одной из них. Я с этими проститутками был знаком и попросил их не опозориться перед другом из России. Заплатил — и они утащили его в лес, где он совершенно сошел с ума. Женщина, с которой он был, потом рассказывала мне, что он исцеловал ее всю, с головы до ног. Волосы, ступни, руки. Потом он даже написал стихотворение, посвященное римской проститутке.
МК: Как вам показалась мадам Антонова?
ФД: Очень симпатичная, очень основательная, настоящая синьора.
МК: Знаете, сколько ей лет?
ФД: 85, как и мне.
МК: А она строит планы на 2012 год.
ФД: Иначе жить вообще невозможно.
МК: Я вам рассказывал, что мы учредили Фонд в музее Пушкина? И собираемся построить там целый музейный квартал, со школой, с галереями, магазинами, ресторанами. Я понимаю, вам уже надо ехать — скажите, когда я смогу послать к вам настоящего журналиста?
ФД: Когда захочешь. Предупреди немного заранее, я освобожу время. Поездка в Австралию отменилась, так что я все время буду в Риме, только съезжу в Нью-Йорк: там в «Метрополитене» устраивают гала-вечер в мою честь. Но я ненадолго — я занят «Тоской» и инвентаризацией архива. Это очень важно. Я хочу, чтобы от меня осталось что-то, чем смогут воспользоваться молодые.
МК: В вашей книге все правда? А может, вы что-то упустили? Не стали рассказывать о частной жизни?
ФД: Я рассказал вообще все. В том числе — про свою сексуальную жизнь. Правда, сделал это аккуратно, никого не раздражая, — но вообще не надо ничего стыдиться.
МК: Вы живете как режиссер или как персонаж в пьесе?
ФД: Как несчастный человек. С проблемами несчастного человека. А Куснирович живет как оперная звезда.
МК: А мода вам нравится?
ФД: Нравится, но я не могу ей следовать. Так что пришлось мне придумать мою собственную моду.
Иллюстрации
Мне 8 лет — мое первое грандиозное творение.
Моя мать Алаида Гарози, в замужестве Чиприани.
Мой отец Отторино Корси.
Мой дядя Густаво Соччи.
Поцелуй тете Лиде.
Так меня одевали, когда я был маленьким.
Третий класс художественной школы: я — первый справа в нижнем ряду; второй и третий справа во втором ряду — мои друзья Кармело Бордоне и Альфредо Бьянкини.
17 лет — первые романы.
В 18 лет пришло время театра.
Мой дебют в кино: фильм Луиджи Дзампы «Достопочтенная Анжелина».
Фотография Лукино Висконти с его подписью, сделанная в первый день работы над «Преступлением и наказанием» (1946).
Во время съемок «Самой красивой» (1951) с Франческо Рози и Лукино Висконти.
С друзьями по площади Испании: Биче Брикетто, Лукино Висконти, Моника Витти, Валентина Кортезе, Мауро Болоньини, я, Лючия Бозе, Умберто Тирелли и Пьеро Този.
С Лючией Бозе и Мауро Болоньини.
Пьеро Този и Умберто Тирелли с нашей любимицей Марлен (слева); Мигель Бозе с Пьеро Този (справа).
В Лондоне в 1958 г. с Джоан Сазерленд и Ричардом Бонинджем (слева); Джоан на премьере «Лючии ди Ламмермур» (справа) в «Ковент-Гардене» (1958).
Герберт фон Караян — это он пригласил меня поставить «Богему».
С фон Караяном, Эскофье и исполнителями после премьеры «Богемы» в «Ла Скала» (1963).
С Анной Маньяни во времена «Волчицы» (1965).
С любопытством наблюдаю, как работает Эдуардо.
С моей театральной труппой (сверху вниз): Джанкарло Джаннини, Умберто Орсини, Фульвия Мамми, Паоло Стоппа, Рина Морелли, Сара Феррати, Аннамария Гварньери.
С Валентиной Кортезе на репетиции «Марии Стюарт» (1983).
Элизабет Тейлор в «Укрощении строптивой» (1966).
С Лиз и Ричардом Бартоном на съемках фильма.
С Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом на премьере фильма «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорке.
На съемках.
На сцене лондонского «Олд-Вика» с Джуди Денч и Джоном Страйдом после триумфальной премьеры «Ромео и Джульетты» (1960).
Джуди Боукер и Грэм Фолкнер (слева) в фильме «Брат Солнце, сестра Луна» (1971); с Грэмом Фолкнером в церквушке Св. Дамиана (справа).
Снова Грэм Фолкнер — Франциск-воин.
В соборе Монреаля, где снималась сцена встречи Франциска и Папы Римского (Алек Гиннесс).
Три героя «Иисуса из Назарета» (1976): вверху: Роберт Пауэлл (Иисус); внизу слева: Оливия Хасси (Мария); справа: Майкл Йорк (Иоанн Креститель).
С Ричардом Бартоном возле «Распятия» Чимабуэ во время съемок документального фильма о наводнении во Флоренции (1966).
Мать Тереза, мой духовный наставник.
С Лоуренсом Оливье в роли Никодима в фильме «Иисус из Назарета».
С Папой Павлом VI и его секретарем монсеньором Макки (слева); плач Марии (Оливия Хасси) над телом сына, «Иисус из Назарета» (справа).
Также из «Иисуса»: с Робертом Пауэллом.
Изумительный вид на Позитано с одной из террас «Трех Вилл».
С Доналдом Даунсом в Позитано (1973).
В «Ла Скала».
С Туллио Серафином (слева) на репетиции «Линды ди Шамуни» в Палермо (1957); Скотт Пайпер и Адина Аарон (справа) в третьем акте «Аиды» в Буссето (2001).
Скотт Пайпер и Стефания Бонфаделли в финале «Травиаты» в театре Буссето (2002).
«Тфандот» в нью-йоркской «Метрополитен-опера» (1987).
С дирижером Джеймсом Левиным мы поставили в «Метрополитене» много опер.
С великолепным Карлосом Клейбером после триумфальной премьеры «Отелло» в «Ла Скала» (1976).
Грандиозные декорации «Аиды» в Арене ди Верона (2002).
С Лучано Паваротти и Пласидо Доминго на репетиции «Тоски» в Риме (2000).
С Катей Риччарелли. Пласидо Доминго и Миреллой Френи на частном просмотре фильма «Отелло».
С Хосе Каррерасом (Родольфо) и Терезой Стратас (Мими) на репетиции «Богемы» в «Метрополитен-опера» (1981).
Дорогая для меня фотография Карлоса Клейбера с памятной надписью.
Пласидо Доминго в роли Отелло в одноименном фильме.
Сцена из первого акта «Отелло» в «Ла Скала» (1976).
Незабываемая Норма Марии Каллас в парижской «Гранд-опера» (1964); внизу слева: Мария в роли Тоски — «Ковент-Гарден», Лондон (1964).
С Марией на «Тоске» в «Ковент-Гардене» (1964).
Мария в роли Виолетты в моей первой постановке «Травиаты» в Далласе (1958).
С Марией в роли Фьориллы на сцене «Ла Скала» («Турок в Италии». 1955).
С Фанни Ардан и Джереми Айронсом на съемках фильма «Каллас навсегда» (2002).
Фанни Ардан — Мария в роли Кармен.
Афиша фильма «Каллас навсегда».
Четыре замечательные певицы, которые помогли мне в поисках образа Виолетты: вверху — Мария Каллас в Далласе, Стефания Бонфаделли в Буссето; внизу — Ангела Георгиу в «Метрополитен-опера», Тереза Стратас в фильме «Травиата».
С моей подругой Джульеттой Симионато (слева); Клодетт Кольбер с приятелем и моими сестрами Фанни и Лидией в Позитано (1983) (справа).
С Теннесси Уильямсом и Леонардом Бернстайном.
С Екатериной Максимовой, Терезой Стратас и Владимиром Васильевым на съемках «Травиаты» (1982).
В Кремле с Оливией Хасси на презентации фильма «Ромео и Джульетта» (1969) (вверху слева); у могилы Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (вверху справа); с Игорем Моисеевым и Евгением Евтушенко (внизу).
Джорджио Альбертацци в «Гамлете» (1963).
Первая встреча с Мелом Гибсоном в Голливуде.
Мел Гибсон в фильме «Гамлет» (1990).
С Брук Шилдс, главной героиней фильма «Бесконечная любовь» (1981).
С Рикки Шредером на съемках «Чемпиона».
Фэй Данауэй, героиня фильма «Чемпион» (1979) (слева); с Джоном Войтом на съемочной площадке «Чемпиона» (справа).
Коко Шанель, открывшая для меня Париж, — одна из самых известных женщин XX века.
С Джиной Лоллобриджидой в больнице после аварии (1969).
Близнецы Эллен и Алиса Кесслер — подруги на всю жизнь (слева); балерина Карла Фраччи — жрица в постановке «Аиды» в Буссето (2001) (справа).
В Голливуде с Дино Ризи и легендарными режиссерами, прославившими американское кино, — Уильямом Уайлером, Фрэнком Капра, Рубеном Мамуляном, Джорджем Кьюкором и Винсентом Миннелли.
С Федерико Феллини и Марчелло Мастроянни (слева); Джоан Плоурайт и Лоуренс Оливье (справа).
С любимыми собаками.
Первый Мартин (вверху справа); «режиссер» Бамбина (вверху слева); легавые Цезарь и Марлена (внизу).
Бланш (слева вверху); Пиппо (слева внизу); пока я находился в больнице после аварии, дома меня ждал верный Боболи (справа).
С Лучано и Пиппо, тоже обожающими собак, и Бамбиной (слева): Лучано (справа).
С ветеранами Шотландской гвардии на праздновании 50-летия победы во Второй мировой войне.
В форме офицера Шотландской гвардии, Эдинбург (слева); на аудиенции у королевы Елизаветы II (справа).
С Шер (слева); справа: афиша фильма «Чай с Муссолини» (1998) (в центре); с Байрдом Уоллесом и Чарли Лукасом, которые сыграли «меня» (слева).
Фотография с дарственной надписью от Джуди Денч и Мэгги Смит (слева); с Байрдом Уоллесом (справа).
Валентина Кортезе и Сильвио Берлускони поздравляют меня с присвоением титула сэра.
Владимир Путин и Сильвио Берлускони вручают мне премию.
С Хилари Клинтон на праздновании Дня Колумба в Нью-Йорке.
На параде на Пятой авеню.
В Токио моим именем назвали улицу перед Императорским театром.
«…Маэстро Дзеффирелли, полив свой саженец, прошествовал дальше по Волхонке, в Музей личных коллекций, — показывать свою выставку. Выставка не подкачала. Понятно, конечно, что эскизы не передают впечатления от всей постановки в целом; понятно, что при мировой славе Франко Дзеффирелли аналогичные выставки уже проходили не раз и в самых разных странах, но, видя её впервые, невозможно уйти без довольно яркого и сильного впечатления. Удивительно, что, несмотря на присутствие относительно минималистических или даже абстрактных эскизов, все эти многочисленные подготовительные рисунки к постановкам Верди, Россини, Беллини кажутся смутно знакомыми даже человеку, который этих постановок не видел и глазком. Педантично и аккуратно вырисованные исторические интерьеры да и весь дзеффиреллиевский вкусный и обстоятельный „большой стиль“ в виде эскизов неминуемо навевают воспоминания о „Русских сезонах“, о Бенуа, Баксте, Судейкине, с таким же упоением корпевших над сценографическим воспроизведением то готики, то барокко, то Египта, то Японии. Так что, вероятно, когда Франко Дзеффирелли высказывал своё восхищение и преклонение перед русской художественной культурой, это с его стороны была не только дежурная вежливость».
«Коммерсант», автор Сергей Ходнев, 12 мая 2004
«Я люблю Россию и русских, поэтому часто сюда приезжаю. Мои друзья открыты и независимы в своих суждениях, я очень хорошо понимаю их, мы разделяем общее пространство идей. Правда, я не так много общаюсь с бизнесменами. Я знаю в основном людей, связанных с искусством, культурой. Среди моих друзей такие замечательные личности, как Куснирович, Гафин, Михалков.
Если говорить о стране вообще, о русской культуре… меня потрясает то, что та самая „душа России“, которая Европе кажется таинственной загадкой, пройдя через все испытания и трагедии современной истории, не изменилась. Мистическим образом на уровне ДНК вы сохраняете наследие великой культуры».
«Известия», автор Наталья Минеева, 13 мая 2004
«Франко Дзеффирелли — Спасибо! Прекрасно знать, что человек может быть так богато одарен и все его искусство — это красота, устремление вверх к прекрасному. Спасибо за фильм „Калласс навсегда“, который дает нам возможность услышать ее прекрасный голос и замечательные картины Маэстро! Спасибо за возможность соприкоснуться с Вашим грандиозным талантом! Будьте здоровы и счастливы!».
З. Буркина, пенсионерка, 72 г.
«Была на Вашей выставке четыре раза. Грандиозно. Спасибо».
Т. Пономарева
Открытие выставки «Искусство спектакля» в ГМИИ им. Пушкина в рамках ОФИ «Черешневый лес» (с В. Васильевым, И. Антоновой, посолом Италии в РФ Франко Бонетти, О. Янковским, М. Швыдким, И. Цискаридзе).
Архив Фестиваля «Черешневый лес».
С Ириной Антоновой и Галиной Волчек.
ГМИИ им. А. С. Пушкина, г. Москва, 2004 г. Архив Фестиваля «Черешневый лес».
О. Янковский и И. Дапкунайте приветствуют Ф. Дзеффирелли на открытии киноретроспективы его фильмов на Фестивале «Черешневый лес».
Москва, 2004 г. Архив Фестиваля «Черешневый лес».
В работе над оформлением выставки.
Архив Фестиваля «Черешневый лес».
В работе над оформлением выставки.
Архив Фестиваля «Черешневый лес».
Ф. Дзеффирелли дает интервью журналу BOSCOMAGAZINE.
Оливия Хасси и Леонардо Уайтинг. Фильм «Ромео и Джульетта», показанный в рамках киноретроспективы Фестиваля «Черешневый лес», г. Москва, 2004 г.
Архив Фестиваля «Черешневый лес».
В работе над оформлением выставки.
Архив Фестиваля «Черешневый лес».
Ф. Дзеффирелли в кабинете у М. Куснировича.
Нога наверх, за окном Красная площадь. Может себе позволить.
Ф. Дзеффирелли в походе по ГУМу.
«Цвет понравился и удобно. Заверните!»
«Надо сказать, что Дзеффирелли зачастил в Москву. Совсем недавно он работал в Большом над „Травиатой“, получал „Золотого Орла“ на „Мосфильме“ за вклад в кинематограф. И теперь вновь он посетил Москву, и опять в новом амплуа. Хорошо, если устроители „Черешневого леса“ сделают все то, что прилюдно обещали, — издадут на русском языке книгу воспоминаний режиссера. Будет лишний повод еще раз посетить Москву… Хорошо аннотированный каталог представленных в Пушкинском музее работ уже издан…»
Газета «Культура», 20–26 мая 2004 г., автор С. Хохрякова
«На открытии выставки из официальных лиц в неофициальной обстановке можно было наблюдать главу Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкого и Посла Италии Джанфранко Факко Бонетти. На церемонию съехалась вся светская Москва. Были Олег Янковский, Антон Табаков, Дмитрий Шолохов, Сати Спивакова и Владислав Флярковский, актеры Лев Дуров, Лия Ахеджакова, Игорь Кваша, театральный художник Павел Каплевич, Глава Фонда „Русский силуэт“ Татьяна Михалкова, куратор выставки Дзеффирелли Борис Мессерер, звезда балета Николай Цискаридзе, президент группы компаний „Тройка Диалог“ Рубен Варданян…»
«Независимая газета», 15 мая 2004 г., автор В. Чернышева
«Дорогой господин Дзеффирелли! Какое счастье, что в век Макдоналдса, MTV, Тарантино и иных суррогатов подлинной культуры у нас есть Вы — великая и прекрасная рептилия высокой гуманистической культуры, наследник и продолжатель дела несравненного и незабвенного Лукино Висконти! Люблю все, что Вы сделали в искусстве: и Ваши фильмы, и Ваши оперные постановки, и Ваши работы как театрального художника. Большинство современных режиссеров и, тем более, художников театра и кино — карлики в сравнении с Вами. Благодарю Вас за все, обнимаю и желаю одного — здоровья и долгих лет жизни.
Искренне Ваш».
Г. Агеев, Директор Национального Филармонического оркестра
«Сегодня, 3 июля 2004 г., решили пойти на выставку Дзеффирелли, но никак не ожидали, что это настолько ПРЕКРАСНО! Хочется приходить сюда снова и снова, и неуставать восторгаться великой, грандиозной проработанностью каждой детали картины или костюма! В полном восхищении!»
О. В. Силоменко и Е. В. Крючкова, г. Москва
«Что бы я ни делал — в театре или кинематографе, — я всегда обращаюсь к публике. Реакция публики для меня — самое главное»
«Независимая газета», 13 мая 2004 г., автор Г. Заславский
«Я восхищаюсь Вашим искусством. Все Ваши работы отличаются эстетической выразительностью. Такие фильмы и спектакли может ставить только человек, обладающий художественным вкусом. Я уверена, что если бы Вы выбрали профессию архитектора, то и в этой области прославились бы не менее. Ваши работы гениальны и необычайно красивы! Спасибо, я получила от выставки огромное удовольствие. Особенно понравились графические эскизы к фильму „Ромео и Джульетта“».
Женя, студентка Московского архитектурного института
«Выставка произвела неизгладимое впечатление. Она поможет мне в выборе профессии театрального художника».
Варя Гончарова, 9 лет
«Преклоняюсь перед творчеством великого мастера из Италии! Долгих Вам лет жизни!»
Раиль Алекс, художник из Сибири г. Енисейск, Красноярский край
«„Талантливый человек талантлив во всем“ — так говорят. Вы продемонстрировали правдивость этого изречения, не нравится Ваша эстетика и чувство ритма, теплота и любовь в исполнении Ваших объектов (костюмы, картины, образы). Живое чувство — вот что, конечно же, наиболее ценно в наше отделанное цивилизацией время, и разумеется — такт. Жить красиво, дышать красиво, делать красиво, что как ни это угодно природе! Я — художник. На данный момент не столь известный нежели Вы, хотя мои работы есть в Русском музее, Вологодском музее и музее г. Ярославля. Я счастлива соприкоснуться с Вашим творчеством!»
Н. Шапкина-Корчуганова, г. Москва
«Этот фейерверк красок, идей, тканей завораживает! Огромное спасибо всем, кто организовал эту выставку. Театральный костюм предстает во всем великолепии, опровергая предубеждение, что условность театрального действа означает принижение самого понятия „костюм для сцены“. Прекрасно задуманные и виртуозно выполненные костюмы не просто дополняют живописные эскизы, но и утверждают свою самоценность».
М. Колева, МХТ им. А. П. Чехова
«Спасибо организаторам выставки: это блестящая идея показать костюмы и эскизы живьем. Много таланта, энергетики дал Бог маэстро Дзеффирелли! Спасибо и ему, и Богу за это!»
Художник по костюмам, «Ленфильм», г. Санкт-Петербург
Указатель имен
Аарон, Адина 431, 432.
Айронс, Джереми 436.
Аллазио, Мариза 176.
Альбертацци, Джорджио 136,216,217.
Альфани Теллини, Инес 97, 99.
Аммар, Тарак бен 333–335, 342, 344.
Анатели, Ладо 450.
Анкона, Рауль 46, 50, 59, 60.
Анни, Анна 148, 479, 480.
Аннигони, Пьетро 43.
Антониони, Микеланджело 149.
Антонова, Ирина 472, 475.
Ардан, Фанни 436, 440.
Аррупе, Педро 258, 262, 264, 274.
Астер, Фред 345.
Асти, Адриана 268, 269, 482.
Бамбри, Грейс 273.
Банделло, Маттео 36, 196.
Банкрофт, Энн 306.
Барбер, Сэм 245.
Барбьери, Клаудио 153.
Бардо, Брижит 138, 385.
Бардуччи, Алиджи по прозвищу Сила 62, 64, 68, 80, 81.
Барро, Жан-Луи 137.
Бартон, Ричард 178, 227, 229–231, 235, 242–246, 249–251, 254, 266, 369.
Барышников, Михаил 349, 414, 415.
Бати, Гастон 98.
Баччиелли Дзеффирелли, Лучано 337, 338, 422, 444, 445.
Бейтс, Алан 374.
Бекаттини, Алаида 18, 24–30, 33, 36, 37,41,42, 86,88,91, 93,99, 119, 136, 155, 194, 200, 201,222, 254, 256–259, 262, 263, 265, 274, 293, 337, 421,445, 486.
Беки, Джино 153.
Беккер, Жак 138.
Беллецца, Маурицио 349.
Беллини, Винченцо 167, 168.
Бенасси, Мемо 99, 100.
Бентхолл, Майкл 189, 196–198.
Берганца, Тереза 174.
Бергер, Хельмут 338.
Бергман, Ингмар 296, 334.
Бергонци, Карло 431.
Берджесс, Энтони 301, 303, 376.
Беренс, Хильдегард 349.
Берлускони, Сильвио 346, 347, 357, 358, 397–399, 402, 405, 407, 412, 440, 444, 475, 476.
Бернстайн, Леонард 160, 167–169, 219, 220, 245, 273, 280, 330, 331, 335, 349, 379–381, 413, 466.
Бернстайн, Фелисия 381.
Бетти, Лаура 482.
Бетховен, Людвиг ван 277–279.
Бизе, Жорж 187, 329, 330, 332.
Бинг, Рудольф 219, 220, 245.
Бири, Уоллес 41, 325.
Битлз 197, 250, 266, 281, 282, 335.
Бладхорн, Чарли 254, 255.
Бозе, Лючия 259, 482.
Бойто, Арриго 323, 331, 351, 352.
Бойто, Камилло 150.
Боккаччо, Джованни 36.
Болоньини, Мауро 148, 161, 479, 483.
Бониндж, Ричард 180, 191, 201.
Бониперти, Джампьеро 384.
Бонфаделли, Стефания 438.
Бонэм-Картер, Хелена 374.
Борбони, Паола 347.
Бордоне, Кармело 49, 52, 54, 55, 58, 60, 71, 107, 119, 120, 482.
Борманн Хорст, Пол 143.
Боттичелли, Сандро 386.
Бочелли, Андреа 368.
Брандо, Марлон 135, 210.
Браунинг, Роберт 418.
Браунинг, Элизабет Барретт 418.
Бронте, Шарлотта 403.
Брузон, Ренато 438.
Брунеллески, Филиппо 80, 486.
Брэборн, Джон 235, 237, 238, 251.
Бургиба, Хабиб 179.
Буччеллато, Бенедетта 378.
Буш, Барбара 402, 403.
Буш, Джордж 402.
Бьянкини, Альфредо 49, 60, 94–97, 120, 121, 265, 280, 346, 480.
Вагнер, Рихард 36, 133.
Вада, Эми 471.
Вадим, Роже 138.
Валентино, Родольфо 41, 109.
Валери, Франка 482.
Ван Гог, Винсент 330.
Вард, Теренс 263, 264, 274.
Вельтрони, Уолтер 463.
Венизелос, Евангелос 440.
Верга, Джованни 124, 187, 232, 394.
Верди, Джузеппе 21, 73, 150, 151, 153,158, 174, 219, 220, 276, 323, 330–333, 341, 350–354, 392, 393, 396, 429–433, 437, 451, 494.
Вертмюллер, Лина 281, 282, 445.
Видал, Гор 275.
Видор, Кинг 325.
Висконти, Джузеппе 129.
Висконти, Лукино 92–104, 106, 109–111, 121–125, 127–141, 143–145, 147–152, 154, 162–169, 174–176, 178, 190, 198, 199, 201, 204, 206, 208–212, 214, 216, 223, 225, 226, 231, 233, 263, 270, 271, 276, 281, 287, 288, 304, 314, 315, 324, 338, 366, 398, 409, 411, 417, 468, 469, 479.
Висконти, Уберта 128–130, 287, 288.
Витти, Моника 217.
Войт, Джон 326.
Гаваццени, Джанандреа 206, 288, 320, 393.
Галли-Мари, Селестин 329, 330, 332.
Гандини, Марко 468, 469.
Гараттони, Вирджиния 93, 94, 97.
Гарози, Алаида 23, 24, 27, 32.
Гасдия, Чечилия 347.
Гассман, Витторио 95, 99, 130, 135, 216.
Гастель, Нан 128.
Гварньери, Аннамария 194, 232, 233, 482.
Гварньери, Эннио 344.
Гейбл, Кларк 253.
Гейнсбург, Шарлотта 406.
Гендель, Георг Фридрих 191, 249.
Георгиу, Ангела 365, 450, 485.
Геффен, Дэвид 423.
Гибсон, Мел 311, 369–371, 373–380, 406.
Гилгуд, Джон 200.
Гиннесс, Алек 282.
Гир, Ричард 442.
Гирингелли, Антонио 153, 154, 156, 157, 160,163, 165, 167, 168, 177, 207.
Гитлер, Адольф 40, 47, 50, 52, 53, 59, 62, 78, 84.
Глобус, Йорам 350, 356.
Глотц, Мишель 290.
Глюк, Кристоф Виллибальд, 172.
Гобби, Тито 153, 217, 451.
Гойя, Франсиско 58.
Голан, Менахем 350, 356.
Гольдони, Карло 147.
Гоццоли, Беноццо 462.
Грант, Кэри 345, 408.
Грасси, Паоло 318.
Грейвс, Роберт 228.
Грейд, Лью, 230, 296, 297, 301, 303, 311, 313, 356.
Гримальди, Ренье, князь Монакский 320.
Гулегина, Мария 455.
Д’Амико, Мазолино 199, 245.
Да Винчи, Леонардо 20, 43, 121, 182, 188, 438, 470, 489–493.
Да Порто, Луиджи 36.
Дали, Сальвадор 130–132, 134.
Далла Коста, Элия 60.
Данауэй, Фэй 327.
Данте, Алигьери 236, 237, 271, 289, 292, 359, 361, 379, 413.
Дарвин, Арнольд 388, 389.
Даунс, Доналд 84–88, 102–104, 106, 108, 109, 111, 126–128, 130, 134, 135, 192, 193, 275, 276, 287, 327, 415–417.
Де Лаурентис, Дино 243, 272.
Де Лулло, Джорджио 101, 136, 216.
Де Сабата, Виктор 153, 157, 425.
Де Сантис, Паскуалино 267.
Де Сика, Витторио 102, 212.
Де Филиппо, Эдуардо 188, 286, 287, 294, 296, 322, 418, 447.
Деветци, Васса 290, 291, 321, 323, 324.
Дега, Эдгар 152.
Делла Роббиа, Лука 486.
Дель Монако, Марио 153.
Денч, Джуди 197, 418, 445, 494.
Джаннини, Джанкарло 232, 233.
Джейкоби, Дерек 228.
Джексон, Майкл 423.
Дженнарини, Эмилио 303.
Джотто 80.
Джулини, Карло Мария 154, 160, 178.
Дзаваттини, Чезаре 144.
Дзампа, Луиджи 104, 105, 231, 479.
Дзаннони, Джованнелла 403.
Дзеласки, Мауриция 225.
Ди Бартоло, Нанни 90.
Ди Стефано, Витторио 263.
Ди Стефано, Джузеппе 153, 163, 166.
Диас, Хустино 350, 352.
Дойч, Хелен 108, 109, 111, 202.
Доменичи, Леонардо 503.
Доминго, Пласидо 279, 288, 289, 317, 319, 336, 343, 346, 349, 350, 352, 354, 366, 369, 392, 413, 425, 438, 445, 450, 455.
Донати, Данило 148, 243, 267, 480, 483.
Доницетти, Гаэтано 163, 173, 179, 451.
Донован (пвевдоним Донована Филипса Лейтча) 280.
Достоевский, Федор 98, 454.
Дузе, Элеонора 100, 178.
Дэвис, Бетт 345.
Дюкс, Пьер 316.
Дюма, Александр 111, 292.
Дюпен, Жан Анри 331.
Дягилев, Сергей 138, 193, 220, 348.
Елизавета II, королева Великобритании 221, 476.
Жером, Реймон 226.
Жид, Андре 137,141.
Жиро, Эрнест 331.
Жуве, Луи 137.
Ибсен, Генрик 449.
Ивенс, Герейнт 451.
Инноченти, Гвидо 68, 262.
Инноченти, Эрсилия 25, 26, 33, 34, 40, 284.
Иоанн Павел II 390, 445.
Исозаки, Арата 460.
Йорк, Майкл 228, 306.
Каган, Билл 256, 293, 426.
Казан, Элиа 135.
Казандзакис, Никос 296.
Каллас, Мария 125, 133, 134, 138, 153, 155–160, 162, 163, 165–178, 180, 181, 183–187, 191, 214–219, 221, 222, 235–241, 251, 273, 289, 290, 293–296, 315, 321–324, 334, 342–345, 349, 350, 363, 366, 406, 409, 434–437, 439, 440, 442, 450, 451, 455, 467.
Кальвино, Итало 439.
Кантелли, Гвидо 154.
Канцлер, Розмери 333.
Каппуччилли, Пьеро 317, 319.
Караян, Герберт фон 125, 207, 238–240, 279, 393, 467.
Кардинале, Клаудиа 306.
Карозио, Маргарита 156.
Каррерас, Хосе 342, 343.
Карсавина, Тамара 193, 414.
Картери, Розанна 166.
Каттелан, Маурицио 439.
Катценберг, Джефф 423.
Кезич, Туллио 421.
Келли, Грейс 320, 321, 434.
Келли, Ларри 169, 173.
Кеннеди, Джон Фицджеральд 216, 245, 439.
Кеннеди, Жаклин 140, 434.
Кеннеди, Этель 244.
Кеннеди, Роберт 244, 245, 250.
Кесслер, Алиса 194, 413, 445.
Кесслер, Эллен 194, 413, 445.
Кийт, Гарри 76–80, 81, 84, 408.
Клейбер, Карлос 317, 319, 320, 328–330, 347, 348, 352, 363, 367, 380, 381, 393, 396, 410, 413, 455, 471–472, 485.
Клифт, Монтгомери 244.
Клоуз, Гленн 374–376.
Коблин, Роберт 423, 427.
Кокто, Жан 86, 137, 138, 143.
Колдуэлл, Эрскин 92, 93.
Колетт, Сидони-Габриэль 423.
Кольбер, Клодетт 413, 465.
Коппола, Френсис Форд, 283, 471.
Корелли, Франко 151, 166, 273.
Корси, Коринна 22, 23, 52, 88, 495.
Корси, Олинто 20, 22, 44, 46.
Корси, Отторино 20, 22, 24, 27, 71.
Корси, Фанни 26, 69, 88, 98, 99, 144, 170, 222, 246, 262, 495.
Кортезе, Валентина 346.
Коссига, Франческо 406.
Коэн, Леонард 280.
Крейг, Эдвард Гордон 365.
Креши, Джан Паоло 391, 395.
Кросс, Беверли 417.
Кубрик, Стэнли 368.
Куинн, Энтони 220, 306, 313.
Купер, Джеки 41, 325.
Куросава, Акира 471.
Куснирович, Михаил 457, 458, 472.
Кьюкор, Джордж 345.
Кэллоу, Саймон 228.
Кэмен, Стэн 325, 326.
Ла Пира, Джорджо 43, 61, 62, 278.
Лабелла, Винченцо 303.
Лавия, Габриэле 101.
Ланг, Джессика 423.
Ланкастер, Берт 210, 303.
Лаури Вольпи, Джакомо 356, 357.
Левин, Джеймс 343, 356, 371, 477.
Леммон, Джек 326, 345.
Леонкавалло, Руджеро 28, 391, 392, 451.
Лерман, Лео 176, 184.
Летта, Джанни 444, 476.
Ли, Вивьен 135.
Лимато, Эд 369–371.
Лин, Дэвид 481.
Ловелл, Дайсон 305, 311, 373, 374, 407.
Лози, Джозеф 334.
Лозьер, Ашиль де 331.
Лоллобриджида, Джина 259–261.
Лорен, София 211, 212, 230, 259.
Лукерини, Энрико 211, 212.
Маазель, Лорин 346, 350.
Мазурок, Юрий 456.
Макиавелли, Никколо 488, 490, 492, 493.
Маккауэн, Алек 197.
Маккеллен, Иен 228.
Макнэлли, Теренс 436.
Мангано, Сильвана 259.
Манфреди, Нино 175.
Маньяни, Анна 102, 104–106, 108, 125,145, 210–214, 220, 231–234, 293–295, 324, 406, 413, 453.
Мартон, Ева 364.
Марэ, Жан 137, 139.
Масканьи, Пьетро 28, 187.
Мастроянни, Марчелло 136, 212, 216, 230, 306.
Матисс, Анри 143, 161, 223, 472.
Мать Тереза 17, 87, 139, 271, 300, 301, 361, 362.
Медичи, Лоренцо 42.
Медичи, Мария 192.
Менгерс, Сью 326.
Менегини, Баттиста 133, 156, 158, 159, 163, 169, 170, 174,184, 215, 292, 323, 324.
Менотти, Джанкарло 246.
Мериме, Проспер 329.
Мета, Зубин 348.
Микеланджело, Буонарроти 43, 46, 90,121, 248, 249, 278, 279, 283, 357, 386, 485, 486, 488, 489, 491, 492.
Миллер, Артур 144, 217, 439.
Милцинер, Джо 135.
Миннелли, Винсент 345.
Миннелли, Лайза 292, 413.
Мирабелла, Грейс 294.
Модильяни, Амадео 330.
Модин, Мэтью 369.
Мольер 285, 293.
Монджардино, Ренцо 240, 243, 351.
Монро, Мэрилин 202, 203, 217.
Монтан, Ив 137.
Монтеверди, Клаудио 172, 192, 276, 290, 292.
Моравиа, Альберто 211, 212.
Моранте, Эльза 110.
Морелли, Рина 99, 130, 135, 232.
Моро, Гюстав 208, 348.
Мортимер, Джон 418, 494.
Моцарт, Вольфганг Амадей 23, 25, 200, 379, 478.
Муссолини, Бенито 24, 26, 27, 39, 47, 50, 52, 53, 60, 69, 78, 84, 85, 87, 92, 102, 229, 421.
Мути, Риккардо 320, 392–395, 484.
Мэйсон, Джеймс 306, 313.
Мюрже, Анри 207.
Мюссе, Альфред де 316.
Найтингейл, Бенедикт 378.
Нальдини, Васко 186.
Наннуцци, Армандо 312, 376.
Нижинский, Вацлав 193, 414, 415.
Николаевич, Сергей 458, 459.
Нобили, Лиладе 174, 194, 208, 320, 351, 396.
Нуреев, Рудольф 413, 414.
О’Нил, Мэри 38, 39, 52, 76, 77, 89, 181, 417.
Образцова, Елена 455, 456.
Одизио, Уолтер (полковник Валерио) 85.
Оккетто, Акилле 397.
Олби, Эдуард 209, 210, 226, 227, 232, 439.
Олдрин, Эдвин 339.
Олдрич, Кейт 431, 432.
Оливье, Лоуренс 89, 156, 188, 216, 225, 227, 228, 250, 284–287, 293, 305, 306, 312, 313, 322, 369, 413, 417, 447.
Онассис, Аристотель 159, 184, 185, 191, 214, 215, 217, 222, 235–241, 315, 324, 434.
Ораци, Клаудио 466–468, 471, 472, 485.
Орен, Даниэль 468, 473.
Ориана, Лоуренс 440.
Орсини, Умберто 232.
Ортолани, Риц 281.
Паваротти, Лучано 392–394, 425, 426.
Павел VI 277, 278, 296, 297, 299, 321, 376, 389, 390.
Павлова, Анна 193, 414.
Павлова, Татьяна 99.
Паволини, Коррадо 149, 150, 154, 155, 160.
Падре Пио 58, 59.
Пазолини, Пьер 178, 338, 344.
Пайпер, Скотт 431, 432, 438.
Палаццески, Альдо 439.
Панагулис, Алессандро 340.
Паппано, Энтони 450, 451.
Паркер-Боулз, Камилла 448.
Парравичини, Камилло 91.
Парри, Наташа 254.
Пауэлл, Роберт 306, 310, 313, 369, 445.
Пачино, Аль 282.
Пек, Грегори 326, 345, 413, 465.
Пенн, Шон 369.
Перголези, Джованни Баттиста 97.
Пери, Якопо 192.
Петаччи, Клара 85.
Пиаф, Эдит 137.
Пий XI 49, 50.
Пикап, Роналд 228.
Пикассо, Пабло 103, 138, 224, 271.
Пиньятаро, Сальваторе 400, 401.
Пиранделло, Луиджи 101, 117, 126, 226, 347, 377–379, 442, 446–450.
Пишотто Дзеффирелли, Джузеппе (Пиппо) 264, 265, 273, 274, 277, 284, 288, 312, 325–327, 337, 380, 422, 426, 444, 445, 452.
Пламмер, Кристофер 306.
Плоурайт, Джоан 284–287, 417, 418, 436, 445, 447, 494.
Поли, Паоло 480.
Понти, Карло 175, 176, 211, 212.
Пратолини, Васко 137.
Претр, Жорж 221, 321, 366, 434.
Проклемер, Анна 216.
Пруст, Марсель 121.
Путин, Владимир 475.
Пуччини, Джакомо 207, 218, 276, 338, 341, 349, 363, 366, 367, 425, 451, 472.
Пьетранджели, Антонио 144.
Раймонди, Джанни 206.
Раньери, Катина 281.
Редгрейв, Ванесса 395.
Редон, Одилон 348.
Ренуар, Жан 92, 138.
Решиньо, Никола 174, 176, 185, 186, 191.
Ридцелл, Джимми 76, 77, 83, 84, 408.
Рикорди, Джулио 331, 468.
Римини, Джакомо 36, 37.
Ритчи, Лайонел 335.
Рич, Клод 316.
Риччарелли, Катя 350, 352.
Робертс, Айвор 476.
Робертс, Джанет 369.
Робинсон, Мадлен 226.
Рози, Франко 150, 175.
Рол, Густаво 158, 268, 319, 362.
Ронди, Джанлуиджи 259, 260.
Ронкони, Лука 101, 484.
Росс, Дайана 335, 345.
Росселлини, Роберто 102, 104, 149,212, 214.
Росси-Лемени, Никола 153, 170.
Россини, Джоаккино 150, 154, 160.
Рота, Нино 199, 228, 254.
Руджери, Джампьеро 130.
Савонарола, Джироламо 42, 43, 488.
Садат, Анвар 335, 336.
Сазерленд, Джоан 180, 183–185, 187, 190–192, 200, 201, 220, 249, 451.
Салазар, Инес 425.
Салерно, Энрико Мария 100, 213, 378.
Сарджент, Джон Сингер 39.
Сартр, Жан-Поль 92, 137, 439.
Семенов, Михаил 108, 193, 414, 466.
Серафин, Туллио 133, 134, 156, 158,172, 173, 179–182, 185, 190, 276, 393.
Симионато, Джульетта 153–155, 160–162, 206, 431.
Синьоре, Симона 137.
Скорсезе, Мартин 356.
Скотт, Вальтер 183.
Скофилд, Пол 374, 385.
Смит, Мэгги 227, 228, 413, 417–419, 445, 494.
Сорди, Альберто 212.
Соччи, Густаво 30, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 86, 88,91, 114, 119, 155, 194, 265.
Спинетти, Виктор 189.
Спинилло, Анжело 42, 49, 57, 457.
Стайгер, Род 306, 310.
Сталин, Иосиф 85, 454.
Стефанелли, Массимилиано 430.
Стивенс, Роберт 227, 228, 254.
Стинг 413.
Стоппа, Паоло 99, 130, 232.
Стравинский, Игорь 138.
Страйд, Джон 197.
Страсберг, Ли 202, 203.
Страсберг, Пола 204, 203, 209.
Страсберг, Сьюзен 194, 195.
Стратас, Тереза 336, 341–345, 435, 436.
Стрейзанд, Барбра 326, 345, 354, 392.
Стрелер, Джорджио 101, 214, 366.
Стриндберг, Юхан 228.
Стюарт, Джимми 345.
Сьепи, Чезаре 451.
Тайнен, Кеннет 199, 327.
Тайо, Итало 167.
Таль, Деннис ван 229–231, 251, 289, 384, 386.
Тебальди, Рената 153, 155, 157–160, 169, 431, 455.
Тейлор, Элизабет 227, 231, 232, 235, 242–246, 254, 257, 266, 306, 355, 369, 406, 413.
Теллини, Пьеро 99, 102, 104, 105.
Тирелли, Умберто 480, 481, 483.
Този, Пьеро 145, 148, 160, 161, 167,169, 192, 343, 351, 479–481, 483.
Токвиль, Алексис де 459.
Толстой, Лев 403–405, 454.
Томлин, Лили 420, 494.
Тоньяцци, Уго 212.
Тосканини, Артуро 87, 97, 152, 158, 164, 165, 166, 355, 410, 429, 430.
Тосканини, Валли 158, 165, 167.
Тоцци, Риккардо 403.
Тули, Джон 290, 291.
Феррари, Паоло 175.
Феррати, Сара 99, 213, 232.
Ферри, Алессандра 349.
Финли, Фрэнк 228.
Финни, Альберт 227, 228.
Форд, Джон 176.
Фортуни, Мариано 155.
Франциск Ассизский 66, 265–267, 274, 280–284, 289, 300, 443.
Фраччи, Карла 349, 413.
Фрейд, Зигмунд 113.
Френи, Мирелла 317, 319.
Фридман, Соня 447, 449.
Фуртвенглер, Вильгельм 153.
Фучини, профессор 43–47, 69, 85, 248, 270.
Фучини, Ренато 43, 44.
Уайтинг, Леонард 252, 254.
Уильямс, Теннесси 101, 106, 126, 127, 130, 132, 134,135, 150, 192, 203, 282, 439.
Уллман, Боб 108, 192, 193, 275, 276.
Уоллес, Байрд 420.
Уолтерс, Юджин 282.
Уоткин, Дэвид 312, 313, 376, 494.
Урбани, Джулиано 461.
Уэббер, Эндрю Ллойд 387.
Уэбстер, Дэвид 187, 214, 215.
Фаллачи, Ориана 339–341, 461–464.
Фальк, Росселла 346.
Феллини, Федерико 125, 212, 271, 272.
Цойлен, Мэгги ван 137, 139, 141.
Хайтауэр, Розелла 349.
Харрингтон, Доналд 363.
Харрингтон, Сибил 363, 467.
Харт, Уильям 405–407.
Хасси, Оливия 252, 253, 254, 309, 445.
Хворостовский, Дмитрий 450.
Хейворт, Питер 218, 219.
Хейворт, Рита 108.
Хёпберн, Одри 166.
Хестон, Чарлтон 102.
Холм, Иен 306, 313, 374, 375.
Христов, Борис 153.
Хэвлок-Аллен, Тони 235, 237, 238, 251.
Хэмптон, Кристофер 442.
Чайковский, Петр 348.
Чарльз, принц Уэльский 422, 444, 448.
Чекки Д’Амико, Сусо 130, 233, 240, 281, 282, 287, 303, 304, 376.
Чентолавинья, Карло 468, 469.
Черчилль, Уинстон 60, 229, 412.
Чехов, Антон 149, 203, 293, 449, 454, 457.
Чиприани, Адриана 23, 26, 28, 29.
Чиприани, Альберто 23.
Чиприани, Джулиана 23.
Чиприани, Убальдо 23.
Шагал, Марк 271.
Шанель, Коко 92, 130, 137–143, 161,163, 222, 223, 290.
Шварцкопф, Элизабет 200, 451.
Шекспир, Уильям 16, 39, 89, 130, 132, 136, 189, 190, 196, 199, 203, 228–231, 242, 244, 245, 250, 251, 254, 256, 285–287, 317, 328, 338, 351–354, 359, 360, 366, 369–371, 373, 374, 379.
Шеперд, Джессика 444.
Шеперд, Дик 325, 328.
Шер 419, 420, 423, 424, 494.
Шерман, Мартин 433, 442, 446.
Шиллер, Фридрих 346.
Шмидт, Ларе 226.
Шредер, Рикки 326.
Эйнштейн, Альберт 271.
Эскофье, Марсель 149, 240, 376.