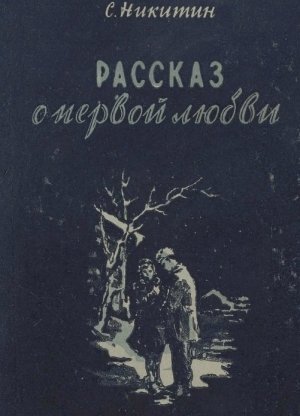
Рассказ о первой любви
Когда мой брат, работавший, по нашей семейной традиции, плотником, ушел на фронт, я остался один-одинешенек не только в большом городе, кишевшем потесненным войною людом, но и во всем белом свете.
Перед отъездом брат, угрюмый, немногословный человек, сказал:
— У хороших людей тебя поселю. Баловать они тебе не дадут.
Он привел меня на окраину города, в дом с палисадником, за которым цвели мальвы, и сдал с рук на руки сморщенной, как печеное яблоко, старухе, бойко сыпавшей словами, точно подсолнуховой шелухой.
— Тебе у нас будет хорошо, — сказала она, провожая меня в комнату, а я смутно почувствовал, что будет наоборот. Привыкший к вольнице неоседлых плотницких бригад, я инстинктивно не доверял домам, где угарно пахло печами, по половикам ходили сонные кошки, на кроватях возвышались горы разнокалиберных подушек, а по углам, точно восковые, стояли фикусы.
Прощаясь, брат, как равному, пожал мне руку.
— Денег тебе не оставлю. Все передам хозяйке. По праздникам будешь получать от нее красненькую. Ну, учись.
И, не оборачиваясь, ушел по широкой, как площадь, окраинной улице, ушел навсегда из моей жизни.
В первые же дни оказалось, что в доме за палисадником самые простые и естественные поступки считались предосудительными. Нельзя было долго жечь электрическую лампочку, громко разговаривать, смеяться, а тем более приводить к себе приятелей.
Я был рад, когда нашу школу заняли под госпиталь. Теперь, сокращая пребывание в неприятном доме, мне приходилось идти через весь город на заводской поселок, где мы учились в недостроенном здании техникума. После занятий не спеша мы возвращались окольными путями домой. По дороге играли в расшибалку с незнакомыми мальчишками или заходили с дружком Сенькой Брагиным к реке, на рынок, в парк, на вокзал…
Кочуя по стройкам сначала с отцом, а потом с братом, я видел много городов, но ни один из них не полюбил так, как этот. Обилием зелени, многолюдностью, темпераментом жителей он напоминал приморские города юга, а вечером, когда над низкой поймой безбрежно разливался туман, эта иллюзия становилась полной. Мне было таинственно-интересно, незнакомому среди незнакомых, бродить по улицам, задевая плечами прохожих, заглядывать в окна домов, зачарованно устремляться вслед шагающим с песней солдатам, а по вечерам стоять на железнодорожном мосту и, вдыхая едкий запах угольного газа, наблюдать, как внизу, словно в тесной яме, ворочаются, шипят, кричат на разные голоса темные махины паровозов.
В этом городе с какой-то обескураживающей внезапностью оборвалось мое детство, и под напором событий я шагнул в скороспелую юность военной поры.
Помню погожий день бабьего лета, с прозрачной, студено-хрупкой высью, с летящей по улицам паутиной, с шорохом палого листа на асфальте, — день, когда нас, восьмиклассников и девятиклассников, вызвали в городской комитет комсомола.
Оттуда я вышел повзрослевшим на несколько лет. Отныне нам вменялось в обязанность следить за состоянием светомаскировки во всем городе, и это была не игра, не мелкое общественное поручение, а облеченная полномочиями должность сотрудника штаба местной противовоздушной обороны. От начальника штаба мы получили именное удостоверение, ночной пропуск и право карать нарушителей штрафом, что особенно поддерживало в нас сознание ответственности и серьезности доверенного нам дела.
Пряча свои новые документы, я сунул руку в карман и нащупал там… рогатку. Я вынул ее, пропитанную желтым лаком, с тугой красной резиной, с узорной рубчатой рукоятью, и, как бы выполняя обряд прощания с детством, незаметно выбросил в мусорную урну.
Ночные бдения еще крепче сдружили меня с Сенькой Брагиным. Теперь у нас была вторая, незримая для других жизнь, которая, как общая тайна, скрепляла нашу дружбу.
Кто видел затемненный город после комендантского часа лишь случайно — засидевшись в гостях и потом украдкой пробираясь домой, — тому он мог показаться пустым, враждебным и зловеще мрачным. Но мы ощущали его иным. Шагая по гулким улицам, мы замечали то коротко вспыхнувший фонарик патруля, то в какой-то момент тишины и безветрия вдруг улавливали обрывок разговора зенитчиков на крыше дома, то останавливались, испуганные нечеловеческим звуком, каким заканчивается судорожно-сладкий зевок дежурного дворника, и в это время мы, двое мальчишек в кургузых поношенных пальтишках, наравне со всеми бодрствующими людьми, несущими охранную службу, были тоже в стане хранителей города, с полным сознанием своего долга барабаня озябшими пальцами в окна домов, аптек и магазинов: граждане, будьте бдительны!
У вокзала, возле мрачных пакгаузов и зерновых складов, на высоком фундаменте из белого камня стоял длинный одноэтажный дом. Дважды мы заставали одно из его окон зиявшим, как светлая брешь в непроглядной ночи, и тут же принимали соответствующие меры: Сенька становился мне на плечи, дубасил кулаком в раму; за окном происходило движение каких-то теней, и падал, разворачиваясь, рулон маскировочной бумаги. Но в третий раз мы решили составить акт о нарушении правил светомаскировки. Вошли в сени, нащупали клеенчатую дверь и постучали. Наверно, у нас был очень зловещий вид, потому что девушка, открывшая дверь, отпрянула в глубь комнаты и срывающимся голосом позвала:
— Папа!..
А у меня вдруг гулко застучала в висках кровь, надолго окутав сознание какой-то вязкой, отупляющей пеленой. Все дальнейшие события я воспринимал сквозь нее, став послушным исполнителем Сенькиной воли, которая неожиданно оказалась столь непреклонной, что потом я невольно проникся еще большей симпатией к своему другу.
Когда из соседней комнаты вышел плечистый мужчина в расстегнутом железнодорожном кителе, Сенька показал ему свой документ и объяснил, зачем мы пришли.
— Очень устаю, ребята, и забываю опустить у себя в кабинете маскировку, — сказал мужчина.
Он не оправдывался, ни единой ноткой своего голоса не просил о снисхождении, и это особенно располагало к нему, но Сенька с ледяной неподкупностью потребовал:
— Дайте, пожалуйста, чернила и бумагу, товарищ хозяин.
Он составил акт по форме, данной нам начальником штаба противовоздушной обороны, подписал его, предложил подписать мне, потом хозяину, и мы вышли.
Только на улице я очнулся от своего оцепенения и с уважением посмотрел на маленького, съежившегося от холода Сеньку, который не в пример мне проявил такое спокойно-деловитое мужество.
— А девчонка-то — заметил? — из нашей школы, — небрежно бросил Сенька.
Чудак! Ну кто же мог не заметить Алю Реутову!
Все мы — и я, и Сенька, и еще добрая половина мальчишек нашего класса — были тогда тайно влюблены в девятиклассницу Алю Реутову. В каждой школе есть такая властительница мальчишеских дум, даже не подозревающая, каким дружным поклонением она окружена. В присутствии этой девушки с прищуренными лукавыми глазами мы переставали быть самими собой: одни становились робкими, тихими, другие, наоборот, неестественно возбужденными и дурашливо-шумными. На переменах, проходя мимо девятого класса, мы во все глаза смотрели на нее. Но случись кому-нибудь перехватить взгляд этих прищуренных глаз, как счастливец моментально вспыхивал и отворачивался. Эта игра была томительной и сладкой, и те дни, когда Аля почему-либо не приходила в школу, были для нас днями тоски, непонятной лени и рассеянности.
«Теперь мы оба сожгли свои корабли», — подумал я, и против ожидания эта мысль вызвала во мне чувство облегчения и какой-то обновленности, точно жизнь моя круто повернулась к лучшему.
Наутро я шагал в школу, полный гордого сознания своей независимости, неся на губах презрительную усмешку для тех, кто еще не понял радости быть свободным от властного притяжения прищуренных глаз Али Реутовой и кто в своей ослепленности еще находил их лукавыми, тогда как для меня они были просто близорукими. Юнец! Я и не подозревал, что это заземление ее образа откроет мне в нем новые стороны, осветит новым очарованием, даст ему еще более неодолимую силу притяжения и что теперь Аля Реутова не пройдет в моей жизни бесследно, как прошла бы, оставаясь недосягаемо-прекрасной, неземной Алей, окруженной ореолом вымышленных нами достоинств.
В этот же день на большой перемене Аля подошла ко мне и категорически заявила:
— Я записываю вас в драмкружок.
Я мог ожидать, что она заговорит со мной о нашем ночном визите, но уж никак не о драмкружке, и приготовился к замаскированному подвоху с дальним прицелом.
— Но я не умею играть, — осторожно сказал я, чувствуя, однако, что щеки мои сжигает жар.
— Научитесь, — уверенно сказала Аля. — Надо только уметь перевоплощаться. Я записываю вас.
Я знал, что сама Аля готовится стать актрисой и, полагая, будто нет выше призвания служить искусству сцены, не примет никаких возражений даже от нескладного, долговязого парня с бровастым лбом и большими рабочими руками. И я сдался.
Друг Сенька по поводу моего вступления на сценическое поприще высказался так:
— Штаны у тебя драные и валенки проволокой подшиты. А-р-р-р-тист!
Кружковцы дали мне роль Лопахина в «Вишневом саду».
— Музыка, играй! Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить! — ревел я и буйно размахивал руками, точь-в-точь как это делал, бывало, мой подвыпивший отец.
Раневскую играла Аля, и я должен был пожимать ей руку. Пальцы у нее были такие нежные, что я мог бы раздавить их, словно гроздь винограда. Нетвердыми шагами (Лопахин был пьян) я подходил к столу, на который она беспомощно облокотилась, брал эти пальцы в свою большую горсть и тихим от нежности голосом говорил:
— Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь.
Тихого от нежности голоса, по мнению режиссера, не получалось…
Постепенно я привык к Але и уже не цепенел в ее присутствии от смущения. Застенчивость пропала, и тогда появилось необоримое желание быть всегда около нее, слышать ее голос, видеть ее плавные, немного наигранные движения: вот она подняла руку, вот поправила тяжелые волосы, вот села, вот встала, пошла…
Однажды у нас в школе появился маленький раскосый парнишка, сдернул у входа ушастую шапку, спросил, где найти директора, и быстро побежал на второй этаж, обметая лестницу полами длинного тулупа. А после уроков директор объявил, что комсомольцы пригородного совхоза просят наших кружковцев выступить у них.
В совхоз нас везли мохнатые рыжие кони, бежавшие упрямо-однообразной трусцой и круто фыркающие на подъемах. Стоял март, но оттепелей еще не было, и даже днем, когда в стылой мартовской сини плавало туманное солнце, все равно дул, свистел, рвал жесткий ветер, переметая сухой, колючий снег.
В совхозном клубе царил застоявшийся промозглый холод; Аля, утонув подбородком в пушистый воротник волчьей дошки, стояла посреди пыльной сцены, презрительно морщилась и капризничала. Уступая причудам своей «примы», драмкружковцы решили вместо «Вишневого сада» показать какую-то маленькую пьеску, а потом что-нибудь спеть и потанцевать.
Ни Аля, ни я не были заняты в этой пьеске и остались за кулисами. Кутаясь в дошку, подобрав под себя ноги, она сидела на провалившемся диване, задумчивая, отчужденная, и, не мигая, смотрела на коптящий огонек керосиновой лампы. Вероятно, ей было просто холодно и хотелось домой, но мне (особенно после того, как она задала кружковцам такого трезвону) казалось, что ее тонкую артистическую натуру глубоко оскорбляют и эта пыльная сцена с раскрашенными лоскутьями вместо декораций, и этот продавленный диван, и керосиновая вонь, и сам я со своими подносившимися штанами и подшитыми проволокой валенками. И я был уверен, что никогда не решусь подойти, взять ее руку и не на сцене, а в жизни сказать нежные, проникновенные слова, из которых она поняла бы, что я люблю ее.
Экзамены в то время мы сдавали коротко и просто: сочинение, контрольная работа по математике, и вот перед нами длинное каникулярное лето с июня до октября. Не знаю, что я стал бы делать с такой массой свободного времени, если бы нас снова не послали в тот же совхоз, но уже в качестве подсобных рабочих. Кажется, именно с тех пор я возненавидел пшенную кашу и полюбил тихие деревенские вечера с кваканьем лягушек, писком стрижей под крышей, с росной прохладой, плывущей из поймы. Я часто сиживал один на пороге сенного сарая при конном дворе, где мы ночевали, вслушивался в мирные звуки уходящего дня, и никак мне не верилось, что где-то на этой земле грохочет бой, рвутся снаряды, пляшут красные отблески пожаров и стелется понизу черный дым.
Но война, как всегда, жестоко и грубо заставила нас всех поверить в это. Она вошла в наш город в своем обычном трагическом обличье — с кирпичной пылью развалин, стонами раненых, слезами по убитым… Мы не слышали приглушенных расстоянием сигналов воздушной тревоги и проснулись только тогда, когда увесистые разрывы, непохожие на хлопушечные выстрелы зениток, вдруг потрясли стены нашего сарая. Столпившись у дверей, мы молча смотрели в сторону города, а заметив на облачном небе дрожащий отсвет, не сговариваясь, побежали на него по истерзанной дождевыми потоками дороге.
Я плохо помню эту ночь, вероятно потому, что был одержим одной мыслью: скорей увидеть живую Алю. Когда на мой истерический стук вышла заспанная женщина в длинном халате, очевидно ее мать, я мог произнести только одно слово:
— Аля…
Женщина удивленно посмотрела на меня и сказала:
— А она в деревне, у бабушки.
Быть может, виною тому был спокойно-удивленный тон этих слов, а может быть, мне до обидного напрасными показались мои ночные треволнения, но только я вдруг почувствовал, что меня нагло, несправедливо и насмешливо обманули в чем-то очень большом и важном для всей моей жизни.
Уже светало, когда я шел по улицам, неузнаваемо изменившимся за эту ночь. И перемена была не в том, что кое-где дымились еще теплые развалины, хрустело под ногами битое стекло, что, воя сиренами, проносились машины «Скорой помощи», и не милиционеры, а регулировщики в серых армейских шинелях давали им «зеленую улицу», — нет! Изменился сам дух города, запечатленный, как в зеркале, в посуровевших лицах встречных людей.
Если бы тогда я был более силен в знании жизни и самого себя, то, несомненно, понял бы, что так больно уязвило меня в то утро. Ведь никогда Аля, самый любимый мною на земле человек, не была там, где нам всем приходилось трудно и горько. Быть может, это выходило случайно? Не знаю…
У развалин кинотеатра я встретил Сеньку.
— Сенька, — сказал я ему, — идем добровольцами на фронт.
— Идем, — ответил он.
И мы скрепили это решение клятвенным рукопожатием.
В горвоенкомате мягко, увещевательно отказали в нашей неистовой просьбе, и первого октября для нас начался обыкновенный учебный год с тетрадками, уравнениями, четверками за поведение, а для меня еще и с прежней влюбленностью в Алю Реутову.
Ради того, чтобы чаще видеть ее, я продолжал ревностно исполнять свои актерские обязанности. Однажды случилось так, что после затянувшейся репетиции мы вышли из школы вместе. Я сразу же постарался соблюсти благопристойный интервал в полшага, но Аля с грубоватой усмешкой в голосе сказала:
— Ты бы хоть под руку меня взял. Так скользко, что и шлепнуться можно.
Это, конечно, была не более чем обыкновенная товарищеская просьба, с которой бы она обратилась ко всякому из нас, кто шел с ней после репетиции в одном направлении, но я воспринял эту просьбу как великое счастье.
Была оттепель; тяжелый ветер, пахнущий мокрым снегом, дул из темных провалов улиц, и в голове у меня начинался какой-то ералаш. Благо Аля сама всю дорогу говорила без умолку, так что мне предоставлялась возможность молчать или отделываться разнообразными интонационными вариациями «м-да», значение которых она могла истолковывать, как хотела.
Возле дома Аля остановилась и сказала:
— Можно было бы поговорить еще, но меня сейчас, наверно, позовут.
И действительно, хлопнула дверь, кто-то вышел на крыльцо и окликнул ее.
— Это мама, — заговорщицки шепнула она. Глаза ее зеленовато сверкнули в темноте. — Ты любишь читать?
— Люблю.
— Я тоже люблю. Ты знаешь, конец в книге я сама придумываю, если он мне не нравится.
— Альбина! — еще раз позвали с крыльца.
— Иду! — капризно крикнула она и добавила тихо, для меня: — Мы еще поговорим, потом… Хорошо?
А на другой день, стараясь скрыть смущение, я с нарочитым усердием обивал голиком валенки в сенях у Реутовых. Вопреки моим надеждам, отец сразу же узнал меня и, коротко блеснув усталыми глазами, сказал:
— А тогда по вашей милости мне сто рублей штрафу припаяли.
В комнате, куда я попал из кухни, уютно горела лампочка под большим голубым абажуром с бахромой, которая качалась при каждом ударе дверью, разгоняя по стенам мягкие тени. Здесь мы пили чай, а потом перешли в Алину комнату, сплошь увешанную географическими картами, ковриками, фотографиями и картинками. Все мне нравилось в этом просторном теплом доме (особенно если принять во внимание, что последнее качество было в то время редкостью и ценилось очень высоко), и я старался незаметно притрагиваться ко всем вещам, окружавшим Алю, словно надеялся унести с собой частицу их тепла, чистоты и, может быть, ее самой.
Как-то Аля сказала мне, что летом уедет в Москву учиться. С тех пор меня не покидало тягостное предощущение разлуки, и как бы вне связи с этим я заводил разговоры о том, что учиться можно и здесь, в нашем городе, вспоминал все нелестные для Москвы пословицы: «Москва слезам не верит», «Москва денежки любит», и ясно видел, что моя хитро сплетенная дипломатия ни к чему не приведет.
В десятом классе еще шли экзамены, а мы уже опять работали в совхозе. Рассчитав примерно, когда должна уезжать Аля, я отпросился в город и успел как раз вовремя.
Когда я вошел в знакомый дом и увидел, что все вещи в нем сдвинуты, на полу стоят открытые чемоданы, а у Алиной мамы заплаканные глаза, то понял, что надвинулось то непоправимое и страшное, чего я тайно боялся все это время.
Аля снимала со стены свои картинки. Я не сказал ни слова, а только смотрел на Алю и видел, что у нее тоже заплаканные глаза и красный кончик носа.
— Вот и уезжаю, — сказала она. — Сейчас здесь хаос и все злющие… Ты иди. Мы с тобой увидимся на вокзале. Придешь?
Сзади раздались чьи-то шаги.
— Ну иди же! — требовательно сказала Аля.
Я вышел. Кто-то встретился мне в другой комнате, кто-то поздоровался со мной, но я не ответил. Я направился прямо на вокзал и сел там на лавочку.
По хрустящим шлаковым дорожкам ходили железнодорожники, удивленно и подозрительно посматривая на рослого парнишку в сапогах и в потрепанном пиджаке, сидевшего неподвижно до тех пор, пока не стемнело. Тогда к нему подошла девушка, тоже высокая, но очень тоненькая, одетая просто и тепло, как одеваются в дорогу, и повелительно сказала:
— Пойдем.
Мы отошли в тень вокзальных лип, при каждом дуновении ветра роняющих дождь прелого цвета.
— Я тебе напишу из Москвы. Ты мне тоже напишешь… Что же ты молчишь? — спросила Аля.
— Не уезжай, — глухо сказал я, впервые высказав прямо то, что скрывал до сих пор за полунамеками.
Аля грустно улыбнулась, — так она улыбалась, когда играла Раневскую.
— Ну как же я не поеду?
— Не знаю. Не уезжай…
У вокзала, в полосе приглушенного маскировочным колпаком света, показалась Алина мама. Она нетерпеливо оглянулась по сторонам, потом крикнула:
— Альбина!
— Там при наших неудобно будет прощаться, — сказала Аля.
Мы стояли друг против друга, не решаясь сделать разделяющий нас шаг; она первая потянулась ко мне, взяла за плечи и поцеловала в губы…
Потом я шел за ее поездом прямо по шпалам, а потеряв из виду зыбкий красный огонек последнего вагона, сел на откос в пыльную полынь и заплакал.
«Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь…»
Когда я вспоминаю свою жизнь, наступившую после отъезда Али, она представляется мне плотным сгустком событий, спрессованных в несоразмерно малом объеме времени. За какие-то три месяца я успел проделать внешне простой и прямолинейный, а внутренне трудный и сложный путь от школьной скамьи и полудетских взглядов на мир до стрелковой роты с ее суровым писаным и неписаным уставом жизни.
Первым шагом на этом пути было решение немедленно, как только получу от Али письмо, ехать вслед за ней в Москву. К тому времени у меня назрел окончательный разрыв с хозяевами дома, в котором я жил. Им не нравились мои ночные отлучки, поздний стук в дверь, а мне была противна вся их копеечная жизнь с вечным нытьём над куском хлеба и та, свойственная ограниченным людям нетерпимость к самостоятельности постороннего человека, какую они проявляли по отношению ко мне. Надо было искать работу и переходить в школу рабочей молодежи. «А если так, — рассуждал я, — то не все ли равно, где начинать новую жизнь: здесь ли, в Москве ли…»
Сборы мои были короткими. Очевидно, по наследственности легкий на подъем, я не страшился дальних дорог и незнакомых городов.
Сенька пришел на вокзал провожать меня и принес свое самое драгоценное имущество — гитару и огромную, как противень, готовальню.
— Вот, — хмурясь, сказал он, — загонишь по дороге, если будет туго.
Мимо нас поплыли вагоны. Я вскочил на подножку и через плечо кондуктора смотрел, как уходят назад и в прошлое пакгаузы, зерновые склады, длинный дом на высоком каменном фундаменте и маленькая, сгорбленная фигурка Сеньки, стоявшего на сквозном дорожном ветру…
Путь до Москвы я вспоминал с неохотой. Билет у меня был только до ближайшей станции, а пропуска, который требовался тогда для въезда в столицу, и вовсе не было. Большую часть этого пути я проделал, хоронясь от патрулей и контролеров, под лавочкой, на подножке или за чужими чемоданами на верхней полке.
Алю я нашел легко. Она жила в одном из кривых арбатских переулков, снимая угол у крохотной аккуратной старушки, которая по утрам пила кофе, процеживая его через серебряное ситечко, а потом целый день читала «Поваренную книгу, подарок молодым хозяйкам» или «Войну и мир».
Когда в день приезда я появился у Али, она очень обрадовалась мне.
— Это мой земляк… Смотрите же, это мой земляк… Он из нашего города, земляк, — без конца повторяла она старушке, а потом вдруг спросила, не привез ли я от ее родителей продуктов или денег.
Я сказал, что мне и в голову не пришло зайти перед отъездом к ее родителям.
— Ах, какой ты!.. — с досадой сказала Аля. — Ехать в Москву и не захватить от наших продуктов!
Вечером мы вышли погулять. Вовеки не забуду радостного изумления, охватившего меня, когда под грохот пушек над городом вдруг расцвели снопы ракет и, отражаясь в иззелена-черной воде Москвы-реки, медленно сгорели в вышине. Мы стояли на Крымском мосту, вокруг нас никого не было, и в наступившей после новой вспышки темноте я, смелый от восторга, поцеловал Алю в глаз.
— Теперь салюты каждый день. Иногда даже по два и по три, — сказала она, расправляя пальцем помятые ресницы.
А мне вдруг почему-то вспомнился промерзший совхозный клуб и холодная, отчужденная Аля, пристально смотревшая на коптящий огонь керосиновой лампы. Почему? Но слишком много было в тот вечер отвлекающих обстоятельств, чтобы заниматься этим вопросом.
Утром моросил гнусный ледяной дождичек, какой по странным метеорологическим особенностям климата бывает только в Москве. Переночевав на вокзале, я с тяжелой головой, резью в глазах и противным дезинфекционным привкусом во рту ходил по улицам, читая в витринах «Мосгорсправки» объявления о приеме на работу. Наконец я нашел то, что мне было нужно. Строительная контора (дальше следовало длинное нечленораздельное слово) принимала рабочих разных специальностей, в том числе плотников. Внизу мелкими буквами значилось: «Одиноким предоставляется общежитие». С какой мрачной иронией глянуло это слово на меня, действительно начинавшего ощущать себя одиноким и потерянным в этом огромном городе, окутанном игольчатой пылью дождя!
Мне пришлось ехать на электричке до маленькой дачной станции, где я и нашел строительную контору за сплошным забором из свежего горбушинника, а вечером, претерпев мытарства санобработки, уже старательно оскабливал сапоги на пороге дощатого здания барачного типа, ставшего отныне моим домом.
С Алей я виделся почти каждый вечер. Все время она находилась в каком-то подавленно-раздраженном состоянии и даже радостные известия сообщала мне с нехорошей кривой усмешкой в углу рта.
— Сегодня… — она называла имя знаменитой артистки, — сказала, что у меня очень своеобразное дарование, к которому трудно подобрать педагогический ключ. И это хорошо, но только мне никогда не надо сниматься в кино. Чушь какая-то…
Оживлялась Аля только в те дни, когда получала из дому деньги. Она шла в коммерческий магазин, покупала там сладости и разные деликатесы, ела их с утра до вечера, а спустя неделю спрашивала меня:
— У тебя есть деньги? Дай мне, пожалуйста… Или лучше — вот тебе карточка, иди и выкупи хлеб.
Безрассудный от счастья самопожертвования, я отдавал ей все, что у меня было, а потом с тоской и болью понимал, что скоро опять потеряю ее.
И вот я снова стою на вокзале — незадачливый герой очередной перронной драмы. Как странно, что самые тяжелые минуты моей жизни непременно оказываются связанными с вокзальной сутолокой, с нетерпеливыми вздохами паровоза, с конвульсивно прыгающей стрелкой электрических часов и с тем особенным ароматом перрона, в котором смешались запахи карболки, угольного газа, мазута и металла…
На исходе ноябрь; падает редкий снег, видимый только под колпаками фонарей; мы стоим у поручней вагона, и я в последней надежде лепечу тусклые слова о временных трудностях, о силе воли, о том, что я буду работать изо всех сил, но по счастливому лицу Али вижу, что она уже не моя, что вся она там, за сотни километров отсюда, в спокойной, теплой и уютной жизни родительского дома.
Аля, прощай!
Через несколько дней я проходил приписку в райвоенкомате. Там же мои более осведомленные сверстники научили меня не ждать мобилизации, а идти добровольцем: мобилизованных отправляли в училище, а добровольцев — сразу на фронт. И мы написали одно общее заявление, поставив под ним длинный ряд подписей…
На этом можно было бы закончить мой рассказ, если бы совсем недавно сама жизнь не продолжила его.
Окончив военную академию, я был направлен в Н-скую пехотную часть, путь в которую лежал через город, где началась моя юность. Как преобразился он, скинувший грязно-зеленую маскировочную краску, эту вынужденную одежду войны, и ставший от этого шире, светлей и еще похожей на темпераментный южный город!
До отхода поезда было четыре часа. Купив цветов, я поехал на кладбище. Плакучие кладбищенские березы, шумя, наклонились все в одну сторону — по ветру, и их тонкие ветви трепались, как неприбранные волосы. Яркие летние тени бегали по траве, по холмикам могил, по старым крестам, по серым каменным плитам. Глухонемой сторож, поняв наконец, что мне нужно, проводил меня в глубь кладбища, к чугунной ограде, за которой хоронили воинов, умерших в городских госпиталях, и там я нашел маленький обелиск с пожелтевшей фотографией в траурной рамке и с надписью: «Гвардии рядовой Семен Александрович Брагин, 1925–1944».
Да, по странной прихоти судьбы раненый Сенька был эвакуирован в родной город и скончался в занятой под госпиталь школе, где когда-то впервые открыл букварь.
Конечно, я вспомнил и об Але. Вернее, воспоминание об этой первой робкой любви неистребимо жило во мне всегда, потому что не самое ли это счастливое, трогательное и очаровательное воспоминание юности?
Возвращаясь на вокзал, я прошел мимо ее дома. На крыльце стояла высокая полногрудая женщина и выколачивала ковер, перекинув его через перильца. Прежнюю тоненькую стройную девочку Алю она напоминала разве характерным прищуром близоруких глаз, и я прошел мимо, слегка лишь замедлив шаг. Мне показалось, что если заговорю с ней, то это будет посягательством на прекрасное воспоминание моей юности, чистое, как тот памятный запах цветущих лип, и грустное, как те чужие слова, которые мое воображение наполняло иным, своеобразным содержанием: «Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь…»
Испытание
Выдавая Груздеву аванс на командировку, кассир редакции, любивший удивлять новичков туманной мудростью своих изречений, сказал:
— Поприще требует вашего испытания и соблюдения самого себя… Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
И когда Груздев начертал затейливо-красивый вензель, прибавил:
— А подпись у вас, молодой человек, самоопределяющая.
Если понимать самоопределение как поиск своего места в жизни и обществе, то этим словом старый кассир наиболее точно определил линию бессознательного поведения Груздева. Ему было всего лишь двадцать лет. За эти годы он успел вырасти в полнокровного молодого человека, ощущавшего избыток телесных сил, да научиться кое-как понимать окружающий мир, ограниченный московской квартирой и двумя курсами факультета журналистики.
В редакции, куда Груздев приехал на практику, его заставили обрабатывать письма трудящихся. Человеку, стремящемуся в юношеской запальчивости к немедленным переворотам во всем, что заслуживало хоть малейшего порицания с его стороны, это занятие не могло принести удовлетворения. По мнению Груздева, вся газета — от передовиц до бракоразводных объявлений — носила печать бездушия, казенщины, скуки, и он с нетерпением ждал случая, когда ему поручат написать очерк, чтобы настоящим, мастерским, исторгнутым из души творением взорвать эту унылую оболочку.
Наконец, такая возможность представилась. Оформив командировку, Груздев купил новый блокнот, авторучку, галоши, и через час расхлябанный вагон пригородного поезда, тарахтя и повизгивая, вез его к станции с нелепым названием Скоропрыжки.
Стояла не по-летнему угрюмая, сырая погода. За окном уходили к мутному горизонту потемневшие поля, порывистый ветер трепал листву придорожных берез, и озябшие птицы старались подольше держаться в теплом дыму паровоза.
Чувствуя, что все это нагоняет на него уныние, Груздев старался подбодрить себя мыслями об очерке, но их одухотворяющее воздействие легко заглушалось совсем заурядной тоской о городской гостинице, о стакане горячего чая, о чтении на сон грядущий чего-нибудь очень приятного.
В Скоропрыжках, вопреки обещанию редактора, Груздева никто не встречал. Рассматривая старые предвыборные плакаты, он сидел в прокуренном вокзальчике рядом с цинковым питьевым баком, и горло ему щекотала жалость к себе, такому заброшенному и необогретому.
Стало темнеть. Водянисто-зеленые сумерки придавали окружающим предметам холодный, мертвый оттенок, а цинковый бак зловеще посверкивал тусклыми бликами.
«Неужели ночевать здесь» — с тоской подумал Груздев.
Но в это время завизжал дверной блок, в зал, шурша заскорузлым плащом, протиснулась безликая фигура, и окающий голос спросил:
— Который тут товарищ из редакции?
Груздев откликнулся. На перроне он разглядел своего провожатого. Это был, как показалось ему, разбойного вида детина, небритый, жгуче сверкавший из-за капюшона плаща черными глазами. В руке он сжимал толстенное кнутовище и, как только подошел к лошади, так сразу же обругал ее за что-то змеем, драконом и недоноском.
Не желая показать вознице, что он скис, Груздев бодро сказал:
— Лошадка — это по мне. На лошадке я люблю.
— Оно, конечно, если торопиться некуда, да в сухую погоду, — мрачно согласился возница.
Он вытащил из телеги второй плащ и кинул его Груздеву.
— Наденьте вот это, мокро будет в лесу.
Завернувшись в холодный, твёрдый, как лист железа, брезент, Груздев неумело полез в телегу, навалившись на нее животом, а потом уже закинув ноги.
Поехали. Колеса бесшумно катились по мягкому проселку; было слышно, как редкий дождь шуршит по плащу, но вскоре телега затарахтела по бесконечно длинным бревенчатым гатям.
«Ни огня, ни черной хаты»… — подумал Груздев и даже поднес к глазам ладонь, словно желая удостовериться, что не ослеп.
Из темноты наносило гнилой запах болота; где-то, несмотря на ненастье, деревянно скрипел неумолимый дергач. Груздеву, наконец, стало невмоготу молчать, и для начала он спросил возницу, как его зовут.
— Ильей, — коротко отозвался тот.
Снова долго ехали по бревенчатым гатям среди холодного смрада болот, и молчали. Спереди, сзади, по сторонам метались на ветру тени придорожных ветел, осыпая лошадь и седоков дождём увесистых капель.
— Недавно в газету заступили? — спросил в свою очередь Илья.
— Нет, давно уже, — сказал Груздев, которому вдруг подумалось, что его авторитет будет недостаточно велик, если колхозники узнают, что он только практикант и студент.
— А в наших краях, знать, не были, — сказал Илья. — Я многих корреспондентов важивал, а вас вот не примечал…
Он назвал по имени и отчеству нескольких сотрудников редакции, и Груздев, подивившись такой осведомленности, смутился. Но отступать было поздно.
— Я сначала в отделе промышленности работал, — сказал он и, помолчав, прибавил совсем уж некстати, — заведующим… А теперь вот перебрался в отдел сельского хозяйства.
— Что так? — спросил Илья. К счастью, он не стал ждать ответа и с тяжелым вздохом заключил — Сельское хозяйство — штука мудреная, в нем нужно толк знать.
— Как, впрочем, и во всяком другом деле, — солидно поддержал его Груздев.
Гати, наконец, кончились, и потянулся частый лес, напитанный влагой, словно губка. Ветра здесь не было, но зато мокрые ветви цеплялись за дугу, за плечи и головы седоков, и надо, было прятать лицо, оберегая глаза.
«Скоро ли конец-то?» — подумал Груздев.
Он даже не заметил, что спросил вслух, и понял это, лишь услышав равнодушный ответ Ильи:
— Только отъехали, а вы уж — конец. Заполночь будем, не раньше.
По верхушкам деревьев, очевидно, пробежал сильный порыв ветра, потому что мириады капель наполнили лес шумом своего падения. Не успел он стихнуть, как послышались далекие перекаты, точно кто-то большой и неуклюжий ворочался за тесным горизонтом. Груздев никогда не видел, чтобы вялое, почти осеннее ненастье вдруг разрешилось грозой, и этот отдаленный гром сообщил здешним местам какую-то тревожащую неведомостъ.
— Что это? — на всякий случай спросил он Илью.
— Погромыхивает, — так же равнодушно отозвался тот и вдруг с неожиданным воодушевлением сказал: — Вот вы человек, должно быть, ученый. Объясните мне, пожалуйста, есть у человека судьба, планида то есть, как у нас говорится, или все это одно впечатление?
— Как? — удивился Груздев, не ожидавший столь крутого поворота к филосовской теме.
— А так, — охотно взялся объяснить Илья. — Почему, скажем, одному человеку везет в жизни сверх всякой меры, а другому, — напротив, не везет? Ну, допустим, не повезло раз, два раза не повезло, а то ведь аккуратно в каждой задумке нет тебе удачи, да и на поди! Взять, к примеру, меня. Чем я человек от других отличный? В колхозе тружусь по совести, не табашник, пью с разумом, воевал — словом, правильной я жизни человек, а счастья мне нет. На фронте, к примеру, определили меня в похоронную команду, и вернулся я без орденов, без ран, словно и не воевал, а в избе на печке отлеживался. Срамота! Или вот насчет женитьбы. За тридцать давно уж перевалило, а я все в женихах прохлаждаюсь. Потому та, которая по сердцу баба, артачится, словно я не соответствую… Эх, да что тут рассуждать!
Очевидно, по натуре Илья был человеком разговорчивым и молчал до сих пор лишь потому, что был занят перевариванием какой-то крепко запавшей в его голову мысли, которую и попытался излить в этих несуразных словах. Говорил он медленно, с продолжительными паузами, точно в запутанном клубке известных ему слов долго и трудно отыскивал самые подходящие. Своей дремучей непонятностью речь Ильи заронила в душу Груздева ту же тревогу, что и гром.
«Чего он хочет?» — подумал Груздев и, не стараясь проникнуть в мысль его жалоб, поспешил переменить разговор.
На вопрос, будет ли гроза, Илья неопределенно ответил:
— Слушайте.
По-прежнему было так же черно вокруг, но иногда сквозь ветки пробивался красноватый отсвет молнии, и вслед за ним продолжительно урчал гром. Дождь стал крупнее. Вода накапливалась в складках плаща и потом, словно по желобам, стекала на колени. Никогда не думал Груздев, что на земле, дарившей его до сих пор теплом курортных берегов, речной прохладой загородной дачи, надежным уютом домашнего пристанища, может быть такое отвратительное, промозглое место. Он сидел и весь напрягался от усилия овладеть собой, но уже чувствовал, что к нему, как в детстве, подбираются те таинственные страхи, которые беспричинно возникают из каждой тени, из каждого шороха.
Дорога пошла под уклон. Илья приостановил лошадь и, когда смолк скрип телеги, стало слышно, как в овраге клокочет вода.
— А, черт! — выругался Илья.
Он проворно соскочил на землю, и тотчас шум дождя поглотил чавканье его шагов. Груздев затаил дыхание. Он хотел окликнуть Илью, но боялся даже своего голоса, на который, казалось ему, лес отзовется злорадно хохочущим эхом.
А в лесу между тем начиналось какое-то бесовское действо: скрипели стволы деревьев, тяжелые громы катились по верхушкам, пригибая их к самой земле, молнии освещали рвущуюся в агонии листву, и дождь стегал все вокруг свистящими струями.
— Гук… — внятно выговорило что-то совсем близко. Так звучит какая-нибудь древесная жила, лопнув в пригнутом стволе, но Груздев уже не был способен отдавать себе отчет в происходящем.
— Илья! — взвизгнул он пронзительным заячьим голосом. Лошадь резко дернула и все быстрее пошла под уклон.
— Илья! — снова закричал Груздев.
Опрокинувшись, он больно ударился спиной о задок телеги и в ужасном предчувствии смерти стал биться, стараясь сбросить с себя плащ. Но в это время лошадь остановилась.
— Вы бы его осадили, змея египетского, — послышался спокойный голос Ильи. — Тут за оврагом деревенька есть. Может, того… заночуем, коли спешить не надо?
— Заночуем, голубчик, заночуем… Поедем скорей, — обрадованно забормотал Груздев. — Зачем нам спешить? Только себя зря мучить, правда?
— Известное дело, — согласился Илья, сводя в овраг «египетского змея» под уздцы. — Там и погреться можно. Четвертной-то у вас найдется?
— Найдется, обязательно найдется, — горячо заверил его Груздев.
Животный страх, так унизительно корчивший его минуту назад, прошел, и теперь все в Груздеве лихорадочно радовалось присутствию живого человека.
Овраг переехали благополучно, хотя лошадь шла по брюхо в воде, а всплывшую телегу с двумя седоками упругий поток пытался стащить в сторону. Наверху по краю оврага рассыпались рыжеватые огни деревни. Заметив их, Груздев окончательно пришел в себя и даже поправил под плащом сбившийся галстук, предвидя встречу с незнакомыми людьми.
Илья постучал кнутовищем в окно одной из темных от сырости изб. К стеклу изнутри приплюснулось чье-то лицо, тотчас отпрянуло, и через минуту послышался стук засова.
— Илюха? — спросил старушечий голос.
Илья вместо ответа заворчал на лошадь и стал распрягать ее, позвякивая уздой.
— Кого везешь? — снова спросила старуха.
— Корреспондента.
«Говорят, как о мешке с мукой», — обиженно подумал Груздев. С трудом переставляя затекшие ноги, он полез на крыльцо, вошел вслед за старухой в сени, и там его густо обдало духом скотного двора.
— Одежку-то мокрую оставь тут, — ласково сказала старуха. — Ужо я высушу.
В кухне Груздев оглядел себя в маленькое туманное зеркальце. Веки у него покраснели, волосы слиплись, а щеку пробороздили потеки красноватой грязи. Безобразная, с провалившимся безгубым ртом, но приветливая и добрая старуха заметила, что гость хочет умыться. Она налила в глиняный рукомойник теплой воды, от которой у Груздева приятно заломило озябшие пальцы, и уходя за чистым полотенцем, сказала:
— Мойся, холься на доброе здоровье.
Вошел Илья. Теперь, когда тень от капюшона не падала ему на глаза, они потеряли разбойный блеск и смотрели с простоватой доверчивостью.
— А где же Надежда? — спросил он старуху.
Та, вздувая самовар, нехотя проворчала:
— Где ей быть? На посиделки ушла.
С Ильей у нее, очевидно, установился совсем иной тон — по-свойски строгий и незлобиво-ворчливый.
Пока хозяйка собирала ужин, а Илья ходил за водкой, Груздев с любопытством осматривал кухню, горницу, заглянул в боковушку, где возвышалась, вся в кружевах, широкая кровать с целой горой розовых подушек, и потрогал струны висевшей на стене гитары с большим алым бантом на грифе.
— Умеете играть?
Груздев отдернул руку и оглянулся. В горнице, заплетая перекинутую на грудь толстую блестяще-черную косу, стояла девушка, и потому, что она не улыбалась, а глаза ее смотрели из-под сросшихся бровей твердо и холодно, Груздев решил, что гитару трогать нельзя.
— Извините, — смущенно пробормотал он.
— А чего ж, играйте, если умеете, — сказала девушка. — Никому не заказано.
— А вы умеете? — осмелев, спросил Груздев.
— Я-то? Играю…
Какая-то ленивая, даже вялая грация сквозила в ее протяжном голосе, в медленном взмахе густых ресниц, в плавном движении, которым она не перебросила, а переложила на спину свою тяжелую косу. Облик ее вполне совпадал с тем обликом деревенской красавицы, который априорно сложился в представлении Груздева — именно коса, смуглый румянец, крепкие ноги в хромовых сапожках и высокая грудь были ее обязательными признаками.
Ужинать сели в горнице. Груздев со страхом посмотрел на полный стакан водки, налитый ему Ильей, но чтобы не показаться перед Надеждой хлюпиком, зажмурился и лихо вытянул все до дна. На его подвиг никто не обратил внимания. Это не понравилось Груздеву, и он решил во что бы то ни стало отличиться еще раз.
— Утром не проспи, надо пораньше выехать, — начальственным тоном сказал он Илье.
Но тот, ловя вилкой огурец в сметане, только неопределенно мотнул головой и с полным ртом промычал:
— Коа шева шить ам…
Что должно было означать «Какого лешего спешить нам?..»
Надежда сняла гитару; атласный бант мелькнул у ее плеча и, точно крупный алый цветок, зажег смуглую красоту девушки новым, романтически-странным светом.
— Вы похожи на Радду, — сказал охмелевший Груздев.
— Я читала. Ведь вы про цыганку из рассказа Горького?
Она впервые засмеялась, не то польщенная этим сравнением, не то обрадованная тем, что правильно угадала его источник.
— Тебя, бабка, в молодости, знать, цыган догнал, — неуклюже пошутил Илья, но это, вопреки ожиданию Груздева, не вызвало среди женщин никакого замешательства.
Надежда запела. У нее был сочный, грудного тембра голос, но петь она не умела. На Груздева ее пение оказало возбуждающее действие. Ему сразу захотелось разгула, пляски, рискованных приключений, а когда Надежда пропела слова «Кто же завтра, милый мой, на груди моей развяжет узел, стянутый тобой?» — и при этом коротко взмахнула мохнатыми ресницами, то эти слова зазвучали для Груздева каким-то призывом.
В это время старуха вышла, поманив за собой Илью.
«Неужели нарочно» — мелькнула у Груздева догадка.
Он подвинулся к Надежде и потрогал ее тяжелую прохладную косу.
Девушка не протестовала, только чуть приподняла брови, словно спрашивала: «Что же дальше?» И тогда Груздев, хмельной и взвинченный гитарным надрывом, тихонько повлек ее к себе.
— Вы с ней не балуйте, — сказал Илья, неожиданно появляясь в горнице с самоваром и бухая его на стол. — Во-первых, не такой она статьи баба, а во-вторых, у меня тут сурьезные дела с ней. Я же вам объяснял по дороге.
Сказано это было не зло, не угрожающе, а наоборот — миролюбиво, с доброжелательным внушением, но Груздев все-таки испугался.
За чаем, не стесняясь присутствия постороннего человека, Илья и Надежда говорили о своих «сурьезных делах». Она сразу показалась как-то взрослее, озабоченнее, когда с невеселой усмешкой на смуглых губах, сказала Илье:
— Много уж про это думано, парень… Люб ты мне, а боязно за тебя идти… Кто ты? Мужик. Было бы возможно окрутить меня по старому обычаю, без согласия, — ты бы не задумался, пошел на это. Бить, знаю, станешь, потому веришь: любить крепче буду. Со двора не пустишь: не резон, дескать, замужней бабе по клубам, по кружкам трепаться. И никакой жизни у нас не получится, себя только изломаем. Мужицкая у тебя душа, Илюха, старого завета.
— Мужицкая, — усмехнулся Илья. — И сама ведь не барыня.
— Ты за это слово обиды не имей. Я по-другому его понимаю, — без прежней ленцы в голосе сказала Надежда. — Вот коли решу, что сумею переломить тебя, что моя возьмет, тогда выйду. А пока еще не решила, не чувствую силы… Вот и весь разговор.
Она привернула в лампе фитиль и ушла в боковушку, а Илья еще долго сидел, опустив голову и в задумчивости поглаживая крышку стола шершавой рукой.
Утром, едва проснувшись, Груздев почувствовал, что совершил вчера что-то омерзительно-гадкое. Илья опять был неразговорчив, хмур и, запрягая лошадь, ругал ее змеем, драконом и недоноском.
«Презирает», — подумал Груздев, стараясь не смотреть вознице в глаза.
Ему хотелось поскорей уйти от людей, которые были свидетелями его вчерашнего поведения, и он заторопил Илью ехать.
Еще не видимое за стеной леса вставало солнце. Но ветер, растягивая по небу узкие полосы облаков, последышей грозы, дул с прежней силой, и могучие сосны издавали какое-то шипение, словно высоко над головой струя пара вырывалась из узкого отверстия.
Впереди опять открылся овраг. Опасаясь, как бы лошадь не понесла, Груздев соскочил с телеги и, цепляясь за колючие кусты можжевельника, съехал по глиняному откосу.
— Сидели бы уж, — сказал внизу Илья. — Калоши-то вон как измарали. Скиньте, я вымою.
«Конечно, презирает», — подумал Груздев, пережив унизительное сознание своей беспомощности и вообразив, какой жалкий, маленький и подавленный стоит он перед Ильей.
Он стряхнул с ног тяжелые комья глины вместе с галошами и сам стал обмывать их в луже на дне оврага.
Село, куда они пробирались, оказалось совсем недалеко. Видно, Илья не без своекорыстной цели остановился на ночлег в соседней деревне.
— Куда вас везть? — спросил он, когда въехали на широкую, как поле, улицу села с пожарной каланчой посредине. — При сельпо у нас гостиница имеется. Может, туда?
— Вези туда, — нетерпеливо сказал Груздев.
В гостинице — новой пятистенной избе с широкими окнами и запахом свежих бревен — стояло с десяток коек, но постояльцев не было. Илья громко крикнул кому-то в сенях:
— Давай-ка, мать, засамоваривай!
И ушел, а Груздев, оставшись один, повалился вниз лицом на койку и крепко, до боли в зубах, закусил подушку. Если б можно было вычеркнуть из жизни этот день!
Отсчитывая длинные-длинные минуты, постукивал маятник. Груздев лежал и чувствовал, что нет больше мужественного, небрежно остроумного, уверенного в себе молодого человека, что этот привлекательный образ, легковерно созданный собственным воображением, лопнул, как мыльный пузырь, и что пришел тяжелый час, когда надо безжалостно и строго спросить себя: кто ты есть?..
Драма
В пять часов утра директорская дача вдруг наполнилась стуком дверей, собачьим лаем, шарканьем ног, и негодующий бас домработницы Нюты возвестил:
— Андрей Поликарпович, вставайте! К вам гости приехали.
«Какие-нибудь подгулявшие друзья-рыболовы… Черта бы им поперек дороги», — подумал хозяин, натягивая пижаму, и вышел из кабинета.
Было одно мгновенье непроизвольной радости, когда Андрей Поликарпович едва не бросился навстречу гостю, стоявшему в дверях столовой, но вдруг на столь же мимолетный срок ему показалось, что он совсем не знает этого человека. Незнакомыми были и впалый рот, и нос, слегка припухший и покрасневший, и жирная грудь, обтянутая узким пиджачком — словом, все, чем каждого с безжалостной щедростью награждает время, и все-таки это был несомненно он, генерал Пухов, старый боевой друг.
Растерявшись от столь быстрой смены противоположных чувств, Андрей Поликарпович кисло улыбнулся и шагнул вперед. Они троекратно поцеловались со щеки на щеку.
— У тебя три собаки? — спросил генерал, обнаруживая этим вопросом, явно неуместным в первую минуту встречи, свое волнение. — В вашем городе чертовски трудно достать такси… Я ведь к тебе всем семейством… Порыбачим с тобой… Ты познакомься с ними, вот они идут… Этот — старший, а эта — младшая, познакомьтесь.
Дети Пухова — Максим и Лариса — пожали хозяину руку. У самого Андрея Поликарповича, который женился поздно, была только трехлетняя дочь, и теперь он с доброй завистью смотрел на детей генерала, казавшихся ему, в обаянии своей молодости, такими безыскусственно красивыми, чистыми и полными какой-то грациозно-упругой силы.
— А вы роскошно живете, — сказал Максим, молодой человек с длинным красивым лицом и крупными прядями темных волос, падавшими ему на лоб и уши. — Батьке, когда он выходил в отставку, дали гектар земли, а он, черт, даже сарая до сих пор на ней не поставил.
— Не понимаю, — развел генерал руками. — Государство, сам, Андрюша, знаешь, не обижает нас, старых боевых коней, пенсию я получаю порядочную, а денег все время нет. Иногда даже боржом мне не на что купить. Жить, что ли, не умеем…
— Это давно известно, — усмехнулась Лариса.
Максим, стоявший у открытого окна, вдруг лег животом на подоконник, перегнулся и сломил большую ветку цветущей липы.
У Андрея Поликарповича перехватило дыхание. Эти деревья он сам посадил вокруг дачи, пятый год заботливо ухаживал за ними — подрезал, опрыскивал — и теперь, при виде сломанной ветки, ему захотелось крикнуть: «Что же вы делаете!» — но он сдержался.
— Восторг как пахнет, — сказал Максим, пряча лицо в буйный липовый цвет, обрызганный росой. — Лорка, понюхай.
Лариса с усмешкой отодвинула ветку.
— Ты, я знаю, способен ржать весной на сирень, а осенью хныкать над опавшими листьями. И в письма не брезгуешь класть засушенные цветочки.
— Ты дура, — без обиды сказал Максим.
— А где же Людмила Ивановна? — всполошился вдруг генерал. — Люда, где же ты?
— Нет-нет, я не покажусь, пока не приведу себя в порядок, — послышался из кухни голос, принадлежавший, очевидно, женщине молодой, здоровой и крупной.
Андрей Поликарпович понимающе усмехнулся.
— Ну, нам здесь делать нечего, старина. Пойдем-ка в сад, — сказал он, обнимая генерала за плечи.
Когда в прихожей они проходили мимо зеркала, Андрей Поликарпович невольно задержался и сравнил свою тяжеловатую, но еще стройную и осанистую фигуру с вислоплечей фигурой генерала.
«А все-таки и он смотрел на меня так, словно не узнал», — кольнула его ядовитая мысль.
Друзья вышли в сад и сели там у врытого в землю стола. Разговор v них явно не клеился. Андрею Поликарповичу мешало быть непринужденным то, что мысль, причинившая ему минутную боль у зеркала, вдруг стала обрастать множеством подкрепляющих доводов, и теперь он уже чувствовал какую-то разъедающую тревогу, требующую немедленного выяснения истины.
Выручила Люстра — английский сеттер. В то время, как гончие Угадай и Заливай, не отличавшиеся деликатностью и утонченностью натур, совершенно игнорировали гостя, она, с присущей ее породе нежностью, тронула руку Пухова холодным носом и, ожидая ответной ласки, положила голову к нему на колено.
Заговорили о собаках.
— А ты помнишь, как баловались охотой, когда стояли под Оршей? — спросил генерал. — Помнишь мою Сильву? Говорят, у каждого охотника бывает единственная собака, которая всеми статьями ему по душе. У меня вот Сильва была такой.
— Ну и врешь! — возмутился Андрей Поликарпович, непримиримо щепетильный во всем, что касалось собак и охоты. — Твоя Сильва была вислогуза и к тому же ленива, глупа и прожорлива.
— Верно. Дрянь собака, — серьезно сказал генерал. — Все на расстоянии-то кажется лучше, Андрюша… Помнишь, как отсиживались по болотам в окружении? Темень, мокрота, стужа. Уткнемся мы с тобой лбами над котелком и хлебаем сухарное месиво на ржавой водичке. А вот теперь вроде уж и жалко тех дней.
— Нашел, о чем жалеть! Помнишь моего ординарца Аверьяна Галаева? Ну, матерый такой русачище с усами? Тот, бывало, говорил: приду с войны и все, что похоже в избе на ружье, поломаю. Пусть — ухват, и тот поломаю.
— Я не о том. Кто станет жалеть о войне! — сказал генерал. — Не понял ты меня…
— Эй, друзья-ветераны, завтракать! Где вы там? — послышался за деревьями голос с какой-то звонкой молодой задоринкой.
Из плотной зелени сада вынырнула маленькая стройная женщина в спортивных тапочках, на босу ногу и протянула генералу руку.
— Здрасте! Нина.
— Жена, — подсказал Андрей Поликарпович.
— Извините, а по отчеству? — спросил Пухов.
— Да не надо, — засмеялась она. — Меня по отчеству только мужнины подхалимы зовут.
Генерал тоже рассмеялся и, вдруг как-то по-молодому щелкнув каблуками, предложил Нине согнутую в локте руку.
За столом уже все были в сборе. Зрительный образ Людмилы Ивановны вполне совпадал с предположением Андрея Поликарповича. Молодая, красивая сочной и грузной красотой тридцатипятилетней женщины, она монументально возвышалась над станом, помогая Нюте перетирать чашки.
Андрею Поликарповичу невольно подумалось, что Людмила Ивановна имеет какое-то неодолимое пристрастие ко всяким вещам — так ловко, споро, почти упоенно ощупывали ее пухлые пальцы эти пузатенькие чашки. И на ней самой было много вещей, кажется, очень дорогих, но все до последнего камешка вопило о такой непроходимой безвкусице, что было больно, жалко и удивительно смотреть, как обезобразила себя эта красивая женщина.
— Муж так много рассказывал мне о вас, что однажды вы даже приснились мне, — улыбнулась она Андрею Поликарповичу.
— Это к деньгам, — насмешливо сказала Лариса.
Людмила Ивановна была второй женой генерала, и дети, как заметил потом Андрей Поликарпович, не уважали ее, называли между собой Людкой, а Лариса открыто дерзила ей.
— А ты, я вижу, без предрассудков, — пошутил генерал, постучав ногтем по графину с водкой.
Андрей Поликарпович покачал головой.
— Это Нина по случаю твоего приезда расстаралась. А мне нельзя, — он многозначительно показал на сердце. — Да к тому же сегодня я должен в горком на разнос ехать.
— Браво, Смаковников! — ядовито сказала Нина. — Пусть он постится, а мы с вами выпьем, товарищ гвардии генерал.
Андрей Поликарпович смутился и подвинул жене свою рюмку, чтобы она налила ему виноградного вина.
— Ну, а мы, отец, конечно, этой выпьем, — сказал Максим, из предосторожности завладевая графином.
Завтрак еще не кончился, когда за окном пропела сирена автомобиля.
— «Победа», — безошибочно определил Максим.
— Ну, оставляю вас на попечение Нины, — поднялся Андрей Поликарпович. — Располагайтесь как дома… К счастью, теперь дольше шести не заседают, разнос мне учинят короткий.
Гости не стеснялись и действительно расположились как дома. Людмила Ивановна заняла все шкафы своими платьями, Максим несколько раз в день подходил к буфету за водкой, а генерал спросил вечером Андрея Поликарповича:
— Ты, Андрюшевич, где спишь? В кабинете? Я с тобой лягу, поболтаем.
С тех пор, каждую ночь, сидя в трусах на диване, поглаживая жирную грудь, он много говорил о прошлой войне, о полузабытых людях, о речках, высотах, населенных пунктах. Его речь, состоявшая из вялых восклицаний: «А под Ельней! А под Смоленском! А под Брестом!» — была невыносимо однообразной — менялись только географические названия, — и с тоской вслушиваясь в нее, Андрей Поликарпович думал:
«Почему ты не спросишь меня о заводе, о моей работе, о моей семье?.. Тебе чуждо и неинтересно то, чем живу я, — зачем же ты здесь?..»
Стояли теплые ночи, такие тихие, что было слышно, как дышат на станции паровозы. В синем воздухе за окном иногда мелькали какие-то быстрые тени — не то летучие мыши, не то ночные птицы, — и жизнь сада от этого казалась таинственной и немного жуткой. Засиживаясь почти до рассвета над своей диссертацией, Андрей Поликарпович любил постоять у окна. Этот редкий час свободного одиночества был нужен ему, чтобы, избавясь от инерции повседневности, заглянуть в себя, как нужно, наконец, осмотреться путнику, который долго шел и которому долго еще идти.
Теперь привычный ход жизни был нарушен. По вечерам, напившись за ужином водки, генерал и Максим долго, бестолково и неинтересно спорили о достоинствах автомашин заграничных марок, Людмила Ивановна терзала Нину рассказами о своих связях в московских магазинах, Лариса, скучая, бросала иногда короткую насмешливую фразу. А ночью Андрея Поликарповича ждала болтовня генерала…
Накануне выходного дня Нина сказала:
— Смаковников, вечером идем все на остров. Это же преступление — сидеть в такую погоду дома. Ночи комариные, спать не придется и наплевать.
— Я согласен! — встрепенулся генерал.
Людмила Ивановна, Максим и Лариса отказались.
В эти июньские ночи полоска зари не гасла на горизонте, сообщая небу тусклое зеленоватое сиянье. Река словно остекленела, лишь на середине мелкой протоки, отделявшей остров от берега, где торчала замытая песком коряга, вода была взрыта грядами мелких волн. Справа, на высоком берегу сквозь прозрачный туман зыбились огни города, но шум его не доходил сюда, и незримая жизнь острова наполняла тишину своими таинственными звуками. Их было много, этих шорохов, вздохов, криков, слитых в один неясный вибрирующий гомон, и в нем различались только надтреснутый скрип коростеля да необыкновенно чистый голос какой-то птички, настойчиво твердившей свой полный трагического сомнения вопрос: «Как жить? Как жить? Как жить?..»
Андрей Поликарпович лежал у тлеющего дымного костра, лениво отгоняя веточкой комаров. Нина сказала, что знает место, где ночью под корягами стоят налимы и теперь, за кустами слышалось фырканье Пухова, плеск воды, чавканье топкого берега, а голос Нины повелительно звал:
— Вылезайте сейчас же, простудитесь. Вы неуклюжий и ничего там не поймаете.
Андрей Поликарпович не мог не заметить, как оживлялся всегда генерал в присутствии Нины, но не давал себе труда доискиваться причин такого превращения, и сейчас, слушая возню за кустами, думал с раздражением: «Ребячится старик…»
И вообще раздражение стало основным чувством Андрея Поликарповича к Пухову. Его раздражала и книга, дочитанная Пуховым в несколько приемов до шестой страницы, и то, что гость надевал его домашние туфли, сорил табачным пеплом на письменном столе, пил много водки, но больше всего ему была ненавистна своя подлая, неискренняя, отравленная унизительным притворством жизнь, которая началась с приездом генерала…
Из всех Пуховых благосклонностью хозяина пользовалась лишь Лариса, но и то до некоторых пор. Вначале Андрею Поликарповичу нравился её критический взгляд на свою семью, но вскоре он почувствовал, что взгляд этот охватывает более широкую область и отдает нигилизмом. Присматриваясь к ней, Андрей Поликарпович вспоминал свои юные годы. Когда он получал комсомольский билет, начальник отделения милиции тут же вручил ему наган и заставил расписаться в том, что за ним закрепляются винтовка с шестизначным номером, который следует знать на память, и конь по кличке «Вихрь». А эта девятнадцатилетняя девушка, лежа в гамаке и окидывая сад скучающим взглядом, говорила с усмешкой:
— Здесь словно в пустыне — жара и ни одного человека… Вы все надоели, а наш гостеприимный хозяин скучен, как длинный забор… Вот увидишь, Макс, чтобы до конца быть полезным обществу, он завещает свой труп в анатомичку.
И вдруг спросила с нехорошей усмешкой:
— Хочешь, я скажу отцу, что ты пристаешь к Людке?
— Ты дура, — беззлобно сказал Максим.
Андрей Поликарпович оправлял клумбы в саду и нечаянно слышал этот разговор. С тех пор его стала невыносимо тяготить вся эта семья, а сам генерал сделался не более как неприятным гостем, который не знает срока, когда ему надо уезжать…
И теперь, лежа у костра на острове, Андрей Поликарпович испытывал против генерала все то же раздражение, которое ему уже трудно было скрывать.
Вскоре Нина показалась на голом бугре, который тянулся вдоль всего острова, словно его хребет, и быстро пошла к костру. На зеленоватом небе плоско вырисовывалась ее тоненькая фигурка; отчетливо мелькали руки и ноги, и вся она, с короткими волосами, в лыжном костюме, была похожа на резвую девочку-подростка. Вот она задержалась на секунду вверху, над самой головой Андрея Поликарповича и тут же исчезла — сбежала вниз, слившись с темным фоном бугра, с тенью кустов.
— Из-за этих налимов я ноги промочила, — сказала она, появляясь у костра и протягивая над огнем маленькую ступню в белой прорезиненой тапочке.
Андрей Поликарпович, чувствуя, как трогательная хрупкость этой ступни вызывает в нем невыразимо нежный отзвук, хотел сжать ее в своей руке, но в это время к костру прибежал озябший, искусанный комарами Пухов.
— Ни черта не поймал, — весело сообщил он. — Будем печеную картошку трескать… А знаешь, Андрюшка, завтра сюда надо прийти за лещами. Сердце говорит мне, они тут есть.
Андрей Поликарпович промолчал и повернулся на спину. Ему хотелось домой, в свой кабинет, и он знал, что если заговорит, то у него может вырваться дерзость.
Выходной день выдался пасмурным, скучным. От безделья гости принимались несколько раз есть, и Андрей Поликарпович был рад, что может побыть в кабинете один, поработать.
Перед обедом он пошел в комнату жены и увидел, что Нина плачет, спрятав лицо в оконную портьеру. Он встревожился, сжал ладонями ее мокрые, горячие щеки.
— Я не могу больше, — говорила Нина, глядя на него снизу страдающим взглядом. — Она изводит меня… В том, что я молода, а ты значительно старше меня, она видит расчет и говорит со мной тоном единомышленницы. Это так оскорбительно! Ведь я люблю тебя… люблю эти седые виски, эти сухие руки, эти умные, усталые глаза…
Она поднялась и, плача, стала целовать его руки, глаза, виски, словно боясь, что и он вдруг не поверит ей.
— Черт знает что, — пробормотал Андрей Поликарпович. — Успокойся… Не вечно же они будут здесь. А я, поверь, ничего не поделаю с собой. Презирай меня, назови размазней, тряпкой, но не могу я сказать Пухову, чтобы он уехал, не могу!
— А зачем ему уезжать? — Нина отстранила голову мужа и пристально посмотрела в его глаза блестящим от слез взглядом. — Какой же ты, Смаковников, сухарь, — медленно, с расстановкой проговорила она. — Ему не надо уезжать, не надо, не надо! Слышишь?
Андрей Поликарпович поднял плечи.
— Ну, не понимаю я тебя тогда. И вообще… какая-то блажь…
Он вышел, хлопнув дверью, а когда Пухов, попавшийся ему на пути, спросил, пойдет ли он за лещами, Андрей Поликарпович резко и раздраженно ответил, что ему нужно работать, а не бездельничать и что никуда он не пойдет.
Вечером шел теплый, редкий дождь. Он долго шуршал в листве сада, плескался в водосточной трубе, и веяло от него дремотой, скукой, ленью. Андрей Поликарпович нечаянно заснул в кабинете на диване. Было далеко за полночь, когда он проснулся и подошел к окну, чтобы освежить тяжелую от неурочного сна голову. Дождь кончился. Между деревьями передвигалось дрожащее бледно-желтое пятно света, в нем коротко вспыхивали то склянка, то маленькая дождевая лужица — кто-то ходил по саду с фонарем. Когда глаза привыкли к темноте, Андрей Поликарпович узнал генерала. Он собирал выползней, готовясь утром идти на остров за лещами.
Было что-то невероятно трогательное в том, как, приседая, ставил он в пятно света ржавую баночку, как старался взять червя непослушными пальцами, и в том, что по пятам за ним ходила Люстра, и когда он приседал, она тоже садилась и начинала смотреть ему в лицо, а он что-то тихо, с ласковой укоризной говорил ей.
И Андрей Поликарпович с внезапным состраданием к этому человеку вдруг ощутил то, быть может, неосознанное самим Пуховым, одиночество, в котором тот жил. Ведь только поэтому он и приехал сюда, к своему другу, и спал у него в кабинете, только поэтому навязчиво оживлял в памяти далекие годы, озаренные подвигами мужества, труда и терпения, годы, когда он шел рука об руку с тысячами людей на святое общее дело.
«Вот сильный, волевой, умный человек, — подумал Андрей Поликарпович. — В кругу этих, им любимых паразитов, он тупеет и опускается. Так бывает, и это — драма».
Чуткая Нина сразу угадала ее, но, может быть, не поняла и не могла объяснить словами. А вот он и не угадал, и не понял…
Генерал снова нагнулся и поставил свою баночку в пятно света. Почему-то особенно непростительным показалось Андрею Поликарповичу то, что он отказал Пухову в просьбе пойти с ним утром за лещами. В глубине души он сознавал, что это — мелочь, не главное, но, движимый первым неодолимым желанием искупить эту свою вину, он схватил из ящика письменного стола фонарь и бросился к двери.
В бессонную ночь
Как и обычно, с половины зимы у Никона начали стыть ноги. В предчувствии изнурительной бессонницы потолкался он, тоскуя, дня два из угла в угол, потом залез на печь и стал смирно дожидаться «своего часу». Ждал Никон весны, солнечного тепла, сухого ветра и уже задолго до первой капели все ловил привычным ухом ее ободряющий звон. Он всерьез беспокоился о том, что или весна опоздает, заплутавшись в текучих буранных снегах казахстанских степей, или болезнь, поспешив, прихлопнет его, как тугая мышеловка.
Хорошо еще, что не в одиночестве коротал Никон эти зимние дни. Тогда дома были и сын, и сноха, и внучка Марька; забегала проведать его скотница Мотя Фомина, а потом еще поселились два комсомольца из соседнего целинного совхоза. На этих двух Никон постоянно сердился, и особенно на длинного, рыжего, с кошачьими глазами Кольку, которого звал не иначе как Колгата. Тот всегда суетился, шумел, ко всем приставал и дразнил Никона всякой ересью, вроде той, что верблюдов можно кормить кнопками, булавками, патефонными иголками и бритвенными ножичками. Или врывался с морозной улицы, скидывал, приплясывая, куцую телогрейку и начинал кричать:
— Разве это местность! Во все стороны ни одного деревца, а! Избы из глины, а топят их — смех один! — коровьим дерьмом! И тоже непонятно, на какой точке земли мы находимся. Слева — Россия, а подался чуть вправо, за овражек, глядишь — там уже Казахстан.
У Никона, потомка тульских переселенцев, мужиков голубоглазых, отупело упорных в поисках своей доли, начисто выветрилась тоска по лесным краям, которую они принесли с собой на эти неоглядные земли. Ничего не было для него милей степи, кисловатого запаха кизячного дыма и лазурного купола неба, неохватно раскинувшегося над головой. Степь не казалась ему, как иному пришлому человеку, ни однообразной, ни скучной. Она была какая-то завлекающая, рождающая сложное, но легкое чувство свободы, окрыленности, умиротворения, грусти и прочей, трудно объяснимой словами чертовщины. Стоило Никону выйти в степь и вдохнуть ее простор, как его уже подмывало закинуть сапожки через плечо и пуститься встречь ветра по мягкой пыли суглинных дорог, не помыслив даже о «подъемных», которыми так хвастался Колька.
Но объяснить все это Кольке у Никона не хватало слов. Он только сердился, взмахивал сухими руками и кричал в ответ на его дерзкие речи:
— Эва! Был я годов двадцать назад в лесе-то. Подумаешь, диво! И неба-то совсем не видать. Как только люди там живут, мне удивительно! А здесь-то… Боже ты мой! Шагнул за порог — и смотри во все стороны… Вот и выходит, что Колгата ты после этого, и больше ничего. Колгатишь, колгатишь — все попусту, все кобелю под хвост.
— Брось, дед, — не унимался Колька. — Куда смотреть-то?
— Как это — куда? В степь.
— Да на что? Она ж пустая.
— Пустая?! — ахал Никон. — В душе у тебя, знать, пусто, милок, как в том барабане! Ступай от меня к чертовой матери! Пошел, пошел в горницу!
На Колькиного приятеля Генку Залихватова он сердился по другой, особенной причине, но обходился с ним молчком, так что самому Генке, пожалуй, было и невдомек, почему это старый хрыч Никон надулся на него, как мышь на крупу.
Не догадалась и Марька, зачем однажды в ту редкую минуту, когда дед покидал свою печную обитель, он присел к ней на кровать и, потрогав за плечи, сказал;
— Нут-ка, хватит спать-то. Ты поговори со мной… Вот не сплю я, ноги у меня стынут, маетно это — не спать— то… Ты поговори со мной.
— Ну, чего ты, дед? — спросила Марька, с неохотой размыкая сонные веки.
А он смотрел на ее грудь, мерно приподнимавшую тяжелое одеяло, на сильную шею, на широкие строгие черные брови, на смуглый и упрямый рот и думал о том, что она давно уже не та козлоногая, любопытная ко всему Марька, которой был нужен родительский укорот, а сама себе хозяйка и что совсем ей теперь ни к чему докучливые дедовы наставления.
— Да так я, — виноватым голосом сказал он, — не спится чего-то…
И опять ушел на печку.
Иногда Колька Колгата заводил патефон, который привез с собой. Перед каждой пластинкой он на весь дом орал:
— Шульженко!..
— Бернес!..
— «На крылечке»!..
— «Сильва»!..
Колькины песни не нравились Никону, лишь «Каховку» он слушал с удовольствием, и почему-то в том месте, где говорилось о стоящем на запасном пути бронепоезде, ему становилось грустно. А потом Колька, видно по нечаянности, поставил пластинку, которую раньше никогда не заводил, и вдруг тихий хор мужских голосов задумчиво, скорбно и сурово запел:
Перед глазами Никона, ослепив его, вдруг полыхнуло, словно сгусток живого огня, красное, освещенное солнцем полотнище, и старика, как боль о невозвратном, как счастливое, но безнадежно краткое ощущение молодости, пронзило ясное, почти осязаемое воспоминание. На миг увидел он себя под этим знаменем красногвардейского отряда конником с выцветшими на степном солнце глазами, с однобокой от контузии улыбкой, и у него вдруг мелко-мелко задрожали руки, которыми он свертывал себе покурить.
— Ну-ка, сызнова эту! — приказал он.
— Тягуча больно, дед, — попробовал возразить Колька.
— Ну, ты! — строго прикрикнул Никон. — Поспорь у меня!
И было в его голосе что-то такое, отчего Кольке первый раз не захотелось подразнить деда. Он поставил снятую было пластинку и спросил:
— Что, понравилась?
— Хорошая песня, — просто сказал Никон.
Пластинка пошуршала, и снова хор голосов внятно проговорил:
Никон слушал, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону. Он вспомнил, что в отряде молодые бойцы прозвали его «Стариком», и сейчас усмехнулся этому, как сущей нелепице: ему тогда было едва за сорок.
— Я ведь тоже в гражданскую воевал, — сказал он, когда песня кончилась.
— Дык ведь это не про гражданскую, — сейчас же встрял Колька.
— Ну, там не сказано, про какую, — уклончиво ответил Никон, не расположенный спорить. — Она, значит, ко всякой правильной войне приспособлена. Не в этом суть. Я про что говорю? Прятался я однова в яме от банды Викулина. Лихой был атаман. Речи умел говорить — что твой дипломат. Я его разов десять, наверно, слушал, когда он еще за совецку власть говорил. Опосля она ему что-то разлюбилась. Уманил он смутными речами за собой всякий неустойчивый элемент и пошел шастать по селам, большевиков подстреливать. Гоняли мы его по степи, наверно, с полгода. А потом сами промашку дали. Пощипал он нас в одном селе — ну, прямо скажу, как коршун клушку. Вот и влетел я тогда в яму-то, откуда глину на саман брали, там и хоронился семь ден. Водицы — той на дне чуть прикапливалось после дождя, а вот ел-то уж всякую нечисть — мокриц там, червяков…
— Ври! — не выдержал Колька. — Разве можно мокрицу от какого хошь голода слопать? Это уж ты загнул, дед.
— Ну, насчет мокриц доподлинно не помню, — сознался Никон, — а вот лягву — это точно съел.
— А банда? — нетерпеливо спросил Генка.
— Что ж банда? Извели, конечно. Куда ей деться? И Викулина извели. Всех, до последнего корня.
— Не знает Ворошилов про твои заслуги, он бы тебя орденом наградил, — гмыкнул Колька.
Никон с укоризной покачал головой. Он был так умягчен своими воспоминаниями, так растерян от неожиданности их беспорядочного набега, что потерял на время всю запальчивость в спорах с Колькой.
— Я, милок, еще помню, как деревянными плугами пахали, — сказал он без всякой связи со своим предыдущим рассказом. — А уж после, когда лобогрейку в село привезли, мужики-то, как на диво, на нее глазели. Иные колгатят вроде тебя — на кой она, дескать, нам сдалась? Разбить ее к чертовой матери! Потому — боялись работу она у них отобьет. А старики тут же: га-га-га, га-га-га. Ровно гуси. То ли, мол, будет, мужички. Всю землю проволокой опутают, а по небу железные птицы полетят, станут вас по башкам клювами долбанить. Вот оно как, милок…
Когда, наконец, тронулись степные овраги и ветер дохнул запахом снеговой воды, когда мутная, глинистая река до краев налила оросительные лиманы и закричали над ними стаи пролетных гусей, Никона охватила нетерпеливая тревога.
Дом опустел. Колька и Генка уехали в совхозные палатки, домочадцы теперь с утра до вечера работали в колхозе. Лишь, как и прежде, забегала проведать Никона скотница Мотя Фомина. Великая это была женщина в смысле обилия материнской любви ко всякому живому существу. И даже в ее внешнем облике природа постаралась отразить это свойство, наградив такой грудью, что ею, казалось, можно было выкормить роту полновесных младенцев. Она была уже немолода, лет сорока, но так и не вышла замуж. Как-то Никон глядел на нее — коротконогую, нескладную, с волосатыми бородавками на мягком лице — и сказал с сожалением:
— Тебе, Мотя, ребеночка нужно.
А она вдруг закрылась большими жилистыми руками и заплакала.
С тех пор Никон, забывая, что слишком часто повторяет одно и то же, спрашивал:
— Ну что, Мотя, нет еще ребеночка?
И она со спокойной, обжитой грустью отвечала:
— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..
По-прежнему Никону не спалось по ночам. Проснувшись, он слышал, как на дворе терлась о стену скотина, ухал невдалеке железной крышей школы ветер и кричали, кричали на лиманах гуси.
Сдерживая дрожь в ослабевших коленях, он слезал с печи и выходил за порог. Степные апрельские ночи давили на землю сплошным слоем тьмы; ни щелочки света не было в нем, куда ни глянь, лишь побеленные прутики яблоневых саженцев, как хилое племя каких-то духов, толпились у порога.
Холодный ветер стегал по лицу колючей крупой. Был бискунак — дни, когда казахи чтят память пятерых гостей, замерзших во время бурана в степи. И с аккуратностью, всегда удивлявшей Никона, каждый год в эту пору апреля, когда давно уже пылят дороги, когда на буграх проклюнутся золотистые одуванчики и по селу вовсю пересвистываются скворцы, откуда-то приносился, словно напоминание о давнишнем несчастье, этот недобрый ветер.
— Ох, напасти!.. Ну их совсем, ей-богу!.. — ворчал Никон.
В эти дни вдруг появился Генка. Он заскочил в дом, сорвал с головы шапку и в растерянности застыл у порога, очевидно пораженный непривычной тишиной.
— Ну, чего заробел? Входи, — сказал Никон с печи.
Он уже забыл, что постоянно сердился на ребят, без которых ему стало скучно, и теперь очень обрадовался Генкиному приходу. Давно привыкнув к полутьме кухни, он свободно разглядывал Генку, стоявшего внизу, и с удовольствием отметил, что тот — парень ничего: из себя видный, и лицо у него широкое, доброе, даром, что фамилию он носит бедовую — Залихватов.
— Наверно, на стану живете? — спросил Никон.
— Пашем уж, дедушка, давно, — охотно отозвался Генка.
— Не сеяли?
— Нет.
— И то рано, погодите. Ну, а Колгата как там?
— Ничего. На пахоте по двести сорок процентов выжимал.
— Колька-то?! Колгата-то?! — изумился Никон и тут же, точно оспаривая чье-то мнение, прибавил: — Он парень проворный. Ты не гляди, что он рыжий да колгатистый, он, брат, хваткий.
Генка решительно нахлобучил шапку.
— Марьки-то нет, дедушка?
— Ты зачем в село-то пришел? — спросил Никон, словно не замечая его вопроса.
— За папиросами.
— А у вас-то неуж там нет?
— У нас не той фабрики, мне «Яву» нужно.
Генка ушел, а Никон весь день чувствовал себя очень хитрым и все тихонько посмеивался и качал головой.
Утром на потолке против окна, точно фонарь, зажглось крупное солнечное пятно, перерезанное крестообразной тенью рамы. Оно медленно поползло по стене вниз, осветило ходики, календарь, сморщилось на складках ситцевой занавески и, наконец, овальным блюдом легло на кухонный стол. Ветер чуть слышно позванивал оконным стеклом. Даже в комнате чувствовалось, что он уже потерял прежнюю силу и резкость и что к вечеру на улице основательно разогреет.
Одевшись потеплей, Никон вышел и сел на лавочку перед домом. Выметенная ветром дорога сверкала осколками стекла, всохшими в суглинок. По ней два лохматых, еще не вылинявших верблюда тащили бочку с водой. Это были Бархан и Симка, которые давно уже возили воду в школу, в больницу, в родильный дом и детский сад. Бархана Никон узнавал по надменному, презрительному взгляду; Симка же глядел печально, в глазах у него была какая-то долгая степная дума. Узнал Никон и водовоза — казаха Сакена, шагавшего рядом в такой же лохматой зелено-рыжей, как верблюжьи бока, шапке и брезентовом плаще, звучно шлепавшем мокрыми полами по голенищам резиновых сапог.
— Ты как везешь? Половину бочки расплескал, человек ты несуразный! — крикнул Никон и сам удивился тому, какой у него слабый дребезжащий голос.
Но он тотчас забыл об этом — его радовало, что он знает здесь всех и может, как свой, необидно ко всем придираться.
— Не моя везет, верблюд везет, — весело ответил Сакен, и маленькие глаза его совсем потонули в лучах морщин.
Никон сидел так до вечера, пока пламенная горбушка солнца не погрузилась медленно и нехотя в жирную воду лиманов. В полном, теплом безветрии погас степной вечер, постепенно сменив свои оттенки от прозрачно-нежной синевы до тусклого стального свечения.
Впервые Никон, прогревшись на солнце, хорошо и крепко уснул. Ему ничего не снилось и только один раз почудилось, что Сакен поливает его ноги холодной водой.
Но это уже была почти явь. Он застонал и, как всегда, проснулся от ломотного холода в ногах. Окошко еще не просвечивало на темной стене, но Никон слез с печи, оделся и, взяв шайку, вышел за дверь.
Ночь была теплая; несколько звезд сияли, точно крупные капли влаги, нещедро брызнутой на темный свод неба. «Теплынь», — подумал Никон.
Не потерявший к старости ни слуха, ни зрения, он смело пошел во тьму, к лавочке и, повернув за угол дома, увидел Марьку и Генку.
— Систематический ты человек, Генка, — с укоризной сказал Никон. — Охота же тебе за десять километров сюда со стана шастать.
— Спал бы себе, дед, — недовольным голосом сказала Марька.
И Никон представил, как сошлись при этом ее широкие строгие брови.
— Нынче сеять начнут, и нечего тут прохлаждаться, — проворчал он.
— Ну, не твоя забота!
Марька увела Генку за угол, а Никон посидел на лавочке и, почувствовав, что ноги продолжают стынуть, тоже поднялся и пошел на скотный двор к Моте Фоминой. Но там дежурила другая скотница. Он ждал Мотю целый час, а когда она пришла, только и спросил:
— Ну что, Мотя, нет еще у тебя ребеночка?
И она, как всегда, ответила:
— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..
Выйдя от Моти, он бесцельно побрел по улице мимо саманных домов, слепо поблескивающих на него оконными стеклами. Весна пришла, а ему все так же беспокойно, и запах ветра, вобравшего в себя ароматы пашни, зацветающих холмов, теплой воды лиманов, только усиливал это беспокойство.
Отдохнув на крыльце правления колхоза, Никон пошел дальше. На востоке уже не так влажно мерцали звезды, небо засветилось изнутри зеленоватым светом.
На Никона вдруг наплыл теплый масляный запах еще не остывшей машины. Рядом был гараж, возле него белел горбатый силуэт председательской «Победы», недавно пришедшей из района или из дальней бригады, и Никон вспомнил, как оконфузился в прошлом году, когда напросился поехать на ней с председателем в степь. Тот, ездивший всегда без шофера, убежал к стоявшему посреди поля комбайну, сказав, что скоро вернется, а Никон остался в машине один и, когда ему захотелось до ветру, не мог открыть дверцу. Председатель замешкался, Никон дергал за все ручки, но они не поддавались его слабым усилиям, и вот тогда-то с ним случился стариковский грех. Председатель никому не рассказал, только добродушно посмеялся сам, посмеялся и Никон, но теперь, при воспоминании об этом случае, ему сделалось очень нехорошо. Он стоял возле машины, широко расставив согнутые в коленях ноги, опершись обеими руками на палку, и плакал беззвучными стариковскими слезами, первый раз по-настоящему, с такой нестерпимой болью поняв, как стар он и слаб и как мало осталось жить ему на этой земле.
От гаража Никон пошел на конный двор. Потревоженный в сладком утреннем сне сторож обругал его нехорошим словом, но Никон не обиделся и сказал:
— Послушай, милок, дай мне коня.
Сторож выпучил на него круглые, рачьи глаза.
— Да ты что, старик, фью-фью? Сбрендил, что ли?
— Дай, — повторил Никон, — Мне только в степь съездить, недалечко. Уважь!
— Блажишь, Никон, — нахмурясь, сказал сторож, такой же старик, но покрепче, с окладистой из тугих колец бородой. — Зачем тебе в степь? Ты и на коня-то не влезешь. Нам осталось только на печке верхом скакать.
— Взлезу. Уважь, милок! — просил Никон. — Мне бы в степь, недалечко… Уважь!
— Не уважу, — крутил сторож головой. — Ну как я выдам тебе коня без конюха, без бригадира, без председателя? Подумал ты, какое я имею законное право? Ну вот. И ступай с миром, а не то, не дай бог, осерчаю. Ступай.
Никон пошел. В прогоне между конюшнями зияла синяя рассветная пустота; из нее ровно, без порывов истекал ветер, и против течения этой воздушной реки, опираясь на палку, легонький, как сухой тростничок, Никон зашагал в степь. Откуда-то из-за спины его по пашням и травам солнце скользнуло ранним лучом. Стал виден пар над ними — легкое розовое дыхание земли, в небо взмыл коршун, высматривая сусликов, и под ногами у Никона забегали маленькие серые ящерицы. Зорким взглядом прирожденного степняка Никон наметил впереди себя бугор и упрямо шел к нему, не разбирая дороги, задыхаясь и чуть не падая. Он все-таки не выдержал и, когда бугор был уже близко, остановился передохнуть. Щурясь, обвел он взглядом всю степь: сзади, совсем, оказывается, недалеко, она упиралась в саманные стены сельских построек, зато слева, впереди размахнулась так широко, что у Никона вдруг закружилась голова. Он поспешно зашагал дальше, стараясь смотреть только под ноги, и забрался на бугор уже из последних сил.
«Ах, саранча! Нашли же место, бестии эдакие!» — засмеялся Никон, глянув вниз.
Там, под самым бугром, виднелся белый платок и рядом — круглая кепочка. Запрокинув девке голову, парень целовал ее в губы. Никон хотел озорно улюлюкнуть, но в это время девка легонько толкнула парня в грудь, выпрямилась и, ловя петлей пуговицу на кофточке, посмотрела вверх. На лбу у нее сошлись широкие брови.
— Ну чего ты, дед, как привидение, по степи ходишь? — строго спросила Марька.
Никон вдруг оробел, присел на траву в зацветавшие степные тюльпаны.
— Сеять нынче будут… — пробормотал он.
— Поспеем и сеять, — солидно отозвался снизу Генка. — Чего вы, дедушка, волнуетесь?
— Да мне что… Устал я. Эвон откуда пехом иду, — сказал Никон. — Я сяду, а вы — как знаете.
Он не видел, ушли Марька и Генка или нет, — он грелся на солнечной стороне бугра, пестро убранной разноцветными чашечками тюльпанов, щурясь, смотрел в степь, а потом вдруг уронил на теплую грудь земли свою голову, откатилась прочь шапка, и долго, до самого заката, степной ветер шевелил остатки его белых сухих волос.
Заколоченный дом
На выезде из города Степан Вавилов остановил попутную машину, закинул в кузов чемодан, мешок и коротко приказал дочери:
— Садись, тумба.
Антонина — не по летам крупная девка, с толстым некрасивым лицом — тяжело перевалилась через борт кузова и втиснулась между железной бочкой и бумажным кулем с алебастром.
— Трогай!
Степан стукнул ладонью по крыше кабины.
С обеих сторон вдоль дороги потянулись длинные ряды стандартных домов окраинного поселка, потом пронесся зерновой склад, похожий на огромный товарный вагон, и, наконец, мелькнула последняя веха города — круглая водокачка, каруселью повернувшаяся перед летящей машиной.
Степан оглянулся на город. Он весь пылал холодным огнем осеннего солнца, отраженным сотнями окон, и все эти разобщенные огни, по мере удаления, сливались в одно сплошное зарево, за которым вскоре не стало видно домов, только фабричная труба долго еще маячила над ним, словно перст, указующий в небо.
— Пой-е-ехали! — весело сказал Степан и дернул Антонину за конец платка. — Чего нахохлилась-то? Домой ведь едешь, радоваться должна… И в кого только ты уродилась такая квелая? Скажи мне, пожалуйста!
Антонина подобрала конец платка.
— Чего пристали-то, — вяло откликнулась она. — Радуйтесь, если хотите, а меня оставьте.
— Это ты отцу-то такие слова! — изумился Степан. — Ну, доченька, ну — уважила, ну — спасибо тебе!
Он качал головой, причмокивал, вздыхал, но было видно, что изумление его притворно, и он просто-напросто балагурит.
По натуре своей Степан был из тех, кто не может в одиночку переварить ни горя, ни радости. Ему и теперь хотелось излиться перед кем-нибудь, но зная, что Антонина не поймет его, он только махнул рукой и вздохнул:
— Эх, ты, колода…
Впрочем, вряд ли Степан сумел бы объяснить, что так волнующе радовало его. Ведь он пускался в неизвестное, а там, позади, в городе, оставалась спокойная, хотя немного и одинокая, жизнь бобыля с удобной квартиркой, с хорошим заработком, с неторопливым досугом за кружкой пива в кругу таких же положительных, как он сам, фабричных мастеров, и даже с тайным намерением жениться когда-нибудь на здоровой домовитой женщине, которая убаюкала бы его грядущую старость. Чего бы, казалось, еще нужно человеку?
Вначале так и было, что Степан встретил в штыки попытку нарушить эту жизнь. Когда у него в квартире появился маленький плотный человек в клеенчатом плаще, назвавшийся председателем колхоза в Овсяницах Коркиным, Степан принял его настороженно и недружелюбно. Крепыш с круглой, начисто облысевшей головой, Коркин ни секунды не оставался на месте, бегал по комнате, присаживался то на край стола, то на подоконник, то на валик дивана.
«Эко тебя перекатывает», — подумал Степан, а вслух спросил:
— Агитировать пришли? Ну-ну, послухаем.
И прочно уселся на табуретку у стола, подперев голову кулаками.
— Как же вышло, что ты от земли-то оттолкнулся, Степан Григорьич? — спросил Коркин, стараясь заглянуть под косматые брови Степана.
Степан насупился. Когда-то пришлось ему покинуть родные Овсяницы, унося в душе незаслуженную обиду, и теперь, по обыкновению, он вдруг почувствовал потребность высказаться.
— Давно это было, — сказал он. — После войны, как пришел я с шестью орденами да с партийным билетом, так сразу меня председателем выбрали. Сам секретарь райкома приезжал и рекомендательную речь обо мне говорил. Очень похвальная речь была. А потом этот же секретарь постарался и прогнать меня с председателей… Очень он был, на мой взгляд, ошибающийся в колхозном деле человек. О колхозе помнил, пока тот заготовки не выполнил, а потом ни тебе совета, ни помощи, ни сочувствия. Решил я тогда самостоятельность проявить. Созвал колхозных стариков, открыл заседание правления и шумели мы до самых петухов. И так несколько ночей подряд. Составили, наконец, точный план, как в два года поднять колхоз до передового уровня. Старики рассказали, на каких землях у них издавна хорошо греча шла, на каких — рожь, на каких — овсы. Посоветовали гусями заняться, поросят на заготовки постарше сдавать, луга у соседнего колхоза арендовать. Считаем мы день, считаем ночь, каждую копеечку на зуб пробуем, а я думаю — наконец-то у мужиков башки затрещали, дело, значит, будет. И решил я от нашего плана не отступать ни чуть-чуть. Голову, думаю, за него сложу… И едва не сложил, милый человек. Как водится, прислали мне из райсельхозотдела свой план, я его — в стол, потому, вижу, написано там по незнанию наших условий не то, что нужно. Конечно, с начальством у меня вышли из-за этого крупные разногласия. И сею-то, мол, я не то, пашу-то не там, и скот-то у меня ест не так, и севооборот-то я нарушил. Тут уж я, по правде сказать, не стерпел и в запальчивости, может, лишнего наговорил — не помню. Короче, оказался я саботажником, врагом передовой агротехнической науки, и с выговором из председателей был сдвинут. Обиделся я тогда крепко. К тому же, жинка в одночасье померла, и подался я с двойной тоски в город. Работаю вот на фабрике, обжился, привык… Так и от земли оттолкнулся…
Коркин опять сорвался с места и забегал по комнате.
— Это правда, правда, — быстро и сбивчиво заговорил он. — Все, к сожалению, правда… Вот, ведь, черт возьми, как глупо можно отпугнуть хорошего, настоящего, инициативного работника, истинного хозяина… — Он присел и снова попытался заглянуть Степану в глаза. — Ну, а теперь-то, Степан Григорьевич?
— Чего теперь?
Степан коротко сверкнул взглядом и снова погасил его под косматыми бровями, сутулясь над столом.
— Теперь много из того, что нам мешало, сметено. — Коркин для большей наглядности шаркнул по столу ребром ладони, точно сбрасывая сор. — Начисто сметено, так и знай, Степан Григорьич.
— Не все, — тяжело сказал Степан. — Ты бы вот походил в своем колхозе по избам, поинтересовался… Небось, заметил бы, что в тех семьях, где один-двое работают в городе, есть и приемник, и горка с красивой посудой, и прочие признаки деревенского благополучия, а в чисто колхозных семьях их встретишь реже. Понимаешь, к чему я говорю это?
— Отлично понимаю, — усмехнулся Коркин. — А ты бы, Степан Григорьич, тоже побывал в своем колхозе, поосмотрелся бы. В нынешнем году наш трудодень здорово потяжелеет, это всем видно, и некоторые отходники уже заколебались. И скоро, поверь, ездить за двадцать пять километров в город на работу не будет для них никакого смысла. Да и те, кто, вроде тебя, обосновался здесь, потянутся к нам. Я вот собрал адреса бывших колхозников, буду ходить, агитировать… К тебе для почину пришел… И знаешь, что я скажу тебе? Как бы там ни было, а сидеть в стороне — дело не геройское. Никто за нас хорошую жизнь не сделает, как подарочек к празднику. Наше это дело — ворочать жизнь наново. И повернем теперь, вот увидишь!
Незаметно для себя Степан поддался ревнивому чувству к Коркину: чужак, горожанин, а председательствует в его, овсяницынском колхозе.
— Ладно, кончим этот разговор, товарищ Коркин, — сказал он вслух. — Ты больше обо мне не старайся. Надумаю — сам явлюсь. Будь пока здоров.
А когда закрыл за Коркиным дверь и, крепко ероша волосы, зашагал в раздумье по комнате, все вдруг в нем возликовало от одной, окрыляюще отрадной мысли: «он стал нужен, о нем вспомнили и зовут обратно…»
И сейчас же его, как всегда, потянуло к людям — поделиться своей радостью. Нахлобучив шапку, он пошел в столовую, где обычно собирались знакомые мастера, сел к ним за стол и веско, спокойно, непреклонно заявил, как о деле уже решенном:
— А я, мужики, в деревню еду.
Теперь, расплачиваясь с шофером, он не преминул завести об этом разговор и с ним.
— На, милый человек, червонец, пользуйся… Я, между прочим, домой перебираюсь, в деревню, насовсем.
— Сейчас многих посылают, — сочувственно отозвался шофер.
— Посылают! — обиделся Степан. — Я, милый человек, добровольно. Потому имею на это причины.
Он встал на подножку грузовика, намереваясь поведать шоферу о причинах, побудивших его вернуться в деревню, но тот уже включил мотор и, давая газ, двусмысленно пожелал Степану:
— Смотри, не сорвись…
Машина умчалась по шоссе, а Степан и Антонина свернули на широкую луговую тропу, ведущую к реке. Там им пришлось долго ждать перевозчика. Пойму уже накрывали влажные осенние сумерки. Они приходили без теней, без красок — монотонно-серые, мутные, — словно рождались из темной воды реки и постепенно поднимались все выше и выше, к небу, которое долго еще оставалось светлым. Пойма была по-осеннему нема, лишь неотчетливая музыка доносилась с противоположного берега, где на взгорье, сквозь поредевшие кусты виднелась крыша дома отдыха.
— Се-о-ом-ка-а! — который раз взывал Степан охрипшим голосом и начинал нетерпеливо шагать вдоль берега по хрустящему песку, который в сумерках казался зеленоватым.
— Не иначе — в дом отдыха закатился, стервец, — ворчал он. — Теперь не жди его раньше ночи, когда заводские со смены пойдут, уж это определенно.
Больше чем потерянного времени, Степану было жалко своей радости, которая постепенно уступала место раздражающему ощущению чего-то неустроенного и неправильного. Он остановился против Антонины. Вот она сидит на огромном чемодане с висячим замком и угрюмо смотрит в песок — вялая, тупая и ко всему, кроме еды, равнодушная, — словно не его плоть и кровь. Лишь суровой родительской властью удалось оторвать ее от теплого места домашней работницы в семье престарелых, супругов — учителей, которые по природному добросердечию и застенчивости старались не обременять ее работой, и теперь Степан, ощутив внезапный прилив горечи за свое детище, уже без прежнего балагурства обрушился на дочь:
— Чего, спрашиваю, нахохлилась-то, а? Все твои мысли насквозь вижу, колода ты эдакая. Сказано — будешь со мной работать, а о другом и думать забудь. Ясно?
— Смотрите, батя, огонь какой-то на воде, — поднимаясь, сказала Антонина.
Вверху, кидая на прибрежные кусты неяркий отсвет, действительно тлела на воде крупная точка огня. Она медленно плыла по течению, то разгораясь, то снова бледнея и съеживаясь, до маленького рыжеватого пятнышка на темном фоне воды и кустов.
— С острогой едут… — полушепотом сказала Антонина.
— Нет, — так же тихо отозвался Степан. — Свет жидковат для остроги… Наверно, горящий пень столкнули.
Примирённые этой общей для них загадкой, они сели на чемодан, и Антонина прижалась к отцу плечом, жарко дыша ему в ухо.
Огонь медленно приближался.
— Плот, — сказала, наконец, более зоркая Антонина. — И человек на нем. Видите, батя?
Через некоторое время и Степан различил сгорбленную над огнем фигурку, освещенный скат палатки и еще какие-то угловатые предметы — не то ящики, не то поленницы дров.
— Эй, земляк! Дровишками разжился, что ли? — крикнул Степан, когда плот поровнялся с ними.
Человек, подняв голову, вгляделся в темный берег, потом негромко спросил:
— Закурить есть? С утра без табаку…
— Причаливай, закурим.
Степан принял поданый конец шеста и подтянул плот к берегу.
— Похоже — не дровишки, — сказал он, разглядев наваленный на плоте домашний скарб: стулья, табуреты, кухонный стол, два сундука и сложенную кровать с никелированными шишками. — Весь дом тут, как есть.
Человек, видно, не в шутку стосковался по табаку. Сначала он свернул толстенную цыгарку, с причмокиванием разжег ее и только потом ответил:
— В город перебираюсь. Избу разобрал и — плыву. Оно хоть и долго, зато дешево.
— Та-ак… Значит, оттолкнулся от земли? — спросил Степан.
— А что ж! Сыновья мои — в городе, на хорошей работе. Один — стеклодув, другой — литейщик. Хочу к ним прилепиться. Мне уж пора внуков нянчить.
— Ты сам еще работник, не иждивенец какой-нибудь, — сказал Степан, оглядев коренастую, с крутыми, сильными плечами фигуру собеседника. — Погодил бы в няньки-то записываться, милый человек.
— Ты говоришь — земля, — усмехнулся тот. — Я тебе по совести скажу, почему я оттолкнулся от нее. Не больно сытно она в нашем колхозе кормит. В прошлом году на четыреста трудодней отсыпали мне зерна — в кармане унесешь. Вот как нынче земля-то. Ну, и пришлось попоить председателя три дня, справку о выбытии из колхоза — в карман и — прощай.
— Так нельзя, — сказал Степан и, вспомнив слова Коркина, прибавил: — Кто же за тебя хорошую жизнь в твоем колхозе будет делать?
Но собеседник, поблагодарив его за табак, уже прыгнул на плот и отпихнулся от берега шестом. Рыжеватая точка огня поплыла вниз по темному зеркалу реки, а Степан с прежним ощущением какого-то непорядка и неустроенности зашагал по хрустящему песку.
Вскоре к перевозу стали подходить рабочие с чугунолитейного завода, с песчаного карьера, с фабрики — все те, кого подобно магниту притягивал к себе город из окрестных деревень. Семка — грубый крикливый парень в обвислом пиджаке — пригнал паром. На том берегу от причала, словно лучи, разбегались дороги, дорожки, тропинки, и по ним в тусклом свете звезд потянулись цепочки людей, удивительно похожих в это время друг на друга, потому что каждого из них сопровождала короткая, сутулая тень, и каждый нес в руке «авоську», набитую буханками хлеба.
«Экий круговорот получается, — подумал Степан. — Из деревни хлеб — в город, а из города — обратно в деревню… Дела!»
Подходя к родным Овсяницам, Степан незаметно для себя прибавил шагу. Деревня уже спала. Отражая холодный свет ночи, слепо поблескивали окна изб; ленивый лай сонных собак недружно сопровождал шаги ночных прохожих.
У своей избы Степан на минуту задержался. Наглухо заколоченная, она была темна, как сарай; крыльцо провалилось и вокруг него буйно разрослась полынь, в которой самозабвенно орали ночные коты.
За спиной у Степана шумно вздохнула Антонина. Ему вдруг стало жалко дочь, он обернулся и легонько потрепал ее по плечу.
— Будет уж киснуть-то. Пойдем, приютимся пока у Палаги.
Вдовая Степанова сестра Палага жила по соседству, в крепкой избе кондового леса, оставленной ей покойным мужем — хозяином хитрым, рассчетливым и себе на уме. Эти черты характера переняла у него и высокая, костлявая Палага, любившая жаловаться на всякие горести — мнимые и действительные. Пока Степан и Антонина пили молоко, она успела рассказать им, что по ночам у нее ломит поясницу и стынут ноги, что дочь ее Варька совсем отбилась от рук, что новый председатель, приехавший из города, заводит строгие порядки и будто бы хочет отменить на уборке картофеля дотацию.
Отмена дотаций особенно беспокоила Палагу.
— Ты, Степушка, попеняй ему, — попросила она. — Поскольку ты, слыхать, нашим бригадиром будешь, ты уж ратуй за нас перед ним. Не давай в обиду.
Степан ухмыльнулся про себя. Ему была знакома эта извечная забота людей в слабых колхозах, где старались работать на уборке картофеля не за трудодни, а за «дотацию», то есть за десятую часть убранного, и если теперь Коркин решился отменить ее, значит, действительно надеется на трудодень.
— Ты, Палага, не жадуй, это — к хорошему, — уверенно сказал он. — На трудодни получишь.
Из горницы в это время вышла Варька — девушка лет шестнадцати, с темно-рыжими волосами, ловкая и подвижная, словно огонь. Не смущаясь тем, что на ней была лишь сатиновая юбка да кружевная сорочка, открывавшая ее просмугленные солнцем плечи, она подскочила к Степану и радостно засияла своими ярко-зелеными русалочьими глазами.
— А, дядя Степан! Я думала, мне снится, что ты приехал, ан в самом деле.
Варька была любимицей Степана, у которого кровное детище не удалось ни красотой, ни умом, ни нравом.
— А я тебе подарок привез, — сказал он потеплевшим голосом.
— Подарок! — вмешалась Палага. — Ты бы вместо подарка помог ей на фабрику поступить. Спит и видит девка, как бы туда уйти.
— Ну, это вы бросьте, — твердо сказал Степан. — Будем все в колхозе работать. Такой нынче порядок.
— Дядя Степан, я же девка, мне нарядиться хочется. — Варька подсела к нему и заглянула, в глаза. — Наши, которые на фабрику пошли, посмотри, как оделись… В городе живут. А я что?
— И тут заработаем, — уверенно сказал Степан.
— Знаю, заработаем, — задумчиво согласилась она. — И буду я, как клуша, сидеть на своих сундуках. У нас тут и выйти-то некуда.
— Клуба нет, кино в овощехранилище кажут… — словно эхо отозвалась Антонина.
— Ну и врешь, толстая! — вскипая вдруг неподдельной обидой, крикнула Варька. — В. овощехранилище уже не кажут. Его под засыпку приготовили… Теперь в сельсовете кажут.
Степан рассмеялся и, обняв Варьку за плечи, притянул к себе.
— Погоди, Варюха, дай на ноги встать, развернуться — все у нас будет.
Он поймал ясный, доверчивый взгляд и отвел глаза. Обнадеживающее слово сорвалось нечаянно, но так или иначе, ответ на него придется держать. Степан посуровел лицом. Там, вдали от деревни, все казалось ему более легким и уже наполовину сделанным, а тут вдруг открылся непочатый край трудной, как подвиг, работы, в которую надо положить немало сил, терпения и сердца. Как звенья одной неразрывной цепи прошли перед ним и Антонина, и встречный плотогон, и рабочие y перевоза, и Варька с ее помыслами…
«Ну, что ж, — решил он, снова вспомнив, слова Коркина. — Кому, как не нам, ворочать, жизнь наново… Теперь повернем».
Утром он нашел в сарае у тетки Палаги старенький зазубренный топор, насадил его на новое топорище и пошел расколачивать свою избу.
Весенним утром
Желтой дымкой тальника окутан май. Еще не цвели сады, не гремела первая гроза, не посеяны яровые, и кумачовый флаг над правлением колхоза, обновленный к Первомаю, еще не побледнел от солнца и дождей…
С утра на крыльце правления сидели двое — молодой парень из соседнего села Венька, по прозвищу Дикарь, и местный колхозник Евсей Данилыч Тяпкин. Оба они по своим делам дожидались председателя, который еще вчера уехал в дальнюю бригаду.
О деле Евсея Данилыча легко можно было догадаться, взглянув на его спутанную бороду, мутные глаза и водянисто-синие оплывы под ними. Конечно, сам он прямо ни за что не выдаст своего затаенного желания и будет уверять, что деньги нужны ему на «карасин», на мыло, на олифу, но всякому, кто хоть немного знал Евсея Данилыча, было без слов ясно, что мужик находится, по его собственному выражению, «на струе» и пришел просить двадцать пять рублей из колхозной кассы, чтоб опохмелиться.
Куря Венькины папиросы, Евсей Данилыч часто поглядывал на свою избу. Делал он это неспроста, а потому, что, во-первых, опасался появления жены, а во-вторых, уж очень ветха была эта изба и, очевидно, говорила что-то неприятное остаткам его хозяйского самолюбия. Печально глядя на мир из-под осевшей крыши двумя мутными окошками, она словно собиралась вздохнуть и тихо пожаловаться неведомому сострадателю: «Тяжело мне, братец…»
И хотя ее ржавая крыша была увенчана высоченной радиоантенной, это отнюдь не свидетельствовало о благополучии в семье Евсея Данилыча, потому что самого приемника давно уже не было.
Однако по антенне можно было судить о том, что Евсей Данилыч знавал и лучшие дни. Теперь она всегда напоминала ему о том времени, когда он считался первым плотником в колхозе, играл топориком, как перышком, и не знал себе равных в искусстве выпиливать узорчатые наличники, которые каждому дому точно открывали широкие, ясные глаза. Тогда работа сама просилась в руки, и дом был — полная чаша. А потом (когда это началось, Евсей Данилыч и сам не углядел) работы стало меньше, получать за нее вовсе ничего не приходилось, и маленькое хозяйство Евсея Данилыча, как и большое — колхозное, быстро пришло в упадок. Другие мужики подались в город, на текстильную, на чугунолитейный завод, на песчаный карьер, а Евсей Данилыч, мужик застенчивый и неходовой, остался в колхозе и захирел совсем.
Вскоре после войны он было воспрянул, но не надолго. Тогда председателем выбрали бывшего фронтовика Степку Вавилова. Тот, казалось, повел дело с умом, а потом вдруг в чем-то не потрафил районной власти и, едва не попав под суд, тоже подался в город.
Сейчас о новом председателе, приехавшем недавно по своей воле из города, на селе опять упорно говорили, что-де больно хорош, что даже вот Степку Вавилова уговорил вернуться в колхоз, но лично Евсей Данилыч пока не видал от него ничего доброго и судить не торопился, желая еще посмотреть, даст он ему сегодня двадцать пять рублей или не даст.
— Вот какие, брат Венька, пироги, — вслух завершил он круг своих мыслей.
Венька ничего не ответил. Он сидел и, кося жгуче-черным глазом на дорогу, думал о своем. От успеха его переговоров с председателем зависело — останется он на все лето здесь, в Овсяницах, или ему придется искать работу в другом месте. Последнее было нежелательным для Веньки по двум причинам: во-первых, Овсяницы были близко от дома, а во-вторых, и это было главным, здесь жила Варька, которая за одну только прошлую зиму из долговязого конопатого подростка неожиданно для всех вымахала в ладную девку с темно-рыжей косой и зелеными русалочьими глазами.
Теперь Венька соображал, как ему лучше подойти к председателю. По слухам он уже знал, что новый овсяницынский председатель — мужик дошлый, копейки из рук не выпустит, а таких выжиг, как он, Венька, насквозь видит. Но с другой стороны, если человек всерьез задумал строиться — без Веньки и его «дикой бригады» ему не обойтись. Вот уже три года в ближних и дальних колхозах эта бригада рядилась строить коровники, телятники, хранилища, рвала за это жирные куши наличными, но работала, надо признаться, на совесть. Так зачем же, думал Венька, отказываться от дела, коли оно кругом, и нашим и вашим, выгодно? Нет, уломает он председателя, как пить дать!
— Вот, Данилыч, — подвел и он итог своим размышлениям.
Так они и сидели, не сознавая, что их уже разморило напористое весеннее солнце и что обоим не хочется ни говорить, ни думать, а только бы смотреть, как теплый ветер волнует новозданную зелень берез, да слушать, как пересвистываются в ней, словно разбойнички, работяги-скворцы.
Это блаженное состояние расслабленности и созерцания было нарушено появлением Варьки. Заметив Евсея Данилыча, она потопталась на месте и уже была готова повернуть вспять, но Венька окликнул ее:
— Ну, чего застеснялась? Иди, иди, не съедим.
Он бесцеремонно подвинул локтем Евсея Данилыча и, потянув за руку упиравшуюся Варьку, посадил ее рядом с собой.
— Куда ходила?
— На поле была, обмеряла. Сеют наши, — прерывисто дыша, сказала Варька и затеребила конец зажатого в кулачке платка.
В семнадцать лет ей все было внове — и Венькина рука, лежавшая на ее плече, и почему-то ставший теперь таким волнующим запах обыкновенного табака, исходящий от него, и сознание его власти над всем ее существом, и то, что бешеный весенний воздух, стоит только поглубже втянуть его ноздрями, так и пронимает ее всю, до тонюсенькой жилочки…
— Не говорил еще? — тихо спросила она Веньку.
— Не приезжал, ждем.
— На поле был. Я думала, сюда поехал. Знать, завернул куда-нибудь.
Она тихонько повела плечом, стараясь освободиться от ставшей слишком вольной Венькиной руки.
— Ну-ну, чего? — снисходительно проворчал он. — Чего ты меня до сих пор дичишься, не съем.
— Едет! — подскочила вдруг Варька. — Ой, побегу… Едет!
Поправляя сбившийся платок и оскользаясь на весенней грязи, она пересекла улицу и ударилась прогоном в поле, разогнав по пути гомонливое стадо гусей.
— Ну и бес! — с восхищением сказал Евсей Данилыч, но сейчас же постарался принять озабоченно-почтительное выражение лица.
К правлению на белоногом жеребце, запряженном в какой-то нелепый извозчичий тарантас, подъехал председатель Коркин. В полувоенной фуражке, какие давно уже не продают, а шьют только по заказу, круглый, плотный и быстрый в движениях, Коркин соскочил с тарантаса, бросил в него кнут и привязал жеребца к балясине. Пока он это делал, Венька с независимым видом стоял на крыльце, а Евсей Данилыч топтался вокруг коня и нахваливал его на все лады. Он охлопывал его круп, трепал по шее, процеживал сквозь пальцы давно не стриженную гриву и, наконец, дал прихватить губами свое ухо.
— Ко мне? — спросил Коркин, ступая на крыльцо.
— Ну, председатель, давай рядиться, — развязно говорил Венька, идя вслед за ним по темному коридору. — Слышал, телятник тебе надо строить. Коль сойдемся в цене — вот он, я.
Коркин открыл ключом дверь, и все трое вошли в маленький, загроможденный конторского вида мебелью и сплошь заваленный початками кукурузы кабинет. Не пучки пшеницы, ржи или ячменя, а именно эти восковато-желтые початки, как знамение времени, лежали на столах, подоконниках и в углах председательского кабинета.
«Не даст», — подумал Евсей Данилыч, смущенный столь деловой обстановкой, и сел в сторонке, решив подождать, когда уйдет Венька.
— Слушаю, — сказал Коркин.
— Так будем рядиться, Григорий Иваныч? — спросил Венька. — А то перебьют у тебя мою бригаду устюжские, будешь тогда локти кусать. По рукам, что ли?
Венька, как в конном ряду, выставил из-под полы пиджака руку и задорно сверкнул на председателя своими Угольными глазами.
— Двадцать тысяч дашь?
Евсей Данилыч восхищенно крякнул. Умеет же этот Дикарь обстряпывать дела… Эх, ему бы, Евсею Данилычу, такую хватку!
— Копейки не дам, — негромко отрезал Коркин.
— И правда! Ишь чего захотел… Двадцать тысяч! — сказал из своего угла Евсей Данилыч. — Да за двадцать-то тысяч, знаешь…
— Молчи ты, — огрызнулся на него Венька. — Смотри, председатель, промажешь. Восемнадцать — последнее слово.
Коркин засмеялся и пожал плечами.
— Не сойдемся. Ступай, мне некогда.
— Черт с тобой, двенадцать, — круто съехал Венька. — Пиши договор. Три — вперед. Да ты, видно, строить не хочешь! — усмехнулся он, увидев, что Коркин только махнул рукой. — Так бы и сказал сразу, нечего тогда тут лясы точить.
— Почему? Строить будем, — спокойно сказал Коркин. — Только нынче решили без дикарей обойтись. Довольно им колхозных денежек в карманы посовали. У нас свои плотники не хуже, и карманы у них не уже. Так, что ли, Данилыч?
— Известно! — встрепенулся тот и про себя радостно подумал: «Даст».
— Станут они тебе за трудодни ломить, — снова усмехнулся Венька. — Нынче дураки-то повывелись. Вон спроси его, — кивнул он на Евсея Данилыча, — станет он за трудодни строить? А коли и станет, так через пень колоду. Глядишь, года через три поспеет твой телятник… Ну, скажи, старик!
Евсей Данилыч приник и, не найдя, что ответить, забормотал невнятное.
— А что ему не работать? — загорелся вдруг Коркин. Он выдернул ящик стола, схватил какую-то книжку и, чуть не отрывая страницы, стал листать ее. — Вот. По установленным нормам на трудодни он получает? За качество получает? За досрочное выполнение получает? Если утвердим его бригадиром — премию получает? Чего же ему еще?
Он дернул к себе счеты и быстро застучал костяшками.
«Все дело, подлец, испортил, рассердил человека, — с укором подумал Евсей Данилыч. — Теперь не даст».
А Венька не унимался.
— На счетах-то у тебя ловко получается. Чего только дашь-то под эти костяшки?
— Дадим, — уверенно сказал Коркин. — Вот решили дать аванс на трудодни по два с полтиной. И каждый месяц давать будем. У тебя, Данилыч, сколько трудодней?
— Чего там! — махнул Евсей Данилыч рукой. — Семьдесят, не знаю, наберется ли.
— Ну, твоя вина, что мало. Получишь всего сто семьдесят пять целковых.
— Когда? — спросил Евсей Данилыч.
— Да хоть сейчас. Если у бухгалтера готовы списки, иди да получай.
— Ну да? — изумленно и недоверчиво спросил Евсей Данилыч. — Сейчас можно получить?
Коркин внимательно посмотрел на него.
— Да ты, я вижу, проспался только сегодня. Еще позавчера решили на правлении авансировать по два с полтиной. Весь колхоз знает.
Не сказав в ответ ни слова, Евсей Данилыч поднялся и направился к двери. Весь предыдущий разговор, и особенно упоминание Коркина о том, что его, Евсея Данилыча, могут утвердить бригадиром, требовал немедленного реального подтверждения.
Когда через несколько минут он вышел на крыльцо, там уже стоял Венька и зло расправлял исковерканную во время разговора с председателем шапку.
— Ну и жмот! — ища сочувствия, сказал он Евсею Данилычу. — Тугой человек, одно слово.
— Да уж точно! — охотно согласился Евсей Данилыч, но в голосе его слышалось скорей восхищение, чем сочувствие.
Проводив взглядом Веньку, напропалую топавшего по загустевшей грязи, он вынул полученные сто шестьдесят семь рублей, из них семнадцать тщательно упрятал за подкладку шапки, а остальные положил в карман.
К дому он подходил с лицом торжественным и лукавым. Сейчас он доставит себе маленькое удовольствие — покуражится, прикажет вздуть самовар, заставит чисто прибрать стол, откажется пить из надтреснутой чашки, а потом, когда жена будет доведена до предельного градуса и приготовится запустить в него какой-нибудь твердостью, вдруг объявит, что его хотят поставить бригадиром строительной бригады, и как бы в подтверждение этого бухнет на стол полторы сотенных… Знай, мол, наших!
А Венька между тем уже вышел за село и шагал по полевой дороге. Жаворонки трепетали в струящемся над полями воздухе, через дорожные колеи неуклюже перелезали еще сонные лягушата, рыженькая крапивница совершала свой первый полет, и Венька мало-помалу обмяк, захваченный и покоренный всеобщим праздником весны. Когда он нашел Варьку, то на лице его не было и тени прежней озабоченности и досады.
— Подрядился? — сияя своими русалочьими глазами, встретила его Варька.
— Куда там! — засмеялся он. — Такой тугой человек — не подступись. Придется в Устюжье ехать. Туда сами звали.
— В Устю-южье, — протянула Варька. — Да туда же сто километров…
— Сто десять, — поправил Венька. — Надо сегодня же подаваться, а то можно и упустить.
Он бросил на сухой закраек поля пиджак и предложил:
— Посидим.
Но Варька не двинулась. Опершись на свою рогатую мерку, она смотрела в землю, и по ее нахлестанным весенним ветром щекам блестящими струйками бежали слезы — слезы первого девичьего горя.
Спутники
Заведующий сельским клубом в Акулове Юра Молотков и врач Акуловской больницы Никольский, случайно повстречавшись на выходе из деревни Удол, шли по лесной дороге.
Была та пора осени, когда в сырых осинниках начинает горьковато припахивать корой, красится лист, и по утрам на стебли еще зеленой травы мелкими зернами ложится морозная матовая роса. Ни птичьей возни, ни стрекота кузнечиков, ни озорных набегов ветра на говорливое мелколесье. Все точно замерло в предчувствии недалекой зимы…
— Отличная пора, очей очарованье, — бессовестно перевирая пушкинские стихи, сказал Юра, настроенный на восторженно-грустный лад. — Который раз, Николай Николаевич, иду я этой дорогой, а между тем она все равно кажется мне красивой. Я думаю, лучше наших лесов нет на свете. Вы, конечно, всему тут чужой, все вам тут не нравится, а я — здешний. Я — без предубеждения.
Юра покосился на Никольского и, не дождавшись ответа, вздохнул. Ему хотелось поговорить.
Молодой доктор, с тех пор как появился в Акулове, вообще привлекал внимание любопытного и общительного Юры. Стройный, с эластичными движениями гимнаста, одетый в тяжелое пальто, шляпу, яркий шарф и ботинки на толстой подошве, он выделялся среди коренастых и немудро одетых акуловских хлебопашцев. К тому же в отличие от них — людей неторопливых, рассудительных — Никольский был резок, скор в решениях и порой ядовито-насмешлив.
Фельдшер Никодим Федорович с обидой рассказывал Юре, что, осмотрев больницу, Никольский презрительно усмехнулся и сказал:
— Стационар на три койки. Будем, значит, жить по Чехову: фельдшер — пьяница, у медперсонала — низкий уровень знаний…
И обратившись уже прямо к Никодиму Федоровичу, добавил:
— На работу, пожалуйста, являйтесь бритым. Больной должен уходить от нас со светлой надеждой в душе, а ваш вид не способен внушить ее.
Когда же доктору показали его квартиру — две комнаты при больнице с окнами в яблоневый сад — он очень удивил всех, сказав:
— Вымойте здесь и поставьте пять коек. Ну, что непонятного! Пять больничных коек. Не собираюсь же я выписать сюда родственников со всего света.
Поселился он в избе для приезжих.
По-новому загадочным и оттого еще более притягательным Никольский стал для Юры с тех пор, как поссорился с председателем колхоза, запретив своим работникам выходить в поле выбирать картошку.
— Вы что же, Николай Николаевич, не хотите колхозу помочь? — с укоризной выговаривал ему председатель. — Учителя работают, завклубом работает, библиотекарь работает, а ваши больничные отстают от всей интеллигенции — стыдно!
— В больнице много работы, — отрезал Никольский. — И колхозу мы помогаем именно этой работой. Не будем впредь тратить время на такие разговоры. До свидания.
Впервые Юра заговорил с доктором в библиотеке. Никольский пришел туда вечером и, едва переступив порог, сказал:
— У вас тут пылью пахнет. Надо чаще вытирать книги. Все до одной вытирать.
Юра заметил, как изменилось лицо библиотекарши Ниночки Стрешневой. Оно сразу приобрело какое-то смятенно-глуповатое выражение, словно у перепуганной курицы, когда та, растопырив крылья, с разинутым клювом, спасается бегством от озорного щенка. Заполняя карточку, Ниночка задержалась на графе «пол» и долго дожидалась ответа.
— Ну что же, посмотрим, что у вас есть, — сухо сказал Никольский.
Он пошел за перегородку и стал перебирать книги на полках. Ниночка услужливо подставляла ему табуретку, показывала расположение книг.
— Вот видите? — опять сказал Никольский, протягивая ей свои руки, серые от пыли. — А подбор литературы у вас бестолковый. В следующий раз, когда будете составлять заявку в библиотечный коллектор, позовите меня. Я вам подскажу.
— Вы бы, Николай Николаевич, в клуб зашли. Может, и мне подсказали бы что-нибудь дельное, — с нарочитым смирением сказал Юра.
— Зайду, — согласился Никольский. — Закончу свои реформы в больнице и зайду.
Теперь, встретив Никольского в Удоле, Юра обрадовался случаю свести с ним знакомство покороче. Они давно уже шагали бог о бок по узкой лесной дороге, но на все попытки Юры завязать разговор Никольский неохотно поддакивал или вовсе не отвечал, глядя на легонькую, в короткой бобриковой тужурке фигурку спутника, как на пустое место.
— Оба мы, Николай Николаевич, принадлежим к сельской интеллигенции, — не унимался Юра, — а между тем вы сторонитесь меня и упорно не хотите вступать в дружеские отношения. Этого я не понимаю. Может, вы кичитесь своим высшим образованием, так это, скажу вам, отсталый взгляд на вещи. Не одни вы сейчас в деревне с высшим образованием, а между тем другие не проявляют к окружающим такого пренебрежения. Скажите, например, зачем вы обидели Никодима Федоровича?
— Разве я его обидел? — спросил Никольский.
— Еще бы! Ведь вы сказали, что он пьяница…
— A-а, так я сказал правду.
Юра обрадовался — хоть вяло, неохотно, но все же Никольский отвечал ему.
— Пьяница — это еще не доказано, — воодушевленно заговорил он, — а между тем Никодим Федорович — старый, опытный и знающий фельдшер, который на протяжении многих лет с успехом заменял здесь врача. Его у нас любят, верят ему. Он наш земляк…
— Перестаньте, Юра, хвалить свое только потому, что оно ваше, — с раздражением перебил его Никольский. — Ни черта ваш Никодим Федорович не знает. Умеет йодом да ихтиолкой мазать — и все тут. Я свой персонал за книги засадил, так фельдшер и читать-то новую медицинскую литературу не может. А на моих лекциях спит с похмелья… И авторитет ему создали такие же пьяницы. Он угадывает, исходя из своего опыта, их похмельное состояние, а они удивляются его проницательности и думают, что он руководствуется новейшими открытиями медицинской науки.
— Ну уж вы перегибаете! — возмутился Юра. — Какие же пьяницы? У нас народ хороший, работящий.
— А кому я частенько зашиваю раны на голове, как не участникам рукопашных инцидентов в сельской чайной? — усмехнулся Никольский, — Зашел я как-то в клуб… Вы, кажется, просили меня об этом, но я и без просьбы зашел бы, будьте уверены… Там же у вас, Юра, мухи дохнут! Толпятся парни и девушки в пальто, какой-то завсегдатай свадеб с кудрявым чубом дергает гармошку, стены увешаны мобилизующими плакатами… Да глядя на эти плакаты, только и остается запить со скуки.
— И до меня добрались! — усмехнулся Юра. — Наш клуб лучший в районе, я грамоту имею.
— Это еще досадней, если во всем районе не нашлось лучше клуба, чем ваш, — сказал Никольский.
Привыкший ладить с людьми, Юра чувствовал себя неловко и уже раскаивался, что заговорил с доктором, но Никольского этот разговор, очевидно, задел за живое.
— Осматривал я на днях школьников в Акулове, — продолжал он, — попалась мне девочка со старыми ожогами на руках. Спросил, что с ней случилось. Оказывается, помогала тушить горящий стог сена. Тушили, говорит, водой, а надо было молоком от черной коровы, потому что стог загорелся от молнии. По этому поводу я имел с учителями неприятный разговор. Может быть, по-вашему, я их тоже обидел?.. Народ-то, Юра, хороший, работящий, да культуры ему недостает. Все мы — и я, и вы, и учителя — должны прививать эту культуру. А что сделал, например, Никодим Федорович, за которого вы только что заступались? У него под носом, в Удоле живет старуха-знахарка, которая рисует мелом вокруг больного круг и ворожит, закатив глаза… Дифтерийную девочку эта старуха пользовала какими-то припарками, а родители догадались позвать меня только сегодня…
Голос его вдруг сорвался на какой-то судорожный стон или вздох, и Никольский замолчал.
— Все вам тут нехороши, — проворчал Юра.
Никольский поднял воротник и спрятал в него свое лицо, желая, очевидно, показать, что разговор надоел ему. Снизу Юре был виден лишь висок Никольского с бьющейся синей жилкой да кончик хрящеватого уха, разделивший надвое упавшую из-под шляпы прядь волос. Юра готовился возразить. Имея привычку заглядывать собеседнику в лицо, он незаметно для себя ускорял шаг, но никак не мог опередить Никольского. Они все еще шли лесом, по дороге, скупо припорошенной палым листом. Порой над ней выгибался ствол березы; под этой аркой листа было больше, и тишина коротко нарушалась шуршанием быстрых шагов.
— Послушайте, Юра, — сказал вдруг Никольский, резко останавливаясь. — Идите один. Впереди или сзади — все равно. Только оставьте меня, пожалуйста.
Юра не уловил в голосе доктора просительной или жалкой нотки, и все его существо, никогда не умевшее злиться, обижать, ненавидеть, вдруг с необычайной силой восстало против этого человека.
— Кого вы из себя корчите? — с расчетливой издевкой сказал он, тоже останавливаясь и в упор глядя на Никольского прищуренными глазами. — Не нравится вам здесь — и уезжайте. Я знаю, вам хочется уехать. Сознайтесь! Ведь хочется?
Никольский, очевидно, хотел улыбнуться, но не мог справиться со своим обычно твердым лицом, и оно коротко дернулось в какой-то непроизвольной гримасе.
— Уйдите вы! — крикнул он. — У меня в Удоле девочка от дифтерии умерла, а вы пристаете… Глупый вы человек!
Некоторое время они еще стояли на месте, готовые наносить друг другу новые незаслуженные обиды; наконец Никольский круто повернулся и напролом пошел в чашу леса. Но прежде чем она успела скрыть его, Юра заметил по круто выгнувшейся спине доктора, что тот плакал.
— Подождите, Николай Николаич… — растерянно пробормотал он.
Только теперь до его сознания дошел смысл последних слов Никольского.
— Николай Николаич! — закричал он, срываясь с места и разбрасывая перед собой ветки берез и осин. — Николай Николаич, подождите!
Он остановился, наткнувшись на непролазную крепь, и прислушался.
Щедро золоченный осенью и солнцем лес ответил ему из своих глубин шумом потревоженных кем-то веток.
Первые кляксы
Первоклассник Витя Пымзин сидит за отцовским письменным столом и готовит уроки. Пишет он в своей тетрадке не так, как европейцы, — слева направо, и не так как арабы, — справа налево, и не так, как китайцы, — сверху вниз, и даже не так, как мальчики из страны Лилипутии, открытой Гулливером, — по диагонали, а совершенно по-своему — ступеньками. Слова он располагает одно под другим таким образом, что у него получается длинная лестница, ниспадающая от верхнего угла тетрадки к ее середине.
Делает это Витя не из пустого озорства. Рукой мальчика двигает буйное, не подчиняющееся его воле воображение. Оно уводит Витю в иной мир, где нет ни единиц, ни «рукотворных» наказаний родителей, а есть только невиданные звери, смелые охотники, и вот у буквы «о» уже появляются всевозможные олицетворяющие аттрибуты: ушки, носик, хвостик, — а буква «в» целится в нее из лука, готовая пустить разяще-звонкую стрелу с тяжелой кляксой на конце. Все это, конечно, не противоестественно. И вообще Витя — нормальный, здоровый ребенок, как и все в его возрасте, «открытый дли добра и зла», жизнерадостный, веселый и склонный к шумным играм, всегда овеянным благодаря ему творчески-остроумной выдумкой. И только в глазах его — острых, шустреньких глазах хитрого мышонка — есть что-то неприятное. Так смотрят дети, которые знают многое из того, что им не положено знать ни по возрасту, ни по самым элементарным нормам воспитания.
Внезапно витины занятия русской грамотой прерваны визгом входной двери. Витя вскидывает стриженую голову и с любопытством прислушивается. Из кухни доносится вкрадчивое покашливание, потом сиплый, точно залежавшийся на сыром складе голос:
— Вот тут, Мария Федоровна, говядинка, ножки на студень и всяка такая штука… Чего будет нужно, вы ко мне — без стеснения. Всегда рад услужить. Как Павел Кузьмич ко мне, так и я к нему, всей душой, значит. Без этого нельзя.
Витя срывается с места и бежит в кухню.
— А-а! Всяка-такая-штука пришел! — радостно приветствует он обросшего недельной щетиной человека в коротком пальто с измятыми лацканами. — Чего мне принес?
Человек старается изобразить на своем лице умиление и даже присаживается от избытка сладких чувств на корточки.
— Герой мой дома, октябренок мой дома! — заводит он фальцетом. — А я-то вошел, — чу! — не слышно моего героя. Думаю — гуляет. Тут у меня всяка такая штука есть, на вот, лакомись на здоровье.
В руки Вити сыплются дешевые конфеты, яблоки, печенье, он благосклонно принимает все это и, не поблагодарив, отходит к кухонному столу, где мать — Мария Федоровна — распаковывает увесистые свертки.
— А у тебя чего?
— Отстань. Мясо.
Мария Федоровна — тощая женщина с длинным несвежим лицом — легко раздражается без всякого повода. Очень трудно бывает предугадать, что именно вызовет у нее вспышку короткого, но истерически-бурного гнева, и поэтому все домашние живут под вечным страхом за свои, даже самые невинные, проступки. Витя тоже боится ее, и ему поневоле приходится на каждом шагу прибегать к маленькой лжи, чтобы как-то славировать и тем избежать окрика или затрещины. Но на сей раз остатки врожденного детского простодушия все же подводят его.
— А воблы не принес? — спрашивает он у человека с измятыми лацканами.
— Нет, милый, не принес. Не поступила пока на базу.
— Ты укради мне немножко, когда поступит, — деловито наказывает Витя и тут же получает от матери затрещину.
— Иди, учи уроки, гадкий мальчишка! Нечего тебе на кухне болтаться.
Вите не больно, но он инстинктивно прибегает к испытанному средству самозащиты — неистовому реву. Надо же показать матери, что ее воспитательный прием достиг цели, а то, раздасадованная неудачей, она, чего доброго, вздумает повторить его в более ощутимой форме.
— Ну, ладно, не реви, — смягчается мать. Смотри, сколько у тебя гостинцев. Иди, ешь и учи уроки, а я пойду в погреб.
Всхлипывая, Витя возвращается к своей тетрадке и, кусая жесткое яблоко, погружается в задумчивость. Противоречивость мира взрослых ставит его в тупик. Конечно, Всяка-такая-штука — жулик, кто же об этом не знает? Сам отец часто говорит о нем с восхищением:
— Ловкий жулябия этот Всяка-такая-штука. Такой, брат, никогда не попадется, умеет концы с концами свести.
Так почему же возбраняется говорить об этом ему, Вите? Нет, лучше не доверять этим взрослым и держаться от них подальше…
Снова визжат петли входной двери. Это возвращается с работы глава семейства — Павел Кузьмич Пымзин, руководящий деятель потребсоюза. Слышно, как он проникновенно разговаривает со своей шубой, вешая ее на крючок, потом продвигается через комнаты, задевая по пути за все предметы.
— Учишься, брат, зубришь? — спрашивает он, останавливаясь у Вити за спиной… — Ты, брат, учись, зубри. В жизни пригодится. Выучишься — в институт пойдешь… Где мать-то? Ужинать пора бы.
Взгляд родителя случайно падает на тетрадку сына и приобретает оттенок веселого удивления.
— Хо-хо, брат, чего это ты тут наколбасил? — гогочет Павел Кузьмич. — Эй, мать! Посмотри-ка, каких выкрутас он тут настряпал. Чему только их учат в этой школе!
Вернувшаяся из погреба и еще закутанная в платок, Мария Федоровна подходит к столу. Витя тотчас же начинает сбивчиво бормотать какую-то ложь, а голова его непроизвольно втягивается в плечи. Но на этот раз родительская кара волей случая минует его. Мария Федоровна, точно ищейка, потягивает носом, и гнев ее устремляется на мужа. В ее гневе нет возрастающих степеней, он обрушивается сразу девятым валом:
— Ничтожество! — кричит Мария Федоровна.
— Опять нализался, как скотина! Загонишь ты меня в петлю. Убегу я из этого дома, куда глаза глядят!
Этим угрозам Павел Кузьмич, конечно, не верит, но малодушный страх перед жесткой ладонью супруги заставляет его пятиться, моргать и униженно оправдываться:
— Да я… да мы с Потаповым, с Гусевым по кружечке… Послушай, мать! Эй, мать, мать, перестань…
Раздается звук хлесткой пощечины; Павел Кузьмич, отпрянув, падает на диван, и Витя, всегда готовый включиться в какое-нибудь шумное предприятие, кричит с пылающим жаждой бури взглядом:
— Ура! Бей папу!
Но как обескураживающе разбиваются об этот изменчивый, непонятный, вероломный мир взрослых самые искренние витины порывы! Внимание Марии Федоровны вдруг переносится на сына, она заглядывает в его тетрадь и хватается за голову.
— Боже! Что ты наделал! Что ты наделал, я тебя спрашиваю? Загонишь ты меня в петлю! Убегу я из этого дома, куда глаза глядят!
Вите от этих слов, которые он слышит каждый день, вдруг становится невыносимо скучно. Уже непритворные слезы подступают ему к горлу, он начинает судорожно всхлипывать, но оказывается, что плакать, даже когда этого искрение, по-настоящему хочется, нельзя.
— Не смей реветь! — слышит он голос матери. — Завтра возьмешь чистую тетрадку и напишешь все, как следует. А сейчас иди и спи, гадкий мальчишка.
Витя идет к своей постели, закрывается с головой одеялом и, глотая крупные комки слез, засыпает.
…Спи, гадкий мальчишка!
Ложка дегтя
Душным июльским вечером, когда кажется, что сам воздух липнет к телу, три приятеля — адвокат Пловкин, редактор городской газеты Шабал и судья Турусевич — сидели у последнего на балконе, пили теплое пиво под воблу и, уже исчерпав несколько тем, говорили о летаргическом сне.
— А что, — сказал вдруг редактор Шабал, слывший среди приятелей отчаянным вольнодумцем, — хорошо бы сейчас на речку, в холодок. Костер, знаете ли, развести, картошки испечь… Впрочем, суть дела не в этом. А лучше завалиться, знаете ли, на спину, глядеть в небо, стихи бормотать, а!
— Почему? Картошки испечь — тоже хорошо, — задумчиво возразил судья.
Непрактичный в житейских делах и всегда мнительный из-за опасения попасть впросак адвокат Пловкин забормотал было о том, что на реке, пожалуй, сыровато, но энергичный Шабал не дал ему договорить.
— Суть дела не в этом, — решительно сказал он. — Собирайтесь и — пошли. Какого черта станем сидеть в городе?
Они набили «авоську» всем, что нашлось у Турусевича в кухне — сырой картошкой, хлебом, луком, — Шабал прихватил еще две оставшиеся бутылки пива, и приятели вышли. Доехав на автобусе до конечной остановки, миновав затем окраинные поселки, утыканные непривившимися тополевыми кольями, они оказались за городом.
По едва уловимому запаху пойменного ила, по чуть осязаемой свежести воздушных струй здесь уже чувствовалась близость реки. Было тихое, нежное время заката. За синюю кромку далекого леса спускалось вялое, туманное солнце, честно потрудившееся за долгий день; на вершинах корявых ветел засыпая, хрипели грачи, и в воздухе уже плыл сырой, прохладный пар земли, неизменный спутник летних сумерек.
Судья глубоко, томительно вздохнул, и по сладкому выражению его красивого лица с декоративными смоляными усами можно было понять, что он умилен этой мирно отходящей ко сну природой.
Примерно в таком же состоянии духа находился и адвокат Пловкин. Маленький, умеренно облитый крутым жирком, какой приобретают на сидячей работе только очень здоровые люди, он шагал, чуть приотстав от своих приятелей и по временам издавал нечленораздельный, но вполне выражающий состояние безграничного блаженства звук — «ц, э-э-э…»
Редактор Шабал — поэт в душе, как натура более сложная, реагировал на окружающий мир не столь непосредственно. Очевидно, весь сосредоточась на каких-то неясных поэтических гулах, теснившихся в его груди, он шел, опустив гривастую, с тяжелым подбородком голову, и лишь изредка, точно проснувшись, обводил окрестность туманным взглядом.
Но как бы по-разному ни вели себя приятели, было вполне очевидно, что все трое не часто бывают за городом и открывают сейчас в себе и вокруг себя новый чудесный мир.
Когда они подошли к реке, солнце уже убралось за горизонт. В этот поздний час приятели были одни на широком песчаном пляже, ограниченном с одной стороны тинистой старицей, а с другой — дровяным складом. Там, на складе, правда, происходила какая-то жизнь — мелькали огни в окнах конторы, ходил возле единственной, рассыпавшейся поленницы сторож с ружьем, но кругом было так тихо, что казалось, будто все совершается как в немом кино.
— Сначала надо искупаться, — шепотом, точно благоговея перед этой тишиной, сказал редактор. — Трусы не будем мочить, никого нет.
— Неудобно, пожалуй, — слабо запротестовал мнительный адвокат Пловкин.
— Ерунда! Нет же никого.
Редактор смело начал раздеваться, и остальные последовали его примеру.
— Ну, раз, два, три!
Разбежавшись, они вдруг остановились у самой воды как вкопанные.
— Н-да, довольно малодушно, товарищи, — сказал редактор и брызнул водой на адвоката Пловкина.
Тот, огласив пляж истошным визгом, брызнул на Турусевича, и у приятелей завязалась веселая кутерьма. Они долго с наслаждением кувыркались в теплой воде, а потом редактор Шабал придумал нырять с трамплина. Металлический остов конвейера, служившего для выгрузки сплавных дров на берег, выдавался далеко над водой и мог сойти за трамплин. Все трое, хохоча и подбадривая друг друга, полезли на него. Никто бы, наверно, так и не решился прыгнуть, если бы с берега вдруг не послышалась старческая фистула сторожа:
— Вот я вас сейчас дрыном оттуда, шаромыжники вы эдакие. Слазь давай!
И сейчас же в вечерней тишине прозвучали тяжелые удары об воду трех тел, падающих как попало.
— Смотрите, лодка, — отплевываясь, сказал редактор, когда приятели подплыли к берегу. — Давайте покатаемся.
— Ну вас к дьяволу. Я озяб, — взмолился адвокат Пловкнн.
— Вот и погреешься, садись на весла, — посоветовал ему Туруссвич. А я сейчас костер разведу, будем картошку печь.
Он вылез из воды, и делая руками гимнастические упражнения, забегал по песку, а Шабал и Пловкин принялись распутывать лодочную цепь.
— Какой это деталью хотел угостить нас сторож? — поинтересовался непрактичный в житейских делах адвокат.
Но не успел редактор удовлетворить его любопытство, как сам сторож, легкий на помине, снова окликнул их.
— Для вас это, шаромыжники, лодка поставлена? — закричал он, подходя вплотную. — Люди, вроде, солидные, у ентова вон живот, а балуются хуже маленьких. Сейчас заведующего позову, пускай он с вами разговаривает.
— Ну, что вы, папаша, раскипятились? Не съедим мы вашу лодку. Если нельзя, значит и трогать не станем, — попробовал урезонить его адвокат. Но сторож вдруг вскипел самой неподдельной обидой.
— Папаша! Чай, я не дома на печке — папаша! Я тут на производстве. Соблюдать все-таки нужно.
— Да ну его, пойдем отсюда, — сказал редактор, увлекая за собой адвоката. Но от сторожа не так-то легко было отделаться.
— То-то, что ну его, — заворчал он, идя вслед за ними. — Шляются тут по территории, а потом — ну его. Вот и теплину угораздились вздуть. Люди вроде солидные, у ентова вон усы, а понятие как у маленьких. Сейчас заведующего позову, пускай разбирается.
Он повернулся и, бормоча что-то, пошел к конторе.
— Отстал. Вот смола! — облегченно вздохнул редактор. — Эх, полотенце забыли, товарищи! Придется сушиться у костра.
Они навалили в огонь волглой бересты, в изобилии разбросанной по всему пляжу, и прыгали возле костра, ожидая, когда пройдет черный едкий дым и покажется пламя.
— Ну, что? Это куда лучше, чем болтать на балконе о всякой ерунде вроде летаргического сна, — торжествующе заметил редактор.
— Вот эти самые, — послышалась вдруг из темноты знакомая фистула. — Видите, теплину развели на территории, а меня, значит, — ну. Чай, я им не дома на печке. Я на производстве, нужно соблюдать. Разбирайтесь вот с ними.
В свете костра появился приземистый, бритоголовый человек в сапогах, галифе, в нижней рубашке с закатанными рукавами и укоризненно проговорил:
— Что же это, товарищи? Зачем вы тут огонь развели? Если уж выпили, то ведите себя как следует. Погасите сейчас же огонь и ступайте домой, нечего вам тут голыми плясать.
Приятели узнали в нем заведующего дровяным складом Смердякова, у которого не раз покупали дрова.
— Мы древние язычники, — сказал редактор, готовый расхохотаться, но Смердяков не принял шутки.
— Ладно, ладно, товарищ Шабал, — увещевательно заговорил он. — Выпили и ступайте домой. Для вас же будет лучше, а то, неровен час, утонете.
— Они тут с конвейера прыгать затеяли, — пожаловался сторож.
— Я и говорю, утонут, а то склад подожгут, — отозвался Смердяков. — Долго ли пьяному-то?
— Постой, Смердяков, — возмутился Шабал. Какие же мы пьяные? Мы купаться пришли, ты не передергивай.
— Картошки испечь, — подтвердил Турусевич и повернулся к Пловкину, как бы призывая его в свидетели.
— Что вы мне говорите, товарищ Турусевич! Знаю я, зачем на речку ходят, — понимающе усмехнулся Смердяков и носком сапога показал на бутылки. — Вы лучше гасите огонь и ступайте домой. Нельзя здесь костры жечь.
— Ну, это ты брось, — резко сказал Шабал, наиболее темпераментный из своих приятелей. — Мы находимся за территорией склада и даже не вблизи ее и можем делать все, что нам угодно.
— Вы уж мне не указывайте, — с ехидцей в голосе сказал Смердяков. — Я лучше знаю, что можно делать, а что нельзя. Видите, сколько здесь мусору? Займется мусор — тогда и склад может пострадать.
— А почему мусор не убираете? Вас штрафовать надо за то, что вы пляж загадили, — продолжал наступать Шабал.
— Штрафовать! — обиженно, но отнюдь не трусливо сказал Смердяков, очевидно, чувствуя себя в данной ситуации на верху положения. — Устраивают тут коллективные пьянки, пляшут голыми вокруг костра да еще грозятся. А можно про ваше бытовое разложение и рассказать…
— Тьфу, черт, — сплюнул Шабал.
Сдерживая дрожь в руках, он начал одеваться; судья Турусевич и адвокат Пловкин тоже натянули на себя свои пожитки, и все трое, не сказав Смердякову на прощанье ни слова, пошли прочь. Только отойдя на почтительное расстояние, Шабал с яростной злобой в голосе прошипел:
— Слова-то, подлец, какие выучил — «коллективная пьянка», «бытовое разложение»… Тьфу, с-с-скотина!
— А что, вот возьмет да и пустит кляузу. Оправдывайся потом — попробуй! Ведь и бутылки были, и голыми вокруг костра плясали… — вздохнул мнительный адвокат Пловкин.
— И зачем тебе надо было на этот конвейер лезть? — упрекнул Шабала Турусевич.
— А что — конвейер? Суть дела не в этом. Он к твоему костру придрался. Твоя была идея — картошку печь.
Приятели быстро поссорились и уже всю дорогу до города угрюмо молчали.
По ягоды
На просеках поспела земляника.
Утром, еще в окна горницы сочился сквозь герани бледный свет месяца, Нюшка выскользнула из-под лоскутного одеяла и побежала в сени будить Илью.
— Эй, ты, трутень, — зашептала она, вздрагивая от утреннего холода. — Вставай, по ягоды пойдем. Слышь, что ли? Сейчас мать проснется, она нам задаст.
Илья, спавший на деревянной кровати, закрытой от комаров марлевым пологом, заворочался и сонным басом сказал:
— Щас…
Нюшка вернулась в горницу, оделась и, взяв припасенную с вечера корзинку, опять вышла в сени. Илья, сидя на полу возле кровати, дремал.
— У, горе ты мое, — проворчала Нюшка. — Шевелись! Артемовские бабы всю ягоду оберут… Они ведь хитрущие.
Она потянула из рук Ильи его штаны, но тот сердито дернул их к себе.
— Отстань, сам не маленький.
Сопя, он оделся, повесил через плечо берестяной бурачок и вслед за сестрой пошел через крытый двор в огород.
Рассвет только начинался. На левом склоне неба зыбились синие звезды, висел подтаявший серпик луны, а правый от зенита до горизонта был раскрашен в зеленый, желтый и розовый цвета.
Задевая босыми ногами за капустные листья, облитые жгуче-холодной росой, дети пошли между грядами к перелазу. Отсюда начиналась утоптанная до каменной твердости тропинка. Прямая, словно проложенная ударом кнута, она рубила надвое заполоненный золотистым лютиком луг и бежала дальше, петляя между редкими корявыми соснами, которые, словно сторожевые башни, охраняли вход в лес.
— Я об крапиву обстрекался, — плаксиво сказал Илья по ту сторону плетня.
— Вот мы ужо ее серпом срежем, — пообещала Нюшка. — Ты помочи слюнями, и все пройдет.
Илья поплевал на палец и потер им белые волдыри на ногах.
— Зудит, — пожаловался он через несколько шагов.
— Горе ты мое, — вздохнула Нюшка. — Смотри, какая пичуга порхает.
Впереди со стебля на стебель перелетала рыженькая, с кривым клювом птичка. Смелая и любопытная, она косилась на детей выпуклым, как бусинка, глазом и тоненько попискивала: «Чуть свет, чуть свет, чуть свет…»
— Щас я ее словлю, — сказал Илья.
Он побежал, растопыривая локти, как цыпленок свои куцые крылья, Нюшка бросилась за ним и, хлопая в ладоши, закричала:
— А я тебя словлю! А я тебя словлю!
С визгом, хохотом, криком ворвались они в лес и разом присмирели. Есть величавая торжественность в спокойном пробуждении леса. Между медно-розовыми стволами сосен, покачиваясь, лежат толстые пласты тумана, прошитые косыми лучами солнца. Еще непроницаемо-густа тень еловых лап, которая, кажется, хранит от человеческого глаза какую-то тайну; к лицу и рукам липнет гнилой холодок нехоженых лесных недр; и трепет осин заставляет испуганно вздрогнуть, как внезапное хлопанье крыльев большой птицы, вылетевшей из-под ноги…
Дети быстро шли, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг. Приземистый, коротконогий и головастый Илья из последних сил поспевал за легонькой Нюшкой, но не решался ни отстать, ни попросить передышки.
— Уф, — сказала Нюшка, когда они выбежали на светлую просеку. — Ни за что бы не пошла этим лесом ночью. Беда, какой страшенный…
— А я бы за настоящий моторет пошел, — сказал Илья.
— Какой моторет?
— Ну, какой у нашего бригадира.
— Мотоцикл! — догадалась Нюшка. — Да тебе с ним и не сладить.
— Уж и не сладить! — обиделся Илья. — Я бедовый. Хочешь, на березу залезу?
— Аууу!.. ууу!.. — послышалось вдруг за кустами орешника, и в его зелени замелькали разноцветные платки.
Это перекликались бабы из соседнего колхоза имени Артема. Нюшка тотчас присела у пня и быстро-быстро обеими руками стала обирать твердую, еще чуть зеленоватую ягоду. На дно корзинки просыпалась первая горсть. Боясь, что сестра обгонит его, Илья подбежал к другому пню и тоже стал собирать землянику, кидая ее в свой бурачок вместе с листьями, хвоинками, сучками и всяким мусором.
Увлеченные этим соревнованием, они трудились долго, молча, сосредоточенно. Лишь иногда Илья, стараясь заглянуть в корзинку сестры, спрашивал:
— У тебя много?
На что Нюшка, отводя корзинку, неизменно отвечала:
— Все мое, все мое.
Солнце уже поднялось над просекой, и по лесу покатились волны горячего хвойного воздуха, когда они сели отдохнуть в тени орехового молодняка. Нюшка осторожно достала из корзинки присыпанный ягодами сверток. Газету она бережно свернула и убрала, а мокрый от растаявшего сахара хлеб поделила поровну.
Было жарко. Илья, наевшись, посоловел. Глаза у него стали мутные, нижняя губа отвисла; он повалился в прохладную траву, поджал ноги и пробормотал:
— Давай, Нюшенька, уснем…
— Нельзя, нельзя! Как раз к поезду опоздаем, — встрепенулась Нюшка, которую тоже морил сон.
Чтобы уйти от соблазна, она быстро встала, сломила ореховую ветку и, прикрыв ею ягоды, затормошила Илью:
— Вставай, трутень, вставай! Все бы он спал да дремал. Скоро в школу пойдет — со стыда за малого изведешься, какой, право, сонной!
Недалеко от того места, где они собирали ягоды, через просеку проходила изрезанная рубчатыми шинами дорога, ведущая к перевозу и дальше — к станции. Не защищенная от прямого солнца, дорожная пыль была горяча и суха. Она фонтанчиками пыхала между пальцами, и это развлекало детей до самого перевоза.
Река встретила их игривым полуденным плеском. С крутояра она казалась густо-синей, с зеркальными блестками по гребешкам мелких волн.
Перевозчик Зосима Павлович сидел у своей землянки и наваривал веревочку, захлестнув ее за шило, воткнутое в край стола. Тут же, на столе, лежал дырявый валенок, который Зосима Павлович, очевидно, собирался чинить. Он и зимой и летом ходил в валенках, потому что у него болели ноги.
— А, ягодники пришли, — сказал он, увидев детей. — Рупь-то есть ли за перевоз?
— Нету, Зосима Палыч, — бойко ответила Нюшка. — Мы тебе на обратном пути заплатим, не сомневайся.
— То-то, что нету! Ждите оказии. Не стану я попусту паром гонять.
Он опять принялся мусолить куском вара свою веревочку, а дети сели чуть поодаль на траву и следили за его занятием.
— А ежели я сам речку переплыву, с меня тоже рубль? — поинтересовался Илья.
— Сам сколько хошь плавай — не заказано, — отозвался перевозчик.
— А ежели охотник с собакой поедет, за собаку тоже рубль? — не унимался Илья.
— Экой ты, малый, репей! Отцепись! И посылают же таких сморчков торговать!
— Нас не посылают, мы сами, — сказала Нюшка.
— Сами? — недоверчиво усмехнулся перевозчик. — Стал быть, для интересу?
Нюшка, по-своему истолковав его слова, вдруг обиделась и насмешливо фыркнула:
— Для интересу! Это артемовские для интересу ягодой торгуют, они слабосильные. А мы крепачки, нам в колхозе хватает.
— Зосима Палыч! — позвал вдруг Илья. — Смотри-ка, чевой-то плывет? Вон, вон плывет!
— Чего там еще? — заворчал перевозчик, вглядываясь из-под ладони в рябившую поверхность реки.
Из-за поворота вышел на перекат белый с черной трубой пароход.
— «Ро-бес-пьер», — прочитала зоркая Нюшка.
— Что такое Робеспьер? — спросил Илья.
— Пароход так называется.
— А почему он так называется?
— Не знаю…
— Зосима Палыч, — позвал перевозчика Илья. — Почему пароход так называется?
Зосима Павлович рассеянно взглянул в сторону реки и вздохнул.
— Генерал такой был… Французский. Наполеону служил, — неохотно сказал он.
«Робеспьер» подходил все ближе; от винта его бежали к берегам широкие волны.
— Скупнемся в волнах, — предложила Нюшка.
— Скупнемся! — обрадовался Илья.
Они стремглав бросились под крутояр, и вскоре красная Нюшкина кофта и синяя рубашонка Ильи замелькали внизу, на песчаной косе. Нюшка первая добежала до кромки воды, резко отчеркнутой на желтом песке: кофта затрепетала у нее в руках, зацепившись за гребенку, она с силой дернула ее, потом сбросила с себя юбку, рубашку и — гибкая, тоненькая, как змейка, — скользнула под набежавшую волну. Вслед за сестрой, растеряв на бегу свою нехитрую одежку, увесистым пудовичком бултыхнулся Илья.
Потом они лежали на горячем песке, подгребая его себе под грудь, пока не увидели, что к парому с крутояра спускается грузовик, в кузове которого полощутся на ветру разноцветные платки. Хитрущие артемовские бабы и тут спроворили, перехватив попутную машину.
— Бежим! — заторопилась Нюшка.
Стерев с себя присохший песок, они оделись и побежали к перевозу.
Шофер попался знакомый, колхозный. Нюшка внимательно пригляделась к нему и вдруг запрыгала, хлопая в ладоши.
— Митечка! Митечка! Тебе в чуб девки смолы запустили!
Митечка — нескладный подросток лет семнадцати, недавний обладатель роскошного пшеничного чуба, — презрительно глянул на нее сверху и процедил:
— Дура! Я на приписке был, осенью в армию пойду.
— Хорошее дело, — отозвался Зосима Павлович, тянувший канат. — Может, армия из тебя человека сделает. Отучит мои переметы проверять.
— Один раз попользовался по мальчишеству, а уж вы, Зосима Павлович, помните всю жизнь, — укоризненно сказал Митечка и, чтобы прекратить неприятный разговор, закричал на детей: — А ну, пшено, полезай в кабину!
На станции по платформе мимо деревянного вокзальчика ходил милиционер в белой гимнастерке, перекрещенной пропотевшими ремнями. Это нисколько не обеспокоило Нюшку. Она встала как раз под табличкой, запрещавшей рыночную торговлю на платформе, и открыла свою корзинку. Милиционер скользнул по ней вялым, полным тоски по прохладе взглядом и отвернулся. Очевидно, многолетний опыт убедил его в тщетности борьбы с этими нарушителями порядка.
К приходу поезда возле Нюшки и Ильи собрались ребятишки и женщины с первыми огурцами, редисом, земляникой, пирогами, творогом и даже с дымящейся отварной картошкой.
В те три минуты, пока стоял поезд, тихая, окруженная старыми березами станция с лихвой награждала себя за долгие часы тишины и покоя. Вокзалы больших городов с их вечной, но равномерной оживленностью не знают такой стремительной, как ураган, суеты.
Поезд еще не остановился, а пассажиры, как известно, съедающие в пути неизмеримо больше, чем они едят обычно, уже высматривали с площадки через головы проводников свою добычу.
— А вот свежие ягоды! Свежие ягоды! — пронзительно закричала Нюшка.
Хитрущие артемовские бабы на этот раз промахнулись. Они ринулись к мягкому вагону, а Нюшка побежала, держась за поручни общего. Здесь, она знала, всегда ездят отпускные моряки, солдаты, какие-то парни в клетчатых ковбойках, девчата в спортивных костюмах — все сплошь люди, отлично знающие цену трем минутам и не знающие цену деньгам.
— А вот ягоды! Свежие ягоды!
Об Илье Нюшка вспомнила, когда поезд ушел и на станции опять водворилась знойная июньская тишина. Расходились торговки, приводя в порядок свое разоренное набегом пассажиров хозяйство. Илья сидел все под той же запретительной табличкой. Он не двинулся с места, но бурачок его был наполовину пуст, а в кулаке он сжимал мокрый комок рублей и трешниц.
— Хорошо покупали! — сказала Нюшка, еще полная пережитого возбуждения. — Через три часа опять будет поезд. Останемся?
Илья, хмурясь, подумал, заглянул в Нюшкину корзинку и сказал:
— Хлеб-то весь съели… Купишь мне бутерброд с селедкой?
— Вот горе-то! — вздохнула Нюшка. — Ладно уж, идем.
В станционном буфете они подошли к застекленной витрине, хранившей следы мокрой тряпки. Илья прочно остановил свой выбор на бутерброде с селедкой, а Нюшка предпочла сухую, сморщенную сосиску.
С приходом следующего поезда все на маленькой станции повторилось в точности. Бурный прилив оживления быстро сменился мертвой тишиной. По платформе, подбирая крошки, разбрелись куры, зашагал сонный милиционер, и стало слышно, как у начальника вокзала нежно журчит телефон.
Нюшка завязала деньги в платок, повесила его под кофтой на шею, и дети, миновав скучные пакгаузы, пошли по дороге к дому.
Речку они переехали уже на закате. Теперь она была спокойна, тускла, словно бутылочное стекло, и пахла тиной. Внизу, у воды, было холодно. Из сырых пойменных логов поднимался туман.
Пойдем, Нюшенька, большой дорогой. Страшно на тропе-то, — попросил Илья.
Нюшка и сама боялась сумрачной лесной тропы, но, когда они поднялись на крутояр и в лицо им пахнуло теплым воздухом сосновых холмов, страхи исчезли, и она решительно свернула на тропу.
— Нюшенька, я боюсь, — захныкал Илья, как только лес закрыл от них бледное вечернее небо.
Нюшка тоже вздрогнула. Не сговариваясь, они побежали вперед, боясь увидеть или услышать что-нибудь страшное.
— Мамынька! — взревел вдруг Илья, которому показалось, что кто-то вот-вот схватит его сзади.
Нюшка обернулась, поймала его за руку и помчалась еще быстрее, приговаривая:
— Бежи, Илюшка, бежи! Тут близко…
Не остановились они и на лугу, а прямо через огород и двор ворвались в избу, перепугав мать, доившую во дворе корову.
Нюшка, отдышавшись, развязала платок и положила деньги на стол, чтобы мать, как только войдет, увидела их: «Все, глядишь, не так станет браниться…» Потом она взяла ложку и присоединилась к брату, который, стоя у печного шестка, хлебал из чугуна холодные щи.
— Завтра пойдем? — спросила она с полным ртом.
— Угу, — ответил Илья.
Облизав в последний раз ложку, он пошел в сени и залез там под свой полог. Перед глазами у него сейчас же задрожали красные ягоды, прикрытые зелеными листочками, по ним поплыл белый пароход с черной трубой, и Илья уже не слышал, как отец, вернувшийся из лугов, говорил ему:
— Ну-ка, парень! Широко больно спишь, всю кровать один занял. Сдвинься чуток…