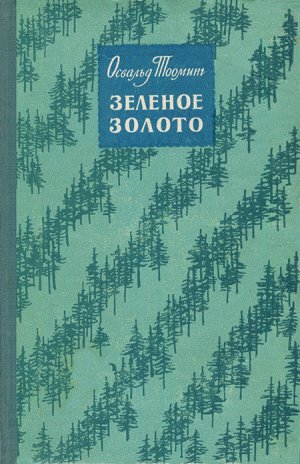
Перевод с эстонского
ЛЕОНА ТООМА
Советский писатель
Москва
1958
Глава первая
— Сто двенадцать процентов — слышите? — сто двенадцать. Да-да, к сегодняшнему вечеру… Вывозка, конечно, продолжается, продолжается по всему фронту… Трудно сказать, товарищ директор, но сто двадцать, по-моему, цифра реальная… Как вы сказали? Пуурмани упорно догоняет, уже выжал сто одиннадцать процентов? Вот как? Понимаю, товарищ директор: гнать вовсю, пока не развезло дороги… Доброго здоровья, товарищ директор.
Рудольф Осмус, заведующий Куллиаруским лесозаготовительным пунктом, повесил трубку. Он постоял с минуту, не снимая руки с аппарата, потом встряхнулся и звучно щелкнул пальцами.
— На пятках, стало быть, сидят… — И он прошелся по комнате, засунув руки в карманы галифе. — Мы опережаем их всего на один процент. Надо бы нажать и оторваться от них, а мы, как назло, так мало сегодня успели…
— Дорога уж больно скверная…
— Скверная!
Осмус расстегнул зеленоватый френч: в комнате было душно и жарко, а он уже не отличался особой стройностью. Стремительным, твердым шагом он подошел к окну и распахнул одну из створок. Ворвавшийся ветер обдал лицо влажной прохладой. Хотя еще стоял март, но уже таяло и под полозьями проезжавших саней скрежетала порой обнаженная земля.
— Пуурманиский лесопункт не на другой планете, и снега там не больше, чем у нас… Я-то думал, что они сильно отстали, а у них… сто одиннадцать. Два года подряд мы держали первенство по нашему леспромхозу, а вот как будет на третий…
Заведующему никто не ответил, только шорох бумаг донесся из-за небольшого стола, находившегося в дальнем углу конторы. Там Хельми Киркма, мастер лесопункта, разыскивала в ворохе бумаг ведомость зарплаты по делянке № 126. Ну, и наказание с этой делянкой! Из-за нее и состариться недолго! Хоть бы весна повременила, а то ведь, как назло, именно в этом году она такая ранняя…
Осмус круто повернулся, и гвозди на каблуках его сапог оцарапали натертый пол.
— В Пуурмани небось уже руки потирают…
— В соцсоревновании-то они участвуют, обязательства на себя взяли — вот и выполняют их.
— Подумаешь, обязательства! Каалип, их заведующий, совсем мальчишка, я его знаю, ему не дают покоя мои премии… Только рано он обрадовался, чересчур рано. И куллиаруский Осмус поддаст жару. Завтра же закончить вывозку из Мяннисалу и перебросить всех людей в Туликсааре. Оттуда до шоссе и до железной дороги рукой подать — возчики больше концов успеют сделать.
— А Мяннисалу? Там ведь еще столько отличной древесины!
— В Туликсааре ее не меньше. Сами видите, что за чертова погода!
Заведующий с треском раздвинул шторы, и в лицо Хельми Киркмы ударили лучи низкого багрового солнца. Но она не поднялась и даже не взглянула в окно. Подумаешь, новость, что кочки на пустоши перед конторой с одного боку потемнели, что в колеях пологой дороги скопилась вода, что ноздреватый снег оседает, словно пена. Киркма подгоняла возчиков своего участка, проклинала жаркое солнце, ей даже снились по ночам раскисшие дороги и заморенные на вывозке леса лошади. Снег падал зимой скупо, словно из горстки, а теперь и эта малость начала таять раньше срока.
— Знаю, — хмуро ответила Хельми.
— Знаешь! — фыркнул Осмус. — Знаешь, а все гнешь свою линию — «Мяннисалу» да «Мяннисалу»! Я же велел на прошлой неделе: возьмемся за эту дыру под конец, а ты…
Хельми отодвинула бумаги.
— Да ведь там столько заготовок еще с прошлого и даже позапрошлого года!
— Сам знаю, нечего меня учить! Разве мы виноваты, что можем заготовить больше, чем вывезти?
— Если приналечь…
— Мало мы налегаем? — Осмус подошел к столу Хельми. — Возьми хоть меня — ни минуты отдыха, ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники. Скажешь, не так?
— Каждый из нас старается…
— А я больше всех. Мне надо во все вникнуть, все охватить — и лесопункт, и промхоз, и — если хочешь — всю республику. Ведь ей нужен стройматериал, крепежный лес для рудников, топливо. И чтоб дать ей это, я на все пойду. Вам что — вы видите свои пни да щепки, вот и вся ваша забота, а мне перспектива нужна. И считаться с капризами природы я не имею права.
Хельми Киркма придвинула к себе дневной отчет и принялась переносить туда цифры из своей записной книжки. Но мысли ее были заняты другим. Зимняя горячка затихала, все короче становились тянувшиеся из леса обозы с бревнами, пропсами, сырьем для фанерной фабрики и с дровами, а на делянках все еще высились штабеля леса. Число рабочих рук резко сократилось — ведь колхозы и даже большинство единоличников выполнили свои обязательства, — и в распоряжении лесопункта оставались лишь постоянные рабочие да некоторые лежебоки, все откладывавшие со дня на день выполнение государственных обязательств. Работы было невпроворот. А у Хельми Киркмы с каждым днем все больше болело сердце из-за делянки № 126: никак не удавалось вывезти оттуда весь лес — не хватало лошадей. Она все надеялась, что удастся выпросить у Осмуса еще несколько упряжек, а он, оказывается, решил забрать и те, что были. И вроде ничего ему не возразишь. Хотя с другой стороны… Не далее как сегодня один обросший щетиной крестьянин, передвинув трубку из одного угла рта в другой и кивнув головой на штабеля прошлогодних кругляков, буркнул:
— А эти там… опять останутся в недвижимом фонде?
И столько было яду в его словах, что при воспоминании о них у Хельми загорелось лицо и она бросила ручку.
— На туликсаареские делянки можно и летом проехать, — сказала она, — а вот в Мяннисалу после оттепели так развезет, что туда и пешком не пройти.
Осмус остановился за спиной у Хельми.
— На лето и без того работы хватит. Дай бог нам вывезти за лето все то, что скопилось у дороги. Нет, как я сказал, так и будет: с завтрашнего дня всех лошадей — в Туликсааре. Тут надо действовать по-солдатски: раз обстановка изменилась — меняй план боя. Много ли у нас фестметров в Мяннисалу? Пустяк! Так пожертвуем этим пустяком — и сто тридцать процентов нам обеспечены. И мы снова, уже в третий раз, выйдем на первое место. И оставим Пуурмани с носом!
Он стоял у стола в распахнутом френче, засунув руки в карманы. Напрасно он тревожился подчас, что толстеет, — при его росте и ширине плеч это было вовсе незаметно. «Ну и здоровяк же!» — не без зависти говорили иные, покачивая головой. А знавшие его ближе восхищались не столько могучим сложением Осмуса, сколько его энергией, его неутомимостью, тем, что он был так легок на ногу и всюду поспевал. «Прирожденный руководитель», — говорили работники лесопункта, хотя некоторым любителям долгих перекурок и людям, чрезмерно пекущимся о своем здоровье, не по вкусу была его придирчивость, его дотошная требовательность.
Взгляд Осмуса, следивший за Хельми, хмуро водившей пером по бумаге, как-то сам собой скользнул на гибкую линию девичьей шеи, над которой полукругом лежал валик каштановых волос. От девушки веяло запахом смолы, ивовой коры и талого снега. И то ли от этого свежего и терпкого запаха, то ли от вида нежного девичьего затылка, то ли от звона капели за окном, но Осмус неожиданно для себя пришел к выводу: пришла весна. И он так потянулся, что хрустнули кости.
— Шла бы ты домой, что ли, — ведь суббота.
Хельми удивленно подняла голову. Суббота? Уже? Отрывной календарь на стене услужливо подтвердил: «Так точно». Вот и опять конец недели. Как летят дни! Лет десять тому назад у дней на ногах словно были свинцовые ядра: уже во вторник казалось, что прожита в хлопотах целая вечность. Она тогда батрачила у кулака — пасла и доила скотину, помогала хозяйке по дому, работала и в поле, и всюду, где приходилось. Дни тогда тянулись безумно долго, и в начале недели всегда казалось, что воскресенье никогда не наступит.
Вспомнив все это, Хельми улыбнулась.
— А если и суббота, так что из того? День, как день, и ничем от других не отличается. По крайней мере, всю зиму было так!
«Верно, — подумал Осмус, — все мы старались за десятерых. Ну, я другое дело, — я тут все-таки начальство, в своем роде монарх, хоть и не из крупных, — но других-то что греет? Откуда у них силы берутся сутками работать? Особенно у таких молоденьких, как она? Когда она отдыхает? Развлекается ли она вообще, веселится? Мужчин она терпеть не может. Прямо смех берет. Чуть подступится к ней иной смельчак, едва начнет ухаживать, как она сдвигает брови, а глаза начинают метать такие молнии, что ухажер сразу дает тягу».
Несколько дней тому назад в Куллиару появился один техник из леспромхоза, человек городской, самоуверенный. Боже ты мой, какая грянула гроза, когда он попытался обнять Хельми! Мало того, что надавала парню оплеух по обеим щекам, — она еще схватила со стола чернильницу и выплеснула все чернила на светлые кудри молодца. Ну и хохотали же они, чуть не до икоты! Поделом этому технику, уж больно он задавался, строил из себя Цезаря: мол, приду, увижу, покорю.
Осмус закурил папиросу и внимательно взглянул на затылок Хельми, на плавную линию щеки… Да, хоть лица ее и не видно, а все же сразу скажешь: хороша. Скинуть бы ему с полдюжины лет…
Хельми поднялась и протянула Осмусу еще не просохший от чернил отчет. Осмус принялся внимательно изучать его.
— Почему в Мяннисалу было лишь пятнадцать лошадей? — спросил он, хотя уже и то, что Хельми в горячее весеннее время добыла пятнадцать, было чудом.
— И то хорошо, — ответила Хельми, собирая на столе бумаги. И добавила, будто только что вспомнив — Ах, да, запамятовала: на сто двадцать шестой сегодня побывал лесничий.
— Тот, новый?
— Он самый. Мне потом браковщик Кари рассказывал, как лесничий походил, посмотрел, потыкал туда-сюда палкой и потемнел с лица, как ошкуренная ольха. Кари скорей за штабеля березы… «Ну, думает, теперь загремит…» А лесничий и спрашивает спокойно: «Вы что, новой войны ждете?» Браковщик ничего не понял, глаза вылупил. А тот и объясняет: «Вон ведь, каких вы тут противотанковых заграждений нагромоздили!»
— Скажите, какой остроумный!
— Ну, Кари тут смекнул, что это он о пнях, которые и впрямь выше чем полагается, а как ответить — не знает, смотрит дурак дураком. А лесничий ткнул палкой в штабеля и опять говорит: «До мая вы должны все это вывезти, но у вас, видно, другие намерения…»
— Как будто это его дело! — проворчал Осмус.
— Вот-вот, браковщик так ему и намекнул, хотя и робко. А лесничий ему в ответ: «Если вы к первому мая не ошкурите тут все бревна и пни, то лесопункт уплатит штраф. И более того; весь невывезенный лес будет отобран и продан другому потребителю, более добросовестному».
Осмус швырнул отчет на стол, и на его высоком лбу вздулись синие жилы.
— Что-о-о? Мне, заведующему Куллиаруским лесопунктом, будут еще угрожать всякие молокососы, у которых голова невесть чем набита?!
Хельми собрала со стола бумаги и сложила их в портфель. Стол этот был общий, и его надо было освободить для тех, кому еще предстояло сегодня писать отчеты.
— Инструкции вроде на его стороне… — сказала она тихо, но лишь подлила этим масла в огонь.
— Поменьше бы ты думала о всяких глупых инструкциях! Не перевелись еще у нас канцелярские крысы, которые своими инструкциями и предписаниями тормозят работу. Но их время прошло, у нас не буржуазный строй, а советский, и на первом плане должна стоять жизнь, живая жизнь. А жизнь требует стройматериалов, жизнь смотрит сквозь пальцы на лишний сантиметр пней и закрывает глаза на неошкуренные бревна… Предписания, конечно, предписаниями, и я всегда буду требовать их неуклонного исполнения, но жизнь не цветочек, ее в книге не засушишь.
Хельми была отчасти согласна с Осмусом. В самом деле, что за фантазия у этого лесничего! В такое время, когда на вывозке леса каждый человек, каждая лошадь на вес золота, он вдруг приходит и хладнокровно заявляет: ошкурите пни! Шкурить тоже надо, но это не должно мешать главному, более важному… Хельми пододвинула к себе счеты и принялась подсчитывать итоги для ведомости… Однако новый лесничий действительно чудак: требует в лесу такой аккуратности, будто это цветник. Поживет тут несколько месяцев, побродит по Сурру, по чащам вековых лесов, тогда небось не то запоет. Хельми послюнила палец, испачканный чернилами, и потерла его платком. Все как-то не ладилось сегодня: итог не сходился, костяшки счетов непослушно разлетались в стороны, а из головы не выходил лесничий со своими пнями, видно, не очень-то боявшийся доводов Осмуса и ее самой.
— Что он еще говорил?
— Кто?
— Да все он же, новый лесничий…
— Ах, он? Ничего. Пошел дальше своей дорогой.
Дверь приоткрылась, и остроносый человек в очках позвал Осмуса в контору. Несмотря на поздний час, там еще щелкали счеты и шелестели бумаги. Осмус не делал поблажек ни для себя, ни для подчиненных. «Раз люди и лошади, — любил он повторять, — остаются в лесу чуть не до полуночи, то и конторщикам не к лицу еще засветло складывать бумаги и отправляться домой бить баклуши».
Двери конторы и кабинета заведующего выходили в длинный коридор, где была еще и третья дверь, которая вела в квартиру Осмуса. Возвращаясь из конторы, Осмус задержался на миг в коридоре, раздумывая, не зайти ли к себе домой, хлебнуть глоток холодного кофе. Голова у него гудела от нынешней суматохи… Пока он стоял так в сомнении, из кабинета, дверь которого осталась полуоткрытой, донеслось пение. Запела! Славный у нее голос, у этой недотроги, совсем как серебряный колокольчик! Ишь разлилась жаворонком, едва одна осталась, а при нем была такая нахмуренная, говорила лишь о лесе, о плане, о вывозке, о разводке пил, о фестметрах. Порой он, Рудольф Осмус, любит прихвастнуть за кружкой пива, что хорошо знает жизнь, женщин и их душу, однако душа туликсаареского участкового мастера по-прежнему оставалась для него книгой за семью печатями.
Осмус тихонько толкнул дверь, но петли ее предательски скрипнули и пение оборвалось.
— Продолжай, — бросил Осмус, входя в комнату.
— Что?
— Песня-то недопета.
— Это не я — это кто-то за окном…
Осмус почти вплотную подошел к девушке. Схватить бы за плечи, привлечь к себе? Черт знает, откуда у девушки такая мордашка — ведь и родилась она и выросла в лесной глуши, но даже и в городе он, Осмус, мало встречал таких. Хоть бы заговорила когда-нибудь о себе по-человечески, пожаловалась бы, что трудно, — мужчины и то в лесу из сил выбиваются, а слабый пол и подавно, — хоть бы разок голову повесила… Была бы, как люди, дала бы повод утешить ее, поговорить по душам и…
С улицы послышался шум. Осмус быстро отошел от Хельми, и как раз вовремя, потому что в окне показалась голова в низко надвинутой на глаза зеленой фуражке с лакированным козырьком. Человек за окном, по-видимому, был очень высок — он доставал головой чуть ли не до форточки.
— Пардон, кажется, помешал? — закричал он так громко, будто находился за версту от них. И добавил, оскалив зубы: — Ворковали, голубки, а?
Осмус распахнул створку окна и сказал недовольно:
— Что ты, как сорока, тараторишь на всю улицу невесть что? Есть дело, — так заходи в дом.
Недолго думая, человек занес в окно ногу в начищенном до блеска сапоге и сел на подоконник.
— Вызываю тебя на дуэль, юбочник ты этакий! — И он погрозил Осмусу кулаком.
— Не пойму… за что же, — притворно удивился Осмус, укладывая на своем столе рассыпанные карандаши и ручки.
Пришедший соскочил на пол, швырнул фуражку на стол и, склонив набок свою голову с редкими, но тщательно расчесанными на прямой пробор волосами, уставился на Хельми.
— Ведь он только дурака валяет, верно? А я давно уже на тебя заглядываюсь да разные планы строю. Ведь правда, сердечко мое?..
Хельми, не глядя, отмахнулась и задела рукой крючковатый нос пришельца, слишком большой для его маленького круглого лица. Человек отскочил и, потерев нос, сделал вид, будто вытирает слезы.
Осмус расхохотался.
— Вот дикая кошка, совсем шуток не понимает, — обиженно произнес гость, размахивая большим носовым платком в красную клетку.
— Побереги свои нежности для Анне! — отрезала Хельми, и Осмус вновь залился смехом: все мальчишки в волости знали о неудачном сватовстве объездчика Энделя Питкасте к единственной дочери сурруского лесника Нугиса. Это сватовство было у Питкасте далеко не единственным, и все же он оставался старым холостяком. Одни считали, что причиной тому был характер объездчика, другие приписывали неудачу его внешности. Сам Питкасте, приводя себя в порядок перед зеркалом, прежде чем идти в гости, ни в чем не мог упрекнуть свою внешность. Нос, правда, был великоват, и круглая голова могла бы сидеть на более короткой шее, но, с другой стороны, человек выглядит интереснее, когда в его облике есть что-то свое, самобытное. Не расстраивался Питкасте и по поводу своего характера, хотя последний и вызывал еще больше насмешек, чем внешность. Вообще он не замечал в себе тех черт, которые ему приписывали. Так, например, он с негодованием отвергал намеки на его лень. Поищите-ка в волости другого такого человека, у которого бы всегда сверкали ботинки, на шее красовался бы галстук, а из нагрудного кармана выглядывал бы платочек. Находились такие, которые все это осуждали и презрительно заявляли: «Мужчина, взрослый человек, а кокетничает, как девчонка!» Однако на подобные замечания Питкасте отвечал лишь пренебрежительной усмешкой. Дураки они, больше ничего. Мужчина не должен забывать о внешности, если хочет иметь успех у женщин. Не расстраивался и не огорчался Питкасте и из-за того, что возраст позволял называть его старым холостяком. Сдвинув на ухо фуражку и поправив галстук, он обычно возражал насмешникам: «Холостяк свободен, как птица». И он действительно прославился своим вольным нравом: не одна заботливая мамаша по нескольку раз за вечер проверяла оконные задвижки в комнате дочери, едва заслышав, что неподалеку появился Питкасте.
— Анне ты не трогай, заноза! — серьезно произнес Питкасте.
Эта серьезность не шла к нему: углы рта опустились, морщинки у глаз утратили свою веселость, взгляд потускнел. Но затем в глазах его вновь загорелся хитрый огонек и он снова рассмеялся.
— Анне — та совсем из другого теста. Вы с ней все равно, что чертополох с купальницей, ей-богу!
— Займись тогда своей купальницей и не мешай другим работать, — оборвала его Хельми.
— Она права, Питкасте, — вмешался Осмус, облокотившийся на стол и медленно вертевший в пальцах карандаш. — Сам знаешь, у меня на пункте не бездельничают. Работа должна идти, как часы.
Питкасте вытащил из-под стола табурет, сел и вытянул ноги. Взгляд его упал на красную доску. На прибитом к ней листе изгибались две темные линии: одна шла прямо, а над ней высоко взлетала другая, крутая и ломаная. Над графиком красовалась надпись:
«Мы выполнили план вывозки в 1947/48 году на 112 %, в 1948/49 году дадим не меньше 125 %».
Питкасте указал на плакат.
— Ну как, выполните?
— Я слов на ветер не бросаю.
— А в будущем году снова сто двадцать пять процентов?
— Снова? Что значит «снова»? Советские люди никогда не успокаиваются на достигнутом. Мы должны идти вперед, работать все лучше…
— Объективные причины, разумеется, не в счет?
— Объективных причин не существует. Мой лесопункт при всех условиях свой годовой план выполнит. В следующем сезоне будем добиваться по меньшей мере ста тридцати процентов.
Питкасте усмехнулся. Эта усмешка вызвала у Осмуса раздражение. Он знал Питкасте и понимал, что раз долговязый объездчик усмехается вот так криво, уголком рта, то это неспроста. Значит, жди подвоха или розыгрыша. На это он был мастер. Будь он так же усерден на работе, то его бы не сместили, а в Туликсааре не прислали бы на его место нового лесничего, и все было бы намного проще, чем теперь.
Объездчик, по-видимому, угадал мысли Осмуса. Откинув голову, он щелкнул по своему большому кадыку и спросил:
— Имеешь?
Осмус бросил быстрый взгляд на Киркму.
— Не бойся, ей не впервые видеть, как я закладываю.
— В служебное время, на работе… — проворчал Осмус, доставая, однако, из ящика стола бутылку и наполняя стакан.
— Давай сперва ты.
— Не хочу…
Питкасте опрокинул в глотку стакан так ловко, что его кадык даже не дрогнул.
— А теперь скажи, чего ты скалился? — нетерпеливо спросил Осмус.
— Это верно, скалился. Скалился, а про себя думал: «Объективные причины-то бывают разные: одни и впрямь мешают идти вперед и снижают показатели, но есть ведь и такие, что помогают выполнять план. О первых говорят много, а о вторых что-то умалчивают».
— Сложную ты сегодня разводишь философию…
— А вот я тебе задам вопрос, и все станет проще простого. Скажи, не существует ли объективных причин, которые помогают Куллиарускому лесопункту выполнять план в ускоренном порядке?
Осмус махнул рукой, а Хельми пренебрежительно бросила:
— Питкасте уже пьян.
— Ого, чертополох-то наш ожил!.. Ну ладно, скажу вам, что знаю… Только окно бы не мешало опять открыть, чтоб в случае чего смыться.
Он вынул из кармана папиросы, неторопливо выбрал одну и принялся чиркать спичкой.
— Сегодня я был у нового лесничего.
— Ну! — Осмус насторожился.
— Хороший человек, и, вроде меня, холост.
— Только в этом и сходство, — донеслось от маленького стола.
— Ты его видела?
— Его — нет, но зато тебя — не раз…
Осмус выглянул в окно. С узкоколейки донеслось пыхтение паровоза. Ветер утих, вечернее небо пылало, словно охваченное пожаром, — наверно, ночью подморозит… И то ладно. Глядишь, на час-другой и прихватит дорогу. Ранняя оттепель, видно, удержится, зато лето по народным приметам обещает быть холодноватым, а зима — снежной. Не дай бог пережить вторую такую зиму, как нынешняя… А Питкасте, знать, заметил, что в бутылке еще осталась водка, вот и старается сделать слона из мухи, напустить туману.
Питкасте закинул ногу на ногу.
— Позвал меня лесничий к себе. По делу.
— И усадил тебя за твой бывший стол? Вот было радости-то!
По-видимому, Киркма своим замечанием угодила не в бровь, а в глаз. Питкасте перестал улыбаться и долго молчал, глядя исподлобья и пожевывая папиросу.
— Не воображай! — произнес он наконец и стукнул ногой. — Чем плохо в объездчиках? Хлопот-то в тысячу раз меньше, чем у лесничего. А я ведь был только временно исполняющим обязанности.
— Ну, каков он? — как бы невзначай, между делом спросил Осмус, не очень искусно скрывая свой интерес.
— Тихий, спокойный человек. Но его слова заставили меня подумать о тебе, Осмус.
— Почему же именно обо мне?
— Он спросил у меня: отчего все прежние лесосеки отмерялись в лесничествах Ээсниду, Кюдема и Кулли, обязательно около железной дороги или около шоссе…
— Просто лес там старше.
— Он, видно, держится иного мнения. Удивлялся, что до сих пор не снят лес на большинстве делянок, которые уже замерены в дальних уголках Сурру, Пую и Ээсниду.
— План лесопункта выполнен.
— Уж об этом-то я сказал.
— А он?
Питкасте сдул с брюк пепел, осыпавшийся с папиросы.
— Он? Он не стал спорить. Он знай спрашивал, допытывался, слушал. Без раздражения, не горячась, так, будто все это его не интересует, будто любопытствует он только потому, что случайно оказался лесничим… А когда я собрался уходить, он сказал, что в ближайшие дни отправится в Сурру.
— Так…
— Ты и не спрашиваешь зачем?
— У важных господ важные дела, к чему нам, маленьким людям, совать в них нос.
— Так интересно же! Мы отправимся в Сурру для того, чтобы замерять новые лесосеки.
Осмус поднялся и подошел к окну. Так-так! Значит, решили загнать его в Сурру, за болота и трясины, где обитает с медведями старый Нугис. Да, там вдалеке синеют высокие леса, вечно шумящие, словно море. Как часто он поглядывал в ту сторону, будто опасаясь в душе этой бесконечной синевы. Весь этот здешний угол с Куллиару, Туликсааре и Мяннисалу оторван от мира и затерян в лесной глуши, но Сурру… В эстонском языке и слова подходящего не найдешь для обозначения такой дыры, как Сурру!
— Ведь не мы замеряли лесосеки, а лесничество, — сказал он, видя, что Питкасте не торопится продолжать.
— Так-то так, но тогда лесничим был Питкасте, а у нового лесничего свои планы. В пятидесятом году у вас будет жизнь потруднее. Он вам покоя не даст, все тут переиначит, загонит вас к чертям на кулички, на окраину болота Люмату. Что ж, ведь лес там роскошный, что лиственный, что смешанный. А за Кяанис-озером, на Каарнамяэ, — отличные ельники. Нарезать там четыреста фестов с гектара — ничего не стоит, плевое дело.
— Нарезать! Нарезать легко, да ты попробуй их оттуда вывезти, если до шоссе десять километров чащи да болот. Там и волк не продерется, не то что телега.
— А Реммельгасу на это чихать. Его это печаль, что ли? Его дело — замерить делянки и оценить лес, а о том, как план выполнить, пускай Осмус думает!
— «Осмус», «Осмус»! Будто дело только в одном Осмусе. А люди? Ведь там, кроме хибары сурруского лесника, нет ни одного дома. Где будут ночевать лесорубы и возчики? Твой умник об этом подумал? Трудно ли, вроде кукушки, подкинуть яйцо в чужое гнездо, пусть, мол, другие хоть пополам разорвутся. Нет, видно, этот парень совсем еще зеленый.
— Говорят, прямо из школы.
— Я же говорю, зелен. Я к нему съезжу и растолкую обстановку. Мы ведь работаем не на равнине и не в сосновом лесу на взгорье Пандивере, где так сухо. Не рехнулся же он, не сошел с ума…
— Какой там!
— И то слава богу. Он просто не в курсе местных условий, вот и все. Его оставили одного, никто не объяснил ему…
— Я ему объяснил, как сумел, что мне ни к чему шлепать по болотам и топям.
— Ты! Ты, брат, ветрогон, а с ним должен побеседовать человек знающий, специалист. Завтра же поеду… Нет, лучше попрошу бухгалтера, чтоб на воскресенье пригласил его ко мне обедать. Все равно ходит домой как раз мимо лесничества…
Осмус отправился в контору. Хельми, слушавшая весь этот разговор, торопливо начала собирать бумаги — часть сунула в портфель, часть положила Осмусу на стол.
— Подожди немножко. — Питкасте поднялся. — Нам ведь по дороге.
— Спасибо, не привыкла к провожатым.
С портфелем в руке девушка задержалась посреди комнаты. Вид у нее был задумчивый и нерешительный.
— А, может, все же проводить? — и Питкасте отвесил неуклюжий поклон.
— Не паясничай! Скажи мне лучше… что ты о нем думаешь?
Питкасте развел руками.
— О новом лесничем? Да он ничего себе. Среднего роста, нос прямой, глаза синие, лицо гладкое, парик на голове густой, не такой чахлый, как у меня…
— Будет тебе болтать! Я не о нем, а о его намерении перенести заготовки в глухие леса.
— Дело скверное, — веско произнес Питкасте, засовывая руки в карманы. — И для меня, и для тебя, а особенно для товарища Осмуса. Оттуда, с этой трясины, и пятидесяти процентов не вывезешь.
— Но ведь… не очень-то у нас, в самом деле… хорошо получается…
— Тебе ли ломать над этим свою головку? Было сто двенадцать процентов, были премии, — все хорошо, что хорошо кончается.
Вернулся Осмус.
— Все в порядке. А ты не пришла бы к нам в воскресенье, Хельми? Лесничий-то холостяк…
— Нет! Отчеты на столе. Сегодня же улажу вопрос с возчиками. Всего хорошего!
Осмус, склонив голову набок, посмотрел вслед девушке.
— Недурна птичка, — ухмыльнулся Питкасте.
Осмус резко повернулся к столу.
— Ты все на свой аршин меряешь. Я и не думал сейчас о том, что Хельми — женщина. Да-да, нечего смеяться. Я вижу в Хельми лучшего работника на пункте. Черт знает, откуда у этой девушки столько энергии, — прямо огонь, только диву даешься. Я иной раз заберу у других мастеров всех лодырей, растяп, кулаков и посылаю к ней. Хочешь верь, хочешь нет, — всех заставляет работать. Вспыльчива она, это верно, но в общем золото, а не человек.
Питкасте зевнул и лениво прикрыл свою большую, словно картофельная яма, пасть.
— У тебя там еще осталось… налей глоточек. Сегодня такая сырость, все кости ломит. И ноги насквозь мокрые — весь день по лужам шлендаешь, еще простудишься…
Осмус налил снова. Кадык Питкасте не дрогнул, когда он одним махом опустошил стакан. Любопытный трюк, в мужском обществе этим можно привлечь внимание. Но в общем распускается, распускается. Уж очень бесхарактерен, и тянет его на вино, как медведя на мед. Следовало его поменьше угощать, — может, и теперь занимал бы пост лесничего.
Осмус пододвинул к себе бумаги Хельми.
— Извини, но у меня сегодня еще много работы.
— Иду, иду. — С этими словами Питкасте закинул ногу на ногу и чиркнул спичкой. — Только хотел еще сказать тебе, что неподалеку от Люмату видели лосей.
Осмуса словно кнутом хлестнули.
— Лосей? Да что ты мелешь? Они уже давно тут перевелись. Откуда им взяться?
— Вот взялись, целых двое, а то и трое. И уже порядочное время. Я подъехал было с расспросами к Нугису, но тот, хитрец, отмалчивается. И это неспроста — значит наверняка видел их.
Осмус взглянул на руки. Так и есть — дрожат. И, чтобы скрыть это, он принялся разглаживать какую-то бумажку. Если бы этот долговязый, что сидит по ту сторону стола, не был так пьян, то он услышал бы стук его сердца. Сколько он ни пытался себя обуздать, все напрасно. Стоило кому-нибудь закинуть словцо об охоте, как в нем кровь закипала и в ушах гудело, хоть все бросай. Лоси! Царская дичь! Разве тут ему такое попадалось? Какой там! Всего и было, что несколько зайцев, три-четыре лисы, пара коз да охромевший от старости барсук. И вдруг — лось. Глаза Осмуса заблестели, в висках застучало. Он проглотил слюну. Уголок рта Питкасте вздернулся — значит заметил, дьявол!
Питкасте встал и с хрустом потянулся.
— Ну, мне пора…
Осмус открыл ящик стола и достал почти непочатую поллитровку. Стакан был с бульканьем наполнен доверху. «Врал, значит, когда говорил, что больше ни капли дома нет, — подумал Питкасте и торжествующе усмехнулся. — Перехитрил я его».
Потом Осмус налил стопку себе самому и зажал ее в кулаке, чтобы вовремя скрыть, если кто вдруг войдет.
— Куда спешить? — И он жестом удержал гостя. — Посиди, поболтаем, выпьем картофельной! Сиди уж, раз угощают. Мужчина ты или нет? Прозит!
— Прозит!
Питкасте неторопливо опустился на стул.
Осмус в четвертый раз наполнил его стакан.
Глава вторая
Красногрудые клесты забеспокоились и подняли невообразимый гам. Белка, распушив хвост, перелетела с дерева на дерево и спряталась за стволом. Оттуда выглянули круглые глаза и послышалось сердитое «чук-чук». На голой, безлистой верхушке высохшего дерева, торчавшего, как палка, посреди раскидистых елей, сидел пестрый дятел. Он вдруг завертел из стороны в сторону своей носатой головой, потом громко, на весь лес, стукнул клювом по стволу и взлетел, медленно махая крыльями.
И было отчего переполошиться. Каарнамяэ считалось тихим и спокойным местом. Правда, у каждого имелись здесь свои враги, и всегда приходилось быть начеку: пичугам угрожал ястреб, паривший над лесом, и шнырявшая в кустах лиса, белкам — хищная куница. Но все это были знакомые, привычные опасности. А теперь вдруг сюда зачастили редкие гости — люди. Они тут появлялись иногда и раньше, но обычно ненадолго: пройдут по лесу, постукают какой-то штукой по деревьям, чаще всего по елям, излюбленным дятлами, и потом год их не видать. Теперь же они приходят что ни день, залезают зачем-то на верхушки елей и потом на тех почти не остается шишек. Уж не хотят ли они опустошить все кладовые у лесных тварей, у исконных обитателей Каарнамяэ? Тут было от чего тревожиться, от чего так дружно и громко негодовать на незваных пришельцев.
По темно-синему небу плыли одинокие облака. Солнце поднялось уже довольно высоко, но было еще бледным и холодным. Погода установилась загадочная: на солнце печет и тает, а в тени подмораживает и под ногами, словно стекло, хрустит ледок. К вечеру бывает свежо, ночью совсем холодно, а к утру деревья покрываются пушистым инеем, который сверкает и переливается в алых лучах восходящего солнца.
— Не залезай слишком высоко, — послышался из-под дерева хриплый мужской голос. — Когда сучья оттаивают, они такие ломкие…
Вместо ответа раздался стук падающих шишек. Михкель Нугис, лесник Сурру, хорошо занал, что его предостережения излишни — разве Анне упадет? И все же его дрожь пробирала, когда он видел, как его дочь раскачивается на самой верхушке. Ведь даже и Анне, юркая, словно ласка, и лазавшая по деревьям не хуже белки, могла ошибиться и, став на слишком хрупкий сук, сорваться вниз. Прямо беда с ней! Научилась лазать по деревьям чуть ли не раньше, чем ходить. Покойная тетка все сердилась и причитала, порой даже до слез доходила: что это за девочка такая, отчаянней всякого парня! Да только Анне и дела не было. Он, Нугис, тоже не очень-то обращал внимание на эти причитания — сам ведь с малолетства привык на самые высокие стволы забираться. И сейчас бы залез, да уж годы не те, — руки-ноги стали неуклюжими, не согнешь. А и хорошо ж там, наверху, весь лес видать, весь-весь!.. Да уж больно беспокойно за дочь.
И он разогнул свою нывшую спину — весь день сегодня кланялся, шишки собирал.
— На сегодня хватит! — крикнул он. — И мешки полны, и поздно уже. Пора идти, а то засветло не успеем.
— Постой, тут две хорошие веточки, — ответила Анне.
И вниз с шумом полетели гладкие, замерзшие шишки, на которых, словно янтарь, сверкнули капли смолы. Потом все затихло, лишь ветви наверху зашелестели. Михкель Нугис завязал мешок крепкой бечевкой, взвалил его на спину и отнес к стоявшим шагах в десяти саням, в оглоблях которых нетерпеливо фыркала лошадь.
Старик закурил. Дочь еще не слезла. Где же она, эта стрекоза? Он нахмурился, кинул взгляд на ель и поперхнулся дымом: Анне стояла на самом верху, держась за молоденькую, почти совсем свежую и прямую, как свечка, макушку…
— Ты чего? — От волнения лесник не находил слов. — Слезай сию минуту!
— Ой, как далеко отсюда видно, отец! Какое оно огромное, наше Сурру, какое бесконечное!
— Сломаешь шею — вот тебе и будет Сурру, — проворчал Нугис и сел на мешок. — Будто в первый раз на дерево залезла.
— Каждый раз кажется, что еще никогда этого не видела. Лес, лес, лес, кругом — один лес. А там далеко-далеко дымок тянется… Верно, на сто двадцать шестой делянке ветки жгут, да?
— Конечно! Что же еще?.. Слезай, а то не успеем дотемна.
Голова Анне исчезла. Ящеркой соскользнула она вниз по стволу. На ней были штаны, стянутые внизу резинками, куртка с беличьим воротником и темный берет, из-под которого выбивались светлые прядки.
— Да у тебя под началом целое царство, отец! — Она схватила старика за руку. — И все такое веселое, живое! Только на севере, где болото Люмату, некрасиво. Там большущее и унылое коричневое пятно. И тебе не кажется, что оно, это болото, все растет? Помню, когда я совсем маленькой забиралась на холмы Каарнамяэ, оно не было таким огромным.
Старик продолжал угрюмо молчать. Уже несколько дней его не оставляло плохое настроение. И сегодня он хмурился с самого утра, а теперь вот, увидев дочь на самой верхушке замерзшей ели, и вовсе стал мрачнее тучи. Но разговор о болоте забрал его за живое, глаза старика загорелись. Как он ненавидел это болото! Вот на что можно было наконец излить всю свою досаду, все раздражение.
— Растет, конечно! Расползается все шире по лесу, а ведь болотная вода — это сущая отрава. Деревья от нее хиреют и гибнут. А те сосны да березки, что выживают, так и остаются кривыми и горбатыми.
— Неужто на него управы нет, на болото?
— А откуда ж ей быть, глупая? Разве человеку одолеть эту прорву?
— Смешно тебя слушать. Люди сейчас пустыни орошают, новые реки и каналы прокладывают, а ты…
— Что из того? Думаешь, раз так, то и наше Люмату осушат? Нет, в такой дыре, как у нас, и советской власти ничего не сделать. Да и нет толку что-нибудь затевать в таком безлюдном месте, когда в других местах живет столько народу. — И, еще более ожесточившись от собственных слов, он схватил вожжи и сердито крикнул мерину: — Но-о!
Дороги тут не было. Приходилось все время направлять лошадь то вправо, то влево, туда, где между деревьями виднелся просвет пошире. Местами еще лежал снег, а местами, на проталинах, зеленел уже совсем пушистый мох и блестели на кочках темно-зеленые листочки брусники.
— Ну и пусть оно растет, это болото, — сказала шедшая за дровнями Анне. — С нашим Сурру ему все равно не справиться. Такого большого леса поискать — не найдешь.
— Был большой, станет маленьким! — буркнул Нугис и яростно хлестнул гнедого.
Девушка удивленно подняла брови: отец никогда не бил лошадь. Но как ни велико было ее удивление, она, хорошо зная отца, ничего не спросила: старик все равно бы не ответил, разве только пожал бы плечами и пробурчал под нос: «Да ладно…»
Уже несколько дней отец был сам не свой, словно какая муха его укусила. Это началось еще в четверг, после того, как он сходил в Туликсааре, к новому лесничему. И что его там так расстроило? Сегодня уже суббота, а он хоть бы словцом об этом обмолвился. То ли сам новый лесничий отцу не понравился, то ли тот огорчил его плохими новостями? А, может, кто другой обидел старика в Туликсааре? Поди догадайся! Расспросы не помогали, потому что отец упорно отмалчивался. Он вообще-то был не из болтливых, с ней еще перекинется за день словом-другим, а на людях всегда словно дара речи лишался. Это и раньше с ним бывало, что если у него какое расстройство, так он даже и с ней перестает разговаривать и, будто немой, все руками да взглядами объясняет: на то пальцем покажет, на другое — глазами или головой. Анне хорошо понимала этот язык, но не любила его. К уединенной жизни в лесу она уже привыкла, но таким же молчальником, как отец, стать не могла: она была вся в мать — веселая, общительная, разговорчивая. Поболтать с человеком, послушать его было ей просто необходимо, она без этого не могла. Но в Сурру, в лесничьей сторожке, они с отцом бывали целыми неделями, а то и месяцами совсем одни. Ближайшее жилье находилось верстах в пяти, по делу к ним заглядывали редко-редко, а по собственной охоте и того реже. Разве что иной парень начнет вдруг за ней ухаживать да наведываться по вечерам в Сурру. Это уже случалось (говорят, что она собой ничего, да и к тому же приветливая), но продолжалось каждый раз недолго: видно, парням чего-то в ней не хватало, — может, находили, что нрав у нее больно строгий.
Так вот они и жили вдвоем с отцом и молчали порой целыми днями. Но все же никогда это не продолжалось так подолгу, три дня подряд.
Дома они снесли мешки в баню, и отец принялся высыпать шишки на полати, устроенные в сенях. Анне распрягла лошадь, отвела ее в хлев, и, вернувшись в баню, затопила печь. После Нового года они почти каждый день только тем и занимались, что топили свою баньку да крутили ручку самодельного, сооруженного из бочки, триера, который лущил рассохшиеся шишки, сосновые и еловые.
В Сурру уже давно был выполнен план по заготовке лесных семян, но отец все продолжал собирать и лущить шишки — боялся, как бы вдруг весной, во время сева, не пришлось выпрашивать семена в лесничестве.
Из трубы поднялся дым. Ветер стих, лес начал засыпать. Все умолкло, только время от времени раздавался голос вяхиря: «Кут-кут, кут-кут…» Потом вдруг с громким карканьем пронеслась вдоль реки воронья стая — она возвращалась в еловый лес на Каарнамяэ, в свою колонию.
Край солнца коснулся леса, и между деревьями вокруг дома начали сгущаться сумерки.
— Анне!
Девушка остановилась. Отец больше ничего не сказал — он молча сидел на пороге бани, попыхивая трубкой. Дочь уселась рядом с ним. Молоденькая выдра Кирр мигом юркнула к ней на колени и распласталась на них, такая мягкая и расслабленная, будто у нее не было костей. Так она могла нежиться часами.
Минут десять они сидели в тишине. Потом над их головой раздалось громкое стрекотанье сороки, севшей на крышу. Наклонив голову, птица поглядела на них, и то ли ей не понравился табачный дым, но она вдруг сердито взмахнула крыльями и перелетела на голую ольху.
— Что ж ты не пошла сегодня в Туликсааре? — спросил наконец отец и принялся выбивать трубку.
Анне и сама сейчас думала об этом. Ведь она действительно собиралась пойти и еще на неделе предупредила отца, что в субботу отправится в кино и останется потом на танцы. Задумавшись, девушка нечаянно дернула выдру за круглое коричневое ухо, и та, мигом перевернувшись на спину, ухватила ее своими острыми зубами за палец. Не злобно, но предостерегающе.
— Неохота, — ответила наконец дочь. — Я передумала… Уж очень далеко…
— Могла бы запрячь гнедого…
— Хватит его гонять, и так весь день таскал сани по корням да пням. И не очень-то мне хочется в кино…
Прозвучало это не слишком убедительно. Анне любила ходить в кино, не пропускала она и ни одной гастроли уездного театра. Да и потанцевать она была охотница: могла без конца кружиться в вальсе, а уж польку отплясывала так, что никому из местных девушек не угнаться. И если бы отец не был таким подавленным, она бы сегодня обязательно пошла в Туликсааре. Но как было оставить его одного в таком настроении?
У их ног лежали на земле Стрела и Молния, длинноногие гончие. Опустив головы на вытянутые лапы, они зорко следили за каждым движением Кирр. Им так хотелось приласкаться к хозяйке, но пока на ее коленях лежит этот нахальный зверек, лучше было оставаться на месте. Еще цапнет, чего доброго, за нос, а дать ему сдачи, вцепиться в него и оттрепать на славу, — никак нельзя, накажут. Ничего не поделаешь, приходится смирно лежать в стороне и завистливо поглядывать на эту коричневую тварь.
— Не горюй, — сказал наконец лесник. — Недолго еще тебе скучать. Пройдет несколько месяцев, и в Сурру столько народу будет, что на твоей ярмарке.
— Будто нужна мне эта ярмарка, — улыбнулась Анне. — Но иногда хочется сходить в кино или в театр… Все-таки разнообразие…
— Погоди. Тогда здесь такой театр будет, что… начнешь в лес от него бегать. Для разнообразия.
— Ты это о чем? О весенней посадке, что ли? До нее ведь еще далеко.
— Какая там посадка! Уж нам тут покажут что-нибудь похлеще.
Анне насторожилась. Наконец-то она услышит, о чем думал отец все эти дни, что его мучало. Но он опять молчал и рта не хотел раскрыть, — дескать, хватит, поговорили. Девушка взглянула на него искоса и невольно улыбнулась. Ей вспомнилось, как один лесоруб назвал его моржом. Отец тогда очень рассердился, но тот отчасти был прав: старик действительно слегка напоминал моржа. И все же какое славное у него лицо: спокойное, уверенное и, пожалуй, упрямое. Все черты твердые, словно топором вырубленные.
О каком же это «театре» он говорит? Теперь так скоро не узнаешь, жди, пока опять разговорится, — не один день может пройти. О чем же это он? Ведь в Сурру так тихо… Зимой, правда, людей бывает побольше: приезжают колхозники за сушняком, за строительным лесом, начинаются работы на делянках, — впрочем, не здесь, а вдали от них, главным образом в районе Мяннисалу. Иногда, однако, посылают лесорубов и на Каарнамяэ. Тогда через Сурру тянутся вереницы людей с топорами и пилами, скрипит снег под полозьями саней. Лесорубы ночуют обычно в Сурру. Приходят они поздно вечером, когда на небе уже мерцают звезды и заборные столбы потрескивают от мороза. Люди разогревают капусту со свиным салом, сваренную дома, пьют горячий, как огонь, чай или кофе. Это в большинстве случаев спокойные, пожилые люди, которые после еды посидят с полчасика, покуривая трубку или самокрутку, а затем завалятся спать на соломе, принесенной из риги. Эти нашествия бывали редкими и никогда не продолжались больше одного-двух месяцев. Осмус избегал Сурру, и крестьяне, работавшие по трудовым обязательствам, хвалили его за это, потому что никому не нравилось гонять лошадей более чем за десять километров по лесному бездорожью. Так что и лесорубы рады были убраться отсюда поскорей, да и Нугис, едва те исчезали, сразу веселел. Бывало это обычно ранней весной, и в эту пору старик всегда словно перерождался, становился живым, бодрым, деятельным. И чем меньше он обнаруживал после ухода лесорубов свежих вырубок, тем скорее приходил в себя.
Вечер был спокойным и тихим, в печке трещали еловые поленья, на черных от копоти стенных бревнах плясали отсветы огня. За стеной мычала корова, напоминая хозяйке, что уже давно пора убрать хлев. Анне спихнула с колен Кирр и с легким вздохом поднялась.
Это было в субботу. В понедельник, когда они уже наполнили триер свежими шишками, отец вдруг отошел от него, сел на порог бани и ни с того ни с сего сказал:
— Был я в Туликсааре у нового лесничего…
Анне затаила дыхание. Наконец-то заговорил! Или опять замкнется? И чтобы разговор не оборвался, она сказала тихо:
— Я слыхала, что он молодой…
— «Слыхала»! От кого ж это?
— Не помню. Кажется, от лесорубов.
Старик дал шлепка Кирр, забравшейся было к нему на колени. Гончие тотчас вскочили, — видно, настал-таки их час! Видно, люди наконец поняли, что в этом нелепом коротконогом зверьке нет ничего особенного. Теперь можно положить голову к хозяину на колени и дать потрепать себя за ухом. Но нет! Хозяин сердито махнул им рукой: лежать!
— Мало сказать — молодой, — проворчал Нугис. — Поглядеть на него, совсем желторотый.
— Что это ты так о своем начальстве?.
— А чего мне бояться? Говорю, что думаю, и в лицо ему скажу то же.
Трубка исчезла в его огромной ладони, косматые брови высоко поднялись. Старик повернулся и, глядя прямо в глаза дочери, выпалил одним духом:
— Только и знает, что расспрашивать, — любопытный, словно мальчишка. Все ему надо знать: и сколько в моем обходе замерено делянок? И сколько из них вырублено? И сколько лет тому березнику? И сколько тому ельнику? И тому смешанному лесу? И сколько елей погублено красной сердцевинной гнилью? И кто чаще попадается — короед или хвойка? Уж я и забыл, о чем он только не спрашивал…
Отец, как видно, уже немного отвел душу и смягчился. Анне поспешила этим воспользоваться.
— Ну и что из того, что расспрашивал? Как же иначе новому человеку войти в курс дела?
— Если б только расспрашивал. Беру я шапку, а он поднимается и говорит: «Ну, старик, наступит опять зима, и мы возьмемся за твое Сурру, всерьез возьмемся!» А я стою и не понимаю, о чем он это. Видит он, что я рот разинул, и давай смеяться. «Возьмем, говорит, топоры и пилы, да начнем валить елки на Каарнамяэ и осинки на Кяанис-озере!» Меня прямо как ножом по сердцу.
— Да разве туда проберешься? Ведь у нас не то что дороги, и тропинки-то не сыщешь.
— Я говорил…
— Около железных дорог и большаков куда легче работать.
— И это говорил…
— А он?
— Он! Похлопал меня по плечу, словно юнца какого, и сказал: «Ты, дед, немножко отстал от жизни!» Так прямо и сказал… Думает, что раз попал в такую глушь, так может здесь распоряжаться да командовать… Ну, это мы еще посмотрим!
Нугис рывком поднялся, и собаки тотчас вскочили, а Кирр подняла голову. Куда это собрался хозяин? Неужели в лес? Но нет. Он отправился в дом, и Стрела с Молнией, тоскливо поглядев ему вслед, понуро побрели к риге. Кирр же побежала, переваливаясь, за хозяином и, увидев, что он стаскивает сапоги, мигом юркнула на постель. Расчет ее оказался правильным: Нугис намеревался поспать полчасика.
Анне осталась на пороге бани. Ветер кружил по двору клочки сена и тихо посвистывал в застрехах. Лес, отмытый оттепелью, стоял вокруг серьезный и торжественный. На ветках ольхи висели бурые сережки. На вербах вдоль дороги, ведшей от хлева к реке, уже раскрылись остроконечные створки почек и показались наружу светлые мохнатые барашки.
Как тихо, как спокойно у них в Сурру, пожалуй, даже слишком спокойно. Правда, Анне к этому привыкла, всю свою жизнь она провела тут, в лесной сторожке, где по утрам ее будила, а по вечерам убаюкивала то гулкая, то еле слышная песня леса. В первый раз она надолго рассталась с лесом, когда поступила в школу. Училась она в городе и сначала ее угнетал тамошний шум, тамошняя суета. Однако она быстро привыкла к городской жизни и почти перестала скучать по Сурру. Только вот когда на улицах начинали журчать весенние ручейки, когда солнце принималось лезть в окна, когда с ветвей единственного во дворе деревца что ни утро доносились пронзительные крики скворцов, тогда ее вдруг охватывала тоска по родному лесу и наука, обычно так легко дававшаяся, не шла на ум. Казалось, что ученью конца не будет. Но год все же кончался и приносил обычно хорошие отметки, что, впрочем, гораздо меньше радовало девочку, чем долгожданный приезд отца.
Но странное дело: в конце лета, когда темнеть начинало все раньше и раньше, когда по вечерам тени деревьев на их полянке вытягивались до самой сторожки, Анне вновь охватывало нетерпение. Она вновь прямо не могла дождаться того дня, когда отец посадит ее в телегу, на мешок с сеном, покрытый пестрым одеялом, и повезет в город.
Вот и теперь. Она уже взрослая, а все порой какая-то неприкаянная. Все ее куда-то тянет, а чего ей не хватает, она и сама понять не может.
По ее спине пробежала дрожь: не такое было еще время, чтобы сидеть на улице в одном платье. Анне закрыла дверь бани и пошла домой.
Утро следующего дня оказалось веселым для Стрелы с Молнией и скучным — для Кирр. Нугис еще до восхода солнца отправился на болото Люмату: он тревожился за тамошних косуль. Как-то с неделю назад он, заслышав далекие выстрелы, побежал туда, но не обнаружил никаких следов браконьеров. Тогда он засел с ночи в кусты около сделанных им когда-то крытых яслей, в которые клал зимой сено для косуль. Он рассчитывал, что браконьеры еще вернутся в лес, и несколько дней подряд ходил их подстерегать у всех своих яслей. Но охотников и след простыл.
Он и сегодня пришел обратно ни с чем, если не считать того, что ему посчастливилось найти зарытые потроха косуль. Но это его мало утешило, и он вернулся хмурым и сердитым.
После обеда он немного отошел и принялся играть с Кирр: швырял ей рыбу, сшитую дочкой из кожи и довольно отдаленно напоминавшую щуренка. Кирр должна была взять брошенную рыбу и принести обратно. Выдра хорошо знала, что от нее требуется, и со щуренком в зубах проворно возвращалась к хозяину.
Но Анне видела, что как отец ни увлечен с виду этой забавой, думает он о чем-то другом, не дающем ему покоя. И когда он вдруг полез в шкаф за новым домотканым пиджаком, она не очень удивилась.
— Хочешь пойти в гости к лесничему? — спросила она, как бы совсем между прочим.
— Да, хочу! — выпалил вдруг отец так запальчиво, что девушка даже вздрогнула. — Уж я ему выложу! Все напрямик скажу! Он у меня такое услышит, чего за всю жизнь не слыхал…
— Да он тебя на смех подымет. Решит, что ты боишься работы. И скажет тебе: «Да вы что, господа, совсем тут в лесу обленились и замшели?» Вот увидишь!
— А я ему отрежу, что не для того я берег Сурру, чтоб какой-то желторотый пришел и за одну-две зимы истребил весь наш лес. Пусть отправляется туда, где уже все равно одни пеньки торчат. А любому, кто вздумает погубить Сурру и сунется сюда, я влеплю в брюхо заряд дроби, будь он хоть дважды лесничим, будь у него хоть три диплома.
— А он что, недавно из школы?
— Говорят…
Анне задумалась.
— Зачем же ему разорять наше Сурру?..
— Говорит, что и рубить нужно по науке. Подумаешь, какая премудрость — пилой водить да топором махать! Ведь это любой деревенский парень умеет — без всяких школ и курсов.
— Ты сам прошлой зимой ходил на курсы пильщиков…
— Ну и что? Ходил, оттого что было любопытно поглядеть, как это лучковой пилой лес валят. Для нас это дело в диковинку. Да разве ж лесничий про такую науку говорил?
— Но если он совсем не… — девушка не могла подобрать подходящего слова: «любит» звучало как-то наивно, «ценит» — казенно, — …совсем не уважает леса, то зачем же он пошел в лесной техникум?
— Не иначе как понадеялся на легкую жизнь и на большое жалованье, — заявил отец и принялся начищать сапоги.
Покончив с этим, он старательно застегнул пиджак на все пуговицы, надел шапку и, не сказав ни слова, ушел. Но уже минут через десять собаки вдруг навострили уши, а Кирр, насторожившись, вытянула голову. Миг спустя все трое кинулись к двери.
Отец вернулся.
— Сегодня уже поздно, — сказал он, снова вешая пиджак в шкаф.
— Так что драка отменяется?
— Нет, откладывается. На завтра. С самого утра отправлюсь. Если он хоть на столечко лесовик, то поймет меня и засунет свой топор обратно за пояс.
— Ты мог бы позвать его сюда. Показал бы ему свой лес, рассказал бы о нем, сходили бы вместе на охоту…
— Ох, и любопытный же вы народ, женщины! Прямо как сороки. Поглядеть на него захотелось?
— И вовсе нет! — резко ответила Анне.
Еще чего: очень он ей нужен, этот воображала, эта чернильная душа! Уж попадись он ей — она бы ему все до конца сказала, прямо в лицо, не стала бы с ним церемониться, как отец. Отцу он начальник, а ей никто. Она бы его так проучила, что…
Отец сунул ноги в опорки и пошел в сарай — подбросить лошади сена.
Анне принялась вытирать посуду.
А хорошо, если бы в Сурру все-таки появился народ — женщины, мужчины, молодежь — и здесь началась работа, большая работа.
И она негромко запела.
В Сурру появились бы люди, началась бы жизнь, движение… Может, он не такой уж вредный, этот Реммельгас. Говорит, что и рубить нужно по науке. Что ж, вряд ли он просто сболтнул, сам не зная чего. Даром, что ли, его учили столько лет, посылали на практику? Не очень-то верится, что он только плохого набрался. Скорей даже напротив: ему лучше знать, чем им самим, лешакам трущобным, где надо валить лес, а где не надо. Вот отец, осердясь, ее сорокой обозвал, а что плохого в том, что хочется посмотреть на него, узнать, что он за человек?
Нугис в эту ночь спал плохо: все время с кем-то спорил во сне, кого-то бранил, уговаривал. А утром сказал дочери:
— Плохо ты спала нынче. Я слышал, как ты что-то кричала. С чего бы это?
— Не знаю, говорить ли? Еще рассердишься, — с сомнением ответила Анне. — Странный такой сон приснился. Лесничий — он оказался ужасно длинным, чуть ли не с ель — стоял на высоком пне и вроде как отбивал рукой такт. И все поворачивался — то туда, то сюда, а вокруг народу было пропасть, и все страшно заняты…
— Тьфу! — рассердился отец. — Этот лесничий прямо колдун какой-то: и в глаза тебя не видел, а уже околдовал.
— И так весело было, так забавно! Все смеялись, пели…
— Ладно уж, ступай лучше посмотри, не слишком ли сильный огонь в бане, еще семена сгорят…
В этот день, как, впрочем, и в следующий, Нугис так и не собрался пойти к новому лесничему.
Глава третья
Карл Рястас, председатель туликсаареского сельсовета, аккуратно, словно по линейке, расставил стулья вокруг длинного, накрытого кумачом стола.
— Зачем ты притащил так много стульев? — спросила его Хельми Киркма, листавшая за маленьким круглым столом у окна свежие журналы. — Нас ведь только четверо.
— Нас, понятно, четверо, но кто может знать, сколько народу понаедет из волости? Тэхни будет обязательно, а он может прихватить с собой и агитатора, и председателя исполкома. Да и — как знать — вдруг из уезда кто присоединится?
— Да брось… Не такое уж важное у нас собрание.
— Не скажи! Сегодня исторический день для Туликсааре. Подумай только, такая глушь — и своя первичная парторганизация. Нас пока только четверо, но мы уже сила. Пусть нас мало, это не беда, вот увидишь, как все вокруг нас сплотятся, а там, глядишь, кто посознательней и в партию вступит. Нет, сегодня у нас великий день, самый великий!
Хельми молча улыбнулась. Конечно, для Туликсааре сегодня большой день, но из-за этого сюда еще не соберется пол-уезда. Однако спорить она не стала, — волнение Рястаса ее тронуло. Он сегодня явно нервничал и не находил себе места: то поправит уголок скатерти, то уже в десятый раз проверит, есть ли чернила в чернильницах и вода в графине.
— А секретарь? Кого нам выбрать секретарем? — спросила Хельми и торопливо добавила: — Придется, верно, тебе взять в свои руки и эти бразды.
— Нет-нет, будто у меня мало работы! — И Рястас замахал руками. Человек живой и непосредственный, он чуть ли не каждое слово сопровождал жестом, не только выступая с трибуны, но и разговаривая с кем-нибудь с глазу на глаз. — Секретарем мы выберем Реммельгаса.
— Нового лесничего?
— Его самого.
— А ты с ним встречался?
— Как же иначе! И не раз. Он как приехал, почти сразу же пришел сюда. Мы держали тут военный совет, как нам весной мобилизовать народ, и в первую очередь школьников, на лесопосадки. Ну он и выложил тут же свои планы. Весьма обширные, надо сказать. Много леса он задумал посадить, столько тут еще не сажали. Далеко заглядывает, ничего не скажешь.
Хельми с интересом поглядела на Рястаса. Он всегда скупился на похвалы. И более того, был даже склонен преуменьшать свои и чужие заслуги. Он считал, что людей вредно захваливать, что к ним надо относиться требовательно. И когда он выражал кому-то одобрение, то это немало значило.
Хельми еще не видела нового лесничего, но много о нем слышала. Придя в понедельник на лесопункт, она сразу же поняла по виду Осмуса, что Реммельгас не был у него на обеде. В споре этих двух людей она больше склонялась на сторону своего начальника: тот был прав — на Каарнамяэ, у болота Люмату, им плана лесозаготовок не выполнить. Конечно, горько было смотреть на многокилометровые вырубки у железной дороги, и слышать, как местные жители говорили с тяжелым вздохом:
— Да, конец нашему лесу! Такой был хороший лес…
Она прямо сгорала со стыда. Да и у самой у нее душа болела, но что делать? Мыслимо ли залезать в эти дебри?
Нить мыслей Хельми прервалась, потому что дверь распахнулась и в комнату вслед за струей холодного воздуха ворвался коренастый человек в сапогах и темной куртке, в сдвинутой на затылок ушанке. Это был председатель колхоза «Будущее» — Ханс Тамм. И без того румянолицый, как многие люди, постоянно работающие на свежем воздухе, он сейчас еще больше раскраснелся от быстрой ходьбы. У него явно отлегло на душе, когда он увидел, что еще не все в сборе. Вынув из кармана пестрый платок, он отер со лба пот.
— Уф! Ну и запарился! — сказал он, вешая шапку на гвоздь. — Услышал дома, что три пробило, и давай скорей сюда. Опоздал, думаю. Да только зря бежал — народ-то еще не собрался.
— Как не собрался? Из наших только Реммельгаса нет. — И Рястас обвел всех взглядом, словно и без того не знал, кто на месте.
— Он был сегодня в колхозе, — сказал Тамм, снимая куртку.
— Вот как? — удивилась Хельми. — Всюду поспевает.
— Небось лес собрался у вас сажать, — пошутил Рястас.
— И это, — серьезно ответил Тамм. — Спрашивал, сколько и какой земли можно у нас засадить. Мы заканчивали сегодня возить торф, некогда было поговорить с ним толком, а надо бы — дело стоящее. У нас хоть отбавляй таких пустошей, где не растет ни трава, ни хлеб. Только пришел он не за этим. Рабочие ему нужны, пришел к нам искать. Чудак, ей-богу! У нас посевная, а он говорит: давайте людей, да побольше.
— А для чего ему? — полюбопытствовал Рястас.
— Да все для того же — для посадок. Как будто у меня в колхозе контора по распределению рабочей силы. Ответил, что никого дать не могу, и повернулся к нему спиной.
— Хоть бы ты в председателях-то немножко пообтесался.
— А чего же он является сейчас с такими разговорами! Ведь мало того, что мы всю единоличную землю объединили, — сколько еще нам ее прирезали, и от раскулаченных, и от государства. И весь этот массив распахать надо, ни одной полоски нельзя оставить, все наизнанку надо вывернуть, как тулуп.
— Знаем, братец, знаем…
— А раз так, то провались он в ад, этот лесничий, со всем своим лесом!
— Ладно, может, и в аду понадобятся лесничие, — послышался спокойный и веселый голос.
Все обернулись к дверям, в которых уже некоторое время стоял человек в темной лыжной шапке, в куртке, и не в сапогах, как все остальные, а в брюках навыпуск и полуботинках. Возникла неловкая пауза, у всех был смущенный вид. Хорошо ли ругать человека за глаза.
«Так вот он, наш новый лесничий, — подумала Хельми, пристально вглядываясь в человека, остановившегося посреди комнаты. — Уж очень молод… или это только кажется?» Чем пристальней она в него вглядывалась, тем трудней становилось ей сделать вывод: в лице Реммельгаса было очень много юного, даже мальчишеского. Посмотришь и решишь — несерьезный, такой любое может отколоть. Но в то же время было в его лице и что-то зрелое, серьезное: решительная линия рта, незаметные с первого взгляда морщинки около синих глаз, излучавших спокойную и уверенную улыбку… Видно, он человек уравновешенный, а вовсе не сорвиголова, взбалмошный и своенравный, каким она почему-то представляла его себе. Она-то воображала себе этакого покорителя женских сердец с бросающейся в глаза внешностью, а у него лицо как лицо: широкий лоб, слегка впалые щеки, крутой, чуть выступающий вперед подбородок. Словом, внешность — ничего особенного, только вот глаза, такие ясные, такие дружелюбные…
Хельми настолько увлеклась этим сравнением воображаемого образа лесничего с подлинным, что была застигнута совершенно врасплох его внезапным обращением к ней. Она услышала его голос словно издалека.
— Здравствуйте, — сказал он и протянул ей свою узкую руку с длинными пальцами. — Вы, вероятно, Хельми Киркма, мастер лесопункта?
— Откуда вы меня знаете?
— О вас много говорят.
— Где?
— Где же еще, как не в лесу. Говорят о вас, но еще больше о вашей строгости. Особенно о вашей беспощадности к заготовителям… Надеюсь, будем хорошими друзьями.
Рукопожатие Реммельгаса было крепким и дружеским. Намек на строгость смутил Хельми, и в своем замешательстве она забыла спросить, почему Реммельгас надеется, что они станут хорошими друзьями. Она было уже собралась с духом, чтобы задать этот вопрос, но тут всеобщее внимание было привлечено появлением Тэхни, секретаря волостного комитета партии. Торопливо пожав руки присутствующим, он остановился перед Рястасом.
— Дороги у тебя разбитые, колеса увязали, словно в корыте с глиной. Сквозь пальцы небось смотрел, когда чинил…
— Нет. В наших лесах каждую весну так…
— Было так, — поправил его Тэхни. — Было. А теперь у вас тут колхоз — без хороших дорог вам никак нельзя.
Сказал он это как бы мимоходом, но Рястас понял: лишь наступит неделя дорожного ремонта, как у них наверняка появится Тэхни: «Ну-ка, покажи, дорогой товарищ, как сделали дорогу». Память у секретаря волостного комитета была цепкая: уж если он что брал на заметку, то никогда потом не забывал поинтересоваться, сдвинулось ли с мертвой точки то дело, о котором уже заходил разговор.
— Ну что ж, начнем? — Тэхни обвел всех взглядом и пододвинул стул к столу.
Все сели. Хельми исподтишка толкнула Рястаса: вот, мол, тебе и вся твоя волость с половиной уезда. Тамм сидел, задумчиво сдвинув брови, — он еще не успел отрешиться от колхозных забот. Реммельгас внимательно изучал новые лица. Все были серьезны. Лишь Тэхни улыбался, улыбался весело, во весь рот. Так улыбаться, как это умел Тэхни, могут лишь до конца честные люди, совесть у которых чиста. Когда Тэхни становился серьезным, когда искорки смеха гасли в его серо-голубых глазах, дело было плохо. Плохо для того, кто вызывал эту перемену.
Тэхни открыл собрание. Он сообщил, что решено создать первичную организацию ВКП(б) в Туликсааре, куда войдут три члена партии — председатель сельсовета Карл Рястас, председатель колхоза «Будущее» Ханс Тамм, лесничий Аугуст Реммельгас и кандидат партии — мастер лесопункта Хельми Киркма. Тут же Тэхни в немногих словах определил роль и задачи новой организации в дальнейшей жизни туликсаареского сельсовета.
Как все прямолинейные люди, он любил короткие и ясные речи. Бесконечные разглагольствования были ему не по нраву, он ценил дела, а не слова, и порой даже прерывал разошедшихся докладчиков.
— Ладно, — говорил он, — твое ораторское искусство нам уже известно. Лучше скажи нам о том, что ты сделал позавчера.
Покончив со вступительным словом, Тэхни зачитал порядок дня. Он состоял лишь из одного пункта: выборов секретаря первичной парторганизации. Когда Тэхни спросил, не будет ли дополнений, поднялась широкая ладонь Тамма.
— Слово предоставляется товарищу Тамму.
Тамм поднялся. Он стукнул кулаком по столу, словно ему кто-то возражал, и сказал:
— Предлагаю также обсудить вопрос о воде.
— Что это за вопрос о воде? — удивился Тэхни.
— Он имеет в виду половодье, которое каждой весной в деревнях Туликсааре, Яннисалу и Сооалусе… — поспешил пояснить Рястас, но Тамм прервал его:
— К чему это перечисление, скажи попросту: вода заливает большую часть земель туликсаареского сельсовета, и пора положить этому предел. Похоже, что в нынешнем году предстоит настоящий потоп, как при Ное, — уже сейчас река вышла из берегов.
— Но что же тут обсуждать? — спросил Тэхни. — Имеется у тебя какое-либо конкретное предложение? Или проект?
Тамм покачал своей могучей головой.
— Нет, проекта у меня нет. Да проектом воды и не вычерпать. Если мы не остановим подъема воды, то лишимся сена и части хлебов. Надо посоветоваться, что предпринять. Если не нашему партийному собранию, то кому же об этом думать?
Он развел руками и вопрошающе посмотрел на людей. В его серых глазах выразилось удивление: как же, мол, вы не понимаете таких очевидных вещей?
Поднялся Рястас.
— Это скорей задача общеколхозного собрания. Хотя дело это посерьезней, чем сажать капусту. Так что не вредно бы нам договориться с главным мелиоративным управлением о прорытии водосборной магистрали. А перед этим надо промерить глубину реки, разработать детальный план со всеми расчетами, с учетом своего производственного графика…
Рястас был опытным говоруном, и Тамм не один раз открывал рот, прежде чем ему удалось наконец прервать оратора.
— Что ты там распелся?.. Думаешь мы всего этого не обсуждали? Сам ведь знаешь, что реку два года назад промеряли и что один план осушения был составлен еще в буржуазное время, только тогда дальше планов не пошли. Хватит топтаться на месте, пора приниматься за дело… Но в одиночку нам, колхозникам, не под силу углубить всю реку. Взять хотя бы мельницу в Мяннисалу. Ведь из-за этой затычки еще больше воды скопляется.
Хельми Киркма жила в Мяннисалу, она знала тамошние условия и сочла своим долгом заявить:
— Лесопильная рама работает с полной нагрузкой. Люди нуждаются в досках…
— А в хлебе они не нуждаются? — вспылил Тамм.
Тэхни постучал карандашом по столу.
— Видите, товарищи, — сказал он добродушно, — первое собрание, и уже такие страсти. Что ж, это хорошо, это правильно — каждый должен душой и телом болеть за общее дело, за то, чтобы народу польза была. А польза от осушения будет большая. Но, как видно, из-за неподготовленности вопроса нынче наше обсуждение далеко не пойдет. Уже начало показывает, что будет много грома и молний, но едва ли мы сможем прийти к чему-либо окончательному.
Лесничий попросил слова. Все замолчали, даже Тамм кончил ворчать себе под нос. Реммельгас новый человек, интересно, что он скажет умного?
— Товарищ Тэхни прав, — неторопливо начал Реммельгас. — Сегодня мы едва ли сможем к чему-нибудь прийти. Прав и Тамм — мы сами, и никто иной, должны обсудить проблему борьбы с паводками и практически разрешить ее. Но Тамм увидел лишь одну опасность, он не обратил внимания на другую, на то, как вода губит и наши леса. Мало того что Люмату — это большой массив бесполезной земли. Этот массив все время растет, непреодолимо наступает во все стороны, губя все больше берез и елей, губя все больше полей и лугов. Мы терпим от него урон всюду — и в поле, и в лесу. И поэтому надо нанести удар болоту с обеих сторон. Вопрос об этом я предлагаю обсудить на следующем нашем собрании.
— Кто подготовит вопрос?
— По колхозной линии Тамм, что же касается леса, то придется, видно, предоставить эту заботу мне…
Тэхни прищурился, на его лбу появились глубокие поперечные складки.
— Значит, поручить двоим?
— Двоим, поскольку тут у каждого своя специфика.
Пытливый взгляд Тэхни скользнул по лицам. Все молчали, очевидно согласные с предложением Реммельгаса. Тэхни поднял голову и направил взгляд куда-то вдаль, словно вдруг забыв о собрании, обо всех его участниках, о том, что все ждут его слова. Потом он взглянул на людей и улыбнулся.
— Специфика-то у каждого своя, но цель — общая: пресечь заболачивание туликсаареских земель. А раз цель общая, то и план борьбы тоже должен быть общим. Так что повестку дня следующего собрания можно бы сформулировать примерно так: проведение мелиоративных работ в Туликсааре. А вопрос разработают и доложат двое: Тамм и Реммельгас. Не так ли?
Реммельгас молча кивнул и полез в карман за папиросами. Тэхни прав, даже более чем прав. «Хорош! — упрекнул он себя. — Не прошло и месяца, как уже почти докатился до стиля Осмуса: мое лесничество, мой план, мои проценты! Залез в свою скорлупу и ничего кроме нее не видит, словно весь мир кином на нем сошелся. Нечего сказать, борец за новое!» Так он себя отчитывал, не замечая того, что Тамм задумчиво на него поглядывает. И поглядывает вполне доброжелательно, без недавнего недоверия, без враждебности, Хельми, следившая за ними обоими, сразу это заметила. Рястас тоже не сводил с лесничего глаз, на его лице было написано откровенное любопытство: вот так человек, сам добивается задания, выполнение которого потребует не только немалых усилий, но и отваги, потому что вряд ли ему удастся избежать столкновения с Осмусом. Ведь тому как-никак подчинена мельница в Мяннисалу, которую, возможно, придется снести. А Осмус так легко на это не пойдет.
Собрание продолжалось. Председательствовавший Рястас предложил выслушать биографию нового члена организации, лесничего Реммельгаса. Все замолчали и приготовились слушать.
— Биография у меня короткая, — начал Реммельгас. — Родился в Ярвамаа, в тысячу девятьсот шестнадцатом году. Отец мой был лесником, и мы жили примерно в таких же дебрях, как Сууру. Так что к одинокой жизни в лесу я привык с детства. И полюбил лес тоже с детства. Учился я сначала в сельской школе, потом в городской — в Пайде. Окончив ее, поступил в Тартуский университет. Но пробыл я там недолго, кошелек у отца был слишком тощим, а моих заработков — каждое лето я нанимался на лесные работы: то землекопом, то помощником таксатора, то лесорубом, — тоже не хватало. Покинул я университет, попал в армию… В это время умер мой отец. Остался я совсем один. После армии никак не мог найти работу. Наконец устроился в Таллине на завод искусственных роговых изделий. Вступил там в профсоюз, в работе которого принимал участие еще в Тарту. Этого оказалось достаточно, чтобы стать для полиции неблагонадежным и даже красным. Городская жизнь мне все же оставалась далекой, чуждой, мне все слышался лесной шум… Принялся я копить деньги, чтобы поступить в Вольтветское лесное училище, которое выпускало лесничих. Но тут наступил сороковой год, пришла советская власть, и для меня началась горячая пора работы в профкоме. В апреле сорок первого года меня приняли в кандидаты партии, а несколько месяцев спустя я стал солдатом. О последующих годах можно было бы рассказать многое, но вам все эти вещи известны: военное обучение в тылу, походы, бои, путь через Пейспи в Эстонию, с материка — на Сааремаа, а потом — в Курляндию. Демобилизованный из офицерского состава, я прямо из части направился в лесной техникум. Дорвался наконец до учения и так на него и накинулся… В этом году окончил техникум и получил назначение сюда, в Туликсааре, на пост лесничего. Как видите, мною пока что сделано в жизни очень мало, так что надо наверстывать упущенное. Я знаю, какое это бесценное, какое незаменимое достояние — лес. Беречь это народное богатство, охранять его и рационально использовать — дело ответственное. Я это хорошо понимаю. Особенно теперь, когда советская власть дала мне образование. И я обещаю приложить все свое умение, все свои силы, чтобы оправдать доверие. Ведь меня поставили к самому любимому, самому дорогому мне делу…
На этом Реммельгас кончил. Так как вопросов ни у кого не было, возникла пауза. Тогда Рястас поднялся и сообщил о переходе к следующему пункту повестки, к выборам секретаря парторганизации.
— Какие будут кандидатуры? — спросил он.
Никто не откликнулся — все еще думали о биографии Реммельгаса, и потому Рястасу пришлось повторить свой вопрос.
— Что тут долго думать? — выпалил очнувшийся Тамм. — Выберем Рястаса.
— Ну, нет, — возразил тот. — У меня нагрузок хватает. Считаю наиболее подходящим кандидатом Реммельгаса. Мы слышали сейчас его биографию: он уже старый партиец, опыт общественной работы у него богатый — вряд ли кто справится с этим делом лучше него. Верно, товарищ Тэхни?
Тэхни с безучастным видом пожал плечами.
— Не хочу влиять на ваше решение.
Тогда поднялся Тамм.
— Может, вы не так меня поймете, но я против. Конечно, Реммельгас человек опытный, человек проверенный. Спору нет. Но он только недавно к нам приехал, местных условий пока не знает, людей тоже — ему придется трудно. А Рястас, наоборот, знает тут всех, вплоть до малых ребят, знает, кто тут всей душой с нами, а кто из-под полы грозит кулаком. Потому я и считаю, что самый подходящий для этого человек — Рястас…
«Да, видно, он еще не забыл попытки Реммельгаса завербовать крестьян на лесопосадки, — подумала Хельми, когда Тамм сел. — И болеет же он душой за свой колхоз — за свой хутор никогда так не болел! Все, что принадлежит колхозу — любая малость, хоть гвоздь какой завалящий, для него свято. Расшибется, но не отдаст. А Реммельгас, чудак, с такой просьбой к нему, да еще в самое горячее весеннее время!» Едва Хельми успела обо всем этом подумать, как Тэхни вдруг обратился к ней.
— А что думает товарищ Киркма?
Обращение это было для нее настолько неожиданным, что она даже вздрогнула.
— Я всего лишь кандидат… — сказала она запинаясь.
— Хотя вы и не вправе голосовать, вам все же следует принять участие в обсуждении кандидатур, — ответил Тэхни.
Все уставились на нее — деваться было некуда. Хельми попыталась собраться с мыслями. В течение последних недель Реммельгас был у них, на лесопункте, объектом самых противоречивых суждений. Говорил он сегодня хорошо — искренне и просто, но следует ли этому поддаваться? Иного послушать — душа-парень и такой скромник, а на уме — ничего кроме честолюбия и желания любой ценой укрепить свои позиции… А что, если он в самом деле такой же прямодушный, честный и дружелюбный человек, каким кажется с первого взгляда?.. Так и не придя ни к какой ясности, Хельми неуверенно сказала:
— Я считаю… Считаю, что прав Тамм… Реммельгас — новичок, поживем, узнаем его поближе, тогда и выберем.
Тэхни прикусил губу. Рястас вопросительно посмотрел на него и беспомощно пожал плечами. Тамм, увидев это, подумал с досадой: «Ага-а, они, значит, уже сговорились поддерживать Реммельгаса! Но стоит этому человеку стать у нас секретарем, как он в самый разгар посевной погонит весь колхоз в лес — знаем мы таких фанатиков».
На голосование были поставлены две кандидатуры: Рястаса и Реммельгаса. За Рястаса было подано два голоса, за Реммельгаса — один. Все принялись поздравлять Рястаса, но тот только отмахивался.
— Да что вы! Да бросьте!
Он совсем растерялся и с трудом произнес заключительное слово. Куда девалось его красноречие? Он был сегодня так же косноязычен, как в тот, далекий уже день, когда его, лесоруба, выбрали председателем сельсовета. Тогда он по бумажке и то едва сумел выступить. Зато потом он быстро освоился и научился излагать свои мысли не только складно и понятно, но даже красиво. Крестьяне любили слушать председателя своего сельсовета, твердо державшего в руках правленческие бразды. Умению зажечь людей речью он во многом и был обязан той широкой поддержкой, какая ему оказывалась во всем Туликсааре. А теперь этот самый Рястас заикался, запинался и с трудом подбирал слова, точь-в-точь, как во время своего первого выступления.
— Нет, правда же, я недостоин такой большой чести… Но мне дорого доверие, оказанное партией… Не пожалею сил, чтобы стать достойным этого доверия…
Затем наметили срок и примерную повестку следующего собрания. И на этом решено было закончить.
Тэхни намеревался пробыть в Туликсааре весь день — ему надо было проинструктировать Рястаса. Он сказал Реммельгасу, что может подвезти его домой на своей двуколке, но тот решительно отказался. Во-первых, ему и так было недалеко — всего полтора километра, а во-вторых, он собирался заглянуть на складочные площадки лесопункта. Тут Тэхни поинтересовался, как лесничий ладит с заготовителями и, в частности, с их начальником.
— Пока что не приходилось с ним встречаться, — уклончиво ответил Реммельгас.
— Осмус человек энергичный, прет напролом, как ледокол. Иногда, правда, слишком тороплив, но, впрочем, успехи у него большие, да и почет немалый. Я слыхал, будто между вами черная кошка пробежала?
— Вот как? — Реммельгас поднял брови. — Быстро же вам все сообщают. Мы с ним еще и познакомиться не успели, а уже известно, какие у нас отношения. Даже черная кошка откуда-то взялась. А я пока и не знаю, что вам сказать. Ведь не только от меня зависит, как мы сработаемся с Осмусом.
— Я довольно слабо знаком с лесным делом, мне трудно сказать, кто из вас прав. Возможно, что каждый из вас слишком уж тянет в свою сторону? Если выберется свободный денек, приезжайте в волостной комитет, расскажите обо всем поподробней.
— Товарищ Реммельгас хочет нас в бараний рог скрутить, — вставила тут Киркма, стоявшая рядом. Реммельгас тотчас к ней обернулся и посмотрел на нее с укоризной и насмешкой, — так ей во всяком случае показалось.
— Весьма решительное суждение, товарищ Киркма, — сказал он. — Такие суждения мне нравятся, если только их выносят после того, как внимательно выслушали противную сторону.
В словах Реммельгаса прозвучала горечь. Видно, он болезненно ощущал то молчаливое недоброжелательство, какое проявляли к нему некоторые местные, особенно лесопунктовские работники. Проявляли не открыто, не в словах, а в манере разговора, в обращении. Впрочем, как всегда, он тут же постарался подавить свое раздражение. Увидев, что его слова задели Киркму, он мысленно выругал себя и постарался вернуться к дружескому шутливому тону.
— Обиделись? И напрасно. Мы с вами должны ладить.
— Почему именно мы с вами? — удивилась Хельми.
— Потому что работа у нас, по сути, общая. Я выращиваю и выхаживаю лес, а вы его рубите и передаете потребителю. Что получится, если один из нас окажется раком, а другой лебедем?
Тамм подошел поближе. Он был уже в куртке и держал в руках свою ушанку.
— А вот скажи мне, — громко спросил он у Реммельгаса, — правильно говорят у нас в колхозе или нет, будто нам паводков да болота не осилить? Дескать, природу не переделаешь. Какая есть, такой и останется!
И Тамм с хитрым видом уставился на Реммельгаса. Было в его хитрости что-то такое задорное, что Реммельгас окончательно пришел в хорошее настроение. Склонив голову набок, он лукаво взглянул на здоровяка председателя.
— Да что же тебе сказать? Вот через год-другой появятся у нас в Туликсааре новые поля да сады, и тогда мы послушаем, что запоют те, кто говорит, что природу не переделаешь, а болота не осилишь…
— По-мужски сказано! — обрадовался Тамм и так хлопнул Реммельгаса по плечу, что тот даже покачнулся. — Только действовать нам надо сообща, это Тэхни правильно сказал. Согласен?
После того как Реммельгас кивнул, он спросил:
— Когда начнем составлять наш военный план?
— Сначала я еще раз схожу на Люмату, чтобы увидеть врага с глазу на глаз. И сразу после этого приду в колхоз — осмотрим вдвоем все твои владения. И как только картина станет ясной, тут же решим, с чего начинать.
— Правильно. Только не тяни с этим делом. А то река нынче особенно бурная, — видно, почуяла, что недолго ей еще бесчинствовать. Ну, будь здоров!
Он ушел, и в комнате сразу стало тише.
Реммельгас посмотрел на Киркму.
— Нам, кажется, по дороге? Так пойдемте вместе?
Чувствуя, что девушка не очень хорошо к нему относится, он не рассчитывал на ее согласие и потому тем более обрадовался, когда она молча кивнула головой.
У нее это получилось как-то непроизвольно: обычно она избегала провожатых. Зря, пожалуй, она согласилась, но теперь уж делать было нечего, не идти же на попятный, и она вышла из сельсовета вместе с лесничим.
Но он, по ее мнению, держался странно. Помчался вперед, как угорелый, будто ее с ним и не было. Полы его пальто так и развевались на ветру. Потом вдруг предложил пойти прямо через поле и, не ожидая ответа, схватил ее за руку и заставил перепрыгнуть канаву.
Уцелевший кое-где снег был тонким и ноздреватым. Вербочки вытягивали свои прутья с белыми барашками. Вокруг них прыгали синицы с желтыми грудками и черными головками. Легкий ветерок, дувший в лицо, был теплым и ласковым, совсем майским, хотя еще только-только начался апрель. Высоко в небе парили сарычи.
— Экая тут пустыня! — фыркнул Реммельгас. — Уж эти мне заготовители!
— Да вы жалостливый, товарищ лесничий! Это от однобокости, от одностороннего взгляда на жизнь. Вы забываете о том, что лес растет для людей, забываете о его потребителе.
— Суровое обвинение.
— Ваш упрек не менее суров. Вы считаете нас какими-то безжалостными истребителями…
— Считаю, ваша правда, считаю…
— Недаром Осмус называет вас упрямцем, который не считается с действительностью. Ведь каких трудов это стоило: валить лес, принимать, вывозить! Работали и в будни, и в праздники, и днем, и ночью. Работали и в мороз, и в дождь, и в метель, и в распутицу. А тут появляетесь вы и сразу же морщите нос: все это ерунда, бессмысленное истребление!
Хельма разгорячилась. Реммельгас даже залюбовался ею. Он с улыбкой вспомнил, как один ленивый хуторянин, опоздавший с выполнением своей нормы, назвал ее чертом в юбке. Вот если бы все так горячо отстаивали свою правоту, если бы все с таким же воодушевлением отдавались своему делу!
— И все же не будем ссориться! — Реммельгас взял девушку под руку и увлек ее вперед.
«Ах, вот но что! — с гневом подумала Хельми, когда почувствовала, как пальцы Реммельгаса сжали ее локоть. — Вот, значит, для чего все эти маневры. Да, видно, все мужчины одинаковы, только один начинает издалека, а другой ломится напрямик…»
Ей захотелось стряхнуть руку лесничего, но тот держался так естественно, что она не решилась. Лесничий заговорил о вырубке в Куллиару, а потом вдруг без всякой связи с предыдущим принялся рассказывать о том, как отбывал практику под Пярну. Хельми нехотя призналась себе, что слушать его было интересно. Лес он любил по-настоящему и накопил множество занятных наблюдений над деревьями, над жуками, над птицами и над зверьем.
А Реммельгас сам не мог понять, с чего это он вдруг так разоткровенничался. Он мог месяцами молчать и жить одной работой, без того чтоб изливать кому-то душу. Разговоры о том, что каждому необходимы эти излияния, ему казались вздором. Он считал себя достаточно сдержанным, чтоб обойтись без этого, а тут вдруг — нате, пожалуйста: болтает без удержу. Да еще с кем! С женщиной, которая, судя по всему, относится к нему недоброжелательно, которая упрямо защищает Осмуса, что никак его не предрасполагает к доверию. Поистине, человек сам для себя загадка.
Казалось бы, после всех этих размышлений впору было распрощаться у своего дома с Киркмой, но совершенно неожиданно для себя Реммельгас пригласил ее зайти к нему на полчасика.
— Надо отметить сегодняшний день, — сказал он.
И столь же неожиданным оказалось для самой Хельми, что она не сказала «нет». Она еще не отдавала себе отчета в том, что в ней уже пробудилось доверие к этому человеку. И оправдывала себя тем, что ей просто любопытно посмотреть, насколько далеко он может зайти.
На первых порах Реммельгас ничем не обнаружил своих намерений. Он пододвинул к Хельми кресло, стоявшее у письменного стола, и выразил при этом сожаление, что ему приходится принимать гостью в рабочем кабинете, а не в своей комнате, где, по его словам, было пока необжито и голо. Потом достал початую бутылку «Кюрдамира» и две стопки.
— Вы должны извинить меня за такую посуду, — сказал он, наполняя граненые стопки. — На то, чтоб обзавестись сервировкой, не было пока что ни времени, ни денег. Но все-таки выпьем. Поднимем бокалы… А что, товарищ Киркма, если бы мы подняли бокалы за нашу дружбу?
Хельми внимательно следила за словами и движениями лесничего. Она была недовольна собой. Зачем она позволила заманить себя сюда? И сидит тут покорная, словно овца. Не иначе как от этого он так и осмелел. Небось знай про себя посмеивается над ней: говорили, мол, недотрога, а он в два счета ее охмурил.
— О какой дружбе вы говорите? — спросила Хельми, вертя в руках граненую стопку.
— О какой? О настоящей дружбе, хорошей и честной. Нет, нет, вы не думайте, что я боюсь Осмуса и хочу из коварства переманить на свою сторону человека из его лагеря. Я много слышал о вас, знаю, что работаете вы без устали, себя не жалеете. Вполне естественно, что мне захотелось стать вашим другом. Для меня ведь тоже служение своему делу — все. Мы можем стать большими друзьями! Прозит!
Две руки поднялись, глухо звякнули неуклюжие стопки.
Странный это был вечер. Разговаривал почти один Реммельгас. Он рассказывал обо всем. О войне, об учении, о лесах. Он нагромоздил на колени Хельми всю свою коллекцию жуков в застекленных коробочках. Живо и красочно описал будущее Туликсаареского лесничества. Осушенный, ухоженный, убранный лес, ряды прямых, как солдаты, деревьев. В конце концов он заразил Хельми своим воодушевлением, и та, забыв об осторожности, перестала его дичиться. Она разговаривала, она задавала вопросы, она от души смеялась над его шутками.
Было уже темно, когда Реммельгас проводил ее домой. Ветер переменился и похолодало. Под ногами хрустел тонкий ледок. Наверху мерцали еле видные звезды. Над головой, шелестя крыльями, пронеслась какая-то ночная птица. Со складочной площадки послышался гул мотора, и фары сворачивающего грузовика на миг прорезали вдали черно-синюю тьму.
Реммельгас крепко пожал руку Хельми у ворот ее дома.
— Спокойной ночи! Надеюсь, я вас не очень утомил.
Едва Хельми успела ответить, как Реммельгас уже исчез, лишь поскрипывание замерзшей земли под его шагами доносилось еще из мрака.
Глава четвертая
В Туликсааре жил некогда помещик. Он владел большим скотным двором и примыкавшим к нему вытянутым жилым домом, который неоднократно перестраивали и ремонтировали. Тут расположился теперь туликсаареский лесничий со своей канцелярией. Сам помещик не жил в этом доме — слишком жалким было для него это приземистое и как бы приплющенное сверху здание с бесчисленным количеством окон и дверей. Тут помещались прежде управляющий скотной мызой и работники.
Кабинет лесничего располагался в угловой комнате, окна которой, выходившие на две стороны, были недавно увеличены. Их белесые, еще непокрашенные рамы, резко выделявшиеся на фоне серой стены, походили на квадратные очки. Комната была обита изнутри светлым картоном, из-за чего казалась более светлой и просторной, чем была в действительности.
К окну был приставлен боком старинный резной стол темно-красного цвета с утолщающимися кверху ножками. Он по своему виду очень подходил к дому, в котором находился. Реммельгасу не очень нравился этот явно барский стол, но его вместительные ящики, его размеры пришлись ему весьма кстати.
Вся остальная обстановка конторы была тут с бору да сосенки и очень недавнего происхождения. До 1947 года у местного лесничества и лесопункта было общее имущество, так как оба они подчинялись одному общему министерству лесной промышленности. Потом из него выделилось министерство лесного хозяйства, и тогда пришлось производить имущественный раздел между лесопунктом и лесничеством. Поскольку первый был представлен властным и энергичным Осмусом, а второй — таким рохлей в делах, как Питкасте, то естественно, что лесничеству досталась самая поломанная мебель и почти слепая от старости лошадь.
Но это бы еще с полбеды. Старая система управления оставила гораздо более неприятное наследство: многие лесники все еще по старой памяти чувствовали себя подчиненными министерству лесной промышленности. Или, говоря конкретнее, лесопункту, который его представлял.
Порой Реммельгаса даже охватывало от этого сознание бессилия. Оно усугублялось еще тем, что дела лесничества были в крайне запущенном состоянии. Это был результат той радикальной рационализации, какую Питкасте осуществил в своем делопроизводстве: он просто-напросто почти перестал заниматься всеми этими отчетами, обзорами, таблицами и картами. Чуть ли не за все приходилось приниматься с самого начала, будто лесничество было только вчера создано. На карте лесничества, висевшей над столом, имелось еще немало белых пятен. Устным сведениям Питкасте не следовало доверять — Реммельгас уже на опыте столкнулся с тем, что тот не очень-то держится верности фактам, и поэтому ему хотелось проверить все самому на месте. Питкасте даже не вел регулярного учета лесных культур, так что Реммельгас располагал лишь самой общей картиной состояния леса. У него было такое неполное представление о возрасте, спелости и качестве древостоя на том или ином участке, что составлять перспективный план лесопользования ему приходилось с крайней осторожностью.
Когда Реммельгас пожаловался на все это пришедшему внезапно Питкасте, тот принял упрек за похвалу и с великодушной готовностью принялся излагать свои деловые принципы.
— Я не канцелярская крыса! Письма поступали каждый день килограммами, хорошо, если удавалось хоть как-то их рассортировать… На две кучи — одна поменьше, другая — побольше. На письма из маленькой кучи я отвечал — от начальства не отвертишься, а большую кучу запихивал в самый нижний ящик этого самого стола. Хороший я вам оставил стол, вместительный. Правда?
Выслушав это откровение, Реммельгас сообщил Питкасте, что задумал организовать кружок мичуринцев. Питкасте бегло взглянул на показанный ему список членов кружка, неторопливо закурил, пригладил ладонью свои редкие волосы и уныло сказал:
— Значит, еще одна обуза мне на шею?
— Учение не обуза.
— Учение, конечно, дело хорошее… — И объездчик пустил к потолку колечко дыма. — Но вы не забыли анекдота про цыгана и его лошадь?
Реммельгас кивнул.
Питкасте хрипло рассмеялся, развеселившись при воспоминании о бестолковом цыгане, но потом вдруг помрачнел и, уставившись на носки своих начищенных сапог, спросил:
— Вы позволите мне, отщепенцу, дать вам один совет?
Реммельгас снова кивнул и приготовился слушать. В первые дни своего пребывания в Туликсааре он испытывал смущение при встречах с объездчиком. Ведь он, Реммельгас, занял пост Питкасте, и тот, вероятно, считает его виновником своего смещения. Но потом он убедился, что Питкасте удивительно безучастно относится к своему разжалованию в объездчики. Во всяком случае ни в его поведении, ни в словах не проявлялось обиды на Реммельгаса. Он никогда не пытался поучать или критиковать нового лесничего, занявшего его недавний пост. Тем большее любопытство разбирало теперь Реммельгаса.
— Воз мы везем немалый, — сказал Питкасте. — Подкладывать новый груз рискованно. Я еще раньше хотел вас спросить: куда вы так торопитесь? Человек не огонь, он свое дело делает не сразу, а постепенно. А вы? Хотите за одну весну все переиначить?
— Да уж очень многое тут не так.
— Вы имеете в виду разметку лесосек?
— Конечно. Вы ведь не станете меня уверять, что они размечены правильно и целесообразно?
Питкасте выудил из кармана длинный, выточенный из ясеня мундштук с причудливо выжженным узором и сунул в него окурок цигарки. Он явно медлил, чтобы обдумать ответ. Он взглянул из-под тяжелых век на Реммельгаса с какой-то загадочной пристальностью и в то же время нерешительностью.
— Конечно, работал я скверно, — заговорил он наконец, — но, может, имелись на то свои причины. Переплет и без того был сложный, так на кой черт я бы стал еще сам усложнять свою жизнь. Тише едешь — дальше будешь, говорит пословица. Человек не осел, чтоб только тащить и тащить… — Мысли его путались, речь спотыкалась, но, поскольку лесничий не высказывался, а выжидательно молчал, он, запинаясь, продолжал: — Не грешно и отдохнуть часок-другой, понежиться… Посидеть у радио… Или за стопкой водки…
Питкасте заерзал на стуле. Ему стало не по себе. И то сказать, он был серьезен уже целых пять минут подряд, что нисколько не было в характере этого человека, любившего скалить зубы после каждой фразы.
«К чему он клонит? — подумал Реммельгас. — Просто ли хочет оправдать свою лень, разводя всю эту философию, или в нем заговорила проснувшаяся совесть? А может быть, кто-то подослал его сюда из каких-то тайных соображений? Чушь, впрочем! — решил он тут же. — Кому это нужно?»
Так Реммельгас ни до чего и не додумался — загадка осталась загадкой. А все оттого, что он не потрудился поближе познакомиться со своими сотрудниками, с их мыслями, с их настроениями и взглядами. Он расспрашивал их о деревьях, о зверях, о жуках, о бабочках, но только не о них самих, словно людей можно было понять и раскусить с первого взгляда.
Почувствовав раскаяние, Реммельгас принялся осыпать Питкасте вопросами, в надежде, что тот приоткроет свою душу. Но объездчик тотчас насторожился и ощетинился, как еж. Он снова заговорил своим обычным тоном глумливого зубоскала. Вскоре разговор для обоих потерял всякий смысл, и они распрощались холодно, почти враждебно.
Когда Питкасте вышел на улицу, Реммельгас выглянул из-за гардины в окно. Объездчик стоял в грязи посреди дороги и поглядывал то в сторону лесопункта, то в сторону Мяннисалу, где был его дом. Он, казалось, взвешивал, куда идти. Затем, встряхнувшись и застегнув пальто, он направился в Мяннисалу, но не прошел и десяти шагов, как снова в нерешительности остановился. Постоял, подумал, потом яростно махнул рукой, повернулся и размашистым шагом направился в Куллиару.
Он уже скрылся из виду, а лесничий все еще стоял у окна, напряженно вглядываясь в ночное облачное небо — не прояснилось ли. Уже несколько дней лил непрерывный дождь, но, по правде сказать, лесничий думал не о непогоде, а о только что ушедшем госте. Чувствовалось, что за напускной бесшабашностью этот человек прячет свое душевное одиночество. Да-да, это самое одиночество и пригнало его сегодня сюда! Реммельгас не понял этого — потому-то Питкасте и приуныл настолько, что решил отправиться не домой, а в Куллиару, где был еще открыт бар. И все же то, что он зашел сегодня в лесничество, было хорошим признаком: значит, кое у кого тут уже возникло доверие к новичку Реммельгасу, значит, лед в отношении к нему местных жителей начал таять.
Это открытие настолько ободрило Реммельгаса, что, выступая на производственном совещании, состоявшемся несколько дней спустя (для местного лесничества оно было нововведением), он уже без особой тревоги отнесся к недоверчивости, написанной на лицах слушателей. А Нугис, лесник Сурру, так и сверлил его глазами из-под своих лохматых бровей.
Старик в самом деле был зол. Прежде всего потому, что до сих пор так и не удосужился хорошенько отчитать этого желторотого. А тот думает, что его еще не раскусили, и радуется, пускает пыль в глаза: на языке ничего, кроме заботы о лесе, а на уме только одно — как бы поскорей истребить этот самый лес. Хитрая штучка, его так просто, голыми руками не возьмешь.
И старик все больше мрачнел от своих мыслей, а лицо его становилось все непроницаемей.
Говорили о лесозаготовках. Уже несколько дней шел обложной дождь, все вокруг дымилось от серой мглы. Последние островки снега были слизаны водой, лишь кое-где еще звенела под лошадиными подковами уцелевшая под грязью наледь. Вывозку прекратили, и на делянках воцарилась тишина: лишь с придорожных складов доносилось гудение грузовиков, стук бревен и надсадные крики грузчиков, ожесточившихся от непогоды.
Реммельгаса прежде всего интересовало положение на лесосеках. Он требовал, чтобы все по очереди выступили и рассказали об этом. Задача оказалась не из легких: народ тут собрался непривычный к речам. Казалось бы, простое дело — сидеть на собрании, а с иного столько потов сходило, будто весь вечер мешки на себе таскал.
Питкасте не чаял дождаться, когда кончат его расспрашивать. Он то вытягивал, то прятал под стул свои длинные ноги и все потирал ворсистым верхом большой фуражки свои свежевыбритые щеки. Но лесничий не знал снисхождения.
— Дальше! Дальше! — наседал он.
— Дальше? — проворчал Питкасте, лицо которого раскраснелось, словно после бани. — Спросите у Осмуса, он начальник лесопункта, а не я.
— Считаете, что объездчику все равно, сколько еще спиленной древесины осталось в лесу?
— Конечно. Она ведь уже не наша, а лесопунктовская, чего же нам соваться не в свое дело?
И, разведя руками, Питкасте беспомощно посмотрел на лесников. Но у каждого была своя забота: вспомнить, каково положение в собственном обходе. К каждому мог внезапно обратиться новый лесничий, и, чтоб не попасть впросак, следовало быть готовым к этому. Поэтому Питкасте предоставили выкарабкиваться одному, а он не знал, как это сделать. Наконец, почувствовав, что пауза слишком затянулась и что надо же что-то сказать, он промямлил:
— Во всяком случае делянка номер сто двадцать шесть очищена…
— Очищена? — И Реммельгас взглянул на него в упор.
— Осмус сказал, что да.
Нугис громко засопел. Ему припомнился ряд неприятностей, связанных с делянкой № 126. Он возражал против ее порубки — ельник там был слишком молодой. Но в его обходе эта делянка была самой близкой от дороги и поэтому пошла под топор. Браковщиком на том участке работает один кулацкий сынок. Чтобы не быть отправленным на лесозаготовки, он поступил на службу в лесопункт. Такому безразлично, ошкурены пни или нет. Плевать ему и на то, скоро ли вывезут лес или не скоро, — сколько ни проси его побыстрей прислать возчиков, он и не почешется. В конце концов Нугис пожаловался Киркме, и возчики ненадолго появились, но вскоре все, как один, исчезли, оставив после себя вырубку еще в большем беспорядке, чем прежде.
От Реммельгаса не ускользнуло угрюмое внимание Нугиса к затронутому вопросу, и он обратился к нему:
— Так ли, товарищ Нугис?
Лесник заколебался. Как ответить? Если сказать, что все это болтовня, что вырубка захламлена и засорена, не прозвучат ли его слова как жалоба на объездчика, на прежнего лесничего. Не придаст ли Реммельгас слишком большого значения какой-нибудь оставшейся в лесу чурке? Вот попал в беду, словно козел между двух стогов! Ведь как ни зол он был на Питкасте за его нерадение к своему делу, за склонность к пьянству, на нового лесничего он был зол еще больше. И старик пробормотал:
— Раз объездчик говорит, что делянка убрана…
Реммельгас оборвал его:
— Когда вы в последний раз там были?
— Позавчера.
Почему-то он смотрел не на Нугиса, а чуть повыше его, на стену. «Что за штука, — подумал старик, — что он там разглядывает? Да еще так старательно?»
— Оглянитесь-ка назад, — сказал Реммельгас и показал рукой на стену.
Нугис попытался, но ничего не увидел, и ему пришлось встать. Он встал. Прямо перед ним висело большое изображение жука с толстой головой.
— Ну и что же? — буркнул Нугис.
— Узнаете?
— Еще бы! Я, слава богу, лесник, а не моряк, чтоб короеда не узнать.
— Обиделись?
Синие глаза Реммельгаса смотрели на него весело, так весело, что старик вконец возмутился. Так и сказал бы этому мальчишке что-нибудь покрепче, если б нашел сразу подходящее слово. Он даже сесть забыл — до того ему хотелось придумать что-нибудь поядовитее.
— Вы слишком торопитесь, — продолжал лесничий. — Торопитесь обидеться. Однако сядьте…
Нугис опустился на стул, чтоб миг спустя снова подняться. Он притворился, что еще раз изучает жука. Он видел плакат бесчисленное множество раз, точно такой же висел в его комнате на стене, но ведь лесник Нугис не какой-нибудь школьник, который встает и садится по команде.
— Вывозку со сто двадцать шестой делянки действительно прекратили, — продолжал Реммельгас, — но только для того, чтобы послать лошадей на более близкие участки. Сто двадцать шестая завалена кругляками, ведь вам это известно, товарищ Нугис? Конечно, известно!
Лесник почувствовал себя, как провинившийся школьник. Но прежде, чем он успел что-либо сказать, Реммельгас уже задал новый вопрос:
— Пространство между Куллиару и Люмату относится к вашему обходу?
— Да…
— Почему там в прошлом году не провели санитарной рубки ухода?
Питкасте понял, что это опять камешек в его огород, и счел нужным заявить:
— Кто стал бы покупать и вывозить лес из этих трущоб? И стоит ли говорить о каких-то высохших да корявых соснах и елках? Пусть их еще постоят.
Нугис уселся. Как быть, что сказать? Говорить ли о том, что он тысячу раз напоминал Питкасте о рубках ухода, пока тот не затопал на него однажды ногами: «Отстанешь ты от меня или нет?» Бывало, он, Нугис, отдерет у себя в лесу истлевшую кору с какого-нибудь сухостоя и найдет вдруг аккуратный, словно по рисунку выточенный узор короеда. Сердце кровью обольется, как на такое посмотришь. Ведь эта дрянь так быстро плодится и распространяется, столько деревьев губит! Только пусть Реммельгас, лиса этакая, к нему не подделывается. Знает он, что у него на уме. Боится, хитрец, выложить в открытую свой истребительный план, вот и кружит все вокруг да около. Но его, Нугиса, на этом не проведешь, не на таковского напал!
— Давно вы в лесниках, товарищ Нугис?
— Сорок один год.
— И все это время были здесь?
— Да, здесь, в Сурру. — И про себя: «Да, да, почти два твоих века, так что не тебе меня учить».
— Сорок один год! — Реммельгас поднялся. Одет он был в серый костюм с брюками навыпуск. Нугис не испытывал особого уважения к человеку, который расхаживал по лесничеству в отглаженных брюках и начищенных до блеска ботинках. Простые галифе и пара добрых сапог — вот наряд для леса.
— Сорок один год! — Реммельгас обошел вокруг стола. — Да тут познакомишься с каждым деревом, с каждым кустом, с каждым камнем, всех зверей и то будешь знать наперечет.
— Нугис пройдет осенней ночью по своему лесу, как по дому, — сказал лесник из Кюдемы, Карл Килькман, сидевший в углу между окном и шкафом.
— Если человек так знает лес, то и любит. А если любит, то и бережет.
И почему-то взгляд Реммельгаса стал при этих словах грустным. Люди зашевелились: видно, их озадачил вид лесничего, словно вдруг постаревшего у них на глазах. А Нугис подумал, что самое время теперь сказать бы: «Да что ты, чернильная душа, знаешь о лесах, да о любви к ним?» Но, опять не набравшись решимости, только яростно подкрутил кверху усы — сначала один ус, потом другой.
— Лесники не садовники, чтоб эти нежности разводить, — фыркнул круглолицый Антс Тюур и зевнул. Ему было скучно. Вот морока: сидеть два часа подряд в натопленной комнате и говорить только о деревьях, о жуках, о пнях да о пропсах! Он был самым молодым тут, послевоенным лесником. Болтать он мог часами, все равно о чем, но только не о лесе. Тюура не любили, он оставался в среде лесников на отшибе, совсем как его участок Кулли, расположенный далеко за станцией Куллиару. Он отличался вспыльчивостью и взбалмошностью, быстро выходил из себя, после чего узко сощуривал глаза и цедил сквозь зубы: «Ах, вот как?» Среди туликсаареских лесников не было охотников до драки, и с Тюуром старались по возможности не связываться.
Заметив, как люди с досадой покосились на Тюура, Реммельгас решил не оставлять без ответа его ядовитую реплику.
— Что ж, товарищ Тюур нашел подходящее сравнение — мы вроде садовников. Какое большое богатство отдано под наше попечение! Каждое бессмысленно уничтоженное дерево — это расхищение народного достояния, а каждое невыращенное дерево — грабеж. А что делаем мы? В Кюдема валяются на старых складах неошкуренные кругляки. На многих делянках, где уже давно закончены работы, та же картина. Короеды не могут и пожелать лучшего корма! И во многих местах нашего лесничества выращивают вредителей, — занимаются этим в нынешнем году и на делянке сто двадцать шесть. В лесах около Люмату полно сухостоя и бурелома, большая часть леса за весь свой век не видела рубок ухода. Хвойка сожрала прошлой весной на участке Кулли половину посаженных культур…
— А что я мог сделать? — Антс Тюур мотнул головой и добавил шутливо: — Если бы эти чертовы хвойки были величиной с воробьев, тогда дело другое — бери ружье и пали в них…
Питкасте прыснул, но Нугис, наклонившийся вперед и приставивший к уху ладонь, чтоб лучше слышать, сердито цыкнул. «Откуда лесничий все так хорошо знает? — удивился он. — Прожил тут всего-навсего четыре недели, а говорит так, будто четвертый год тут находится. Ведь все верно». Нугис забыл об усах и даже о своем намерении поддеть лесничего. Слова последнего забрали его за живое, и он сердито взглянул на Тюура, чтоб тот замолчал.
— Нет, если бы хвойки были величиной и с ворону, даже тогда товарищ Тюур их не заметил бы, так мало он интересуется своим лесом! — решительно сказал Реммельгас, и на лицах отразилось одобрение. — А если товарищ Тюур не справился с охраной культур в прошлом году, когда по всему лесничеству было посажено всего лишь двадцать гектаров, то как он думает это сделать в нынешнем году, когда мы будем сажать и сеять по крайней мере в шесть раз больше?
— В шесть раз больше! — воскликнул Нугис так громко, что тут же смутился. Они и двадцать-то гектаров считали рекордом, гордились и радовались тому, что превысили план на пять гектаров, а тут приходит юнец, только что выпущенный из школы, и говорит как о самой обыкновенной вещи: сто двадцать гектаров.
— Сказки! — пренебрежительно бросил Тюур.
Питкасте даже рот раскрыл. Он помнил, что в нынешнем году план увеличили, но ведь речь шла всего о шестидесяти гектарах. Он не знал, что Реммельгас уже несколько раз ездил в лесхоз и без конца торговался за увеличение плана, пока наконец там не вняли его обоснованным доводам и не согласились пойти ему навстречу. Поначалу к нему отнеслись в лесхозе как к ненормальному: там привыкли к обратному — к тому, что люди старались выторговать себе сокращение плана посадок. Но в конце концов в лесхозе рассудили, что раз Реммельгас так настаивает, то бог с ним, тем более что благодаря ему лесхоз тоже перевыполнит свой план.
— На всех делянках, значит, понатыкаем хлыстиков! — и Килькман двинул соседа в бок.
— На всех мы пока не сумеем, но большинство вырубок засадим. Начиная с будущего года мы начнем сеять и сажать культуры на всех вырубленных делянках. Мы ничего больше не будем предоставлять в лесу воле случая.
Нугис решил использовать небольшую паузу в речи лесничего и сказал:
— А как будет в Сурру?
— Вы о чем?
— О посадках. Сколько будем сажать и сеять?
Лесничий хитро улыбнулся.
— А сколько бы вы хотели?
Нугису не пришлось думать и вычислять, он точно знал, сколько на его участке незасаженных вырубок. В суррускую чащу нелегко было заманить людей. Питкасте считал, что в тамошних зарослях лес возобновляется естественным путем, и поэтому Сурру почти целиком было предоставлено самому себе да старому Нугису.
— Двадцать гектаров, — сказал он не раздумывая.
— А почему не в объеме всех заброшенных вырубок?
— Всех их и будет двадцать гектаров.
— Двадцать? — Реммельгас подошел к столу и раскрыл толстую книгу. — Должно быть больше.
— Нет, — ответил Нугис и посмотрел в землю. Лесничий, конечно, ему не поверит, у него другие, неверные данные, но Нугиса и насильно не заставили бы объяснять перед всеми, каково на самом деле положение в Сурру. К тому же Питкасте поспешил тут изложить свою теорию естественного прироста.
— Ведь в иных местах лес возобновляется естественным путем. Особенно проворно размножается сосна, то же можно сказать о ели и березе…
— Вы забываете об иве и ольхе, которые размножаются еще быстрее и глушат остальной молодняк.
Снаружи послышалось громкое «тпру!» Нугис угрюмо заворчал — как раз тогда, когда разговор подошел к самому важному и увлекательному, обязательно кто-то должен помешать! Он выглянул в окно и совсем помрачнел. На сегодня серьезный разговор окончен, теперь только и услышишь, что о рубке да пилке, а настоящим лесовикам хоть уши затыкать впору.
— И чего он сюда притащился? — пробормотал он.
А Питкасте воскликнул:
— Ах, черт, поздно приехал! Хотел бы я на него посмотреть во время Реммельгасовой проповеди!
И, предвкушая развлечение, Питкасте с откровенным торжеством уставился на дверь: дескать, посмотрим, на какой лад теперь запоют эти двое.
Осмус приехал на легких дрожках. Гнедой жеребец в упряжке был чистый огонь. Хозяин одергивал и улещивал коня, привязывая его к коновязи, но тот расшвыривал копытами гравий и протяжно, заливисто ржал. Конь был настолько горячий, что использовать его как тягловую силу не представлялось возможным, и потому Осмус взял его в свое личное пользование. «Надо прогуливать скотину», — говаривал он, и на это было трудно что-нибудь возразить.
Заведующий лесопунктом ввалился в дверь, и на всех повеяло дождем и прохладой. На нем был блестящий плащ и высокие резиновые сапоги. Стряхнув воду с клеенчатого капюшона, он развел руками и с удивлением воскликнул:
— Похоже, что я попал на собрание?
Лесничий шагнул к нему навстречу. Они виделись впервые, и все же Осмус показался Реммельгасу старым знакомым: именно таким — крепким, шумным, энергичным — он и представлял себе заведующего Куллиаруским лесопунктом. Он протянул Осмусу руку:
— Очевидно, товарищ Осмус? Здравствуйте, я — Реммельгас. У нас действительно собрание, но поскольку разговариваем мы о лесе, то прошу садиться.
— Я помешаю…
— Нет-нет, мы прекратим обсуждение своих вопросов и перейдем к тем, которые касаются и вас, к плану расположения делянок на следующую зиму.
«Каков ловкач! Вот почему он мне вчера сказал: „По телефону договориться трудно, лучше зайдите завтра в лесничество!“ Выходит, его просто заманили в ловушку. Хотя, впрочем, лесничий предлагал зайти вечером. Это он сам решил заскочить по дороге. Вот и попался! Разве поговоришь начистоту в присутствии всех этих лешаков? Пожалуй, лучше отложить разговор», — подумал Осмус и сказал:
— До следующего сезона еще немалый срок. Этот-то еще не кончился…
— Но лесосеки надо размечать уже сейчас.
Осмус опять уклонился.
— Правильная разметка лесосек — это вопрос серьезный. Поэтому, я думаю, будет лучше, если до вынесения проблемы на собрание мы проработаем ее сначала вдвоем.
— И для начала несколько умов лучше, чем два…
Осмус повесил плащ на гвоздь рядом с дверью, поставил у стола, перед сидевшими в ряд лесниками, стул и сел на него. Оперся локтем на стол, окутал себя облаком папиросного дыма и застыл в ожидании. Реммельгас, не торопясь, убрал со стола какие-то бумаги. Все молчали, чувствуя, что атмосфера в конторе накалилась и наэлектризовалась, как перед грозой. Старый Нугис прикусил ус и, не шевелясь, ждал, что произойдет. Ему не нравился Осмус, этот король пней, но он все-таки был видным и важным человеком, — как говорили, слава о нем гремела далеко за пределами Куллиару. А тут вдруг появляется никому не известный парень, который и слушать его не хочет. Отчаянный он, Реммельгас, и, что скрывать, Нугису его отчаянность нравилась. Но все же не следует этим обольщаться, не следует забывать о его главных, истребительных целях. Поет-то он об охране леса сладко, да вся беда в том, что у самого топор за поясом. И, если разобраться, ничего в нем хорошего нет — обыкновенный краснобай и любитель порисоваться!
Реммельгас сказал, все еще роясь в своих бумагах:
— Товарищ Осмус, лесники жалуются, что лесосеки и складочные площадки плохо убраны: многие пни не ошкурены, на земле валяются пропсы, слеги, щепа.
Осмус резко обернулся к Реммельгасу.
— Так вы меня на суд вызвали? А я не знал и не подготовился к защите.
— Да никакой тут не суд, просто нам нужно поговорить по-товарищески о наших общих заботах. Вот и хотим от вас узнать, каково положение на делянках и складочных площадках.
— Надо думать, нормальное, раз ни от кого нет жалоб.
— Ах, вот как?
Реммельгас увидел, что лесники многозначительно переглядываются.
— Как же это нет жалоб? — выпалил вдруг толстяк Килькман. — Да мы не отстаем от браковщиков, только толку пока нет. Я и к вам самому обращался.
Осмус пожал плечом.
— Может быть. Дел у меня немало, всех мелочей не упомнишь. Распоряжение было отдано, но разве мыслимо уследить за каждым шагом возчиков и лесорубов. Не забывайте, что они работают по договорам. Если станешь их чересчур приневоливать, они сложат свой инструмент — и только мы их и видели.
— Это, разумеется, преувеличение, — спокойно возразил Реммельгас. — Каждый должен понять, что мы требуем окорки пней и чистоты на делянках не из блажи, а из желания сберечь лес. Добиться порядка необходимо. Первое мая не за горами, и весь материал, который к этому времени останется неошкуренным, будет конфискован у лесопункта.
Осмус открыл рот и, не произнеся ни звука, опять закрыл. Он понял, что на этот раз лучше сдержаться и промолчать, что пни и слеги это лишь цветочки, а главные неприятности еще впереди. Человек мудрый уступает в пустяках, чтобы отстоять основное. Хорошо, он пошлет своих рабочих на уборку. Дня за два они управятся с этой ерундой.
Он улыбнулся и величественно кивнул: дескать, ладно, мы не мелочные, и можем признать, что со своей точки зрения вы, пожалуй, и правы.
— Значит, договорились? — обрадовался Реммельгас. — Что ж, иначе и не могло быть: ведь цель-то у нас одна. Убежден, что вы не станете спорить и с кое-какими изменениями в планировке лесосек. Пора нам наконец отодвинуть их подальше от дорог и полей, перенести в глубь леса, туда, где ждут нас огромные нетронутые запасы.
Все ожидали этих слов, и все же в комнате стало так тихо, что люди услышали, как шевелятся какие-то жучки в спичечных коробках на столе Реммельгаса, как лошадь на улице с хрустом жует сено и звякает уздечкой, как поднявшийся ветер посвистывает в голых кустах сирени.
— Ну, Осмус, разве я не говорил тебе? — шепнул Питкасте. — В самый раз тебе спеть: «Ох, трудны мои денечки!..»
Осмус поднялся. Он тоже ждал этого разговора и подготовил свои возражения. Не впервой ему было уговаривать людей и добиваться от них своего. Слава богу, у него всегда хватало влиятельности, чтоб скрутить любого. Но этот юнец выбил-таки у него из-под ног почву. Как-то противно себя чувствуешь под взглядами этих любопытствующих и злорадствующих лесников. И почему-то все заранее придуманные доводы разлетелись по сторонам, как испуганные тетерки.
Опершись обеими руками о стол, он сказал таким тихим, необычным для себя голосом:
— Еще раз предлагаю, товарищ Реммельгас, сначала обсудить этот вопрос вдвоем, обсудить основательно и по-деловому…
— Но почему? Мой план ясен, понятен, прост. Правда, от нас, работников лесничества, он потребует дополнительных усилий, ведь нам придется делать всю уже проделанную работу заново: ходить по лесу, размечать, оценивать. Но мы с этим справимся.
— А почему не примириться с планировкой Питкасте? За один год ничего не случится. — На лбу Осмуса вздулись жилы, нелегко ему было столько времени себя обуздывать. — Зачем вам все эти дополнительные хлопоты, о которых вы говорите? Лес не заяц, он от нас не убежит, еще успеем снять его и у Кяанис-озера, и на Каарнамяэ. К чему спешить с новшествами?
И, вновь обретя уверенность, Осмус улыбнулся и добавил как бы вскользь:
— Слава тоже не заяц, не убежит и она.
Реммельгас сделал вид, что не заметил этой шпильки, — не хватало еще в присутствии стольких людей обмениваться колкостями. Обойдя стол, он подошел к окну, поднял штору и, отступив в сторону, сказал:
— Поглядите на улицу, товарищ Осмус, что вы там видите?
Осмус почуял подвох, но в чем он заключался, не понял. И, пожав плечами, равнодушно бросил:
— Ничего.
— Посмотрите внимательно.
Осмус приблизился к окну. Жеребец бил копытом землю и топтал вожжи — следовало бы пойти и поднять их… Но что же имеет в виду Реммельгас? Торчат кусты сирени и жасмина. Уже прояснилось. В облаках появились разрывы, в которых видны кусочки светло-синего неба. Жаворонок, словно кем-то подброшенный, отвесно взмыл вверх и пронзительно зазвенел.
Осмус перевел взгляд дальше и вдруг понял, что имеет в виду Реммельгас: он увидел дорогу, огибавшую лесничество, а за дорогой огромную бескрайнюю пустошь. Хотя конца ее не было видно, Осмус знал, что она доходила до самой железной дороги и даже продолжалась по ту сторону. Всюду, куда хватал взгляд, почти ничего, кроме пней. Правда, одинокие елочки, придавленные когда-то при валке леса, уже выпрямились и расправили ветки, но более поздний молодняк, посеянный ветром, безжалостно заглушался бурно разросшимся ивняком и ольшаником.
— Так скажите нам, что вы видите, — вновь насел Реммельгас.
— Вырубку, — буркнул Осмус, разозлясь на то, что позволил лесничему подловить себя.
— Тут была прекрасная роща.
— Ее вырубили уже в сорок четвертом году, я тогда еще не заведовал лесопунктом, — поспешно возразил Осмус.
— Знаю. Но на другой год и на третий вырубка продолжала расти. Рубили все подряд, пока не добрались до незрелого леса. Впрочем, и тут не остановились, пошли напрямик дальше. А в то же самое время в более далеких местах, например, в Сурру, гнили от старости целые кварталы хорошего леса. Находились они далеко, где работать неудобно, и потому в Куллиару предпочитали придерживаться старой системы, порожденной послевоенными трудностями: брать лес там, где и валить его легче и вывозить удобней, — у самых дорог. Обыкновение это прочно утвердилось в Куллиару. Лес, разумеется, растет для того, чтобы им пользовались, — это верно, но не для того, чтоб его истребляли. А как еще прикажете назвать такую систему заготовок?
Реммельгас опустил штору и с облегчением перевел дух: наконец-то все было сказано. И, подойдя к столу, он оглядел присутствующих — как они отнеслись к его словам?
И тут вдруг старый Нугис громко крикнул:
— Это верно! — Обычно Нугис редко высказывался, если к нему не обращались. А теперь он даже добавил: — И носа не хочется высовывать из Сурру, кругом только пни да пни!
Все с удивлением уставились на старика, а маленький круглый Килькман вскочил со стула и, неизвестно кому и за что грозя пальцем, воскликнул:
— Я уж и не помню, когда была последняя порядочная зима. А когда леса были целыми, то снегу наваливало столько, что по брюхо в него проваливались.
Раздались сочувственные возгласы. Никто не одобрял придорожных вырубок. Даже Питкасте шумно потянул носом и, округлив удивленные глаза, простодушно заявил:
— В самом деле, товарищи, что же получается? Ведь лес нам не враг, а друг!
Это было так забавно, что раздался дружный смех. Реммельгасу тоже стало весело, и он с признательностью посмотрел на лесников: хороший же они народ! Стараясь скрыть свою растроганность, он обратился к Осмусу:
— Свое отношение к новому плану лесники уже высказали. А каково ваше мнение, товарищ Осмус?
Осмус зачем-то расстегнул, а потом опять застегнул пуговицу на пиджаке. С виду он казался холодным и равнодушным, но в душе весь кипел от ярости. Впрочем, не следовало выдавать своих чувств.
— Вы вступили на опасный путь, товарищ Реммельгас, — сказал он снисходительным тоном. — Вы обвинили меня в том, что лес рубят не так. Нельзя, однако, забывать одно немаловажное обстоятельство, а именно то, что не мною составляются планы лесозаготовок. Я такой же служащий, как вы, и следую указаниям, полученным мной от правительства. Мы советские люди, и у нас должна быть одна и та же цель: больше стройматериалов, больше топлива, больше шпал, больше крепежного леса!..
— Кто против этого спорит! — воскликнул Реммельгас. — Планы лесозаготовок, разумеется, следует выполнять, но как? Вот в чем вопрос. Гитлеровцы истребляли леса у дорог, сохраняя и в этом верность своим разбойничьим принципам. Они нанесли нам огромный ущерб, и нужно возместить его, а не усугублять, как мы это делаем в Куллиару. Нужно в корне изменить существующую практику. К этому-то я и призываю, предлагая перевести район заготовок подальше от дорог в вековые леса.
— Не пойму, куда же? — пробормотал Осмус, хотя сразу же догадался, о каком месте идет речь, и задал вопрос только для выигрыша времени.
Реммельгас встал и подошел к карте лесничества, висевшей за его спиной на стене.
— Главный район мы перенесем сюда.
Отыскав Сурру, карандаш Реммельгаса обвел широким кругом холмы Каарнамяэ, а оттуда двинулся к чащам Кяанис-озера и Люмату. Отметив эти места, карандаш оторвался от карты, перемахнул через коричневое пятно болота и уперся в конец его извилистого выступа, врезавшегося в кюдемаский лес.
— Стало быть… сурруские ельники! — ахнул Нугис.
Все молчали, как бы собираясь с мыслями. Все понимали, что означает простая фраза: мы перенесем район работ в Сурру. Многие тут бывали и на Люмату, и в дивном лесу на холмах Каарнамяэ. Пожалуй, один Тюур никогда туда не заглядывал. И ему уже давно прискучил этот непонятный спор.
— Каарнамяэ — так Каарнамяэ! — крикнул он раздраженно. — По мне, один черт, где будут пилить. Есть из-за чего голову ломать!
— Что ты несешь? — укоризненно оборвал его Килькман, но Тюур с видом полного пренебрежения повернулся к нему спиной. Все выжидающе глядели на Осмуса — что он скажет? Нелегко ему будет раскусить тот орешек, которым угостил его Реммельгас. Все это хорошо понимали, не первый день в лесниках служили.
Внимание всех этих плохо знакомых ему людей злило Осмуса. Уж он им всем показал бы, зайди такой разговор у него на лесопункте. В пух и прах бы разнес. А здесь, пожалуй, из этого ничего не выйдет: похоже, что Реммельгаса криком не проймешь, уж очень он уверен в себе, уж очень решителен. Нет, с ним воли нервам давать нельзя — придется строго держаться делового тона. И он наконец заговорил, но, господи, как бессвязно и неуверенно!..
— Лес у Каарнамяэ и… Кяанис-озера… расположен за… совершенно непроезжими топями… за непроходимыми чащами..
— Это верно, работать в том районе труднее…
— Мало того что труднее, оттуда ведь… невозможно вывезти лес!
— Для нас, как вы сами сказали, советских людей, возможно и большее.
Питкасте прикрыл рот ладонью, чтоб скрыть усмешку.
— Вот будет весело, когда крестьяне об этом узнают!
— Крестьяне поймут, когда мы объясним, в чем дело.
— Но я не пойму! — взорвался наконец Осмус — он больше не мог себя сдерживать. — Мой лесопункт дал в прошлом году сто двенадцать процентов, он был лучшим в уезде. В этом году мы дойдем до ста двадцати пяти, а в будущем — обязуемся дать сто тридцать. А тут появляетесь вы, одержимый какими-то учеными идеями, далекими от жизни, и хотите все перевернуть шиворот-навыворот!
— Ведь ваш лесопункт заготовляет лес не только в Туликсааре. А поскольку в других лесничествах все останется по-старому, для вас не очень многое изменится, — робко заметил Килькман.
— Нет, многое. Наибольшее количество материала мы заготовляем именно в Туликсааре. И если тут нам отведут делянки где-то у черта на рогах, то выполнению плана будет нанесен такой удар, после которого нам не устоять.
— Но мы должны добиваться разумного и целесообразного использования леса.
— Вы должны гнать из леса воров и заниматься своими посадками.
— Ого! — вырвалось у Килькмана, и глаза его недобро сверкнули.
— Не беспокойтесь, будем заниматься и этим. — Реммельгас посмотрел на побагровевшего Осмуса. — Но с лесосеками будет так, как я сказал.
— Значит, вы хотите уничтожить Осмуса, заведующего Куллиаруским лесопунктом?
— Ив мыслях такого не было.
— Так зачем же вы заладили — «Каарнамяэ» да «Каарнамяэ»? Бросьте вы эти бредни, от души вам советую, как старый, опытный работник. В лес, конечно, надо углубляться, но не так, а постепенно, год за годом.
— Неверно!
Осмус взмахнул кулаком, чтобы стукнуть по столу, но вместо этого почесал подбородок. Так хотелось выругаться, но пришлось опять сдержаться. Сейчас горячиться — только на смех себя поднимать. Он смерил взглядом стоявшего рядом человека и, несмотря на раздражение, даже злобу, в нем проснулось невольное восхищение: такой щупленький паренек — из Осмуса двух таких можно сделать, — но вы посмотрите, какая у него независимая поза! Будто полмира ему подвластно! Нет, сейчас его не сломить, это ясно, — молодой человек хочет понравиться своим подчиненным, покрасоваться перед ними. Что ж, пускай роль победителя останется за ним, для пользы дела можно пойти на временную уступку.
— Извините меня, — сказал он сдержанным, примирительным тоном, — я слишком погорячился… Кстати, тут в комнате очень жарко… Сегодня был поднят сложный комплекс вопросов, которые следует спокойно, всесторонне обдумать и неторопливо обсудить. Договоримся, что на днях я к вам зайду и тогда мы решим…
— Зайти вы можете в любое время. Сотрудничество — дело хорошее, и нам многое нужно обсудить. В частности, то, как приступить к работам на Каарнамяэ.
Это уже было бесстыдством! Подобного оскорбления начальнику лесопункта еще не наносили. Нет, надо поскорей бежать отсюда, а то еще минута — и он начнет тут орать не своим голосом. Хватит, он и так уже столько времени крепился, не давал себе разойтись, его терпение вот-вот лопнет.
Резким рывком Осмус натянул плащ, даже затрещавший в швах от такого обращения.
— Вы, однако, ревностны, — сказал Осмус, принудив себя вполне дружески улыбнуться и протянуть руку Реммельгасу. — Если вы к тому же и рассудительны, то это совсем хорошо. Будьте уверены, я приложу все усилия, чтобы между Куллиаруским лесопунктом и Туликсаареским лесничеством сохранилось прежнее взаимопонимание.
Реммельгас догадался, что под взаимопониманием Осмус имеет в виду нечто другое, чем он сам, но решил этого не уточнять.
— Да, да, мы должны действовать согласованно!
Так они и расстались. Остальным Осмус только кивнул на прощанье. Жеребец приветствовал его звонким ржанием. Пока Осмус, чертыхаясь, распутывал вожжи, застоявшийся конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу. В конце концов Осмус вытянул его по спине вожжами, сорвав свое долго сдерживаемое раздражение. После этого он вскочил в дрожки, и жеребец, закинув назад голову, вихрем умчал его с глаз людей, смотревших в окно.
Реммельгас занялся уборкой бумаг на столе. Он отлично понимал, в каком состоянии ушел Осмус, — улыбки его не обманули. Не такой, видно, это был человек, который способен отступиться во имя чужих интересов от того, что забрал в голову. И похоже, что понурившиеся лесники, достаточно хорошо знакомые с Осмусом, понимали это еще лучше.
— Вот вы и нажили себе врага, — с глубоким вздохом сказал Килькман.
Даже Питкасте, всегда такой легкомысленный, и тот, помрачнев, сказал не без сочувствия:
— Да, теперь уж одно из двух: или вам придется отказаться от того, чтоб ломиться в Сурру, или Осмус вышибет вас из Туликсааре.
Тут вдруг старый Нугис почему-то вскочил.
— И что вам далось мое Сурру? — хрипло произнес он, и усы его задрожали. — Поперек дороги вам встало, что ли?
Вспышка старого лесника была настолько неожиданной, что Реммельгас совершенно опешил. Питкасте нашел положение забавным и, хотя он знал Нугиса, хотя понимал, чем вызваны его слова, все же не удержался от того, чтобы не подсыпать в суп перца:
— Работы старина испугался. А может, и за доченьку встревожился.
К счастью, Нугис этого и не услышал.
— Ведь лес-то в Сурру какой! Нетронутый, могучий… А вы по нему прогуляетесь — и одни пустоши да вырубки после вас останутся… Сорок лет… сорок…
В горле у старика защипало, что-то сдавило грудь, и, неспособный больше что-либо сказать, он напялил на голову потертую шапку, нашел ощупью ручку двери, выскочил в сени, и с крыльца донеслись его гулкие шаги. Выглянувший в окно Питкасте сообщил, что старый чудак так понесся домой, словно сам Вельзевул сидел у него на пятках.
— Отчего это он так? — Реммельгас переводил взгляд с одного на другого. — Куда он убежал? Почему?
— Почему? — откликнулся Питкасте. — Да потому что жил он себе спокойно, а теперь будет у него столько хлопот, и все из-за вас!
— Не напускай туману! — оборвал его Килькман. — Старый Нугис бережет свой лес, гордится им, вроде как, скажем, крестьянин уродившимся хлебом. И есть чем! Всякий знает, какой в Сурру лес. Может, во всей республике другого такого нет. Каково ему было слышать, что в нынешнем году начнут пилить ели на Каарнамяэ да березы с осинами у Кяанис-озера? Вы это как бы между прочим сказали, а я поглядел сбоку на Нугиса: такое у него лицо было, будто его на кусочки режут, а кричать нельзя.
Реммельгасу стало стыдно из-за того, что он едва было не поверил Питкасте. Как же он, лесовик, не понял лесовика, весь век прожившего в своем Сурру, сроднившегося навсегда чуть ли не с каждой елью да сосной, чуть ли не с каждой березой да осиной, чуть ли не с каждым дубом да ясенем? С таким человеком ему бы и сойтись прежде всего, они быстро поняли бы друг друга! Реммельгас улыбнулся.
— Вот ведь недоразумение, товарищи! Но не беда, я все объясню старому колдуну, как вы его называете. А теперь давайте подведем итоги всем нашим сегодняшним разговорам. Думаю, что мы тут же сможем взять на себя достаточно конкретные обязательства.
И повеселевшим голосом он начал зачитывать график работ с обозначением сроков, к каким надо было убрать вырубки и складочные площадки, пронумеровать деревья на участках, которые надо проредить, подготовиться к весенним лесопосадкам и произвести разметку и таксацию новых лесосек.
Питкасте наклонился к Тюуру и шепнул:
— Едва ли все это осилить.
Тот буркнул:
— Теперь с лесников десять шкур сдерут.
Но одобрительный гул покрыл их голоса. Зачитанный график перечислял почти все те работы, о которых лесники так часто говорили и еще чаще думали про себя. О том, что всем теперь придется трудиться больше, чем прежде, никто и не вспомнил. Но даже если бы они и вспомнили об этом, это все равно не помешало бы им с таким же единодушием, как теперь, поднять руки за то, чтобы зачитанный план получил силу закона.
Собрание закончилось. Питкасте поинтересовался, не поедет ли кто в сторону Куллиару: ведь столько тут просидели, что горло совсем пересохло. Но люди уклончиво отводили взгляд — мысли всех еще были заняты только что услышанным.
Килькман замешкался дольше других. Он уже переступил было через порог, но вернулся и, вертя в руках шапку, остановился у двери. Килькман, лесник из Кюдемы, был человеком решительным, голова у него работала быстро, и потому Реммельгас не мог понять, с чего это он мнется.
Килькман подошел к нему. И без того полный да невысокий, в своем зеленом ватнике он казался совсем круглым. Человек этот с самого начала обратил на себя внимание Реммельгаса своей исполнительностью и аккуратностью. Свой обход он изучил до последнего вершка и мог всегда, не заглядывая в записи, безошибочно сказать, когда где сняли, где посадили лес, сколько лет тому березнику за колхозным пастбищем и сколько тому сосняку в самом конце Туликсааре.
Сейчас у него был такой вид, словно он что-то забыл и не мог вспомнить. В конце концов Реммельгас решил ему помочь.
— Видно вас что-то заботит?
Килькман кивнул.
— Может, не стоило бы говорить, — протянул он, глядя на потолок, — лесничий и сам об этом знает лучше меня…
— О чем же, интересно?
— Сейчас скажу. Ведь когда затеваешь какое-то дело, приходится считаться с тем, что может быть и неудача. Верно?
Увидев, что Реммельгас кивнул, лесник продолжал:
— Потому я и начал этот разговор. Вы не сердитесь. Но скажите… вы уже ходили на Каарнамяэ?
— Еще нет.
— Да, сейчас туда не так-то просто пройти. Чаща да топь, волку и то не пробраться.
— Но ведь Нугис-то пришел сегодня оттуда?
— Пришел. По дороге он всегда заходит к Питкасте в Мяннисалу, меняет мокрые резиновые сапоги, в которых выбирается из лесу, на кожаные. Пойма у реки Куллиару почти никогда не промерзает до дна. Разве что в сильные морозы, да и то на месяц, на два. Вот мне и подумалось: а вдруг Осмус прав насчет того, что лес оттуда никак не вывезти?
Реммельгас даже растерялся. Он никак не ожидал, что Килькман, уже показавший себя ревностным защитником леса, вдруг встанет на сторону Осмуса. Килькман заметил его растерянность и поспешил объяснить:
— План-то ваш очень правильный, с этим я не спорю. Лесосеки размечали у нас не так, как полагается, а как было выгодно Осмусу. Человек он ловкий и добивался от лесничего Питкасте всего, чего хотел. Теперь вы думаете отвести ему делянки на Каарнамяэ и у Кяанис-озера. А ведь там лесопункт, пожалуй, не выполнит плана. Подумайте хотя бы о ночлеге. Куда девать пильщиков и возчиков? В Нугисовой сторожке поместится не больше шести человек.
Реммельгас все еще не находил, что сказать, и Килькман продолжал, как бы оправдываясь:
— Говорю вам все это потому, что хорошо вас понимаю… И говорю начистоту. Ведь мы, лесники, всей душой с вами: не по науке у нас лес используют… Но о лесопункте тоже надо подумать. Если мы от него невозможного потребуем, то нас поддерживать не станут. Взять тех же крестьян… Через топь они своих лошадей не погонят, — скорей откажутся самовольно от своих договоров с Куллиару и заключат их с другим лесопунктом. На том нашему начинанию и конец… Говорю все это для того, чтоб вы знали… Я не друг Осмусу, но он как-никак выполняет государственные задания…
Хорошего настроения, в которое Реммельгас пришел на собрании, как не бывало. После ухода Килькмана он долго стоял перед картой и без конца водил по ней карандашом, пытаясь отыскать самый короткий и легкий путь для перевозок. Но почти везде его карандаш натыкался на ручьи и реки с топкими берегами, на густые, тянувшиеся верстами заросли. А что, если проложить с лесосек узкоколейку прямо до станции Куллиару? Но для того чтобы проложить путь длиною в десять километров, через лес, через топи, ручьи и реки, потребуется гораздо больше времени, чем одно лето.
Сколько он ни взвешивал, оставалась лишь одна возможность: возить на лошадях, чего бы это ни стоило. Но похоже, что это действительно было связано с отчаянными трудностями. Упрямство Осмуса не заставило бы его сделать такой вывод, но вот тревога Килькмана — это уже было что-то посерьезней. Правда, советские люди работали и в более трудных условиях, прокладывали дороги в тундре и в тайге, но все-таки…
Ночь он почти не спал — все убеждал себя в собственной правоте. А утром проснулся с сознанием того, что слишком поторопился считать борьбу с Осмусом, борьбу за лес, уже выигранной, — она по сути дела еще и не начиналась.
Глава пятая
В один из следующих дней Реммельгас решил сходить в Сурру.
Он отправился не по дороге, петлявшей от холма к холму, в поисках мест посуше, а пошел напрямик через поля колхоза «Будущее», клин которых доходил до рощи в Мяннисалу. Оттуда, держась примерно посередине между рекой Куллиару и болотом Люмату, он намеревался пройти сквозь смешанный лес у Кяанис-озера, дать крюка к ельнику на Каарнамяэ и к ночи добраться до сторожки в Сурру.
Дожди несколько дней назад прекратились, воздух стал жарким и душным, — по-видимому, собиралась гроза.
Шагалось легко. Даже подмывало засвистеть. Несколько дней подряд лесничий не мог выбраться из канцелярии — отчеты, прием посетителей, выдача зарплаты. Тревога за лес все росла, и дни казались бесконечными. Он знал, что в принципе прав, но много ли стоит правота, которую нельзя претворить в жизнь? Он изменил первоначальный план, по которому следовало уже сейчас размечать новые лесосеки с лесниками и объездчиками. Он отодвинул эту работу, чтобы сначала самому побывать на местах, изучить природные условия, расспросить Нугиса о состоянии дорог зимой.
Узкая тропинка спускалась с полей к лесу. Тут были колхозные луга, усеянные отдельными кустами, березами и темно-зелеными островерхими елями, похожими на одиноких часовых. Первые былинки, робкие и нежные, с любопытством высовывались из-под прошлогодней палой листвы. Но разве могли они, такие малочисленные и бледные, скрасить серость этой летошней травы на проталинах…
«Сильк-сольк, сильк-сольк!» — беспечно пропела пеночка. Где она, хлопотунья? Не иначе как на этой самой ели… Но нет, она щебечет уже где-то дальше. Потревоженная человеком пичуга все время залетает вперед, как бы заманивая его и стараясь подальше увести от того места, куда снесены первые соломинки для круглого, почти шаровидного гнездышка.
Вдали шумно и воинственно покрикивает рябинник: «Кят-кят, кят-кят!» А потом звонкое: «Вить-вить-фирлить-фить-чирр-трр-трр-фють-фють-чихиди!» Рулада зяблика протяжна, разнообразна, тут уже слышится искусник. В его пении переплетаются напевы ласточки и соловья. Сам он совсем крошечный, длиннохвостый, серо-коричневый, летает зигзагами, словно все время берет разбег. Он сидит на самой верхушке ели и словно пробует голос: «Пин-пин-пин», а потом совсем на новый лад: «Види-види-фьюти, фьюти-вирр-тит-тирр-чихиди!» — и кажется, что он приветствует своими трелями прекрасный день и пробуждающуюся природу.
Этих пернатых певцов не смущает появление человека, они заливаются на тысячу ладов. Одни твердят свои одну-две ноты, другие высвистывают длинные и сложные арии, а все вместе сливаются в единый хор. Всегда неповторимый, всегда новый, всегда прекрасный. Реммельгас замер, прислушиваясь к самым звонкоголосым певцам, и забыл об Осмусе, забыл о Сурру, забыл даже о своем сачке за поясом. О последнем он вспомнил лишь тогда, когда в нескольких метрах перед ним запорхала бабочка с большими желтыми крылышками, покрытыми узором коричневых, красных и белых пятен.
Реммельгас махнул сачком, но бабочка описала полукруг и села на березку шагах в десяти от него. Лесничий подкрался, но едва он поднял сачок на высоту плеча, как бабочка сорвалась с ветки и понеслась дальше. Чтоб не выпустить добычу из виду, Реммельгас побежал следом за ней, но погоня завела его в такое сырое и даже топкое место, что пришлось остановиться. Он взобрался на кочку и, оглядевшись, быстро убедился, что прямо не пройти: посреди совсем голого луга была ложбина, на дне которой блестела вода. Летом здесь, конечно, так сухо, что хоть в домашних туфлях расхаживай, а теперь вот приходится идти в обход. Реммельгас принялся разыскивать потерянную из-за охоты на бабочку тропинку, чтоб добраться по ней до каких-нибудь лав или до того места, где ручей еще не вышел из берегов.
«Первое знакомство с болотом, — усмехнулся Реммельгас и сдвинул назад сбившуюся наперед полевую сумку — память о войне. — Еще хорошо, что сапоги сегодня надел». Сапоги у него были высокие, он их даже заворачивал, чтоб они не торчали выше колен. Да, выглядел он сегодня довольно-таки чудно: на голове — шляпа с широкими обвисшими полями, сбоку висит сачок, из сумки торчат две коробки — одна для жуков, другая для бабочек. Ни дать ни взять — любитель туризма. Его коллекция вредителей была особенно богата жуками, и он поставил сегодня своей целью пополнить ее местными, туликсаарескими видами.
Тропинка вела по верху косогора в ельник, где ложбина с водой превращалась в узкий, хоть и полный до краев, ручей. За ельником начинался смешанный лес, где росли и ель, и береза, и осина, и ольха. Тут было полно хвороста и валежника, самые старые из поваленных стволов уже густо обросли мхом и стали похожими на длинные приземистые скамьи, накрытые светло-зелеными коврами. Тропка змеилась меж деревьев и вела вниз, где было прохладно и сыро. Сучья хрустели под ногами одинокого путника. Почва была пропитана водой, которая сразу же заполняла свежие следы.
Прикинув на глаз, Реммельгас решил, что этому лесу по крайней мере лет девяносто. Он озабоченно покачал головой, увидев на многих стволах широкие, грузные наплывы. Старики обрадовались бы некоторым из них, как хорошему труту, но лесничий хмуро сдирал их с деревьев и забрасывал в кусты. Время от времени он отрывал кусочек коры с бурелома или сухостоя и стряхивал на ладонь коричневых и черных жучков, которые, как бы в доказательство своей безвредности, сворачивали лапки, притворяясь мертвыми.
Там, где река Куллиару приблизилась к болоту Люмату, пробираться стало очень трудно. Реммельгас перепрыгивал с одной коряги на другую, балансировал на длинных лежачих стволах, в которые порой проваливалась нога — настолько они прогнили. Все время попадались уже высохшие наполовину деревья. Глаз Реммельгаса примечал то здесь, то там скопление воды, губившей лес. Наступающее болото захватывало все большую площадь и постепенно превращало пышную чащу в унылое редколесье, где деревья гнили на корню, обрушивались и уступали место карликовым сосенкам и приземистым березкам, которые хоть и могут расти по сто лет, но никогда не станут толщиной даже с оглоблю.
Нога нередко соскальзывала с коряги прямо в воду. Иная кочка, казавшаяся издали высокой и крепкой, сплющивалась под сапогом, словно гриб. Больше чем предстоявшее возвращение, даже больше чем смутное подозрение в правоте Килькмана, лесничего огорчало зрелище стремительного заболачивания леса.
Реммельгас добрался до реки и принялся разыскивать брод. Район Каарнамяэ был уже недалеко, синяя стена его елей виднелась и отсюда.
Лениво текла река, тихо журчала вода, омывая упавшие в нее деревья. Берега были топкими. Лесничий сунул руку в прибрежный бочаг, и кто-то ущипнул его за палец. Пойманный рачонок оказался маленьким, и Реммельгас бросил его обратно в воду, решив наведаться сюда за раками в августе.
Сурру… Кто знает, как сложатся отношения со старым Нугисом. Реммельгас не мог себе уяснить, в чем дело, но он почему-то чувствовал, что успех его предприятия зависит от старого Нугиса: если они договорятся, если Нугис поймет его и поддержит, все будет хорошо, если нет… Старик упорен, необщителен, замкнут, как большинство людей, проведших всю жизнь в лесу, такого убедить — это не прутик согнуть.
Южный берег реки был чуточку выше. Реммельгас свернул на дорогу, ведущую в Сурру, и прошел по ней километра два. Потом дорога резко загибала вправо, и Реммельгас снова направился прямо через лес, стараясь держаться на восток, чтоб обогнуть Каарнамяэ. Он продирался сквозь кустарник и смешанный лес, брел через березник, в котором было суше, пробирался по заболоченному осиннику и ольшанику. Приближался вечер, но воздух стал еще более душным и жарким, чем днем. Промокшие насквозь сапоги хлюпали при каждом шаге. Сачок его порвался о ветку, поля шляпы были усеяны сором, сучками и осыпавшейся хвоей.
Густые ольховые заросли. Реммельгас, раздвигая ветви обеими руками, прокладывает себе дорогу. И вдруг — как ножом отрезанный — смешанный лес кончается, а дальше идет ельник. Прямые, поросшие серым мхом стволы устремляются к небу, темно-зеленая хвоя нависает плотным бархатным шатром.
Реммельгас ничего на свете не любил больше такого вот ельника. Тут земля покрыта летом ровным ярко-зеленым ковром мха, на котором светлеют в тени лужки заячьей капустки. Кроны тут высокие-высокие, а снизу стволы словно очищены от веток, и здесь торчат лишь, как зубья грабель, одинокие сухие сучья. Свешиваются коричневые шишки. А где же… ах, вон она уже чук-чукает, машет хвостом и поглядывает с любопытством своими круглыми глазами — неразлучная с елями, пышнохвостая королева шишек.
Реммельгас забрел уже далеко, когда вспомнил, что он ведь сюда не на прогулку пришел. Глаз начал примечать мертвые ели, похожие на голые коряги, стиснутые с боков пышными деревьями. Местами они стояли группами и, ободрав кору, он обнаруживал узорчатые следы короеда. Постучав по большому дереву, он уловил опытным ухом гулкий звук: корневая губка уже сделала свое дело и даже проникла в ствол.
Лесничий измерил высоту деревьев, и в среднем у него получилось тридцать пять метров. Значит, им было около двухсот лет. Перезрели!
Этот лес давно уже следовало срубить… Мысль перескочила на Нугиса, который, не говоря ни слова, даже не попрощавшись, выскочил тогда в дверь. Как хорошо он понял старого лесника теперь, в великой тишине этого ельника… Да, через несколько лет тут станет пусто, будут белеть пни, густо попрет кустарник. Реммельгас расстроился. Жалко. Потом он улыбнулся над собой: даже им овладевают настроения Нугиса! Ведь деревья растут в лесу не для того, чтобы гнить, а для того, чтобы лечь в стены домов, чтобы покоиться шпалами под мчащимися составами, чтобы весело трещать в печи. А на вырубке через несколько лет зазеленеют между пней крохотные побеги…
В лесу стемнело, словно на ельник накинули густое покрывало. Сквозь ветви виднелась гряда облаков, позолоченная солнцем. Качнув стволы, поверху пробежал и помчался дальше порыв ветра, а лес зашумел, как неспокойное море.
Над ельником закаркали вороны. Большой ястреб сделал круг и скользнул к болоту, где на одиноком острове у него было гнездо. Птицы торопились скрыться от дождя. Собирался разразиться ливень.
— К тому и шло весь день, — пробормотал лесничий, прибавляя шагу.
Лес начал редеть, а потом совсем кончился, и Реммельгас очутился на просеке. Вырубка? В Каарнамяэ была лишь одна вырубка, но она находилась гораздо севернее. Или он перепутал направление? Это не делает чести лесничему! «Значит, надо держаться больше на юг», — решил Реммельгас, направляясь через вырубку. Взглянув наверх, он заторопился: ветер гнал темно-синие тучи, впереди которых, словно дозорные, бурно мчались одинокие серые облака.
Опустив взгляд, он остановился на полдороге и шагнул в сторону. Встав на колени, он с величайшей осторожностью потрогал вытянутые стрелки пышных, ярких побегов. Они выросли тут не случайно — из семян, занесенных ветром. Нет, кто-то перед посевом срезал кочки. Лесничий поднялся и протяжно свистнул: по вырубке длинными рядами тянулись посеянные елочки.
Реммельгас разглядел их поближе. Им было лет по пять, по шесть. По его расчетам, время посадки приходилось на 1943 год. То был мрачный год фашистской оккупации, тогда лес не сеяли. Он развернул карту, на которой были означены все культуры, хоть и без нее знал, что тут, на вырубке в Каарнамяэ, не могло быть по служебным данным и клочка засеянной земли. Когда при составлении атласа культур он попросил Нугиса сообщить данные, тот и слова не сказал о Каарнамяэ. Однако Реммельгас стоял сейчас в сеянном и довольно обширном ельнике. Более того, между елочками не видно было прошлогодней травы, — чья-то заботливая рука выполола ее, чтобы молодые деревца лучше росли.
В небе сверкнуло, и по небосклону прокатился далекий гром. Высокую гряду облаков прорезала стрела новой молнии, и гром грянул еще сильнее и яростнее.
Надвигалась гроза. Послышались отдаленные раскаты, и Реммельгас озабоченно прислушался: по-видимому, туча грозила разразиться градом. Внезапный порыв ветра сорвал шляпу, подбросил ее и швырнул на землю, покатив между пнями, как обруч. Реммельгас помчался за своей шляпой, размахивая сачком, словно преследовал большую круглокрылую бабочку.
Едва Реммельгас, поймав и нахлобучив шляпу, вступил в гудевший от ветра лес, как упали первые дождевые капли. Они были крупные и тяжелые, словно ртуть.
Вскоре ельник поредел, перешел в мелколесье, а земля стала более топкой. Дождь уже лил вовсю, и стало темней. Реммельгас забрался под густые раскидистые елочки. Все вокруг заволокло серым туманом, нельзя было различить ни капель, ни струй, такой это был сплошной ливень. Вода разлеталась на земле тысячами брызг, из-за чего казалось, что все в лесу дымится. Молнии раскалывали серую стену дождя, ударяя так близко, что почти тотчас следовал оглушительный гром. Реммельгас выглядывал из-под веток после каждого удара, уверенный, что увидит неподалеку разбитое в щепы дерево.
С ветвей стекали сначала одинокие капли, которые превращались в ручьи, пока наконец вода не хлынула потоком, словно кто-то выжал над деревом огромную губку.
Реммельгас вышел из-под ели. Плечи промокли насквозь, вода стекала по спине и по груди. Мокрые ветви хлестали его по лицу, и по одежде, и, хотя первый порыв ливня утих, лило все же безостановочно, так что через несколько минут на лесничем не осталось сухого места.
Шагая напрямик, Реммельгас отстранял ветви рукой, и на него каждый раз шумно стекала скопившаяся на листьях вода. Местность была незнакомая. Реммельгас понимал, что заблудиться тут ничего не стоит: достаточно взять чуть в сторону от сторожки в Сурру и от крохотного, со скатертку, поля при ней, чтобы потом без конца блуждать в зарослях, где можно легко наткнуться на угрюмого медведя, ломающего деревья, или на шипящую рысь, притаившуюся на гибкой березке, — но только не на человеческое жилье…
Дождь ослабел и, прикрывая карту полой плаща, лесничий определил приблизительно место своего нахождения. Держась больше на север, он перебрался еще через одну топь, где раза два проваливался так глубоко, что в голенища затекала вода. Так он дошел до кустарника, где было суше. Кустарник постепенно уступил место роще из берез и ясеней. К тому времени тучи на западе рассеялись и в разрыве между ними, словно между половинками занавеса, появился пылающий солнечный шар. Тут-то Реммельгас и обнаружил, что находится на краю опушки, в конце которой стоит длинный дом, крытый дранкой, а из трубы дома поднимаются к небу клубы густого светло-серого дыма. Лучи багрового солнца, что опускалось за лесом, отражались в оконных стеклах и переливались жемчугом в струйках воды, стекавшей с карниза.
Сверху еще временами капало, но дождь кончился. Ветер умчался следом за тучами, ни одна ветка не шевелилась, дым поднимался кверху, прямой как свеча. На клене возле дома захлопал крыльями и запел свою прерванную песню весенний скворец.
Из риги выскочили две большие собаки с коричневыми пятнами и, лая наперебой, бросились к Реммельгасу.
…Убрав на дворе сор, скопившийся за зиму, Анне принялась за изгородь, где надо было сменить кое-какие жерди, частью погнившие от снега, частью поломанные домашней и лесной тварью. Но тут она заметила вдали дождевую тучу и, повесив грабли на старую ель, поспешила домой. Здесь она закрыла печку, притворила окна и села.
Девушки почти не было видно в предгрозовых сумерках, и лишь вспышки молнии озаряли ее глаза и обращенное к окну лицо.
Детство Анне было очень необычным. Начать с того, что она лишь на третьем году жизни впервые увидела других детей. Но девочка едва ли и заметила их: в тот день ее мать выносили из Сурру в длинном черном гробу. Хозяйкою дома и нянькою Анне стала Мари, старшая сестра Михкеля Нугиса, серьезная, деловитая и несколько суровая старая дева. Она любила чистоту и порядок, и Анне нередко доставалось от нее за кавардак в доме. Особенно часто это случалось после того, как отец притащил ей в товарищи из леса пушистого бурого медвежонка с белой манишкой на груди. На первых порах с юным увальнем не очень-то удавалось поиграть, потому что было самое начало марта и медвежонок норовил куда-нибудь забраться, уткнуть нос в лапы и поспать. Когда солнце начало припекать, медвежонок оживился, стал шаловливым и веселым, и Анне так с ним сдружилась, что они не расставались даже на ночь. Сколько было реву и слез, когда на другую осень Михкель отвел в лес косолапого, ставшего за год прихотливым и взбалмошным. Следующим летом товарищем у Анне по забавам стал тонконогий, до смешного пятнистый козленок с большими робкими глазами. Анне привязала ему на шею колокольчик, который сначала страшно его напугал. Но, поскакав по двору, козленок смирился с колокольчиком, а потом даже начал гордиться им. С годами козленок стал очень необузданным, и после того как, чего-то испугавшись, он вспрыгнул всеми четырьмя ногами на накрытый стол, тетка проявила неумолимость и козленок тоже отправился вслед за Нугисом далеко в лес, откуда он уже не сумел вернуться в сторожку.
Школьная зима была первой длительной разлукой с сурруским лесом. Анне с удивлением смотрела на людей, которые говорили, что боятся леса. Но больше всего она любила грозу, зигзаги молний, удары грома и его неторопливые раскаты прямо над головой. В этом было столько силы, это так захватывало, что Анне казалось в эти минуты, будто она растет на глазах. Ей тогда чудилось, будто в Сурру становится тесно. И сколько она себя ни переубеждала, чувство это упорно не проходило: его не могли полностью заглушить даже самые занятые дни, даже утомительные странствия с отцом по топям Люмату, где они метили для рубки деревья.
Когда дождь утих, Анне развела в плите огонь, чтобы к приходу отца в доме было тепло. Она вздрогнула, когда Стрела и Молния залились лаем и бросились в поле. Кирр соскользнула на пол и пронзительно закричала: «Кирр-кирр-кирргх!»
То не мог быть отец, собаки узнавали его за километр. Чужой! В такое время? В такую погоду? Быть не может! Разве что какой-нибудь зверь забрел в их места…
Анне набросила на плечи плащ, сняла с гвоздя ружье и вышла. Обогнув угол риги, она чуть не наткнулась на незнакомого человека. Оба несколько опешили и принялись молча разглядывать друг друга. Реммельгас оправился от смущенья первым, ему ведь нетрудно было сообразить, что перед ним стоит дочь сурруского лесника. Только он совсем иначе представлял себе девушку, о которой уже немало слышал. Она представлялась ему более воинственной, крупной, мужественной, более дикой с виду, не такой стройной и светловолосой.
Такое позднее появление человека, шедшего, видно, не из Мяннисалу, а с другой стороны, оттуда, где на десятки километров простирался лес, казалось Анне непонятным и поразительным.
— Здравствуйте, — сказал лесничий.
— Здравствуйте, — ответила Анне. И покатилась со смеху. Расхохоталась от всей души, сверкая белыми зубами.
Реммельгас почувствовал себя неловко и неприятно: одежда липла к телу, по спине пробегала дрожь. И ко всему этому такой странный прием. Или тут, в лесах, это считалось хорошим тоном? Такой вот, хохочущей, она казалась совсем девчонкой. В нем пробудилась досада на девушку. Подумаешь какая! Нос больно острый, да и глаза не косят ли чуточку? Может, так только казалось, но Реммельгас готов был сейчас приписать ей все недостатки. До чего же дикая, — как есть дочка старого лесного колдуна.
— Какой вы… чудной! — произнесла с трудом Анне и снова фыркнула. Но тут же овладела собой и сказала довольно вежливо: — Вы, наверно, из натуралистов?
— Почему вы так думаете?..
— Я как-то видела в кино, как один профессор за жуками охотился. Ну в точности вроде вас был: такая же шляпа — поля широкие и обвисли, такой же сачок для бабочек, такая же коробка для жуков, — вам только не хватает очков в черной оправе. И все на вас помялось, промокло, порвалось… все такое смешное… Поэтому я и рассмеялась… Извините меня.
Дрожь снова пронизала Реммельгаса. А девушка, как видно, ничего не замечает, еще высмеивает. Пусть она считает его кем угодно, натуралистом или даже медвежатником, — главное, чтоб его пустили в тепло. «Отчасти хорошо, что она меня не узнала, — подумал Реммельгас, — мой вид едва ли может внушить уважение к лесничему. Ну ладно же, — решил он не без озорства, — пусть она обращается с ним, как с незнакомым охотником за жуками! Зато и струсит же она, когда услышит, что высмеяла лесничего, непосредственного начальника своего отца. Тогда мы еще подумаем, стоит ли прощать ей неучтивость, торопиться не станем». И Реммельгас даже забыл про холод, забыл про вымокшее платье — в конце концов он был не из тех, кто не умеет оценить хорошей шутки, и, подняв как можно выше свою промокшую шляпу, он отвесил почтительный поклон.
— Совершенно верно, перед вами находится специалист по жукам и бабочкам. Я остановился у объездчика в Мяннисалу, отправился в лес немножко поохотиться, но меня застигла эта проклятая гроза и я заблудился… Осмелюсь ли попросить у вас крова и места перед весело пылающим очагом?
Анне ответила легким книксеном. «Ишь негодница, — подумал Реммельгас, — еще насмехается над наукой!»
— Прошу вас в дом!
При виде постороннего Кирр вспрыгнула на стул, низко опустила голову, оскалила зубы и, недоверчиво изучая пришельца, глухо зарычала. Ее гибкое тело прижалось к стулу, под блестящей шкуркой заходили напрягшиеся мускулы. Реммельгас не видывал подобных сторожевых тварей и отпрянул назад.
— Не бойтесь, это Кирр. Выдра, истребительница рыбы, речная разбойница. Она у нас в доме за третью собаку… Сейчас я поищу, во что вам переодеться.
Движения Анне были быстрыми и ловкими. Мигом разыскав нужные вещи, она отвела гостя в какую-то комнату и предложила переодеться. Лесничего задел повелительный тон девушки, но отпор в его положении не сулил ничего хорошего. Ворча под нос, он влез в чистое белье, пахнувшее мылом и утюгом, надел брюки и накинул на плечи пиджак. Они явно принадлежали старому Михкелю, — пальцы Реммельгаса едва выглядывали из рукавов пиджака, а брюки волочились по полу. Пришлось все это подворачивать, прежде чем вернуться на кухню.
Огонь отбрасывал на стены пляшущие тени.
— Садитесь сюда. — Анне пододвинула к плите кресло с подлокотниками и с резной спинкой. — Погрейтесь. Я пойду скотину кормить.
Сухая одежда и тепло, веявшее от плиты, уняли заодно с дрожью и досаду Реммельгаса. Следя, как на поленьях сворачиваются одно за другим белые хлопья пепла, он улыбнулся: по спокойном размышлении во всей истории обнаруживался комический, даже, если угодно, романтический момент.
Дом лесника был обставлен не совсем обычно. Положим, резные столы и стулья нашлись бы и в других домах, но задумчивая сова, пялившая глаза над дверью, уже не являлась обычным украшением. На многих лесных хуторах употребляются вместо вешалки оленьи рога, но уж никак не лосиная, шириной с лопату, зубчатая корона, которую Реммельгас приметил сразу же, как вошел в дом. В другой комнате Реммельгаса поразил орел с простертыми чуть ли не от стены до стены крыльями — большая редкость для здешних лесов. Видно, хозяин дома любил окружать себя лесными тварями, даже не будь здесь всевозможных чучел, в этом могла бы любого убедить выдра, что сидела на подстилке, положенной на стул, и недоверчиво следила за лесничим, — выдра, которую тут за ее крик окрестили именем «Кирр». Церковные обряды не превратили древних эстонцев в христиан, и едва ли такое крещение смогло превратить хищную истребительницу речной рыбы в смирную комнатную собачку. Впрочем, она не проявляла враждебных намерений: один глаз ее был закрыт, а открытый поглядывал скорее с любопытством, чем со злобой.
За окном быстро темнело. На горизонте вспыхивали порой молнии, но уже так далеко, что грома не было слышно. За стеной мычала корова, весело повизгивали собаки. Огонь отбрасывал на стену пляшущую, огромную, вышиной до потолка, тень лесничего, греющего у очага руки. Да, вот она, романтика леса и отшельничества! И вдобавок к ней неожиданное появление лесничего, то есть, извините, — натуралиста, встречающего тут единственную дочь лесника. В конце концов, нос у нее не слишком острый, такой смелой формой отличались носы самых классических римских красавиц. И как нелепо подозревать девушку в косоглазии! Реммельгас выпрямился и рассмеялся над собственной слепотой. Ему едва ли приходилось встречать раньше карие глаза, глядящие прямо на тебя так смело и в то же время так… ну, не хитро… а несколько иронически, чуть свысока и довольно-таки пытливо. Но все это блекло рядом с плавностью ее движений. Сколько создано теорий о том, что человеческий характер можно узнать по глазам. Все это чушь! Глаза могут быть обманчивыми, лживыми, но никто не может изменить своих жестов, своей походки, позы, осанки. Теория Реммельгаса не раз проверялась на практике и весьма редко приводила к ошибкам.
Из риги послышался звон ведер, после чего Анне вернулась на кухню. Она повесила на лосиные рога полотенце, пригладила волосы и спросила:
— Вы, конечно, проголодались?
Лесничий вздохнул. Вся романтика исчезла. Всего-то и осталось, что девушка с карими глазами, вполне обыкновенная — не урод и не красавица, — да потрескивающий в очаге огонь, да выдра, переставшая наблюдать за гостем и трущаяся об ноги хозяйки, да тьма и тишь вечера, неслышно приникшего к окну. А посреди всего этого восседает утонувший в огромном сером костюме лесничий, который в самом деле проголодался. Он почувствовал это лишь теперь, почувствовал очень остро, но протянул в ответ:
— Вы не отличаетесь особой вежливостью…
— Вы считаете искренность невежливостью?
— Заблудившийся специалист по жукам не вправе спорить на эту тему.
— Вы заблудились? — В голосе девушки послышалось откровенное удивление. — В нашем-то лесу? — В голосе еще чувствовалась интонация, которая недвусмысленно говорила о падении уважения. — Да как же это возможно?
— В таких трущобах и лиса заблудится…
Этим он лишь подлил масла в огонь.
— Трущобы? Вы говорите трущобы! Да подобного леса вы не сыщете на сто километров вокруг, а то и вовсе не сыщете… Да что вы вообще знаете о лесах-то?
— Да, так кое-что… знаю случайно.
— Для вас лес — это одни бабочки да жуки. Вы небось липу от вяза отличить не сумеете, вербу от ивы.
Реммельгас, чтоб не выдать себя, прищурившись посмотрел на огонь. Ну и девушка, вспыльчива, как сухой трут! Что, если ее раззадорить?
— Вы патриотка своей глуши…
— Так что же? — подбородок Анне воинственно вскинулся.
— Лес лишает вас кругозора. Ива и верба! Вот весь ваш мирок. В моей бы власти — так я велел бы срубить лес. Ни сучка не оставил бы. Чтоб ветра гуляли на просторе, чтоб людям стало свободней, чтоб лес не стоял на пути…
Анне остановилась перед лесничим. Не только глаза — все лицо ее горело.
— Вырубили б… ни сучка не оставили б… Вы… вы плохой человек, слышите, плохой!
Не успел Реммельгас в ответ и свистнуть, как девушка, хлопнув дверью, выбежала. «Вот заварил кашу! — подумал Реммельгас, заерзав на стуле. — Собираешься ночевать, нежишься в чужом теплом платье, а затеваешь ссору, обижаешь хозяйку. Ай-ай-ай, лесничий, вот тебе и романтика, вот тебе и классический римский нос! Не нос, а сам ты остался с носом и с пустым брюхом впридачу…»
Анне вернулась быстрее, чем Реммельгас смел надеяться. Она все время выбегала в кладовую, гремела сковородами и кастрюлями, звенела ножами и вилками, но не произносила ни словечка и не удостаивала гостя ни единым взглядом. Реммельгас чувствовал себя виноватым, но не знал, с чего начать, как восстановить добрые отношения. Он подумал, поправил маленькой кочергой дрова в печке и наконец уронил:
— Вы уже давно тут живете?..
Сказал и понял, как это неуклюже прозвучало. И впрямь настоящий профессор! Едва ли Анне вообще ответит…
И все-таки:
— Нет, не очень. Всего-навсего с рождения.
И опять потрескивание огня и шипение сала на сковородке.
— И никто тут поблизости не живет?
— Живут… километрах в шести.
Под дверью заскреблись Стрела и Молния. Кирр подняла уши и раздула ноздри.
— Кирр занятный зверь…
В ответ послышалось «гм-гм» или нечто подобное.
Они уселись за стол вдвоем. Ели молча, пока Реммельгасу не пришла в голову одна идея.
— А что, у вас тут и народ из лесничества бывает?
— Да заходят всякие…
— Мне надо побывать у лесничего. Что он за человек?
— Вы с ним, наверняка, сойдетесь…
— Вот как? Почему же?
— Хороший лесничий — это всегда бездушный истребитель леса.
— Вроде меня?
Опять послышалось нечто вроде «гм-гм».
— Вы хорошо его знаете?
— Ни разу не видела. Да и не хочу видеть.
Теперь настала очередь Реммельгаса произнести «гм-гм».
— Ветрогон какой-то, птенец желторотый. За славой и почетом гонится, хочет сделать карьеру за счет леса.
— Да ну? За такое бесстыдство следовало бы дать по носу.
— Отец у меня по этой части слабоват. Обещал разнести лесничего, да где там! Если я с ним встречусь, то он у меня услышит.
— Не хотелось бы мне оказаться в шкуре лесничего. Бедняга…
— Не стоит его жалеть. Самодовольный парнишка только и знает, что петушиться да хорохориться. Мужчины его не проучили, придется, видно, женщинам этим заняться.
Реммельгас едва удержался, чтоб не рассмеяться. Но в то же время залюбовался девушкой. Какой характер! Или она говорит так только за спиной? Почему-то эта мысль огорчила Реммельгаса, он потерял охоту продолжать беседу, и они молча кончили ужинать. Анне предоставила ему кровать в задней комнате, под простертыми орлиными крыльями.
— Я стесню вас…
— Нет-нет, эта кровать у нас всегда свободна. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи!
Реммельгас раскрыл окно. В комнату ворвался свежий воздух, принесший запах сырой земли. Хотя ветра не было, лес все-таки тихо гудел, словно пел самому себе колыбельную. Перед окном промелькнуло что-то темное — летучие мыши вылетели на охоту. Далеко в лесу громко и пронзительно ухал филин, и это наводило тоску.
В другой комнате, скуля, заметалась выдра. Почти тотчас со двора вылетели Стрела и Молния и понеслись наперегонки к лесу.
Лесник Нугис вернулся домой. Реммельгас услышал, как загремели его сапоги, как Анне стукнула дверцей печки, как Михкель заворчал на резвящуюся Кирр. Отец и дочь обменялись скупыми замечаниями о прошедшем трудовом дне, и лишь после того как лесник покончил с едой и, закуривая трубку, чиркнул зажигалкой, Анне обронила как бы невзначай:
— У нас гость…
— Вот как?.. — протянул Михкель.
— Какой-то профессор по части жуков. — Анне так сильно негодовала на пришельца, что нарочно повысила голос для того, чтоб ее хорошо услышали и в соседней комнате.
— Тут… в Сурру?
— Он остановился в Мяннисалу. Ты же сам как-то говорил, что кто-то должен приехать? Заблудился, бедный… — Она опять насмешливо подчеркнула слово «заблудился».
— А ты и поверила… — начал Нугис и остановился. — Он сказал, что из Мяннисалу? — В голосе лесника уже слышалось волнение. — Да я только вчера виделся с тамошним объездчиком, и он мне ничего не сказал!
— Видно, сегодня приехал. Так или иначе, но теперь он у нас и я его отправила спать в ту комнату…
— Неужели?..
Больше всего развеселило Реммельгаса это «неужели». Жалко, что он не видит их лиц… Не подкрадывается ли старик к висящему на стене ружью?
— Дала какому-то бродяге заговорить себе зубы, — грубо проворчал Михкель, и после этого послышались его тяжелые шаги. Лесник и лесничий почти одновременно схватились за ручки двери, и один потянул ее, а другой толкнул.
— Добрый вечер! — сказал лесничий и протянул руку леснику.
— Здравствуйте, — буркнул Нугис, но руки не подал. Голос показался знакомым, но этот человек был так странно одет… Старик долго вглядывался, пока наконец узнал лесничего.
— Так это вы? — сказал он и подал руку.
— Я, — весело ответил Реммельгас. — Направился к вам в обход и попал в лесу под дождь. Ваша дочь позаботилась обо мне… на редкость любезно.
Анне подошла к ним. В конце концов натуралист был не таким уж противным человеком, только больно умничал. Пришел сюда важничать и поучать! За это стоило отчитать его хорошенько. Только вот его встреча с отцом показалась девушке странной, и она хмуро пробормотала:
— Ты знаком с этим натуралистом?
— Хорош натуралист!.. — ухмыльнулся лесник.
— Нет, я и натуралист. Сегодня я не напрасно барахтался в топях и продирался сквозь кусты: мне удалось пополнить свою коллекцию новым жуком. Во всяком случае я многому научился, собрал новые данные о границах полосы распространения вредителей. Помните, мы говорили об этом на собрании? Мы объявили войну короедам, сосновым долгоносикам, хвойкам, садовникам и другим ползающим и летающим врагам леса. Мы зададим им такого жару, что у них навек пропадет охота лакомиться в нашем лесу.
— Вы… вы новый лесничий? — произнесла Анне с запинкой.
Реммельгас ухмыльнулся. «Трепещи, терзайся! Тебе, наверно, не очень весело вспоминать все то, что ты выкладывала о лесничем».
— Да.
— Почему вы этого… сразу не сказали?
— Вы не дали мне такой возможности.
— Такая у нее манера — сразу набрасываться, — проворчал отец. — И кашлянуть не даст, не то что объяснить…
Положение было неловким для Анне, забавным для Реммельгаса. Девушка вытерла руки о передник, хотя в этом едва ли была нужда. Чувствуя себя виноватой, она пробормотала:
— Я, наверно, сказала что-нибудь такое… неуместное.
— О лесничем? Да ничего особенного, только назвали его ветрогоном и честолюбивым желторотым птенцом…
— Я прошу извинить меня… за слова. Но я не отказываюсь от того, что вы жестокий истребитель леса!
Не подождав, пока лесничий ответит, она накинула на плечи большой платок и выскочила из комнаты. Миг спустя послышалось, как стукнула дверь в хлеву и заржала лошадь…
Нугис как ни в чем не бывало пододвинул к Реммельгасу скамью, сел сам на другой ее край и протянул лесничему кисет, лежавший на столе. Лесничий подосадовал, сворачивая цигарку, подосадовал на самого себя. Нечего сказать, отколол номер. Является в чужой дом, разыгрывает из себя черную маску, вызывает замешательство и беспокойство, создает себе заклятых врагов… Девушка-то с характером, с ней нелегко помириться. Да и права она к тому же по всем статьям. Опять поссорился, будто вокруг видимо-невидимо друзей и доброжелателей. Вот старик с такой силой посасывает трубку, что самосад трещит вовсю в ее чашечке, выточенной из березового корня, а о чем это еще может говорить, как не о затаенной досаде? Можно предположить, что Михкель Нугис просто старый ворчун, которому неведомы добрые слова, ласковые взгляды, теплая улыбка, но стоит увидеть, как нежно он отстраняет выдру, влезшую к нему на плечо и с забавным ворчанием засунувшую голову под ворот пиджака, как в этом не остается больше ни капли уверенности.
Реммельгас уже достаточно знал лесника, чтобы понять: можно просидеть до зари и не услышать от лесника ни словечка. Следовало заговорить о чем-нибудь, все равно о чем, только бы отвлечься от этого дурацкого «приключения».
— Я хочу на месте познакомиться с сурруским лесом. Завтра продолжим осмотр вдвоем…
Судя по тому, как мелькнул огонек в трубке, лесник кивнул.
— Я прошел по болоту вдоль реки. Воды там слишком много, лес уже гниет.
Нугис вынул изо рта трубку и сказал:
— Вы еще не пробрались дальше, до Кяанис-озера. Там куда хуже.
«Куда хуже!» Да, лесопосадка и лесосев — вещь хорошая, но еще важнее осушить почву в лесу. Он так и сказал Нугису. Лесник долго не отвечал, лишь продолжал яростно, почти не переставая, раскуривать свою трубку.
— Трудно, — ответил он наконец.
— Мало ли что трудно. В Сурру должно быть легче, потому что тут река протекает, только канавы к ней прорыть — и все.
— Канавы не помогут…
— Почему?
— Течение слабое, да и речка полна — не вытянет воду.
— Не может быть! — воскликнул Реммельгас. — Я был на реке около станции Куллиару, там над камнями вода прямо бурлит и пенится…
— Там-то да…
Большего Реммельгас не узнал — Нугис уклонился от ответа на вопрос, откуда ему известно, что речка не вытянет воду…
— Ну что ж, пора на покой, завтра рано вставать… Доброй ночи…
— Доброй ночи.
Реммельгас уже взялся за ручку двери, когда вспомнил вдруг о еловых побегах на вырубке, и вернулся.
— Еще одно… Я наткнулся сегодня на странную вырубку. Знаете, в районе Каарнамяэ…
— Вот вы куда добрались…
— Да, добрался. Там посеянные елочки лет пяти-шести…
Реммельгас сделал паузу, чтоб дать Нугису время на объяснение, но хоть рука лесника и быстрей принялась гладить по спине Кирр, забравшуюся на колени, старик все-таки промолчал.
— Они не отмечены ни на одной карте. Когда я спрашивал данные о культурах, вы ни слова не сказали о Каарнамяэ. Считаю, что, как лесничий, я вправе знать…
— Леса всегда сеют, что тут удивительного…
— Фашисты этим не увлекались…
— Еще бы!
— Вот видите. А эти елочки проросли из семян, посеянных как раз в годы оккупации. Я думаю, что примерно году в…
— В сорок третьем…
— А те, которые помоложе?
— Позже…
— Кем?
Нугис выбил трубку о край толстой дубовой пепельницы.
— Теми, кто был обязан это делать.
— Вами?
Длинная пауза. Потом:
— И мной… тоже…
— Тоже? Кем же еще?
— Анне…
Теперь настала очередь лесничего замолчать. Он вдруг отчетливо увидел, как на залитой солнцем поляне рослый лесник разрыхляет лопатой клочок земли для сева, а следом за ним торопливо шагает белокурая девочка с мешочком семян в руках… Эта картина была так прекрасна, что лесничий забыл на минуту обо всем. Но хлопнула дверь за стеной дома и он очнулся. Кто-то вошел в ригу… Так они сеяли вдвоем? Нет, это было слишком невероятно.
— А еще?
— Как — еще?
— Кто еще помогал при севе?
— Никто…
Нугис снова набил трубку, спихнул Кирр с колен и поднялся.
— Пойду подброшу лошади сена…
Кирр выскользнула за дверь раньше хозяина. Реммельгас последовал за Нугисом и встал в дверях, опершись о косяк. Высоко-высоко мигали бледные глаза звезд. Стрела и Молния с визгом кинулись за хозяином, какая-то скотина в хлеву гремела цепью. Реммельгас не поверил в выдумку с сеном. Когда Анне вышла во двор, лошадь заржала, очевидно, получив свой ужин.
На фоне закатного неба темнела сеть ветвей старой яблони. Верно, вся она поросла тут мхом. Точно такая замшелая яблоня была под окном дома, в котором вырос Реммельгас. На ней росли жесткие, как камень, и такие кислые яблоки, что от них до ломоты сводило челюсти. А вокруг тоже простирался дремучий лес, только поляна там была попросторней и на ней умещалось два дома: побольше — для лесника, поменьше — для лесорубов. Ни шум городских улиц, ни грохот войны, ни учеба в школе не смогли заглушить воспоминаний о маленьком доме на опушке бескрайнего леса…
Лесничий стоял долго, пока не продрог, потом вернулся в дом и лег на отведенную ему кровать, под белую шуршащую простыню…
Утром Реммельгаса разбудил луч солнца, щекотавший лицо. Он распахнул окно, и в комнату ворвался звонкий тысячеголосый щебет. Казалось, будто в лесу происходит состязание птиц: у какой самый красивый и громкий голос.
В кухне на табурете были приготовлены большой эмалированный таз с холодной водой, мыло, пахнущее хвоей, и длинное льняное полотенце. Реммельгас не спеша помылся, а потом оделся. В доме все еще царила тишина — и лесник и его дочь, видимо, куда-то ушли.
Когда Реммельгас вышел во двор, к нему с лаем бросились собаки. Они остановились в нескольких шагах, расставив ноги и подняв уши, как бы выжидая, что он предпримет. Реммельгас даже немножко испугался, трудно было угадать, что замышляют против него эти шумные существа, ростом чуть не с теленка. Но у Стрелы и Молнии не было злобных намерений. Просто их не взяли с собой в лес, несмотря на все их заискиванье, и они скучали. Они быстро освоились с лесничим, и тут-то началась потеха. Подняв хвосты трубой, собаки носились вокруг Реммельгаса, приносили брошенные им щепки, перепрыгивали через палку и в знак дружбы пытались лизнуть его в лицо своими длинными розовыми языками.
Внезапно собаки пустились во всю мочь к хлеву. Из-за его угла крадущейся походкой вышел коричневый зверек, вытянув плоскую голову с маленькими ушами. Казалось, что собаки с налету собьют с ног выдру, но Кирр оскалила белые острые зубы, и собаки отскочили в сторону. Конечно, больше чем зубы выдры их удержала от нападения на речную хищницу длительная выучка, которая заставила их усвоить, что за дружбу с Кирр хозяин ласкает их, а за вражду жалует плетью и лишением пищи.
Кирр прошествовала к дому, не обращая ни малейшего внимания на тявкающих собак. Она и Реммельгаса как будто не замечала, но едва лесничий шагнул к выдре, как та остановилась и взгляд ее продолговатых глаз скользнул по нему. Как все дикие звери, она не смотрела человеку в глаза.
— Кирр, Киррушка! — позвал Реммельгас. Он и понятия не имел о том, чем привлечь выдру, но ему очень хотелось, чтоб Кирр подошла и уютно устроилась на его коленях, как вчера на коленях Анне. Он сел на ступеньку и, похлопывая себя по ноге, повторил: — Кирр! Киррушка! Прыгай сюда! Хоп!
Выдра не уходила, но и не подходила. Собаки наблюдали за обоими, застыв на месте и подняв уши торчком. Лесничий догадался, что им не раз приходилось стоять так, наблюдая, как приручают выдру. Он продолжал свои попытки.
— Ну, Кирр, иди же! Хоп-хоп!
Но хвостик выдры даже не шевельнулся. Она, по-видимому, обдумывала, как проскочить мимо назойливого чужака в дом.
Реммельгас потерял терпение и повелительно крикнул:
— Ну, полезай же наконец, речная разбойница!
Зверь не привык к тому, чтоб на него кричали, он плотно прижался к земле, готовый каждую минуту удрать. Но тут он услышал что-то гораздо более важное, повернулся и стрелой пустился к лесу, а по пятам за ним, тявкая, помчались Стрела и Молния.
Анне возвращалась из лесу почти бегом. Щеки ее горели. Она держала в руках снятый с головы платок, полы ее расстегнутого пальто развевались. Реммельгас встал и, вспомнив о вчерашнем, вновь почувствовал себя неловко. Анне дружелюбно кивнула ему:
— Доброе утро! Удалось заснуть… после вчерашней ссоры?
— Ссора — это, пожалуй, слишком сильно сказано…
— Все-таки. Едва ли вас когда-нибудь так ругали и в глаза и за глаза, как вчера, — рассмеявшись ответила девушка.
— Да, пожалуй… — согласился Реммельгас. — Но признайтесь, что и вы никогда еще так не попадали впросак, как вчера?
Анне не стала спорить. Она наклонилась к выдре, юлившей у ее ног, сказала лишь раз «хоп», после чего та молнией взобралась к ней на плечо и нежно обвилась вокруг шеи.
— Какой невежливый зверек! — проворчал Реммельгас. — Уж я приглашал, приглашал его к себе на колени, а он только глядел на меня исподлобья.
Анне погладила блестящую шкурку выдры.
— Кирр разборчива…
— Вы и в самом деле все тут колдуны…
— Вы уже прослышали о нашем прозвище?
— Да. И теперь, попав к вам, склонен думать, что оно соответствует истине…
Они вошли в дом. Сняв пальто, Анне быстро принялась наводить порядок на плите и на кухонной полке, рассказывая при этом:
— Да, прозвище это нам дали, пожалуй, не без основания. Моего отца давно уже окрестили старым сурруским колдуном, а теперь и меня порой зовут колдуновой дочкой. Только колдовства тут никакого нет, просто отец изучил свойства растений и умеет их использовать. Он знает, какую настоять траву на случай болей в груди, чем натираться от ревматизма, что класть на свежую, а что на старую рану. Сейчас больные все реже обращаются к помощи сурруского колдуна, а вот во время оккупации наш дом был скорей аптекой или лазаретом, чем лесной сторожкой. Невеликая это премудрость. Тут ровно ничего нет таинственного, отец готов каждому объяснить, что и как, он и делал это не раз, да люди такие беспамятные — они забывают название трав, забывают даже, как они выглядят, и все страшно путают. Узик они принимают за арнику. Не могут отличить купырь от лесного дудника. Им нужен голубой лютик, а они собирают иван-да-марью. Такие странные люди! Ведь даже слепой увидит разницу между тем и другим, настолько она велика, правда?
Реммельгас был не очень уверен в этом — знание растений являлось его слабым местом, — но все-таки кивнул. Анне перескочила на другую тему и рассказала, что они с отцом еще до восхода засели в шалаше на тетеревином току, потому что неподалеку оттуда дня два тому назад раздались выстрелы. Иные браконьеры не поленятся пройти и больше десяти километров, лишь бы подстрелить эту королевскую дичь. Нугис пошел дальше обходом, а Анне поспешила домой, чтобы гость не беспокоился. Они не думали, что лесничий проснется так рано.
Вскоре вернулся домой и Нугис. Никаких охотничьих следов не обнаружилось. Лесник молча посасывал трубку, как видно, совсем не удивляясь тому, что Анне так дружески, так шутливо беседует с лесничим, будто они вчера вовсе и не повздорили.
После завтрака старик спросил:
— С чего же начнем?
— С Кяанис-озера.
Густые пучки бровей Нугиса полезли вверх, но он, ни слова не говоря, пошел в угол за резиновыми сапогами. После непродолжительной паузы Анне сказала:
— Вы не проберетесь до Кяанис-озера.
— Затопило?
— Там теперь настоящее море.
— Но вода-то меня и интересует. Партийная организация поручила мне исследовать район Туликсаареского сельсовета и его мелиоративные возможности. Отправляясь туда, я хочу убить двух зайцев: подготовить материал для доклада об осушительных работах и своими глазами взглянуть, возможно ли зимой заготовлять лес в Сурру.
Нугис при первых же словах Реммельгаса перестал натягивать сапоги. Он с любопытством посмотрел на Реммельгаса и, когда тот кончил, спросил:
— Так вы, значит, партийный?
— Да.
Нугис поглядел на сапог, а потом опять на лесничего.
— И вы говорите, что партия решила приняться за осушение туликсаареского леса?
— Да, решила. За осушение леса и полей.
Нугис резким движением натянул сапог. Поднялся, кивнул головой на дверь.
— Пойдем верхом, обойдем вокруг Каарнамяэ. Я знаю там дорогу повыше, доберемся посуху до самого Кяанис-озера.
Это было первым предложением и одновременно первым советом, данным лесником Нугисом лесничему Реммельгасу. Но, несмотря на сдержанность и лаконичность этого совета, Реммельгаса охватила такая радость, что он даже подмигнул Анне. Сделав это, он сам испугался: какое же последует наказание? Но Анне, по-видимому поняв, что вызвало эту мальчишескую выходку, не рассердилась на Реммельгаса и даже кивнула ему.
Реммельгас не мог долго задерживаться, уже через день ему нужно было возвращаться в Туликсааре. Но раз уж он оказался в Сурру, жаль было бы его покинуть, не изучив основательно. Для двух дней задача эта была нелегкой, особенно если учесть неблагоприятные в это время года условия для передвижения. За себя он не боялся, потому что у него была хорошая физическая подготовка — он считался в школе приличным гимнастом и одним из лучших лыжников, а летом ему приходилось принимать участие в кроссах по пересеченной местности, — но сможет ли пожилой лесник выдержать нужный темп?
Нугис не отставал и не жаловался. Реммельгас получал ответы на все вопросы о возрасте леса, о породах деревьев, о вредителях, о рубках, о давности культур, словом, обо всем, и при проверке ответы оказывались точными. Реммельгасу стало в конце концов казаться, что Нугис смог бы безошибочно ответить, какое количество тетерок вьет гнезда в том или ином квартале, сколько барсучьих семей вырыло тут норы или сколько журавлиных стай прилетело нынешней весной проводить лето на Люмату.
Когда они перед возвращением домой уселись на упавшей березе и закурили, Нугис, растягивая по своей привычке слова, спросил:
— Ну как, не очень… устали, лесничий?
Лесничий сначала подумал, что Нугис разгадал его утренние мысли и теперь в отместку насмехается над ним, но лицо лесника показалось ему искренним и даже смущенным, и он отрицательно покачал головой.
— Тогда я предложил бы сделать маленький крюк в сторону Мяннисалу. Оттуда через реку мы выйдем к квартальной просеке, ведущей в Сурру…
Реммельгас не спросил, что задумал лесник, а последний не дал никаких объяснений. Это была самая трудная за день, самая мокрая и самая грязная часть пути. Вскоре Реммельгас сообразил, что Нугис ведет его по тем местам, которые остались в стороне во время его вчерашнего похода в Сурру.
Они дошли до молодого смешанного леса, через который пролегала вырытая давным-давно магистральная канава. Она должна была отводить воду из леса в реку, но местами засорилась, а местами ее берега осыпались. Прошлогодние березовые листья, упавшие в воду, поднявшуюся до краев, почти не двигались.
От этой канавы шло сквозь молодой смешанный лес несколько осушительных рвов. Хотя их берега тоже пропитались водой, нетрудно было заметить, что вырыли эти рвы недавно, года два-три тому назад. Реммельгас вспомнил о еловых посадках и сказал:
— Я, наверно, не ошибусь, если скажу, что эти канавы вырыты сурруским лесником?
Нугис кивнул. Он озабоченно следил за вышедшей из берегов водой.
— Для пробы сделал… Среди лета, когда тут сухо… Но уже осенью стало ясно, что от моей работы нет никакого проку.
— Магистраль не оттягивает воду?
— Нет… И во всем виновата река…
Нугис замолчал. Ему припомнилось, с какими надеждами он принялся за рытье канав. Этот молодой березняк был его гордостью, но он знал, что от этой гордости ничего не останется, если вода из года в год будет омывать корни деревьев. Потрудился он тут изрядно, но все впустую. Летом от канав была небольшая польза, а весной и осенью — словом, во время половодий — никакой.
— Река? — повторил Реммельгас и почувствовал, что он добрался до первого узлового пункта, до первой исходной позиции. — Вы считаете, что прежде всего следует углубить реку?
— Вот-вот.
Реммельгас настолько задумался о чем-то своем, что даже забыл о героизме лесника, который в одиночку выкопал канавы, чтоб спасти молодой березник от гибели. Лишь около сторожки он вспомнил об этом и спросил:
— Но не один же вы все-таки?..
— Вы про что?
— Про эти канавы?
— Ах, про них… Нет, не один… рабочие тоже помогали.
Реммельгас недоверчиво посмотрел на лесника. Три года тому назад в лесничестве не было никаких землекопов. Наверняка, Нугис копал один… Но начинать следует действительно с углубления реки Куллиару. Все предприятие станет от этого более трудным: углублять реку — это не то, что выкопать канаву в поле. И хотя Реммельгас никогда не принимал участия в углублении рек, ему все же не трудно было вычислить примерный объем работ, который показался настолько огромным, настолько трудно осуществимым, что в поисках выхода Реммельгас забыл тем вечером о своей другой, гораздо более неотложной цели прихода в Сурру: о розысках санного пути на предстоящую зиму.
Когда он на другое утро заговорил о зимней рубке и вывозке леса, в комнате стало тихо. Нугис теребил ус, Анне складывала тарелки одну на другую с такой яростью, что Реммельгас испугался за них. Поняв, что по этому вопросу ему нечего ждать советов от сурруских жителей, он стал жаловаться на заботы, вызванные нехваткой семян, а особенно на недостаток посадочного материала — выращивание саженцев сильно отстает от объема предстоящих работ по возобновлению леса. Хоть этот разговор и разогнал облачко досады на лицах лесника и его дочери, беседа все же не наладилась, и лесник с лесничим принялись молча собираться в лес.
По плану нынешнего дня предстояло обследовать восточную сторону обхода, более сухую и высокую. Они отправились на склон Каарнамяэ. Реммельгас записывал возраст леса, высоту, бонитет, примерное количество фестметров — словом, подготовлял материал для разметки лесосек, о чем Нугис и не подозревал.
От Каарнамяэ лесник повернул на северо-восток, пробормотав, что хочет там что-то осмотреть. Местность тут оказалась холмистая и переменчивая, преобладающим деревом была ель. Нугис, не сворачивая, шел прямо, и наконец они оказались на поляне, имевшей форму прямоугольника.
Поляна была небольшая, чуть побольше полугектара. Пни свидетельствовали о том, что лишь недавно тут гудел могучий ельник. Но не это привлекло внимание Реммельгаса. Он попытался определить по пням, как давно тут сняли лес. Выходило, что всего года четыре-пять тому назад. Как на такую вырубку попали по крайней мере десятилетние ели? О естественном приросте не могло быть и речи, потому что елочки росли дружными, стройными рядами.
Десятилетний ельник на вырубке пятилетней давности… Вот какой орешек предложил ему разгрызть сурруский колдун…
— Ничего не поделаешь, — Реммельгас развел руками. — Признаюсь, не понимаю. Не могу объяснить. Счел бы это чудом, если бы верил в чудеса.
Нугис опустился на пень и набил трубку. Он зажег ее и затянулся несколько раз, после чего заговорил:
— Чуда тут никакого нет… Ельник сняли в сорок четвертом году. Немцы редко забирались так далеко — истреблять придорожный лес было проще и безопасней, — но в тот раз им понадобились особенно длинные бревна. Хуторян штыками погнали в лес. Когда здесь начали пилить, я прибежал, чтоб запретить это. Уговаривал немцев, как мог, предлагал им на выбор любой другой ельник, потому что этот был лучшим в лесу. Ихний фельдфебель вытаращился от злости и, ни слова не говоря, двинул меня прикладом под ложечку. Дух захватило. В глазах потемнело, а рука вдруг оказалась такой легкой на подъем, что я замахнулся… Анне схватила меня за локоть, и вовремя, не то в живых не остался бы.
Нугис молча задымил трубкой, а Реммельгас спросил:
— Так появилась вырубка, но кто посадил ельник?
Нугис отодрал от пня белый трут и, кроша его на кусочки, продолжал:
— Это уже совсем просто. Когда следующей весной оккупантов погнали, а вскоре от них и духу не осталось, мы со своей стороны тоже решили отметить победу. Вот и посадили этот ельник…
— Вы один?
— Нет, Анне тоже…
Реммельгас пощупал пышно разросшиеся, темно-зеленые мягкие ветки.
— С того времени прошло всего четыре года…
— Потому я вас и притащил сюда. Вы жаловались, что нет молоди, что питомники пустуют. У нас тогда в питомниках ни одного саженца не было. Мы брали побеги на берегах канав, да и на опушке старых ельников молодняка бывает немало. Выбирали самые лучшие и крепкие… Я боялся, что вы не поверите, будто дикие побеги можно пересаживать, потому и привел вас сюда. Свой глаз — алмаз.
Реммельгас тщетно подыскивал слова, чтобы выразить восхищение перед ельником Победы, о существовании которого за пределами Сурру никто, кроме него, наверно, не знал.
— Спасибо за науку! В этом же году применим ее, особенно в Сурру, где надо посадить побольше ели. У вашего ельника будут достойные соседи. Но у ельника Победы большое преимущество во времени, когда-нибудь он будет царить над всем Сурру, будет виден отовсюду, гул его будет самым могучим…
Молча кончили они свою работу. В Сурру они вернулись пораньше, чтобы Реммельгас успел домой засветло. Когда Михкель куда-то вышел, лесничий попросил Анне рассказать, как они сеяли молодой ельник, в котором позавчера его застала гроза. Анне нахмурилась, но после того как Реммельгас сказал ей о ельнике Победы, она уступила.
— Ну, раз вы уже и про это знаете… Да тут, по правде говоря, и добавить нечего, потому что история эта совсем простая. Не забывайте, что отец был сорок лет сурруским лесником. А лесник, по его мнению, не только лесной сторож… Ну, фашисты были большими мастерами по части истребления, а на выращивание молодого леса они плевали. Отец ходил, требовал, добрался даже до какого-то уездного коричневорубашечника. Тот едва его выслушал и завопил: «Уберите этого рехнувшегося старика!» Отец прямо заболел, все бродил по вырубкам… Он сказал, что мы не имеем права предоставлять судьбу прироста воле случая и ветра, что надо самим вмешаться… Мы собрали шишки, высушили их и налущили семян. А потом отец отыскал старую болотную лопату. Утром принялись за дело. Он срезал кочки, я сажала семена в землю. Срезать кочки было нелегко, особенно в его возрасте. Посеяли мы немало… и в ту весну… и в следующую. Вот и вся история. Ничего особенного!
Ничего особенного? Лесничий притворился, что пристально смотрит в окно: где, мол, так долго пропадает этот лесник.
— Мне все это хорошо понятно, — сказал он через некоторое время. — Но я не пойму одного: за что старый Нугис, как мне кажется, ненавидит меня? Меня, который целью своей жизни поставил борьбу за здоровый и крепкий лес?
— В Сурру вы начинаете с порубки.
— Это в общих интересах…
— Поживите-ка сами в лесниках лет сорок. Пособирайте-ка в старости шишки на деревьях. Пускай у вас поболит душа за каждое дерево, за каждого зверя так, что вы глаз не сомкнете, тогда и поймете все…
— Я… и теперь уже понимаю… — сказал Реммельгас, не отрывая глаз от разгоревшегося лица девушки. — Но я верю, что старый Нугис довольно скоро убедится и в моей правоте… А кроме того я верю, что тогда у нас будет такой союз, которого не взорвать динамитом.
— Может быть, — тихо ответила Анне.
— А вы? Вы примкнете к нам?
— Может быть, — повторила Анне.
Глава шестая
На плане территория колхоза «Будущее» напоминала гигантский сапог, упирающийся в болото Люмату. В центре ее дома стояли кучно, а тут, ближе к Мяннисалу, среди лесов и топей, жилья от жилья не видать было. Люди тут не старались селиться поближе к дороге, извилистой и избитой, а искали в первую очередь места посуше, а стало быть и повыше, и зачастую совсем в стороне.
Реммельгас не знал, в каком доме живет председатель колхоза. Сам Ханс Тамм, объясняя дорогу, сказал, что если дом объездчика это носок сапога, то его собственная изба будет вроде каблука, вернее вроде подковы на каблуке, — но все это мало помогало в розысках.
Тут лесничий заметил на меже какого-то человека с лопатой на плече. Тот, видно, куда-то торопился — знай отмахивал свободной рукой и даже шапка съехала на затылок. Невысокий ростом, он при ходьбе выставлял одно плечо вперед, а голову втягивал в плечи, словно боялся получить удар по затылку.
Он ответил на приветствие Реммельгаса, не замедляя шага.
— Я хотел бы разыскать дом товарища Тамма. — Реммельгас ускорил шаги, чтоб не отстать от человека с лопатой.
Человек ткнул лопатой в сторону видневшейся впереди рощи.
— Видите лесок? Вот оттуда вы увидите его крышу.
Он поглядел на незнакомца уголком глаза, нашел его, по-видимому, достойным доверия и добавил:
— Ханс Тамм теперь председатель колхоза, навряд ли вы его застанете.
— Сегодня воскресенье, может, повезет все-таки…
— А воде что воскресенье, что будни — все едино, так что нашему брату, колхознику, не до гулянья. Я вот опоздал. Не мог раньше, колхозная конюшня у меня на руках. Ежели потороплюсь, то, может, успею копнуть раза два.
Только теперь Реммельгас заметил, что у конюха одна нога не сгибается в колене. Тем не менее приходилось спешить, чтобы поспеть за ним. Но что могли означать его слова? Уж не приступил ли Тамм самостоятельно к осушительным работам? От него можно ожидать всего, что идет на пользу колхозу.
— Раненько вы принялись за осушку…
— Какая там осушка? — пробормотал конюх, расстегивая серый шерстяной пиджак.
— А лопата на что?
— Лопата имеется… да и вода тоже, но только теперь нам не до осушки. Расхлебываем кашу, которую кулак заварил!
— Ах, вот оно что?
— Оно самое. Виктора Суурести, этого серого барона, этого ловкача, испокон веков знают в Туликсааре, но никогда еще не видели, чтоб он сеял рожь на полях у опушки. Совсем запустил землю за эти последние десять лет, только хвощ на ней выращивал да всякие сорняки. Уж даже и кусты у него поразрослись — ольха да береза. А прошлой осенью вспахал он, видим, эту землю и сладенько этак посмеивается, старая лиса: дескать, вступлю скоро в колхоз, так что стараюсь, мол, чтоб ему досталась от меня хорошая да ухоженная земля. Все так сделаем — тогда и колхоз, мол, будет у нас богатый. Вспахал он эту землю, проборонил разок и посеял рожь. Лучший сорт нарочно посеял у болота, дьявол этакий! Когда председатель колхоза пошел к нему и сказал, что, мол, это за шутки, он глаза вылупил: «Какие такие шутки? Я выполняю посевной план, который мне дали, целину вспахиваю». По всему было видать, что на награду и денежную премию рассчитывал…
— Ну и что же, дали ему премию? — спросил Реммельгас у замолкшего вдруг конюха.
— Премии ему не дали, но повозиться с ним пришлось порядочно. Все в колхоз рвался и не хотел отступиться — чуть ли не в драку лез. Прямо хоть от колхоза отказывайся, потому как и слепому было ясно, что с Виктором Суурести под одной крышей не уживешься. Изворачивался он так и этак, да только ничего у него не вышло: решили на собрании и близко не подпускать к нашему колхозу серого барона. Он-то уж и грозил, и шипел, и ругал, и проклинал, пока мы не приняли новое решение: пора с этими шутками покончить и выслать Виктора Суурести из волости. Сделали мы так — и сразу воздух стал чище.
Они дошли до ивовых и ольховых зарослей, которые тянулись от леса чуть ли не до самой дороги. Издали казалось, что тут кончаются поля колхоза «Будущее», но на самом деле их продолжение лишь было скрыто кустами. Некогда тут была канава, но она почти заросла и на ее берегах разрослась теперь молодая поросль. За канавой вновь тянулись поля, еще более отлогие, чем те, по которым они шли.
— Вон где она, красная крыша Ханса Тамма. — Колхозник указал рукой на дом, видневшийся на опушке леса. — Тут уж не ошибешься — ни у кого больше такой нет.
— Тут земля колхоза кончается?
— Нет, не тут, а дальше, за усадьбой Тамма. Таммы из всех нас самые смелые, прямо в болото врезались.
Вдали за полем стали видны поднимающиеся и опускающиеся в такт работе пестрые платки, серые кепки и бурые шляпы. Туда они и направили вдвоем шаги. По мере того как они приближались к людям, идти становилось все труднее: земля прилипала к сапогам, чуть ли не отрывая подошвы. Маленький конюх пошел, отдуваясь, напрямик, а Реммельгас отправился вдоль канавы, выбирая сухие места. Когда он влез на высокий камень, чтоб ознакомиться с окрестностью, то увидел позади поля кочковатый, поросший редкими березами и кустами луг, залитый водой, на серебристой поверхности которой отсвечивали лучи солнца.
Последние дни Реммельгас часто останавливался перед картой лесничества. Она запечатлелась в его памяти со всеми подробностями, словно выгравированная в его сознании. Тут, в самом конце колхозных земель, река Куллиару делает крутой изгиб, протекая от полей в расстоянии километра, а кое-где и намного меньше. В этом, разумеется, была немалая опасность, и не напрасно Ханс Тамм на первом же партийном собрании потребовал начать борьбу с паводками.
Несколько десятков колхозников прорывали на склоне поля узкие канавы, чтоб отвести обратно на луг залившую озими воду. Работать было трудно и неудобно: непрочные края канав осыпались, ноги по колено увязали в грязи, которая липла к штанам, курткам, платкам. Колхозники перепачкались, вымокли и на приветствие лесничего лишь хмуро проворчали что-то.
Сам председатель находился в дальней, самой глубокой канаве и выбрасывал из нее совковой лопатой жидкую грязь, упорно стекавшую обратно. На приветствие Реммельгаса он ответил с веселой улыбкой, словно ему досталась самая приятная и чистая работа:
— Будь здоров! Ну-ка, возьми лопату, покажи, на что способен!
План Тамма был прост: отвести по канавам воду вниз, а там, на лугу, выкопать более глубокую и широкую канаву. Средство это являлось временным, но если бы не удалось отвести с озимых воду в ближайшие два дня, то колхоз не получил бы с этих полей хлеба. А поле это было засеяно самыми крупными и чистыми сортовыми семенами! Вода в реке поднялась, на то, что она вскоре спадет сама по себе, надеяться не приходилось. Тамм решил не ждать, что произойдет, а действовать.
— Нам тут некогда обсуждать положение и принимать резолюции, — сказал он несколько иронически. И торопливо добавил: — Мы ведем тут разведку боем, после нее будет легче перейти к более крупным мелиоративным работам. Канавами мы уничтожаем часть озими, еще часть мы вытопчем, но лучше отдать черту мизинец, чем всю руку. Всю воду нам отсюда не выкачать, но избыток отведем. Ненадолго осушим участок, а там, глядишь, река снова в берега войдет.
— Ведь на этом поле была когда-то более крупная канава? — спросил Реммельгас, вспомнив о том, что увидел в зарослях.
— Да. Тут в деревне даже мелиоративное товарищество когда-то было. Оно составляло прекрасные планы и проекты, а мы платили им звонкой монетой. Создали даже маленькую осушительную систему, одним из рукавов которой была та канава, которую ты видел. Поначалу, так года на два, на три, стало вроде чуточку суше, но зато потом затопило еще хуже, чем прежде.
— С рекой ваша система не соединялась?
— Какой там! Дальше канав не пошло. Говорили, правда, и о реке, составили проект, но все так и осталось на бумаге.
— Что ж тогда удивляться, что от ваших канав толку не было, раз вы с конца начали.
— Так ведь в буржуазное время все так и получалось: начиналось с конца и катилось вспять… Да и наша сегодняшняя работа — это только пластырь на один нарыв, а лечение всего района еще впереди.
— Об этом и разговор. Я немного обследовал район Кяанис-озера, теперь хочу вместе с тобой изучить здешние условия…
Они договорились, что проедутся вечером по реке.
Тамм снова вонзил лопату в грязь, а Реммельгас отправился дальше. Место работы было хорошо подготовлено: между канавами лежали абсолютно ровные промежутки. Реммельгас даже спросил у одного колхозника, уж не помогал ли им какой-нибудь землемер, но тот лишь покачал головой.
— Нет, — сказал он, стирая со лба пот, — это председатель позавчера тут все мерил шестом землю да делил на участки. Иные тут смеялись над ним: что, мол, время здесь теряешь, где это видано, чтоб спасали озимь от половодья, раз вода уже залила поле. А он хоть бы что. Тогда кое-кто пришел к нему на подмогу, а за ними уж и все остальные. Иные, конечно, больше так, посмеяться пришли… Ну, заявились мы сюда, а у председателя уже все налажено, каждому определено место, так что деваться некуда: скидывай пиджак и берись за лопату…
— Председатель у вас, как видно, молодчина…
— Как же, молодчина! — усердно закивал головой колхозник, словно ему не верили. — Нелегко ему пришлось, конечно. Все в новинку, всего много, а он не сдается, знай идет вперед… Хоть порой самому и трудненько… как сегодня…
— Разве у него дома что-нибудь случилось?
— Да похоже на то. Мать его полчаса назад прибегала, на глазах слезы. «За колхозную озимь ты тревожишься, говорит, а у самого овцы в хлеву тонут. Пришел бы, хоть помог воду отвести». А Тамм насупился, да и говорит ей: «Ничего. Они еще не скоро утонут», — и отослал мать домой.
Работа подходила к концу. Выбрасывали последние комья земли, подравнивали осыпавшиеся кое-где края. Собирали принесенные из дому бидоны и запасные лопаты. Распрямляли спины и выискивали камень посуше, чтобы посидеть и покурить.
Последним вылез из канавы Тамм. Он отер рукавом лицо, но только размазал по нему грязь. Не смущаясь этим, он подошел к людям и, став среди них, поднял, как бы принимая присягу, свои большие, сильные рабочие руки и сказал:
— Справились! Были такие, что говорили: «Грязь нас тут похоронит», но мы сами вырыли для нее могилу. Смотрите, вода уже потекла вниз!
Смотреть-то было, пожалуй, не на что — не зашумели в канавах бурные потоки, не зажурчали ручьи, — и все-таки у колхозников заблестели глаза при виде сделанной работы. На дне рвов уже скоплялась вода, которая медленно текла вниз, к магистральной канаве. Правда, поле стало некрасивым, его словно исхлестали шомполами, но хлеб — да, хлеб! — должен был теперь уродиться.
Люди сидели на камнях и где придется, им жаль было уходить: таким вдруг близким стало им это поле, еще недавно такое постылое. Сколько они ухлопали на него сил и времени, сколько перемучились! А теперь почему-то было смешно и даже приятно вспомнить об этих мучениях. Так они сидели и разговаривали все об одном и том же — о болоте да о канавах, пока кто-то не воскликнул, всплеснув руками:
— Мы вот тут языками чешем, а у Тамма барашки тонут.
— А ведь верно! Пойдем, посмотрим, не надо ли сделать ковчег для председателя и всей его живности.
И землекопы, вскинув по-солдатски на плечи свои лопаты и ломы, двинулись шумной толпой по направлению к красной крыше, видневшейся у опушки. Председатель отговаривал людей: куда, мол, вы все, затопчете луг, справлюсь и сам, но на этот раз его никто не стал слушать.
Придя в усадьбу Тамма, люди опешили: никто не мог и предположить, что дела здесь так плохи. Скотный двор был уже залит водой, растекшейся по обеим сторонам ведшей к нему кирпичной дорожки. Вода обступила дом с трех сторон и вот-вот готова была сомкнуться с четвертой.
Вырыли наспех несколько стоков, но пользы они принесли мало — воды на дворе почти не убавилось, и людям только и осталось, что перегнать овец в коровник, который стоял на более высоком и сухом месте. Тут скот на первое время был вне опасности. Покачивая головами и бормоча под нос что-то сочувственное, колхозники стали расходиться — незаметно уже наступил вечер.
Тамм несколько лет тому назад смастерил себе лодку — он любил под выходной ставить на реке верши. Все время он помнил о ней и по мере подъема воды перетаскивал ее повыше. Сейчас она была уже привязана к забору сада, к последнему столбу. Тамм и Реммельгас влезли в лодку и отвязали ее от забора. Стоя, Тамм погнал ее вниз к лугам, отталкиваясь шестом и осторожно лавируя между кустарником и буграми. Достигнув реки, оба взялись за весла.
Всюду на их пути Реммельгас видел одну и ту же картину — гниющие деревья, почерневшую ольху и осину, на стволах которых чернели узоры короеда и зияли дупла. Медленно и вяло опускались весла, грусть охватывала гребцов. Реммельгас думал о гибели ценного древесного материала, Тамм — о сене, которое не удастся собрать.
Река Куллиару вилась меж кустов и камней, мелкие крутые петли сменялись плавными излучинами. Порой казалось, что она потечет наконец прямо и далеко-далеко, но вдруг русло вновь изгибалось и возвращалось почти на то же место. Одну такую петлю река описывала и на полях колхоза «Будущее». Она текла издалека, текла сквозь леса, поля и болота, доходила до колхозных земель — до каблука и его подковки, усадьбы Тамма, — а оттуда к болоту, где пересекала сначала торфяные залежи, а потом гиблые топи. Замутив свои ясные воды болотной ржавчиной, река впадала в Кяанис-озеро, которое в половодье бывало широким, как Пейпси, а летом скромно отступало в зыбкие берега, заросшие камышом и осокой. Река появлялась вновь на другом берегу Кяанис-озера, откуда она полукругом возвращалась назад, к полям колхоза. Дальше она текла к дому объездчика в Мяннисалу, как раз к тому месту, где носок сапога упирался в болото. Именно эта, послеозерная часть реки разливалась наиболее широко. Устремляясь дальше, к железной дороге, река образовывала еще одну петлю, в направлении, противоположном прежней. Петлю протяжением в пять-шесть километров, охватывающую полуостров с перешейком всего в один километр. Почти у самого дома объездчика река, пенясь, низвергалась с плотины мельницы.
Именно тут, в меньшей излучине у Мяннисалу, и начинала обычно подниматься вода, после чего она выступала из берегов по всей излучине, а потом и еще выше, уже во владениях соседнего колхоза. Тамм не поленился сходить и к соседям, которые тоже жаловались на разливы, хоть река у них и не растекалась морем, не затопляла поля и не угрожала овцам.
Они плыли меж деревьев, за которыми всюду блестела вода. Тамм, видно, приходил все в большее и большее расстройство от этого зрелища и потому все яростнее налегал на весла. Рот его был крепко стиснут, на челюстях вздулись желваки, отчего все его лицо казалось еще более резко очерченным, чем обычно. При первой встрече с Таммом оно показалось Реммельгасу грубоватым и как бы небрежно вылепленным, но сейчас он видел, что весь облик этого человека дышит силой, уверенностью и неистощимой энергией, и поневоле залюбовался им. Однако пришлось призвать его к осторожности: рывки его становились очень уж размашистыми — уключины скрипели все пронзительнее, а вода так и бурлила под веслами. В конце концов они ехали не по реке и им ничего не стоило врезаться с разгону в какую-нибудь белобокую березу или развесистую иву и перевернуться.
Они поплыли тише, и Реммельгас начал расспрашивать Тамма о местной жизни. Тот отвечал сначала скупо, но потом, когда зашел разговор о его собственных делах, разговорился.
— Диву даешься, где только у людей голова была, когда тут селились, — надо же было залезть в такую топь… В нашей семье народ был неглупый, за дураков никто не считал. Мы с отцом на поденщину ходили. По плотницкому делу мы на всё мастера были, а сверх того умели и стены класть и дороги мостить. Самые исконные мастера по этой части были тогда русские — бородачи из Муствее, но только и мы им не уступали. Отец все тосковал по земле и от этой тоски запоем, бывало, пил, до рубашки пропивался. Да и я был таким же дурнем: как услышу где — сырой землицей пахнет, так прямо всего себя готов продать, с потрохами. Случалось, в батраки нанимался, чтоб к земле быть поближе, но уж больно солон был батрацкий хлеб — два раза по весне нанимался, и каждый раз месяца не проходило, как меня с хутора выставляли: хозяевам, мол, перечу, всех батраков кругом порчу — смуту сею. Нельзя сказать, чтоб я на хлеб не зарабатывал. Господи, да с моими-то ручищами! И сыт был, и приоделся, даже велосипед купил, но разве это была жизнь? Хозяин собакой больше дорожил, чем такой рабочей скотиной, как я… У серого барона, на которого я в первую весну спину гнул, была дочка… Девица как девица, и разодета в пух и прах, и подкрашена малость. К тому же образованная. Мне она не нравилась, уж больно была щуплая да чванная. Кулацкое отродье! А она все ко мне льнула: пройдет мимо, улыбнется, похлопает своими черными ресницами да скажет чего-нибудь глупое. Стал я сеялку зерном засыпать, она тут подходит, кладет на ладонь пару зернышек и говорит: «Что-то скучно стало, позвольте за сеялкой походить, что ли. Только вдруг устану с непривычки?» Представлялась, понятно, будто в первый раз сеялку видит. Я ей так и сказал. Тут она обиженной прикинулась. А хозяин уже заметил, что дочка возле батрака околачивается. Он и раньше это замечал да злился. Приду, бывало, обедать, а он на меня волком смотрит. Меня прямо смех разбирает. Ладно же, думаю, и начинаю притворяться, что девица мне по душе, и терплю все ее фокусы, не мешаю ей вокруг меня вертеться. Старик крепился день, крепился другой, а потом вдруг как заорет на меня: «Ты, парень, видать, забыл, кто ты есть». Я глаза вылупил. «Нет, говорю, я человек, как и ты». — «Ты батрак! — орет, а сам уже весь красный. — Батрацкое отродье! Сей же миг перестань за моей дочкой увиваться!» — «Подумаешь, добро какое!.. А вот захочу — и приударю за ней, по договору не запрещено». Девицу в город к тетушке отослали, а на меня начали работу наваливать — для трех лошадей впору, пока я не помахал старику шляпой да не ушел своей дорогой.
— И отпустили без суда?
— Без суда. Старик, видно, побоялся трепать на суде имя дочки. На другое лето попытался я к другому кулаку сунуться. Дом у него был вроде помещичьего, из пяти комнат, а батрака клали спать на гумно. Я — протестовать. «А чем там плохо?» — удивилась хозяйка, мягкая такая, словно тесто. «Темно. Мыши как на маскараде отплясывают. Опять же пыли и мусору полно». — «Там всегда батраки жили». — «А вот я не буду». И хоть платили там больше, чем во многих других местах, подпоясался я, взвалил на плечо узелок и пустился дальше. Мало в Эстонии мест, где я не бывал. Пошел на шахту. Послали меня под землю учеником. Жили впятером в одной комнатке, — удивляться не приходится, что в карты дулись да водку пили. Народ там был боевой, к стачке готовился. Я тоже не стал ждать сложа руки, чтоб другие мне прибавку отвоевывали. «Мы тут для иностранцев денежки зарабатываем, — сказал я на одном собрании. — Каждый немецкий десятник по нескольку тысяч в месяц огребает, а мы из-за паршивых сентов убиваемся». Этого с лихвой хватило — попал в черный список. На торфяном болоте барахтался, ставил боттенгарны[1] для рыбных королей на острове Сырве. Всюду на мой горб забирались денежные тузы и пытались меня обломать, но мои мускулы только крепли, а голова поднималась все выше. Отец сказал: «Возьмем участок исполу, — может, удастся встать на ноги». Совсем решил на землю осесть. Но я не соглашался. Что может быть хуже испольщины? Я собирался уйти в город, присмотрел себе уже место в Крулле, но отец стал умолять, чтоб я поселился в деревне, — хоть подмога ему будет в старости… Да и мне, что скрывать… где бы я ни был — болтался ли на шхуне в море или рубил под землей сланец, — всюду мне запах земли слышался. Забыть его не мог. Зашел шутки ради в переселенческое управление узнать, нет ли хороших участков. Поводили пальцем по карте, да и ткнули наугад в какую-то точку. Прочли. Оказалось — Туликсааре.
— Значит, хотели осушать это место для новопоселенцев?
— Собирались. Даже планировку закончили. Сулили заем и поддержку. А тут родина моего отца, да и сам я родился не очень далеко отсюда, в бане[2] на Тагалаане. Это нас подтолкнуло — перебрались мы в Мяннисалу.
Тамм бросил грести, поболтал концом весла в воде и посмотрел на разбегавшиеся по воде круги. Едва заметная улыбка осветила его смуглое лицо.
— Проложили мы дорогу сквозь чащу и топи. Вырыли канавы. Построили дом. А в переселенческом управлении подул новый ветер — верх взяли крупные землевладельцы, — и на поселение в Туликсааре махнули рукой. Наверно, испугались объема осушительных работ, испугались больших расходов. Сняли мы кустарник, очистили под пахоту немного земли, вырастили скот. Прорыл тут наш мелиоративный кооператив канавы, да только не успели их кончить, как они уже заросли и обвалились. Ну, тут нам ясно стало, что одним нам природы не осилить. Отец к тому времени уже состарился и ушел на покой. На вечный… Остались мы вдвоем с матерью… Но я все же не упал духом, все еще надеялся на помощь друзей — товарищей.
— И помощь пришла?
— Пришла. Советское правительство прирезало мне земли. При немцах ее, конечно, отобрали, но обрабатывать не стали. Когда я вернулся из армии, то получил свой прирезок обратно… Не очень уж я этому обрадовался. Вода поднялась выше, канавы совсем заросли. Стало ясно как день, что если будем продолжать ковыряться в одиночку, то болото да нужда рано или поздно нас одолеют, сколько бы советская власть нас ни поддерживала. А в России я за войну достаточно повидал, чтоб сообразить, где выход. Как-то все мы, местные партийцы, собрались, обмозговали это дело, и родился у нас колхоз «Будущее». Назвали его так неспроста. Тут, на болоте, и слепой поймет, в чем наше крестьянское будущее: без артели тут пропадешь.
Он говорил так, будто все это само собой разумелось, будто речь шла не об общем, а о его личном, домашнем деле, которое он обдумал уже давно, обдумал раз и навсегда, так что сомневаться в нем не приходится.
— А все же, сколько пришлось тебе биться из-за какой-то одной полоски озими, — поддел его Реммельгас. — Вроде и никакого облегчения.
Тамм резко поднял голову.
— Поначалу всякое дело трудно. А не будь колхоза, так совсем эта озимь погибла бы. Разлив-то нынче какой! Между прочим, не одна природа тут виновата: и человек к этому руку приложил.
— Да брось! Взбредет же такое в голову…
— Я верно говорю. Сходи к мельнице в Мяннисалу и убедись сам. Перед плотиной-то озеро какое, да и по всей реке вода из-за нее поднимается.
— В Мяннисалу всегда стояла мельница.
— Стоять-то она стояла, только всю войну не работала, ее всего с год назад отремонтировали, да и то не всю — одну лесопильную раму наладили. Устройство вроде полезное, для народного хозяйства нужное, но из-за него уровень в реке на целых полметра выше.
— Небось преувеличиваешь… — усомнился Реммельгас.
— В старое время мы уже хлебнули горя с этой мельницей. Специалисты высчитали, сколько она хуторянину убытков приносит. Попробовали было уговорить владельца снести плотину, да ничего из этого не вышло. Трикман потребовал, чтобы ему уплатили за снос два миллиона единовременно и еще ежегодно высылали все те денежки, которые ему мельница принесла бы. Словом, ничего у нас не вышло из осушения, так на Трикмановой мельнице оно и застряло. Да и теперь, как видно, дальше этого не сдвинется.
— Но теперь, если я верно понял, тут осталась одна лесопилка и подчинена она Осмусу.
— Именно ему. В порядке совместительства.
Тихо журчала вода. В деревне лаяла собака. Мужчины сидели молча. Снести плотину? Но Осмус, словно из рукава, вытянет десятки, а то и сотни веских возражений в защиту того, что лесопилка должна работать, ибо она так полезна местным жителям, ибо она приносит такую большую пользу всему народному хозяйству. Помилуйте, да каким огромным достижением было восстановление лесопильной рамы, а теперь, — будьте добры, остановите! А из-за чего? Из-за того, что вода поднялась? Да разве Куллиару впервые вышла из берегов?
— Осмус не согласится на снос плотины, — тихо сказал Реммельгас.
— Нипочем не согласится, — кивнул Тамм.
Течение увлекло лодку в кусты, и она, зацепившись за них носом, накренилась на бок. Тамм встал и оттолкнулся веслом от берега. Освободив лодку, он снова приналег на весла, и вскоре они, покинув русло, поплыли по лугу, в конце которого виднелся за голыми березами домик Тамма. Окна его тускло отсвечивали на солнце.
— По твоему лицу видно, что ты вынашиваешь какой-то план, — сказал Реммельгас.
Весла поднялись и опустились.
— Что ж, и вынашиваю.
— А какой? Надеюсь, это не секрет?
Тамм бросил весла и ответил уклончиво:
— А может, и секрет… — И немного погодя: — Человек ты толковый и разумный… И по каждому слову видно, что чертовски честный…
Реммельгас рассмеялся.
— Судя по началу, можно подумать, что у тебя мелькнуло в мыслях что-то нечестное…
— А если и мелькнуло?
— Хочешь взорвать плотину?
Тамм снова взялся за весла.
— Если будут валандаться, то я за себя не ручаюсь — чего-нибудь устрою. Взрывать ее нечего, надо просто снять щиты и утащить их подальше.
— Как-нибудь договоримся с Осмусом, — задумчиво сказал Реммельгас.
— Раньше рак соловьем свистнет…
— Надо ему объяснить все обстоятельства.
Тамм молча махнул рукой.
Крякая, пронеслась над головой стая уток. Где-то вдали курлыкали журавли, искавшие свое гнездовье. Тихо скользя по воде, лодка подплыла ко двору Тамма.
Когда они выпрыгнули на сухое, Тамм озабоченно посмотрел на темные тучи, надвигавшиеся с юго-запада, и проворчал:
— Завтра-послезавтра опять будет лить… Словно и без того мало воды.
Реммельгас остался ночевать у Тамма. Вечером они долго стояли у ворот, слушая, как поют неподалеку девушки и парни и как перебрехиваются на хуторах сторожевые псы. Было так тихо и тепло, как редко бывает в дни ранней весны.
Время от времени во тьме раздавался всплеск воды — зверье на болоте отправлялось в свои ночные странствия. Далеко, где-то у Кяанис-озера, ухал филин. По небу медленно тянулись тяжелые серые тучи, лишь изредка открывался просвет, в котором появлялись на миг мерцающие звезды или бледный месяц.
Дело шло к полуночи, но тьма не становилась непроглядной — близилась та пора северной весны, когда начинаются белые ночи. И хотя оба собеседника стояли молча, они чувствовали, что думают об одном: вот мы стоим тут у ворот одинокого домика на краю болота Люмату, как бы оторванные от всех, а рядом с нами, вокруг нас, лежит открытый со всех сторон, бесконечно богатый мир, в котором столько хорошего, прекрасного и доброго…
Они вернулись в дом, но не зажгли огня, — хорошо было, почти не видя друг друга, сидеть в сумерках, струившихся из окна. Они беседовали о том, как справиться с водой, как избавиться от этих проклятых паводков. Тамм твердо решил: как только кончится весенний сев и можно будет вздохнуть посвободнее, так сразу же они возьмутся всем колхозом за лопаты и примутся копать на своей земле канавы. Он уже добыл в исполкоме планы осушительных работ, составленные как в прежнее, так и в советское время. Изучив, он нашел первые поверхностными и мало эффективными, почему и остановился на вторых, решив несколько их исправить и дополнить.
— Ты так уверен в успехе…
— Я же знаю людей нашего колхоза, их силу.
— И все же у тебя слишком узкий подход. Мало того чтобы отвоевать у воды тот или иной участок земли под хлеба или кормовые культуры. Тут нужен единый план для всей местности, нужен одновременный удар по болоту и пойме, нанесенный с обоих флангов — из лесу и с поля, из Мяннисалу и Сурру.
— До этого больно много воды утечет, а если начать сразу, то сколько у нас всего прибавится — и зерна, и сена! Неужто от них отказываться? Единый план-то недолго составить — по частям он уже существует, надо только слить в одно, — а дальше что? Где взять рабочую силу? Кто вырубит все эти заросли и проложит канавы?
Казалось, что Реммельгас перестал слушать и только следил за игрой света на все темнеющем ночном небе. Вот оно уже совсем почернело над зубчатой стеной леса и, словно опустилось, отяжелев.
— Сила у нас есть, — заговорил наконец Реммельгас, — надо только разбудить ее, собрать воедино, направить. Эта сила — народ. Тебе, наверно, приходилось говорить кое с кем о борьбе с водой, с болотом, и ты, я думаю, замечал, как при этом загораются у людей глаза? Стоит кликнуть клич — и такая армия соберется со всей округи! Все поспешат на помощь: колхозники, лесорубы, железнодорожники, школьники, служащие — словом, никто в стороне не останется.
Реммельгас за последние дни и ночи много думал об осушении, так много, что даже его повседневные заботы о разметке лесосек, о посадках отступили на задний план. Тут ему все было ясно, он знал, что прав, и, отдавая распоряжения или указания по части лесосек и посадок, он не испытывал колебаний, несмотря на всю свою тревогу по поводу трудностей, которые были неизбежны при вывозке леса из далеких делянок на Люмату. Но в деле осушения все казалось новым, за все приходилось приниматься сначала, за каждый ложный шаг предстояло расплачиваться впоследствии сторицею. И, однако, это был вопрос о будущем: без покорения болота Люмату и реки Куллиару преобразование туликсаареских лесов и полей было немыслимо. Да, он понимал всю важность этой задачи. Более того, он понимал, насколько сложно и трудно ее решить. Тут требовалось отдать все свои силы, всю свою энергию.
— Мало только осушить почву, — сказал он, глядя в глаза Тамму, — надо преобразовать всю нашу природу, доказать, что мы, советские люди, ее хозяева. Пусть наше Туликсааре станет тому примером.
Тамм стукнул кулаком по столу и вскочил.
— Эх… Если б можно было начать завтра же!
Если б можно было! Реммельгас понимал нетерпение Тамма. Как часто он сам вскакивал из-за письменного стола и принимался беспокойно расхаживать по комнате, чтобы утихомирить нетерпение, овладевающее порой всем твоим существом: начать, завтра же начать! Но время еще не приспело. Несложно было свести воедино планы по осушению берегов Куллиару, немного ушло бы времени и на их изменение, на их доработку в соответствии с новыми задачами. Но в конце концов избыток влаги был не причиной, а следствием, не в нем был корень зла. Реммельгас с каждым днем все яснее и яснее отдавал себе отчет в том, кто главный враг.
Куллиару! Сама река!
Сначала он решил, что достаточно прорыть сеть отводов на окрестных полях, что хватит и пары магистральных, водосборных канав. Но чем больше он погружался в планы, чем больше изучал местность, тем более его одолевала мысль, что без углубления реки Куллиару всякий дренаж принесет лишь половинную, если не меньшую пользу. Достаточно было посмотреть на канавы Нугиса, чтоб убедиться в этом. То, что ему рассказали сегодня о мельнице, было для него новостью, и весьма обнадеживающей. Снос плотины понизит уровень воды. Но едва ли в достаточной мере.
Малая излучина — вот первопричина разливов. Похоже было, что буржуазные мелиораторы предпочитали стыдливо умалчивать об этом. То есть они намекали на желательность углубления реки, но делали вид, что можно обойтись и без него. Шутка ли, вынуть десятки тысяч кубометров земли! Стоит ли идти на такой огромный объем работ? Не проще ли выкопать несколько канавок?
Рассказать об этом Тамму? Но к чему портить человеку настроение, пока все окончательно не выяснилось, пока не промерили заново реку. Вот покончат с этим — и тогда больше не останется и тени сомнений, тогда опасность станет очевидной и столковаться будет проще…
Утром они поднялись рано. Завеса облаков сгустилась, ветер стал теплым и влажным. Скворцам это не мешало, они заливались вовсю на ветвях черемух и ясеней, растущих возле дома.
Реммельгас и Тамм отправились в Мяннисалу, на мельницу. Это было старое каменное строение, поставленное на прибрежном откосе, который почти закрывал его с противоположной от реки стороны. Издали казалось, что это здание с узкими окнами стыдится своего убожества и старается спрятаться. Они вошли внутрь. В мельничном отделении их обдало запахом залежалой муки, мышей и сухого зерна. Жернова здесь давно остановились. В пристройке, где работала лесопильная рама, их встретил сам заведующий, до бровей осыпанный опилками.
Все вместе они пошли взглянуть на турбину. Она была старая и требовала сильного напора воды, из-за чего и плотину сделали повыше.
— А что, если укоротить щиты на полметра? — предложил Реммельгас.
Заведующий только замотал головой и с его волос посыпались опилки.
— Тогда рама остановится, — сказал он испуганно. — Что вы? Мы и так сколько зимой простояли из-за того, что уровень упал. Совсем наоборот — нам надо поднять щиты еще выше.
— Вам бы только Ниагара подошла, — проворчал Тамм, который неохотно пошел с Реммельгасом, так как считал попытку договориться с лесопилкой лишь напрасной тратой времени.
— Еще выше? — воскликнул Реммельгас. — Так уже и сейчас из-за вашей плотины у нас ни поле, ни лес не просыхают.
— Возможно, вполне возможно, а что я могу сделать? Мое дело — производство, доски, а в будущем и мука. У меня есть план, есть заказы, их надо выполнять, а не выполню — так меня просто выгонят. А место терять никому не хочется, не так ли?
И его серые водянистые глаза уставились на гостей. Во всем его виде было столько искренности и простодушия, что пропадала охота сердиться.
— А вы не пробовали взглянуть на дело пошире? — спросил Реммельгас. — С общей точки зрения?..
— То есть как? — Взгляд заведующего выразил недоумение.
— А так, что хоть ваша лесопилка и приносит пользу, но куда больше она приносит вреда. Сколько убытков у местных жителей из-за вашей плотины!
— Но людям очень нужны доски…
— Так разве всего у нас и лесопилок, что в Мяннисалу?
— Не понимаю. Ведь тут всегда была плотина, и жили…
Они махнули рукой и оставили его в покое. Он вежливо поклонился, ибо счел гостей за ревизоров, и поспешил к своей раме.
Реммельгас и Тамм остановились на мосту и облокотились на перила. Мост был новым — старый немцы взорвали при отступлении. Новыми были и щиты. Их плотно пригнали друг к другу, лишь отдельные струйки пробивались сквозь них высокими фонтанчиками и падали на каменное дно реки. От высокой запруды вода с напором устремлялась по каналу к турбинному колесу, которое сбивало ее в желтую, кипящую, весело клокочущую пену.
Реммельгас выпрямился.
— Пошли к Осмусу.
Тамм заворчал в ответ, что ему уже наперед известно, чем это хождение кончится, но все-таки пошел.
Осмус очень и очень спешил («Господи, такая горячка с вывозкой леса!»), но столь важных гостей он все же принял тотчас, заставив подождать браковщиков и мастеров, которые пришли за распоряжениями на предстоящую неделю. Он молча выслушал краткое объяснение Реммельгаса о причинах посещения и, удивленный, всплеснул руками.
— Так вы из-за лесопилки? А я-то думал, что опять либо из-за пней — не ошкурили, дескать, — либо из-за делянок — нечего к самому полотну подбираться. А вы, значит, уже и туда поспели, на мельницу? Быстрый вы, товарищ лесничий…
Тогда Реммельгас напрямик и даже резко спросил:
— Товарищ Осмус, согласны ли вы открыть плотину? Хотя бы временно, до конца половодья?
Осмус вышел из-за стола и остановился перед лесничим.
— А если я предложу вам сократить лесопосадки, этак, скажем, процентов на двадцать, что вы мне скажете? — спросил он.
— Это неподходящее сравнение.
— Погодите. Вы бы это сделали или нет? И почему нет?
Так как Реммельгас не ответил, он сказал сам:
— Потому что план — это закон…
— Не только поэтому. От новых посадок зависит будущее наших лесов, да они и не причиняют никому зла…
— Вы что-то очень горячитесь сегодня. К чему? Обсудим все трезво, по-деловому. Вы должны посчитаться и со мной, с моим положением. План — это закон, да? Так могу ли я обходить закон? Хотите его изменить, хотите остановить лесопилку — так обращайтесь в центр, а не ко мне…
Тамм вскочил со стула.
— Да, обращайтесь в центр, требуйте, а пока не придет ответ, сидите на своих полях по пояс в воде?
— Успокойтесь, товарищ Тамм, успокойтесь. Могу вам сообщить, что вопрос для меня не нов, что я уже об этом думал, что у меня есть свои планы насчет того, как в будущем избежать вреда, который наносит плотина. Мы переведем лесопилку на электроэнергию.
— Плотину надо снести немедля. Сегодня же!
— Так быстро ничего не выйдет, мой дорогой, мой юный друг. Перевод на электроэнергию потребует времени. Возможно, год, а скорее всего и два. Линия далеко, постройка своей электростанции сомнительна. Печально, конечно, что наши личные желания не всегда покуда соответствуют реальным возможностям…
Возражения Осмуса были настолько убедительны, что весьма воинственно настроенные гости упали духом и умолкли. Глава лесопункта заметил это и решил закрепить одержанную победу.
— Нельзя на основании своих личных симпатий или антипатий делать поверхностные выводы, товарищ лесничий. Вы настроены по отношению ко мне не очень дружелюбно и в каждом моем шаге видите злой умысел. Вот как сейчас с этим паводком. Вода всегда затапливала туликсаареские поля, так бывало даже в те времена, когда никакой мельницы в Мяннисалу и не было…
— Так высоко вода никогда еще не поднималась!
— А вы что, измеряли? — Осмус закурил, опустился на стул и пустил колечко. — Вы хотели бы рискнуть за чужой счет, ведь расплачиваться на этот раз пришлось бы мне. Надеюсь, что вы, товарищ лесничий, представляете себе, к чему приведет вывод предприятия из строя хотя бы на две недели?
— Это предприятие у вас и так едва-едва дышит…
— Скоро там вновь загрохочут жернова, такую ситную муку будут молоть, что хоть булки пеки. А вы хотите сорвать нам выполнение плана… У меня и так уже забот по горло из-за вашей активности по части лесозаготовок… Другое дело, если бы вы потерпели с переводом лесосек в Сурру, если бы вы не стремились меня опрокинуть по всему фронту…
Осмус говорил спокойно и все время внимательно глядел в окно, словно его чрезвычайно интересовала девушка, коловшая у сарая дрова. Но он знал, что наносит Реммельгасу удар в самое чувствительное место. За те дни, что лесничий провел в Сурру, он достаточно насмотрелся на тамошние топи и чащи. Куда бы он ни ходил, с кем бы ни говорил, какие бы проблемы ни разрешал, — его неотступно преследовал вопрос о лесных работах в Сурру. Бессмысленно было бы требовать осуществления невозможного, но душа никак не мирилась с тем, чтобы по-прежнему разрастались вырубки возле дорог… Осмус, этот хитрец, представляет ему возможность пойти на попятный, пойти на взаимные уступки, с почетом отступить и в общих интересах отказаться от лесозаготовок в Сурру. Даже Тамм, казалось, глядит на него поощрительно: чего, мол, ты еще ждешь, спасай поля и лес от паводка, сговаривайся!
Девушка кончила колоть дрова, набрала большую охапку поленьев и скрылась за углом. Осмус отвел взгляд от окна и выжидающе посмотрел на гостей. Он был доволен собой. Ловко он это придумал: весь вопрос разрешался самым деликатным образом и ничей престиж не страдал… Осмус был уверен в своем успехе, это можно было прочесть в его взгляде и в том, как чуточку приподнялись уголки его рта.
«Будь, что будет, — подумал Реммельгас, — но вырубкам вокруг станции больше не расти. Начну сам ходить из колхоза в колхоз и агитировать. Буду разъяснять крестьянам-возчикам, почему надо рубить лес именно в Сурру, где перестой гниет от старости, именно около Люмату, где заболачивание губит ценные породы. Буду убеждать до тех пор, пока люди не согласятся туда ездить, несмотря на воду, трясины и заросли».
Реммельгас встал и надел шапку.
— Пойдем, Тамм.
У Осмуса опустились уголки рта.
— Так что ж?.. Как прикажете вас понять?
— Понимайте так, что никаких уступок насчет перевода лесосек не будет.
— Повлияйте на него хоть вы, товарищ Тамм. Во имя колхозных полей…
— Мы просили вас снести плотину.
— Я пошел на уступки…
— Мы не торговаться сюда пришли, — сказал Реммельгас. — Прощайте!
Реммельгас и Тамм молча доехали на велосипедах до Мяннисалу. Они остановились на мосту, прислонили машины к столбу и облокотились на обструганные перила.
У плотины плавали утки заведующего лесопилкой.
— Дальше нам не по дороге, — сказал наконец Реммельгас, решив, что пора домой. — О чем ты думаешь?
— Да все о том же: о разливах… Весной-то оно еще ничего, а летом это гибель: пропадет сено… Подожду еще несколько дней… Если подъем воды не прекратится и если Осмус не уберет свою плотину, то я, в самом деле, больше ни за что не отвечаю!
Реммельгас протянул Тамму руку.
— Прежде чем затевать что-нибудь, скажи мне. До свиданья.
Они вскочили на велосипеды. Долго еще их провожал глухой гул лесопилки и веселый плеск воды, взбиваемой большим турбинным колесом.
Глава седьмая
Хельми Киркма пришла домой усталая и голодная. Три дня она бродила по делянкам и складочным площадкам, одну ночь переночевала в сторожке лесника, в Кюдема, другую в общежитии лесорубов, на деревянной скамье. Близилось первое мая. Близился тот срок, к которому все сдаваемые лесхозу делянки следовало привести в порядок. Времени оставалось совсем в обрез. В былые годы на лесопункте и не подумали бы тревожиться — отношения с лесничеством были приятельские. «Предписания подождут, не расшибаться же из-за них в лепешку», — утешал Осмус и себя и работников лесопункта и засовывал инструкции леспромхоза в свой письменный стол, на самое дно ящика. Настойчивость Реммельгаса заставила его выделить несколько штатных рабочих для приведения лесосек в порядок, но, во-первых, этого было слишком мало, а во-вторых, и в эту зиму люди занимались уборкой с прохладцей и делали все кое-как. Из-за этого пришлось шкурить заново часть пней, собирать и либо вывозить, либо аккуратно складывать на месте сор из-под штабелей, валявшиеся тут и там обрубки, забытые слеги.
Так было всюду, так было и на лесосеках Хельми. Настроение от этого не поднималось. Рабочие делали все нехотя, с ленцой. «В прошлом году куда больше сору было, и ничего, чего же в нынешнем-то из кожи лезть?» — ворчали они. Однажды Хельми не выдержала и накричала на людей. Те уставились на нее, разинув рот. Мастер Киркма никогда не кричала на рабочих, а тем более из-за таких пустяков.
Хуже всего у нее обстояло дело на одной из больших, совсем свежих вырубок в Сурру, на делянке № 126. Хельми была там три дня тому назад. Два старика, постукивая топорами, не спеша окоряли пропсы, им этой работы хватило бы до осени. Хельми послала им в подмогу еще восемь человек. Хоть начерно приведут лесосеку в порядок.
«Сейчас бы чашечку кофе погорячей — подбодрить себя немного», — подумала Хельми, но не смогла заставить себя пойти на громадную общую кухню и развести огонь в плите. Совсем обессиленная, она легла на свой узкий диванчик. Ей было отведено две комнаты в низком, но просторном крестьянском доме. В одной помещалась контора, в другой жила она сама.
Хельми была нелюдимой, и мало кто знал, как она живет, — в ее комнату редко заглядывали даже женщины, не говоря уж о мужчинах.
Не пролежала она и пяти минут, как кто-то постучал в дверь конторы. Она скорчила гримасу и не шевельнулась. Пускай стучит. Дверь в соседней комнате была закрыта изнутри на крюк и на засов. Приемные часы кончились, пусть приходят утром.
Но посетитель оказался настойчивым: он забарабанил кулаком, да так, что Хельми испугалась, как бы старая дверь не соскочила с петель. И все же, решив не открывать, она уткнулась головой в подушку. Когда за дверью, наконец, стало тихо, она с облегчением вздохнула…
— Здравствуйте! — сказал незнакомый голос. Хельми так и вскочила, словно ее иголкой укололи. В дверях, ведущих в кухню, стоял, придерживая занавеску, лесничий Реммельгас. — Извините, что ворвался в ваше святилище. Я видел, что вы пошли домой. Побежал следом, но не догнал — шаг у вас проворный, и вы успели юркнуть к себе.
— Я устала…
Реммельгас подошел и протянул ей руку.
— Поздороваться все же не мешает, хотя бы и с непрошеным гостем. Уделите мне всего лишь пять минут.
— О чем пойдет речь? О лесе?
— О лесе.
Киркма вздохнула.
— Спасенья от него нет ни на минуту. Ну, раз уж вы ворвались силой, то от вас так просто не отделаешься. Прошу вас, пройдемте в контору.
Они перешли в соседнюю, более просторную комнату с потолком из толстых коричневых балок. Реммельгас с любопытством огляделся. Какой контраст! В первой комнате уют, приветливая теплота, а тут все такое деловое, строгое, официальное. Простой коричневый стол у окна, вдоль стен некрашеные скамьи и несколько стульев, большой застекленный шкаф для бумаг — вот и все, если не считать висящих графиков и таблиц, перед которыми Реммельгас задержался. Участок Хельми Киркмы поработал на славу. Вон сколько процентов выдано! Горячая волна опять ударила ему в голову. Состояние у него было такое, что он мог бы сейчас с родным отцом разругаться — его удерживало лишь то, что перед ним стояла женщина.
— Я пришел со сто двадцать шестой делянки. Она относится к вашему участку?
Хельми кивнула и пристально взглянула на лесничего. Значит, и он побывал на той же самой делянке! Но в конце концов сегодня еще не первое мая, десять человек за оставшийся срок со многим управятся…
— Ну и безобразие же у вас там! Я не очень удивился тому, что нашел на уборке вырубки лишь двух старичков, — это обычная для Куллиару картина. Гораздо хуже то, что рабочие идут на заведомое надувательство. Но обманывать лесничество — это все равно, что обманывать народ, это все равно, что пилить сук, на котором сидишь.
Хельми удивленно посмотрела на Реммельгаса — из-за пустяков он не стал бы так горячиться.
— Ну, и шайка у вас там подобралась! — заговорил Реммельгас тише. — Гляжу издали — лежит груда пропсов. Все ошкурено, подпорки крепко забиты в землю, — порядок, словом, образцовый. Я обрадовался. Но тут в штабель влетела оса, и мне почему-то вспомнились детские годы. В те годы я и один пастушонок с соседнего хутора занимались тем, что разоряли на спор осиные гнезда, кто больше разорит. Хочу я по мальчишеской привычке напасть на ос, раздвигаю пару бревен, чтобы посмотреть, где они устроились, и буквально немею от неожиданности. Все пропсы в штабеле неошкуренные, если не считать верхних, положенных для отвода глаз.
— Не может быть!
— Впрочем, только из-за этого я все же не стал бы врываться к вам через кухонную дверь. Это бы я еще стерпел. Но когда рабочие начали поднимать меня на смех: мол, зря вы тут рыскаете, нам, дескать, начальство велело одну видимость соблюдать, — тут я больше не мог…
Хельми покраснела до корней волос.
— Вам не кажется, товарищ Реммельгас, что вы заходите слишком далеко?..
— Я ничего от себя не прибавил. Что мне еще оставалось как не пойти к вам? Это же ваш участок, товарищ Киркма!
Не сказав ни слова, Хельми ушла в свою комнату и миг спустя вернулась в пальто и в темной лыжной шапке.
— Пойдемте!
— Куда?
— На сто двадцать шестую делянку.
— Ведь вы устали.
— Я разоблачу вашу клевету.
Они вскочили на велосипеды и поехали. Предсказание Тамма насчет дождя не сбылось, — тучи рассеялись, стало теплее и встречный ветерок ласково обвевал лица. Тысячи стебельков, словно только и ждали этого тепла: и тут, и там нежно зеленели на солнечных склонах островки молоденькой травы. Они ехали вдоль полей. Кое-где еще пахали, и оттуда слышались протяжные «но-о!» А местами уже и сеяли: по высокому холму в стороне катилась рядовая сеялка. Подальше, под косогором, попыхивал трактор. За ним перелетала пестрая стая птиц — нахальные вороны и крикливые галки, деловитые скворцы и скромные трясогузки, осторожные сороки и болтливые дрозды. Стараясь перещеголять друг друга в смелости, они подбирались чуть ли не к самому плугу.
Хельми ехала впереди, не снисходя даже до того, чтобы хоть раз оглянуться. Она так ловко лавировала между глубокими колеями, узловатыми корнями и камнями, что Реммельгас диву давался. Доехав до колхозного леса, они сошли с велосипедов, оставили их в кустах и пошли напрямик сквозь заросли. Так они сокращали путь на целый километр.
Новая вырубка была продолжением старой, тянувшейся от самой железной дороги. Довольно длинная, она упиралась в молодой смешанный лес.
— Вы только посмотрите на просеку! — воскликнул, останавливаясь, Реммельгас. — Что за растяпы валили тут деревья?
Хельми и сама знала, что в этом лесничий прав. Просека была замерена достаточно прямо, но после того как лес сняли, ее стены выглядели вроде затылка, остриженного овечьими ножницами. У каждого дерева есть более легкая и более тяжелая сторона, на которую оно стремится упасть при повалке. Чтобы не попортить лес, приходится изменять естественное направление падающего дерева, заставляя его рухнуть на просеку. Но лесорубы, предоставленные самим себе, не особенно об этом заботились и позволяли деревьям падать, куда им вздумается. Большая ель рухнула на смешанный лес и до самой земли проложила широкую щель. Она подмяла несколько кустов, ободрала ветви соседних деревьев и даже сломала кое-какие юные деревца. В других местах пила как бы ненароком срезала лес вне просеки: там попалась ель покряжистей, там береза покрупнее. Фестметры доставались легко, — отошел на два шага в сторону и вали что приглянулось. Мелочь же, росшую на просеке, снимать не стали: возни много, а фестов мало. Ободранная и покалеченная, она придавала всему зрелищу особое безобразие.
Хельми почувствовала себя виноватой: оснований, чтобы, не принять делянку, более чем достаточно. Она робко поглядывала на Реммельгаса, но тот загадочно молчал. Он подвел ее к одному штабелю, к другому, к третьему, сбросил с них ошкуренные пропсы — и что же она видит… Ну, и жульничество! Хельми так стыдно, что она готова сквозь землю провалиться.
Она была здесь несколько дней назад, распорядилась сделать и то, и это, но никто и не подумал следовать ее распоряжениям: ей это стало понятно сразу, едва они сюда пришли. Хоть бы при ней постыдились: никто не ошкуряет пропсы и пни, как она велела, не собирает в кучи и не сжигает ветки, — знай себе грузят на подводы лес, будто ее здесь и нету. «Хорошо же!» — решила Хельми и предоставила действовать лесничему.
Тогда тот вспрыгнул на высокий пень и кликнул всех рабочих к костру, над которым поднимались густые клубы светлого дыма. Лениво и нехотя, с развальцем, люди потянулись к нему, обмениваясь между собой шуточками, как видно насчет пришедшего начальства. Сзади всех тащился здоровенный парень в желтых сапогах гармошкой. Подойдя к лесничему, он встал перед ним, расставив ноги и засунув руки в карманы.
— Ну, что там опять стряслось? — спросил он.
Он, очевидно, решил, что сейчас предстоит препираться с Реммельгасом, но тут вдруг на него налетела Хельми.
— Почему не выполняете распоряжений?
— Как так не выполняем? Выполняем! — Верзила медленно повернул голову к ней.
— Разве я три дня тому назад не приказала приняться за уборку?
Парень только осклабился. У Реммельгаса даже руки зачесались от злости.
— Что ни день, то новый приказ. Да что мы вам, шуты гороховые, чтобы плясать под любую дудку?
— Я не меняла своих распоряжений…
— Нашлись и другие, кроме вас. Вы тогда ушли, а следом за вами пришел с лесопункта наш начальник и сказал, что все это недоразумение. И приказал, чтоб работали по-старому.
— Товарищ Осмус?
— А кто же еще!
На лицах людей было написано любопытство. Хороши начальники: один не знает, что делает другой. Поняв, в какой тупик попала Хельми, Реммельгас, чтобы дать ей время собраться с мыслями и чтобы излить накипавшее в нем самом раздражение, крикнул:
— Почему вы нарушаете предписания по рубке леса?
Строгий тон лесничего испугал людей, — они сознавали свою вину. Все растерянно молчали, лесорубы не знали, кто из них должен отвечать лесничему.
Реммельгас обратился к верзиле в желтых сапогах.
— Ну, вы! Отвечайте — почему?
— Это не мое дело, я возчик, — пробормотал тот.
Какой-то человек с жидкой бородкой, гревшийся у костра, удивленно развел руками.
— Какие ж такие законы мы тут нарушили?..
— В прошлом году нам не тыкали в нос каждой щепкой, — добавил пожилой, уже сутулый лесоруб в меховом жилете. И он, и бородатый были назначены Осмусом ответственными за чистку вырубки.
— Мы не будем обсуждать того, что было в прошлом году. Лесник уже давно объяснил вам, что и как нужно делать.
Бородатый выудил из костра горящий сучок и, прижав тлеющий конец к трубке, процедил, затягиваясь:
— Уж больно вы разошлись… Начальник пункта сказал, что если новый лесничий станет чересчур придираться, то принимать это к сердцу нечего…
Прежде чем лесничий успел ответить, Хельми крикнула:
— Вы клевещете на начальника лесопункта!
— То есть как это клевещем? — Рабочий в меховом жилете уставился на нее во все глаза. — Что слышал, то и говорю. Я хорошо помню, он еще сказал, что лесничий себя пупом земли вообразил, думает, что вокруг него все вертится, вот и сует свой нос во все щели.
Кое-кто рассмеялся. Отчего же и не посмеяться, если начальники живут, как кошка с собакой? И в конце концов, что же они рабочего человека за нос водят? Пусть говорят напрямик, как быть и что делать.
— Вы, по-видимому, неверно поняли товарища Осмуса, — сказала Хельми, и Реммельгас удивился тому, как хорошо она владеет собой. — Предписания, касающиеся рубки леса, одинаково относятся и к лесничеству и к лесопункту. Виноваты на этот раз мы, лесопункт. И я тоже виновата. Надо было с вас требовать точного выполнения предписаний, а я не требовала. Но говорить вам говорили не раз, и нечего вам прикидываться будто вы не знаете, о чем речь. Запомните, что я больше ни жерди от вас не приму прежде чем все не будет убрано, как полагается.
Люди хмуро посмотрели на ту часть лесосеки, которую они очистили на скорую руку и за которую им предстояло взяться снова. Исправлять старое в десять раз труднее, чем делать новое.
— Ведь мы требуем на вырубках полного порядка и чистоты не назло вам и не ради красоты, — добавил Реммельгас. — Лес жалко, гибнет он иначе… И еще одно. Если чего не сделаете, так не скрывайте, не старайтесь обмануть. Оставьте на виду то, что не успеете ошкурить, — не успеете или не захотите. Тогда, может, мы с лесниками устроим субботник и ошкурим сами. Договорились?
Обратно они пошли по другой дороге. Выйдя из поля зрения стоявших вокруг костра и бурно споривших людей, они присели на корявое березовое бревно, оттащенное возчиками на обочину. Дорога тут была ухабистая, изрытая. Тяжелые грузовики пытались проехать по ней зимой на лесосеку, но снега было мало да и тот они с телегами уже размесили в грязь, так что после двух рейсов, окончательно испортивших дорогу, от машин отказались и полностью перешли на конную тягу.
— Курите? — Реммельгас протянул Киркме коробку с папиросами. Он взглянул на ее грустное лицо, и его собственная досада несколько улеглась. Разговор на вырубке сложился совсем не так, как он ожидал, но, может, это и к лучшему. Удалось все же поближе познакомиться с людьми и понять их мысли. Да, наверно, и работа у них пойдет после этой стычки живее.
— Вы, вероятно, очень сердитесь на меня, — начал он, закурив папиросу. — Я несправедливо обвинил вас в том, что там работают только двое. А вы, оказывается, послали еще восьмерых. Что же вы мне об этом сразу не сказали?
Хельми отломила березовую ветку. Почки на ней лопнули, раскрыв нежно-зеленый комочек листьев. Девушка содрала с ветки кору и начала жевать, — она любила ее горьковатый вкус.
— Потому что я вам не верила. Думала, что вы осмотрели все поверхностно и ошиблись…
Помолчав немного, Реммельгас спросил:
— Вам, наверно, нелегко на лесопункте?
Хельми посмотрела в сторону и хлестнула себя веткой по ноге.
— Мы с Осмусом говорили о вас однажды. Он сказал, что считает вас не в меру ретивым, что вам следовало бы дать людям время на перестройку…
— Осмус охотно растянул бы эту перестройку лет на десять!
Хельми сильнее хлестнула веткой.
— Но относительно вас он прав. И есть тому веские, весьма веские доказательства.
— Сурруские лесосеки… — тихо сказал Реммельгас.
— Хотя бы сурруские лесосеки. Вы, кажется, еще не принимались за них?
— У лесопункта хорошая информация. Нет. Мы работали в Кюдема. Решили подождать, пока в Сурру немного подсохнет. Надежда на это есть: погода стоит хорошая и даже вода в Куллиару чуточку спа́ла.
— Так что вы не отказались от своего плана? Хотите устроить нам трудную жизнь? Я мастер лесопункта, но я не знаю, как оттуда вывезти материал. Может, вы нам посоветуете?
Реммельгас пожал плечами. Что сказать? Что вывозка — это забота лесопункта, а не лесничества? Хорош человек, который видит лишь свой огород и не умеет или не хочет считаться с соседями и с их трудностями. Словно каждый барахтается в одиночку, словно деятельность каждого не вливается маленьким ручейком в единый огромный поток всенародного труда.
Чувствуя на себе выжидательный взгляд Хельми, он неуверенно заговорил:
— Это, конечно, не легко. Нам часто бывало трудно, даже очень трудно, но необходимое из-за этого не оставалось несделанным.
И прервал себя на полуслове. Больно разумничался, на проповеди перешел! Не хватает еще добавить: тщательно подготовьтесь, взвесьте, организуйте! Разве ему самому не осточертела, разве мало его самого злила такая пустая болтовня, такие никчемные советы!
— Нет, не сумею сказать вам ничего дельного, — сказал он искренне. — Я думал об этом, но…
«Какое же „но“? — подумал он. — Работы было много? Ах, опять общие слова, а ведь я сам уже потерял к ним всякий вкус — пора сменить пластинку». И он сказал:
— Да мне ли распутывать за других клубки, когда я сам во всем запутался?
Хельми не ответила — знай катала носком сапога какой-то камешек. Тут на дороге появились люди, от которых они только что ушли. Кое у кого были обвернуты вокруг пояса двуручные пилы. Проходя мимо, они многозначительно переглянулись, а бородатый сказал как можно громче:
— Воркуют… То-то они так дружно на нас накинулись.
Хельми вскочила.
— Идиот! Вот они какие, мужчины. — И кинулась в лес.
Реммельгас побежал следом, и вскоре они добрались до своих велосипедов. Всю дорогу Хельми так гнала, что он едва поспевал за ней, а когда они добрались до конторы, то девушка, прощаясь, даже не взглянула на него.
— Спокойной ночи. Спасибо за указания. Впредь постараюсь быть повнимательней. А насчет вывозки не думайте, не ваша печаль. Как-нибудь и сами сообразим! А то еще поседеете до срока из-за чужих забот…
Реммельгас не спеша поехал домой. «Вольно же людям так распускать языки! — думал он. — Сколько из-за этого бывает расстройств, недоразумений, свар: не будь этого бородатого, так они бы всё обсудили и, наверняка, додумались бы до какой-нибудь полезной идеи. До чего ядовито она сказала: „Уж как-нибудь и сами сообразим!“ Что ж, соображайте сами, только поскорей. Мне же забот меньше!»
А забот у него хватало, хоть он и не решился сказать об этом Хельми. Он и думать забыл о странностях ее характера да о неурядицах на лесопункте, так он был занят в последующие дни. Для лесничества наступало самое горячее время: нужно было засадить лесом сто двадцать гектаров вырубок, пустошей и полян. Лесники озабоченно покачивали головами. Питкасте грозился, что запьет с отчаянья. На полях кипела посевная, колхозы и слушать не хотели о том, чтобы отпускать людей на лесопосадки. Председатель сельсовета лишь разводил руками, но Реммельгас не давал себя обескуражить. Конечно, с колхозов был спрос небольшой. Там каждый человек и каждая минута были на счету. «Раз лес торопится, то и нам надо торопиться», — говорили крестьяне. А лес в одну из ночей вдруг оделся листвой, начала буйно цвести черемуха.
Да, дел было невпроворот, но Реммельгас все же выбрал время, чтобы сходить и в Сурру. Уходя из лесничества, он сказал бухгалтеру, что ему надо посмотреть, как дела с лесопосадками. Тот лишь усмехнулся: знаем, мол, в чем суть, — хоть и не ваше дело проверять, как там с семенами, но разве на Питкасте можно положиться? Реммельгас поторопился уйти.
Они высчитали с Нугисом, сколько потребуется семян, сколько наберется в питомниках и на откосах канав еловых и сосновых саженцев. Взвесив запас Нугисовых семян, они выяснили, что на посев в Сурру их хватит с избытком.
— Не одолжите ли другим лесникам? — спросил Реммельгас.
— А где они сами были зимой? — проворчал Нугис.
— Им придется сеять намного больше, чем в Сурру.
Сосновые семена, гладкие и коричневые, потекли между шершавых пальцев Нугиса. Он задумчиво сказал:
— Но на будущий год мне понадобится больше…
Реммельгас рассмеялся.
— Однако вы осторожны и дальновидны. Не беда, следующей зимой мы все будем запасливей, соберем больше.
Старик согласился. Они пошли на вырубку, где люди уже подготовили посевные площадки: половина участка была покрыта двухметровыми пятнами взрыхленной земли. Реммельгас удовлетворенно улыбнулся. Он хорошо помнил, каким серьезным и молчаливым был Нугис на последнем занятии мичуринского кружка, когда Реммельгас рассказывал о новейших методах выращивания леса. Хоть лесник тогда и держал в руке огрызок карандаша, но он ни разу не коснулся им бумаги.
— Почему вы ничего не записываете? — спросил лесничий.
— Зачем! — буркнул лесник. — И так запомню…
А теперь они зашли в баню при сторожке, в которой лесник лущил зимой шишки, и Реммельгас увидел там бидон с известью и малярные кисти. Да, похоже было на то, что старик слово в слово запомнил урок, хоть и не записал его.
— Решили попробовать? — спросил он и показал на известь.
— Да. На одном квартале. Там у меня трава стеной стоит…
Злейший враг лесов — хвойка. Она накидывается на свежие вырубки, и потому их оставляют незасаженными года два-три. Но тогда приходит другая беда: трава входит в силу, заглушает лесные посевы, душит побеги. Значит, следовало бы сажать или сеять в первый же год после рубки, когда травы еще мало. Чтоб отпугнуть хвойку от побегов, лесничий посоветовал окунать корни саженцев в известь. Лесники недоверчиво качали головами. «Поможет ли это?» — усомнился Килькман. «Известь обожжет корни», — решил Питкасте. Лишь Нугис ничего не сказал. Он вертел в пальцах карандаш и с жадным вниманием ждал продолжения лекции. Но кругом все еще спорили и не давали слушать, пока старик не цыкнул яростно: «Да заткнитесь же!»
Да, старик хорошо усвоил урок: у него все было готово к севу, хоть он ни разу не просил ничьей помощи. Не то что у других, например у Тюура. Тот не переставая плакался: рабочих мало, семян нет, кочки срезать нечем, в лавке уже восемь лет как не было извести — самому ее, что ли, обжигать. Без конца он выпрашивал в лесничестве то одно, то другое, но до сих пор так и не подготовился к севу.
Когда они вернулись в Сурру, их встретил лишь лай собак и завывание Кирр. Реммельгас только что собрался спросить, куда делась Анне, когда Нугис протянул ему коробочки.
— Что это?
— Жуки.
— Откуда?
— Из заградительных рвов. Помните, вы говорили на одном занятии, что от хвойки помогает окапывание. Вот я и окопал на пробу кой-какие участки. Рвы по утрам так и кишат жуками. Лягушки и то в них застревают, а вчера я убил там гадюку.
Реммельгас вытряхнул содержимое коробки на большой лист бумаги, который зашуршал под жуками. Лесничий взял спичку и рассортировал их. Большей частью тут были старые знакомые, но некоторых следовало бы еще изучить.
— Мне показалось, что вы недоверчиво отнеслись к окапыванию?
— Дело новое… Разве могут, думалось, эти пятнадцать сантиметров удержать такую обжору, как хвойка… Теперь я все питомники окопаю.
— Анне дома нет? — спросил немного погодя лесничий.
— Уехала дня на два в город. Не стал ее удерживать — она всю зиму просидела дома.
Сторожка сегодня казалась какой-то осиротевшей. Рассеянность лесничего не ускользнула от зоркого хозяина. Он вгляделся в гостя, который переворачивал на спину жуков. Занятно, конечно, наблюдать, как жук вытягивается, отгибает головку и, щелкнув блестящим панцирем, броском переворачивается на брюшко. Но не в первый же раз лесничий все это видит, чтобы сидеть так, забыв обо всем другом. Он, наверно, устал — должно быть, слишком много работает. Молодость! В молодости за один год хочется перевернуть все на свете, все обновить. Поживи лет шестьдесят, тогда научишься шагать неторопливо, но уверенно…
Наконец Реммельгас поднялся и сказал:
— Ну что ж, пойду… Передайте привет Анне, когда вернется…
— Передам, — ответил Нугис. — А как же с посадками, с севом? Можно начинать?
— Ждать помощи со стороны не будешь?
— Какая там помощь… Кадровые рабочие у меня есть, позову еще их жен да ребят.
Лесничий кивнул, и на том их разговор кончился.
За всеми подобными делами Реммельгас не забывал и об осушении почвы. Каждый вечер он расстилал на столе карты, планы и проекты осушения туликсаареских земель. Он собрал все это в волостном и уездном исполкоме и теперь пытался составить по ним общую картину масштаба работ. Все измерения и вычисления приводили к тому, чего Реммельгас так боялся, — к углублению реки Куллиару, без которого дренажная сеть не дала бы ощутимого эффекта ни в лесу, ни на колхозных полях.
Да, в старых проектах было много промахов и чисто технических и принципиальных. В них вопрос решался мелко, поверхностно: углубление малой излучины считалось всего-навсего желательным, но не таким уж необходимым, а что до большой излучины, так о ней ничего не говорилось. Была запланирована лишь одна магистральная канава. Если она и помогла бы, то разве только деревне Туликсааре. А поля и луга колхозов «Вперед» и «Свобода»? А заболоченные леса, где еще можно спасти деревья от гниения и отвоевать площадь для лесопосадок? Предполагалось осушить две тысячи гектаров, но даже и это скромное намерение так и осталось на бумаге. А Реммельгас подсчитал, что надо осушить по крайней мере одиннадцать тысяч гектаров. Эта цель была посерьезней, чем у буржуазных мелиораторов, и за нее стоило бороться.
Но уже имелись расчеты и по углублению большой излучины, составленные в советское время, и Реммельгас тоже получил их в уездном исполкоме. Сделаны они были тщательно, и размах работ получался не таким уж устрашающим. Только надо было бы проверить все на месте самому.
И как-то он позвонил ранним утром объездчику Питкасте: будьте, мол, дома, я к вам зайду и мы пойдем вместе промерять глубину реки. Из телефонной трубки послышалось неопределенное бормотание, затем было сказано что-то о человекоубийстве и наконец произнесено более разборчиво:
— Ладно, заходите…
Дом объездчика находился в середине петли, образуемой малой излучиной. Захватив измерительный инструмент, они сначала направились к мельнице, а оттуда вниз по течению к станции Куллиару. На Питкасте была зеленая шляпа с широкими обвисшими полями, болотные сапоги выше колен и легкое полотняное пальто. Он скорей производил впечатление рыбака, чем объездчика. Нехотя расставшись с домашним уютом, он уже забыл о своем недовольстве и весело шагал вдоль берега, оставляя на росистой, отливавшей серебром траве две широкие полосы темных следов. Утро было свежим и радостным, и таким же веселым и беззаботным было настроение Питкасте. Он рассказывал, какую длинную-предлинную щуку он выудил вон в том бочаге, какого большого налима он ухватил за жабры вон под тем камнем. Он отлично помнил, какая в каком месте глубина реки, и Реммельгас не только удивлялся этому, но и молча упрекал себя за то, что до сих пор не обращался к столь осведомленному человеку.
Ставить верши, забрасывать блесну, сидеть под кустом с удочкой для Питкасте было так же необходимо, как рыбе плавать. Чтобы выискать хороший клев, он отмахивал за ночь по сырой траве десятки километров, вымокая порой насквозь сверху донизу и нимало не тревожась об этом. На берегу реки или озера он становился совсем другим человеком, чем во время своих обычных служебных занятий вроде таксации или саночистки.
Вот и сегодня он был оживлен и деятелен, хотя Реммельгас привел его на реку вовсе не затем, чтоб ловить рыбу. Но, как ни странно, его всегда охватывал такой подъем, такое усердие, когда он работал с Реммельгасом. Ему не очень-то нравился новый лесничий. И отнюдь не потому, что тот занял место, на котором он сам просидел два года. Питкасте понимал, что в лесничие он попал случайно, — так сказать, в аварийном порядке. Не нашли никого получше — вот и поставили его. Эти два года были неплохими: сам себе голова, он посиживал солидно в конторе, и никто его не тревожил. «Лес суеты не любит», — говаривал Осмус. Но тут явился этот Реммельгас, и никому житья от него не стало, всех он загонял. И самое противное было в том, что его непоседливость оказалась необычайно заразительной. Питкасте поддался ей, сам того не замечая. Осмус даже поддел его однажды: бегаешь, мол, по пятам за новым лесничим, словно такса за овчаркой. Это было обидно. Начальник лесопункта и раньше позволял себе такие шутки, а теперь так совсем стал язвой. Новый лесничий потревожил его, словно медведя в берлоге. Смелый он, этот молодой лесничий, чертовски смелый: показывает зубы такому человеку, как Рудольф Осмус. Едва ли это кончится добром, едва ли.
Но все же с лесничим весело было лазить по речным берегам, промерять глубину и ширину реки. Он такой стремительный, порывистый, он так уверен в себе, что при нем Питкасте было как-то неловко работать со своей обычной прохладцей.
Когда они покончили с обмером малой излучины, Реммельгас сложил бумаги в полевую сумку и сказал:
— Похоже, что я был прав, — углублять придется намного больше, чем предполагалось, не то при такой узости и кривизне русла течение останется слишком медленным. А нам надо его ускорить. Ведь на стремнине у Варью еще мельче!
— У Варью, конечно, гораздо мельче, — согласился Питкасте.
Реммельгас застегнул сумку и встал.
— Пошли к Варью!
Они двинулись вдоль берега, заросшего густым ивняком и черемухой. Чтобы продраться сквозь них, приходилось работать обеими руками. Они с трудом преодолели несколько сот метров, когда Питкасте воскликнул:
— Зачем же мы идем здесь, товарищ лесничий?
— А где же?
— Тут нам придется пройти километров шесть, а то и больше — ведь местами берег такой топкий, что нужно будет обходить кругом…
— Вы думаете?
— Да, лучше идти прямо! Так будет немногим больше километра. И везде сухо. Лишь кое-где придется продираться. Там почти сплошь молодой лесок, по нему идти — одно удовольствие, словно по парку.
Реммельгас остановился.
— Прямо?.. — спросил он. — Прямо? — И так шлепнул Питкасте по спине, что тот чуть не потерял равновесия. — Как это просто!
Питкасте не понял, что так обрадовало лесничего. А Реммельгас так воодушевился, что чуть ли не бегом побежал — Питкасте едва поспевал за ним.
«Осмус все-таки прав, — подумал объездчик, — взбалмошный он, и всё». Его обидело, что лесничий не сказал ему, из-за чего он так развеселился. Никакой охоты не было отвечать на его расспросы о стремнине у Варью. Питкасте поглядел прищурясь на солнце, которое словно задремало на небе, и, хмуро поразмыслив обо всем, пришел наконец к выводу, что после такой гонки невредно бы опрокинуть рюмочку водки. Только где ее раздобыть? Впрочем, у Осмуса в последний раз осталась почти не начатая бутылка, взять бы, да…
С реки Реммельгас, уже один, направился прямо в колхоз «Будущее». Задумавшись о чем-то, он уже не летел сломя голову, а брел медленно и с опущенной головой, словно упал вдруг духом. Прямо! Звучало это заманчиво. После слов Питкасте его, словно молния, пронизала мысль: к чему канителиться с углублением старого порожистого русла, если можно прорыть новое, более короткое и глубокое? Работать придется намного меньше, да к тому же еще посуху, а какой замечательный отток получится! Реммельгас мигом загорелся. Но, выбравшись опять к реке, он почему-то увял. Новое русло? Громадная, устрашающе громадная и вряд ли посильная задача. И Реммельгасу стало грустно, словно он потерял что-то дорогое. Проложить новое прямое русло, минуя все эти стремнины и омуты… Нечто подобное ему мерещилось уже некоторое время, хоть он и не проронил никому ни слова. Но идее этой, вероятно, суждено остаться прекрасной мечтой…
Председатель колхоза, насвистывая марш, вышел из конторы веселый и бодрый, словно весь день отдыхал. На самом же деле, он уже успел сегодня побывать во всех концах колхозных владений, простиравшихся на десять километров. Везде нужен свой глаз, своя рука. Хозяйство большое, народу много, и не у каждого дело спорится. Один не так установил диски сеялки — научи. Другой, совсем молоденький, впервые пашет на пароконном плуге — покажи ему, насколько опустить лемех, чтобы пласт был мощнее, а борозда поровнее.
— К пятому кончим сев яровых, — еще издали крикнул он Реммельгасу.
— Да ну? — усомнился лесничий.
— Точно. Нынче весна такая ранняя…
— Это плохо?
— Нет, хорошо, лесной ты медведь.
— Что ж, и вправду хорошо, даже очень. Скорей управитесь — скорей и нам поможете лес сажать.
— Сперва картошку надо сажать, потом лес, — возразил Тамм. — Дело это хлопотное, тут все люди нужны.
— А про обещание свое забыл, на попятный пошел? Того, чтоб у вас в колхозе времени с избытком осталось, никогда не дождешься. О воде уж ты и не помнишь, что ли?
Тамм помрачнел.
— Помню, как не помнить. Старики говорят, что река второй раз в этом году разольется. Подумаешь — так прямо дрожь пробирает: ведь летние паводки и для хлебов и для сена — чистая погибель. Разве тут о воде забудешь?
Реммельгас задумчиво хмыкнул. Он повесил рулетку на гвоздь, прибитый на крыльце, и буркнул:
— Я прямо с реки, со стремнины у Варью…
— Как вода? Спадает?
— Спадает, скоро совсем сойдет. Река ненадолго присмиреет. Но, облазив берега, я утвердился в мысли, которая давно уже не дает мне покоя. А что, если совсем оставить старое русло с его порогами и вырыть новое? Представляешь?
— С ума сошел!.. У Куллиару ширина пятнадцать метров, это тебе не ручеек, чтоб так запросто ее передвинуть!
— Ну и что же! — горячо возразил Реммельгас и, увлекши Тамма в контору, подвел его к карте на стене. — Думаешь, старое русло легче углубить? Какой там! В этом деле так можно увязнуть — в несколько лет не вылезешь. Ведь целых шесть километров перекопать надо. Так не проще ли вырыть новое русло длиной в километр? Абсолютно прямое, нужной ширины и с таким углом падения, что вся вода из Люмату утечет в море.
— Черт! — Тамм сдвинул на лоб фуражку. — Вот это идея! Смелая мысль! В самом деле, и короче, и людям меньше мучиться. Как же мы раньше этого не сообразили?
Реммельгас взял стул и сел. И почему-то вздохнул. Да, он и сам пережил точно такое же воодушевление, как Тамм. Но как это было ни неприятно, все же предстояло окатить его холодной водой. Надо сделать это поосторожнее.
— Так оно и есть, и все, что ты сказал, правильно, — произнес он. — Придут люди, работа закипит вовсю, но… Подумаем немного и о неприятностях, которые могут нас постичь. Ведь надо вынуть около тридцати тысяч кубометров грунта, и абсолютно неизвестно какого! Кто знает, сколько в нем окажется известняка и камней? Опять же ясно, что в новое русло сразу начнет стекать вода. Многие ли захотят работать по пояс в грязи? Ведь принуждать к этому мы никого не можем. Тут нужен энтузиазм, подъем, и поначалу он будет, но надолго ли его хватит? Вдруг людям это надоест, они махнут рукой и разойдутся по домам?
Тамм сразу приуныл.
— Вот видишь, опять я увлекся, — сказал он, смущенно улыбнувшись. — Да ведь прямо зло берет на эту реку — играет с нами, словно кошка с мышью. Вот и хватаешься сразу за любую идею, не подумавши.
— Да, без техники мы тут бессильны. А получить сейчас машины трудно…
Реммельгас уже обращался с запросом в уездный исполком, но оттуда пришел малоутешительный ответ: сейчас в уезде нет ни одного экскаватора. Может быть, в следующем году будут. «Может быть»! Какие ужасные слова! Но что, если все-таки не ждать, а начать своими силами? И они принялись обсуждать эту возможность, принялись высчитывать объем самых необходимых работ.
Часы шли, а разговор их все продолжался. Со двора уже доносились окрики вернувшихся возчиков и стук падавших оглобель. Звенели бидоны в руках доярок. Потом все эти звуки умолкли и под окном послышались шаги ночного сторожа. А они все еще сидели над картой, все еще выписывали длинные столбцы цифр, даже не замечая, что от десятилинейной лампы тянется к потолку густая копоть.
Но сколько они ни вычисляли, гора земли, которую предстояло выбросить, не только не уменьшалась, а скорее росла.
— Ах, дьявол! — Реммельгас стукнул кулаком по столу. — Значит, придется ждать, пока не создадут мелиоративную станцию и не подбросят машин… Эх, даже и думать не хочется…
Он совсем расстроился. Какой смысл копать осушительные канавы, зная наперед, что от них мало толку, что как раз весной и осенью, то есть во время половодий, во время наибольшей опасности, они по сути не приносят никакой пользы.
— Как же нам быть? — Тамм запустил пятерню в свои темные лохматые волосы. — С чем мы придем на следующее партсобрание? Неужто скажем: мы, товарищи, предлагаем отложить работы?
Помолчав, Реммельгас поднялся.
— Так мы не скажем. Нет, мы объясним, как обстоит дело, попросим помощи и совета, предложим начать работу при любых условиях. Кроме того, еще на этой неделе я схожу к Рястасу и к Тэхни, поговорю и с ними. Пусть мы еще не в силах сразу же покончить с затоплением, подрезать ему коготки мы все же сумеем.
Дорога к дому Реммельгаса пролегала через холм, с которого на обе стороны открывался вид на поля и леса. В сторону к Люмату все словно было залито молоком. Мутно-белый туман расползался все выше, к полям и садам, и, когда налетал ветер, на лицо оседали холодные брызги. Такая погода была не к добру, и, того гляди, могли вернуться ночные заморозки.
Дрожь пробежала по спине Реммельгаса.
— Поцарствуй пока, поцарствуй, Люмату, — пробормотал он, будто болото могло его услышать, — уж мы перережем все твои артерии одну за другой…
Два дня спустя — Реммельгас как раз собирался идти в лес — грохочущий мотоцикл свернул с дороги во двор. Лишь после того как мотоциклист поставил машину к стене и поднял на лоб консервы, лесничий узнал секретаря волостного комитета партии Тэхни. «Опередил он меня», — упрекнул себя Реммельгас. И именно на это намекнул Тэхни, который, поздоровавшись, сказал:
— Что-то вы совсем забыли к нам дорогу. Обещали прийти прочитать мне лекцию о правильном уходе за лесом, но я так ее и не дождался…
— Да, собирался на этой неделе зайти, — пробормотал Реммельгас. — Даже договорился об этом с Таммом. Прошу, заходите.
— Предпочел бы посидеть во дворе, на солнышке…
Тогда Реммельгас повел гостя в крохотный палисадничек, выходивший на дорогу, и усадил его на толстую колоду. Тэхни упер свои длинные ноги в ствол сирени, расстегнул верхнюю пуговицу тужурки и откинулся к бревенчатой стене. Щурясь на солнце, он с интересом принялся следить за быстрыми ласточками, стремительно сновавшими под карнизом крыши.
Лесничий раздумывал, с чего начать. Ему говорили, что Осмус несколько раз ездил в волостной комитет. Не иначе как жаловался, что новый лесничий умышленно чинит препятствия лесопункту. На человека со стороны разговоры заведующего лесопунктом могут произвести впечатление…
— К чему же вы пришли с Таммом? — внезапно спросил Тэхни и так пристально посмотрел на лесничего, что тот от неожиданности смутился и принялся какой-то палочкой выковыривать из земли стебелек. Но он быстро взял себя в руки и начал рассказывать обо всем, что произошло за последнюю неделю. Без обиняков он признался в том, что, когда ему и Тамму уже виделись в мечтах новые луга и посевы, расчеты привели их в тупик: слишком непомерным оказался объем работ.
— Но это не плохо, — сказал он с иронией. — Теперь нам хотя бы известно, каково положение, каков масштаб мероприятия и… как мы бессильны.
— Да ну-у? — впервые за всю беседу прервал Тэхни лесничего.
— Ведь это свыше наших сил! — Реммельгас вскочил с чурбака, на котором сидел, и тот шлепнулся наземь. Как ему сейчас хотелось, чтоб Тэхни поспорил с ним, сказал, что он неправ, что силы хватит и что все задуманное реально. Но Тэхни только улыбнулся: дескать, и горяч же этот лесничий, как пылко ухватился за эту идею — выпрямить реку!
Секретарь встал и так потянулся, что кости хрустнули. Он был выше Реммельгаса. Лицо его казалось безмятежным, ветер трепал прядь темных волос, упавших на лоб. Спокойно и мягко, словно он имел дело с огорченным ребенком, секретарь сказал:
— Большевикам все под силу. Постой, постой, дай и мне сказать пару слов. Как же это получается? Задумали вы вдвоем большое дело, увлеклись им, покой потеряли — я ведь вижу, что ты сам не свой, — а про нас, про партию свою забыли.
— Нет, не забыли, — порывисто возразил Реммельгас. — Ты упрекаешь меня за то, что я раньше к тебе не обратился? Просто считал это преждевременным. Собрание парторганизации дало нам двоим задание выработать план осушительных работ, и мы были обязаны разобраться в вопросе до конца. Так что все началось с партийного задания.
— С этим я согласен. Но как только вы добились ясности, как только поняли, что своими силами дальше не управиться, следовало тут же запросить помощи сверху.
Реммельгас сломал ветку сирени и зубами содрал с нее кожицу.
— Помощи сверху? А сможете ли вы ее оказать?
— В настоящий момент не сможем. Но если какое-нибудь мероприятие полезно народу, то партия найдет и средства для проведения его в жизнь… Но сходим-ка на реку, покажешь там свои пороги и стремнины.
Долго они бродили вместе. Реммельгас успел рассказать о Сурру, о посадках, о лесозаготовках, успел сообщить и о расхождениях с Осмусом. Потом они вернулись в лесничество и выпили по стакану холодного, как лед, молока, принесенного с погреба. И уже совсем уходя, надевая свои консервы, Тэхни сказал Реммельгасу:
— И еще одно, из-за чего я приехал именно сегодня. Из укома партии пришло распоряжение, чтоб вы с Таммом явились послезавтра к первому секретарю.
— По какому делу?
— Секретарь сказал, что ему хочется лично побеседовать с какими-нибудь туликсаарцами. Чего ж тут удивляться — у нас еще не так много сельсоветов, где имеются свои парторганизации. Он просил кстати прихватить и материалы по осушительным работам.
— А план по лесозаготовкам в Туликсааре?
— Об этом разговора не было. Но у вас, безусловно, зайдет речь и об этом. Осмус человек энергичный, он поспевает всюду. Ну что ж, и тебе тоже представляется возможность дать объяснения. Ну, будь здоров. И не заставляй себя так долго ждать. Смотри, чтобы мне снова не пришлось разыскивать тебя самому.
Мотоцикл заворчал и, разбрасывая щебень, рванулся на дорогу. Вот он уже исчез за поворотом, и только синий дымок еще вился в воздухе.
Только Тамм и Реммельгас уселись в приемной уездного комитета партии, как их тотчас позвали в кабинет первого секретаря.
Кабинет Койтъярва был просторным и высоким. Тюлевые гардины рассеивали мягкий и ровный свет. На стене рядом с портретами Ленина и Сталина красовались две картины, написанные маслом, а за спиной секретаря больше чем полстены занимал книжный шкаф, за стеклами которого виднелись ряды аккуратных переплетов.
Из-за стола, приставленного боком к окну, поднялся навстречу туликсаарцам человек средних лет. Он крепко пожал гостям руку, и его несколько угловатое, суровое лицо с серыми живыми глазами осветилось улыбкой. Секретарь пригласил туликсаарцев к круглому столу у стены. За ним стоял полукруглый диван, а вокруг были расставлены удобные солидные кресла.
— Прошу извинить меня за то, что вызвал вас в город, а не приехал сам в Туликсааре, — заговорил секретарь, виновато улыбнувшись. — В будущем непременно приеду, а в этот раз было просто некогда. Но вместе с тем мне настолько любопытно было узнать, как идет у вас жизнь и что делается в лесной сокровищнице нашего уезда, что я рискнул побеспокоить вас в такое горячее время.
У Тамма был несколько недовольный вид. Он всю дорогу ворчал: «Картошку еще не всю посадили, а тут изволь ехать в город отчитываться. Уж я знаю, как там бывает: сперва расспросят, а потом давай голову мылить. Почему сделали так, а не иначе, почему сделали то, а не другое?» Так он брюзжал, не переставая, и лишь одним ухом прислушивался к словам Реммельгаса, который доказывал, что в своевременной критике всегда заключена большая мобилизующая сила. Как знать, может, им там и посоветуют что-нибудь дельное насчет углубления реки. «Как же, посоветуют! — упрямо фыркнул Тамм. — Поговорят и скажут: напрягите, товарищи, все силы, мобилизуйте народ и общими усилиями нанесите решительный удар».
Теперь Реммельгас и Тамм поглядывали друг на друга — кому начинать? Вернее, с чего начинать?
— Жизнь у нас обыкновенная, такая же, как у других, — сказал наконец Реммельгас. — Есть, конечно, свои трудности…
— Трудности трудностями, — прервал его Койтъярв, — и о них мы еще поговорим, а теперь расскажите, что в Туликсааре нового. Легче ли стала жизнь, лучше ли, изменились ли люди, выросли или нет? Ну, председатель, что говорят колхозники?
Тамм заговорил неохотно, но вскоре увлекся, загорелся и принялся рассказывать с воодушевлением и азартом. Секретарь слушал его внимательно, лишь изредка вставляя скупые замечания, — порой для того, чтобы подтолкнуть Тамма, если он слишком долго топтался на одном месте, а порой, наоборот, чтобы вернуть его к интересному обстоятельству, освещенному чересчур бегло.
Затем настала очередь Реммельгаса.
Реммельгас еще во время рассказа Тамма пытался мысленно подытожить все хорошее, что сделано в лесничестве, но итог получался весьма неутешительным. Намерения, одни намерения. Не начать ли с мичуринского кружка? Или с курсов, на которых лесорубы овладевают квалификацией лесников? А то, может, с дополнительного сбора семян, законченного совсем недавно? Все это показалось ему такими пустяками, такой мелочью, что он отказался от своих намерений. И прямо так и сказал:
— Я слишком мало времени пробыл в Туликсааре и поэтому еще недалеко ушел от подготовительных работ, планов и предположений.
Койтъярв бросил на него пристальный взгляд.
— Так-так, — сказал он доброжелательно, — стало быть, планы и предположения… Лес еще не сажали?
— В следующее воскресенье начнем. По плану у нас в этом году свыше ста гектаров.
— Это больше чем когда-либо раньше?
— По меньшей мере в пять раз больше, чем в лучшие годы при буржуазном правительстве.
— Недурно, недурно. А валка леса? Все ли еще рубка превышает естественный прирост?
— В этом году впервые не превышает… Впрочем, так получается только теоретически.
— Как так теоретически?
— Все зависит от того, правильно ли выделены делянки. Если рубить будут неправильно, если будут снимать молодые, еще растущие деревья, то это нам нож в спину: леса будет меньше, чем могло бы быть, чем предполагалось, и возникнет разрыв между теорией и практикой.
— Не должно быть никакого разрыва между теорией и практикой, — сказал секретарь, и голос его зазвучал строже. — Вы отвечаете за то, чтоб и в Туликсааре не срубали в год ни на один фестметр больше чем следует. К осени я непременно приеду и проверю, как там у вас дела по части согласования теории с практикой.
Реммельгас колебался, говорить ли ему или нет о порочной практике Куллиаруского лесопункта? Был ли секретарь в курсе дела? Вряд ли Осмус уже успел побывать здесь. А раз так, то некрасиво критиковать его взгляды, пока он не изложил их сам. Да и не было, в сущности, оснований думать, что Осмус в конце концов не сдастся. Впрочем, Реммельгаса удержало не столько это, сколько уверенность в том, что его наверняка спросят: а как будет обстоять дело с вывозкой? Возможна ли, реальна ли она при новых условиях? Реммельгас так и не успел прийти к какому-нибудь определенному решению, потому что секретарь уже перешел к другому вопросу.
— Никто из вас обоих ни слова не сказал о болоте Люмату, о реке Куллиару, о ежегодных паводках. — Он слегка усмехнулся. — Про запас небось бережете — на закуску.
— Какой там про запас, когда житья от них нет, — вырвалось у Тамма.
— Только тут у нас опять теория с практикой расходится, а желания с возможностями, — добавил Реммельгас.
— Ишь как вас за живое забрало! — Брови секретаря поднялись, но во взгляде мелькнуло одобрение. — Вода — она такая мокрая да холодная, а вы вдруг прямо загорелись. Раз главные трудности связаны с мелиорацией, то с нее и начнем. Очевидно, вы тут являетесь главным инициатором? — обратился он к Реммельгасу.
Реммельгас достал из портфеля и расстелил на столе карту Туликсаареского района. Секретарь взглянул на нее совсем мельком, что не ускользнуло от лесничего, который сразу вспомнил о том, как Тамм ворчал по дороге о верхоглядстве да о головомойках. Секретарь не производил впечатление поверхностного человека, но тогда откуда же это явное безучастие к реке Куллиару?.. Все равно, едва ли в ближайшее время представится более благоприятный случай объяснить партийному руководству, в какой они зашли тупик. И торопливо, словно боясь, что его прервут, немногословно, насколько умел и насколько позволяла сложная тема, Реммельгас рассказал обо всем, что они с Таммом за последние недели предприняли в связи с планами по углублению русла Куллиару. Секретарь откинулся на спинку стула, он не торопил и не останавливал рассказчика, глаза его были полузакрыты, и у Реммельгаса не было полной уверенности в том, что его действительно слушают. Уж не задремал ли Койтъярв?
— В общем, увязли, как утки в тине, — закончил Реммельгас. — Ни вперед и ни назад.
Веки секретаря поднялись, и Реммельгас ощутил на себе такой внимательный, живой и заинтересованный взгляд, что устыдился своего подозрения.
— Вы говорите — одиннадцать тысяч гектаров? — спросил Койтъярв.
— Одиннадцать тысяч, — ответил Реммельгас, как бы ощущая всю весомость этой цифры.
Секретарь достал из ящика стола свернутую карту и разложил ее поверх чертежей Реммельгаса.
— Придержите-ка ее, чтоб не скручивалась, — попросил он Тамма и Реммельгаса. — Узнаете? — Он показал на карту.
Еще бы им не узнать! Ведь это была карта реки Куллиару. Не только нижнего ее течения, как на крохотной по сравнению с этой картой Реммельгаса, а всего бассейна. От самых истоков, извивающихся, словно ниточки, по дремучей чаще, от лесного ручья — до уже довольно широкой реки, которая выходила на поля, разливалась там и возвращалась в лес, где ныряла в болото Люмату, протекала сквозь Кяанис-озеро и, сделав размашистую петлю у Туликсааре, устремлялась вниз к морю.
— Куллиару! — пробормотал Тамм.
— Да, это Куллиару вместе с Люмату, с Кяанис-озером и со всеми остальными своими водоемами. — Секретарь побарабанил пальцами по карте. — Вы ошиблись, товарищ лесничий, сказав, что, снизив уровень воды в Куллиару, можно осушить одиннадцать тысяч гектаров полезной площади. Нет, не одиннадцать, а пятьдесят, а то и все шестьдесят тысяч гектаров земли заболочено или заболачивается из-за разливов Куллиару. Или, если говорить конкретнее: на пятидесяти тысячах гектаров не растет ни сено, ни лес, не говоря уже о хлебе, — из-за вашей стремнины, или, как выразился лесничий, «из-за пробки у Варью». Вы с вашей пробкой у Варью мешаете росту многих колхозов и лесничеств, товарищи туликсаарцы.
Это прозвучало как обвинение. И Тамм с Реммельгасом в самом деле почувствовали себя виноватыми. Они заботились о своем колхозе, о своем лесничестве и, наконец, обо всем Туликсааре, но оказалось, что Куллиару вредит не только им, но и всему уезду, а они этого не видели.
— Правда ваша, — сказал Тамм, опустив голову, — но что мы одни можем?
— Вручную, пожалуй, нам не углубить и не выпрямить реки, даже рискованно за это браться, — поддержал друга Реммельгас.
Секретарь отпустил края карты, дав ей свернуться, и снова спрятал ее в ящик стола. Потом он подошел к гостям, и Реммельгасу показалось, что уголки его глаз хитро прищурены. Но, может, он ошибался?..
— А вам бы хотелось? — спросил он, поглядывая на обоих.
— Еще как! — выпалил Тамм.
— Замечательные вы люди… — Да, глаза его смеялись — никаких сомнений быть не могло. — Возитесь у себя в глуши, словно медведи. Ждал я вас, ждал, но так и не дождался, сам позвал… Ладно, буду говорить так же кратко, как товарищ Реммельгас. Дело в том, что углубление Куллиару предусмотрено общим мелиоративным планом, да и как могло быть иначе? Однако существует много неотложных дел и приступить к Куллиару мы собирались не в нынешнем и даже не в будущем году… Но если на месте будет проявлена инициатива, если люди сами загорятся и захотят приложить руки, то… то отчего бы тогда партии не поддержать всеми силами такое важное мероприятие? Видите ли, друзья, у нас в Лухакверском уезде организуется новая мелиоративная станция. Правда, у нее уже имеется план, имеется годовой график работ, но что, если бы вы не поленились и съездили сами в Лухаквере? Тамошний директор — человек предприимчивый, он, как и вы, ярый ненавистник болот, — может статься, вы найдете с ним общий язык, договоритесь с ним насчет экскаваторов, а вдруг у него отыщется для вас и что-нибудь другое?..
Тамм не сразу понял скрытый смысл этой речи, но Реммельгас тут же воскликнул:
— Так значит мы получим машины, товарищ секретарь?!
— Постойте, постойте, — охладил Койтъярв его пыл. — Этого я пока не сказал… Но обещаю быть за вас ходатаем. Обещаю позвонить на мелиоративную станцию, а… добиться договора вы должны сами. Поскольку мы в укоме уже обсудили на бюро рабочий план станции и одобрили его, то нам не к лицу его менять. Да и у кого прикажете отбирать машины? В них всюду нужда. Всюду началась война с болотами, топями, паводками, и сражаемся мы с ними сообща, единым фронтом, а не поодиночке. Но я верю в то, что у мелиоративной станции имеются скрытые резервы. Ведь братские республики с избытком снабдили нас мелиоративной техникой… Загляните на станцию, побеседуйте, договоритесь… Если там найдут возможным помочь вам, мы возражать не станем.
— Спасибо! — Тамм схватил руку секретаря и так ее сжал, что тот даже охнул. — Спасибо от имени всего Туликсааре… от имени всех колхозников!
— И большое спасибо от работников лесничества! — добавил Реммельгас.
— Меня благодарить не за что, — возразил секретарь. — Большое спасибо вам за смелую инициативу. Не останавливайтесь на полпути, доведите свое дело до конца.
Секретарша в приемной дружески улыбнулась туликсаарцам, ставя печать на их пропуска.
— Ну что? Понравились вам новости?
— Еще бы! Осенью, как проложим новое русло, устроим праздник и позовем вас. Приедете?
— А отчего же нет? — весело ответила девушка. — Ведь не каждый год прокладывают новые русла.
Выйдя из дома уездного комитета, Тамм и Реммельгас невольно остановились: так и хотелось обсудить происшедшее, излить душу. Но времени было мало, следовало торопиться на поезд до Лухаквере, откуда прямо через леса можно было попасть в Туликсааре.
— У меня дела здесь, в городе, — забеспокоился Тамм.
— Хорошо, я съезжу в Лухаквере один. Ты тоже успеешь там побывать, теперь обоим много ездить придется…
Так и договорились. Реммельгас поспешил на станцию. Не прошло и двух часов, как он уже сошел с поезда в маленьком городке.
Это и было Лухаквере.
Если до этого все шло гладко, то теперь вдруг положение усложнилось: никто из попадавшихся прохожих никогда не слышал о мелиоративной станции, и всем приходилось объяснять, что это нечто другое, чем МТС. Наконец посчастливилось встретить человека, который знал, что мелиоративная станция находится в пяти километрах от городка, в старом помещичьем доме. Теперь там помещались школа и клубный зал. В этот самый клубный зал временно и вселили на днях мелиоративную станцию.
Вдоль всех четырех стен стояли столы, а двое молодых и, как видно, предприимчивых служащих даже поставили свои столы на сцену. Тут расположился весь штат станции: и директор, и заместитель, и главный агроном, и техники, и бухгалтер, и машинистка.
Койтъярв уже успел сюда позвонить: работники станции с живым интересом выслушали рассказ о том, что предприняли туликсаарцы, к каким выводам они пришли, как зашли в тупик. Потом все сообща принялись изучать карты и рыться в папках с предварительными расчетами. Директор станции вполне одобрил проделанную работу, его захватила идея выпрямления реки.
— Правильно! — то и дело восклицал он. — Куллиару должна получить новое русло.
— Превосходно! — обрадовался Реммельгас. — Когда приступим?
Молодой человек поправил на носу очки и постучал карандашом по столу. Оказывается, имелись свои «но». Углубление Куллиару не было предусмотрено графиком этого года, и, стало быть, станции не откроют на эту работу кредита. Да пока что и неясно, кто его должен открыть, какое министерство, какой главк. А чтобы добиться от последних решения о финансировании, станция должна предварительно обследовать берега реки, промерить ее глубину, вбить вехи, определить профиль работ и составить на них смету.
— Все это я мог бы проделать и сам.
— И наконец… — директор смущенно улыбнулся, — нет самой техники…
Реммельгас словно с облаков свалился. Хороши работнички! Целый час они обсуждают его планы, составляют новые, обнадеживают, поддакивают, подбадривают, а потом вдруг здрасте — машин нет! На лице его было написано такое уныние, что директор с главным агрономом невольно улыбнулись.
— Кое-что у нас все же есть, — как бы извиняясь, сказал директор. — Нам передали один старый экскаватор. Он уже на ходу, хотя гремит и грохочет так, что за десять километров слыхать. Правда, эта машина отправлена в Вильяндимаа. Имеется у нас несколько тракторов…
— И канавокопатель есть, — напомнил заместитель директора.
— Да, совсем новенький канавокопатель. Изготовлен в Таллине, прислан к нам на испытание.
Реммельгас смотрел то на одного, то на другого. Он не понимал, где кончается шутка и где начинается серьезный разговор. Работников станции забавляло замешательство гостя, они не торопились объяснить ему, в чем дело.
— Канавокопателем рек не углубляют, — буркнул Реммельгас.
Люди расхохотались. Директор снял очки и вытер слезы. Наконец он объяснил:
— Это не беда, что сейчас ничего нет. Мелиоративная станция только организуется, техника еще не прибыла. Но вскоре появятся машины, мы их поскорее испытаем и… и тогда дело пойдет! — Главный агроном потряс руку лесничему.
— Вот как? Значит, если быстро покончить с подготовительными работами, то прямо из Лухаквере в Туликсааре может прикатить какой-нибудь экскаватор?
— Гм-гм… — и директор кашлянул.
Ему показалось, что они зашли слишком далеко. Пришел к ним какой-то неизвестный человек, напел им невесть чего, и вдруг все они стали подпевать ему. Чтобы поднять уважение к себе, к директору как-никак мощного предприятия, он спросил:
— Почему именно вам, товарищ лесничий, так не терпится с этим делом?
Реммельгас смутился. Что сказать? О том, что он лесничий и потому заинтересован в осушении леса, он уже говорил. Говорил он и о том, что его уполномочили действовать от имени колхоза. Слова же о стремлении каждого честного человека принести пользу родине казались ему слишком высокопарными.
Несмотря на свою молодость, директор был довольно проницательным человеком. Он заметил смущение лесничего, посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся.
— Мне кажется, я понимаю вас. Мы с вами одной породы. Знаете, я, как только увижу реку, вышедшую из берегов, как только увижу гиблую, заболоченную землю, то мне прямо не терпится схватить лопату и начать копать! У нас душа землекопов, товарищ лесничий. По правде говоря, желание расправиться с болотами — в крови, у нашего народа. Стоит вслушаться в наши предания и легенды: не болотам ли они обязаны своей мрачностью, угрюмостью, мистикой? Сколько сил отнимали у эстонцев болота, сколько душевной бодрости, пора с ними покончить!
Он поднялся.
— Я пришлю к вам на помощь своего главного агронома. Раньше он был мелиоратором. Нам дадут больше машин, чем обещали, и мы обязательно пришлем в Туликсааре один экскаватор. Только поскорее добейтесь в столице кредита, — если понадобится, дойдите до Центрального Комитета, там помогут.
Реммельгас покинул клубный зал в радостном и приподнятом настроении. Все оказалось не так, как он себе представлял: не было ни грохочущих экскаваторов, ни трескучих кусторезов, ни грейдеров, ни бульдозеров. Даже вывески над дверями не было. И все-таки каждое слово работников станции дышало такой твердой уверенностью в своих силах, такой верой в технику, которую должны были к ним прислать, что Реммельгас с победным чувством взглянул на бурое болото, простиравшееся вдоль дороги и оглашавшееся криками белоногих чибисов.
Сразу же по возвращении Реммельгас с головой ушел в работу. В лесничестве начиналась самая горячая пора. Первого мая было решено провести воскресник на самой большой вырубке, которая простиралась от лесничества чуть ли не до самой станции Куллиару. Около двух недель тут подготавливали посадочные участки и вспахивали борозды для сева. Поделили семена, распределили рабочий инструмент, какой был у лесников.
Да и заготовители в Куллиару готовились достойно отметить Первое мая. Причин для ликования у них хватало — звание лучшего лесопункта в леспромхозе осталось за Куллиару. Тихо стало на делянках, лишь одинокие телеги скрипели на лесных дорогах, бывших такими шумными и оживленными. Грузовики там не показывались — они забирали лес со складочных площадок у самого шоссе.
Год был успешным, и Осмус решил после торжественного первомайского собрания устроить банкет. Он забронировал для этого куллиаруский народный дом. Несколько вечеров он потратил на составление списка приглашенных, исписал не один лист бумаги. Позвали всех работников лесопункта, вплоть до самых рядовых — следует уважать советскую демократию. Пришлось пригласить гостей из леспромхоза, из волисполкома, позвать начальство железнодорожной станции, представителей сельсоветов и колхозов. При мысли о последних Осмус хитро подмигнул самому себе — надо поддерживать связи, следующей зимой успех или неуспех лесозаготовок будет полностью зависеть от колхозов. До сих пор все шло гладко, но брови Осмуса нахмурились, когда он добрался до лесничества. Склочный народ! Никогда с ними не было столько препирательств, как в этом году. Хорошего от них не жди — такую свинью могут подложить… Но деваться некуда, нужно позвать этого психа, лесничего Реммельгаса. Питкасте? Напьется в стельку, еще наболтает лишнего… И все же он может пригодиться, — значит, позвать и Питкасте.
Тут Осмус вспомнил, что лесничество решило провести в праздники воскресник. Гм, надо послать на помощь одну бригаду, не то обвинят в том, что он умышленно устранился… Интересно, как справится Реммельгас со своей задачей: дело большое, новое, за всем не углядишь. Было бы неплохо, если бы там что-нибудь сорвалось, если бы не все сошло гладко, тогда этот юнец не так бы задавался… Не мешало бы повидаться с Питкасте, узнать, каково у них положение.
Первомайское утро выдалось теплое и солнечное. На деревьях трепетали клейкие листочки, на придорожных откосах зеленела свежая трава. Иные пичуги перепархивали с ветки на ветку с соломинками в клювах, иные заливались пронзительными трелями. Но вот лес огласился другой, еще более звонкой песней. Она звучит все громче и громче, и уже больше не слышно ни шелеста, ни щебета.
Стройными рядами идут туликсаареские школьники. Стучат барабаны впереди, развеваются красные галстуки. Малыши шагают рядом со старшеклассниками и, чтоб идти с ними в ногу, стараются изо всех сил.
А следом идут солидные и серьезные железнодорожники со станции Куллиару. Достоинство не позволяет им шагать в такт детской песенке, но это не легко — ноги сами норовят ступать в такт. Раз просят, нельзя не пойти, но не совсем мужское это дело — сажать лес. И потому они избегают разговоров о воскреснике, предпочитая беседовать о чем-нибудь другом: о ранней весне, о прокладке второй колеи на станции Куллиару, о том, что опять прибыл новый паровоз для восстановленной после войны узкоколейки.
А там, в противоположном конце, шагают колхозницы. Им по душе пионерская песня, многие подпевают ей, хоть и не знают слов. Им уже стало жарко от быстрой ходьбы и от солнца. Пестрые платки скинуты на плечи, и весенний воздух ласково овевает лица.
Все направляются к туликсаарескому лесничеству. Так договорились: в воскресенье, в девять утра, — у лесничего. И вокруг дома Реммельгаса столпилось столько народу, словно тут открывалась ярмарка.
Михкель еще чуть свет приехал из Сурру на телеге, доверху нагруженной еловыми хлыстиками, вырытыми на откосах канав. Теперь они с Анне раскладывали их по корзинам. Пальцы Анне покраснели от сырой земли и острых иголок, и она время от времени дула на них, будто они замерзли. Подует и опять примется за работу, быстрая такая, проворная — руки так и мелькают. И нет-нет, да и поглядит по сторонам, словно ищет кого-то.
Девушка не прервала работу, когда увидела рядом с собой лесничего. Тыльной стороной руки она отбросила упавшие на глаза волосы и поправила съехавшую на лоб вязаную шапочку.
— Поздравляю! — крикнула она громко, потому что рядом пели пионеры. — В Туликсааре никогда не собиралось столько народу.
— Спасибо! — крикнул в ответ Реммельгас. — Вас это радует?
Анне положила в корзину охапку саженцев и помедлила, прежде чем взять новые.
— Радует, — ответила она горячо и кивнула. — Ведь как посмотришь на иную незасаженную вырубку, так прямо плакать хочется. Все равно как заброшенное поле. А что это вы на меня так смотрите?
— Смотрю, все ли еще вы Анне из Сурру или нет, — тихо ответил Реммельгас. — У меня такое чувство, будто вижу вас нынче в первый раз.
— Так оно и есть!
— Не понимаю…
Анне схватила с телеги новую охапку саженцев и, укладывая их в корзину, что-то ответила, но Реммельгас не расслышал слов, потому что сзади его окликнули.
— Я не расслышал, — сказал он Анне.
— Вас зовут, — рассмеялась она в ответ.
Реммельгас обернулся. Оказалось, что он нужен Килькману, кюдемаскому леснику. Того вызвали сюда, как и всех остальных лесников, чтобы руководить работой одной из посадочных бригад. Бригадирами назначили также и рабочих лесничества — либо из наиболее опытных, либо из тех, кто хорошо себя показал на курсах по лесоводству, организованных Реммельгасом. Последних было немало.
Угрюмый и как будто даже рассерженный Килькман позвал лесничего в дом. Он почему-то прятал свою левую руку, но Реммельгас успел разглядеть на ней длинную багровую полосу.
В конторе сидел развалясь Питкасте. Он обвис, будто мешок, голова его упала на плечо, длинная рука неравномерно покачивалась, точно маятник испорченных часов. Килькман кое-как заставил пьяного очнуться, но попытка поставить его на ноги ни к чему не привела. Лицо Питкасте было бледным, глаза опухли, волосы растрепались. Он долго щурился, прежде чем узнал лесничего. Попытался подняться, но затем, отказавшись от бесплодных усилий, промычал:
— В стельку! Объездчик Питкасте нализался, как свинья. — Он взмахнул руками, словно мельница крыльями, и заорал: — Прочь! Все прочь! Оставьте меня в покое, я объездчик Питкасте. К дьяволу, провалитесь вы к дьяволу!
И он снова сник. Килькман позвал на помощь несколько человек, барахтающегося объездчика схватили за руки и за ноги и поволокли в ригу. Сделав еще одну отчаянную попытку подняться на ноги, Питкасте наконец растянулся на соломе и вскоре его громкий храп возвестил о том, что он заснул.
Хмурый Реммельгас столкнулся в дверях с Таммом.
— Я, кажется, пришел позже всех? — спросил Тамм. — Это первый раз в моей жизни.
— Ты ведь не собирался приходить? — удивился лесничий.
— Да вроде не собирался. Но вышло, понимаешь, так, что только отослал я к тебе женщин и ребят, только отправил мужиков в поле, как вздумалось мне зайти в контору. Захожу туда, и первое, что вижу, — это план нового скотного двора. Тут меня, словно молотком по башке стукнуло: разрешения-то на порубку я из лесничества не взял.
— Сегодня воскресенье, лесничество закрыто.
— Да я не об этом… Подумал, понимаешь, о порубке и сразу вспомнил, что у вас тут сегодня затевается. Ну и не усидел на месте, вскочил на велосипед и давай к вам, за своими следом. И вроде не очень опоздал? Так ведь? Ну, говори, за что браться.
Реммельгас объяснил, куда ушел народ из колхоза «Будущее».
— Назначаю тебя начальником над твоими. Смотрите, чтоб не осрамиться.
Люди быстро сгруппировались и двинулись к своим рабочим местам. Многолюдная пестрая вереница растянулась вдоль просторной вырубки.
Нугис раздал последние корзины саженцев. После этого он разогнул спину, впервые за все это горячее утро погладил свои усы и вопрошающе взглянул на лесничего.
— А где мое место?
— Возьмешь на свое попечение вырубку слева, то есть будешь руководить посадкой. А назначенный туда линкаэвуский объездчик займется севом.
Нугис потянул себя за ус.
— Почему же я, а не он?
Нугис ничего не знал о богатырском сне Питкасте, и Реммельгас, решив, что не стоит пускаться в объяснения, сказал ему:
— Ты постарше, у тебя побольше опыта. — И добавил шутливо: — Итак, лесник Нугис, приступайте к выполнению задания. Шагом марш!
Нугис неуклюже приложил к фуражке перепачканную руку, вскочил в телегу, и та, подпрыгивая на корнях, покатила налево.
Работа началась.
Заяц выскочил из кустов, проскакал несколько шагов и, насторожив уши, прислушался. Каменка взволнованно запрыгала по куче хвороста, маленькая и юркая, словно шпулька швейной машины. Пустая, мертвая, охваченная тишиной вырубка ожила. Вдруг послышались громкие голоса, зазвенел смех.
Появились люди, которые тянулись друг за другом гуськом. Школьники сеяли. Они шли парами: один сыпал из горсти семена, другой сгребал граблями взрыхленную землю. Колхозникам была доверена посадка: один продавливал колышком лунку, другой отряхивал нежные корни саженцев и осторожно опускал их в ямку, которую первый снова тем же колышком заделывал. Казалось, что все это проще простого, — сажать капусту или помидоры раз в десять сложнее! Ни у кого даже не хватало терпения выслушать толком инструкции. Но вскоре выяснилось, что лесникам приходится многому учить людей, приходится частенько самим браться за посадку и показывать, как надо опускать саженцы в землю, чтоб не помять корней, как заделывать лунку поплотнее, чтоб хлыст не шатался, и на какую глубину следует его опускать.
Реммельгас, совершая обход, дошел до участка Нугиса. Старик поспевал всюду, где в нем нуждались: одному что-то показывал, другого поправлял, третьего посылал за хлыстами, четвертого учил, как расправлять корни и правильно опускать их в лунку, и еще успевал поглядывать, прикрыты ли от солнца нежные корни саженцев. Бегая по всей вырубке, во все вникая, он порой замечал, что иной присел в сторонке, чтобы передохнуть, да так и оставался там. Тогда старик отпускал такую ядовитую шуточку, что все за животы хватались, а ленивец, вообразивший себя участником увеселительной воскресной прогулки, стыдливо возвращался на свое рабочее место. Когда же Нугису казалось, будто все наконец в порядке, то он еще раз, обведя взглядом всю вырубку и разгладив усы, сам брал колышек и принимался за посадку.
Реммельгас подошел к Анне. Девушка увидела его и разогнулась, держа на отлете перепачканные в земле руки. Он показал на ее отца.
— Нугис-то чувствует себя сегодня, словно Кирр в воде.
Девушка кивнула. Разогнулся и ее напарник, молодой парень, у которого, видно, уже заныла спина.
— Это лучший день в жизни отца, — сказала Анне. — Уж сколько раз он жаловался: когда же наконец ле́са будут сажать столько же, сколько снимают. Он давно уж потерял на это надежду… Пытался он у себя в Сурру угнаться за топором и пилой, да разве одному это под силу? Последние две недели он почти не спал. Вы с вашими разговорами о ста двадцати гектарах совсем старика свихнули. Он по ночам о нынешнем дне бредил — я сама слышала. И так, бедняга, исхудал, что уж ничего от него не осталось: только нос, да усы, и вечная его трубка.
— Да что вы? А мне он, наоборот, кажется таким юным и бодрым, как никогда. И вы тоже.
Прежде чем Анне успела ответить, лесничий торопливо добавил:
— Вы что-то сказали о себе, а я не расслышал.
— Не всякое говорят по два раза.
— Но если я так любопытен?
— Много будете знать — скоро состаритесь. Да я и не сказала ничего интересного. — Она оглянулась назад и схватила корзину с саженцами. — Заболталась я с вами и совсем от других отстала.
И бросила своему молодому подручному:
— Ну, взялись! — Уже наклонившись, она сказала лесничему: — Председатель колхоза на пятках у меня сидит, никак его не обгонишь.
Тамм использовал задержку Анне и, подзадоривши свою помощницу, курносую девушку, сильно продвинулся вперед. Воткнув колышек в землю, он сказал Реммельгасу:
— Уж я ее догоню! Она, конечно, поопытней, но опыт — дело наживное. Чего я только не сажал на своем веку: и яблони с грушами, и репу с капустой, а тут — нате, пожалуйста, — сделал лунку, да не так — сразу нагоняй получил от старого Нугиса. Теперь уж ничего, малость руку набил…
— Соревнование, значит?
— А как же! Отстать от женщин — последнее дело: посмешищем для всех станешь.
Анне крикнула издали:
— Спорим, что обгоню вас за день? Самое малое — на два ряда?
— Ишь какая! — Тамм выпрямился и погрозил колышком. — Ну, это мы еще посмотрим!
Веселые голоса, людские и лесные, смешивались вокруг. Толстый желтополосатый шмель закружился вокруг головы лесничего: «Жу-у-у, жжу-у-у!» Какая-то девушка крикнула вдали: «Глядите, белая бабочка! Белая бабочка — значит лето будет хорошим». Вдали, почти уже у поля, кто-то влез на высокий пень, рупором сложил руки и гаркнул на всю вырубку: «Э-ге-гей, колхозники! Не зевайте, железнодорожники уже кончают!» Парень с криком погнался за хохочущей девушкой в широкой юбке, насыпавшей ему песку за шиворот…
Реммельгас следил за быстрыми движениями Анне, за тем, как она брала из груды тоненький хлыстик, расправляла его корни и осторожно опускала в лунку. Вот она остановилась с корзиной в одной руке и с лохматой елочкой в другой, оглянулась назад, и Реммельгас залюбовался ею: до чего хороша! Как ее красит эта увлеченность своим делом, эта самозабвенность!.. И он вдруг понял, что она имела в виду, когда на его замечание, будто он видит ее впервые, девушка ответила: «Так оно и есть!»
Ряд за рядом квадратики взрыхленной земли покрывались молодыми елочками. Да и сеятели не отставали. Реммельгас пожалел о том, что он не художник. Хорошо бы запечатлеть это зрелище! Сколько движения, сколько жизни было бы в изображении этих веселых, трудолюбивых людей, сеятелей будущего. Ведь лес, который они сегодня сажают, будут рубить лишь их дети, а то и внуки!
Лесничего разыскивали. Прибыли новые люди — бригада лесопункта из десяти человек, — им следовало показать рабочее место.
Проходя с ними мимо Тамма, лесничий спросил:
— Значит, на будущей неделе поедем в столицу?
— Поедем, — подтвердил председатель и выпрямился, но, увидев, насколько его обогнала Анне, махнул на Реммельгаса рукой и бросился к следующему квадрату.
Отведя вновь прибывших на место и обойдя всю вырубку, Реммельгас вернулся к Нугису и достал из кармана колышек.
— А что, лесник, если бы нам на пару взяться? Или отстанем?
Лесник ухмыльнулся.
— Ну, уж это нет. — И он схватился за ручки корзины.
Когда посадка кончилась, все снова собрались у лесничества. Подвели итоги, похвалили кое-кого за проворство и умение. Рядом с крыльцом поставили скамейку для гармониста и он, нажав сразу на все планки, растянул гармонь.
Люди Осмуса покинули вырубку раньше других, чтоб не опоздать на свой праздник. Поторопился уйти и Тамм, у него ведь еще работала на полях одна бригада. Поспешили домой и некоторые другие, но большинство людей осталось.
Воздух был чист и прозрачен, голоса разносились далеко-далеко. Солнце скрылось за лесом, мягкие сумерки окутали людей, дома и деревья, а в Туликсааре все еще играла гармошка, все еще пели песни и плясали, и порой звонко взвизгивали девушки, когда парни, закружив их, отрывали от земли.
Реммельгасу уже пора было уходить, но он все медлил: ему больше улыбалось остаться на весь вечер здесь, среди этих весельчаков, так славно потрудившихся днем, чем тащиться на пиршество в народный дом. Однако нельзя было не пойти туда. Если бы отношения между лесничеством и лесопунктом не были такими натянутыми, тогда дело другое, тогда бы никто и внимания не обратил на его отсутствие, которое в данном случае Осмус наверняка расценит, как проявление недоброжелательства.
— Схожу часика на два, — сказал он на прощанье Нугису. — Побудь здесь пока за хозяина. А вы — за хозяйку, — обратился он к Анне.
— Пока? — спросила она. — Неужели вы думаете вернуться? Вряд ли. Ведь там такое веселье и столько красивых женщин!
«Так вам хотелось бы, чтобы я поскорей вернулся?» — чуть было не спросил Реммельгас, но, посмотрев на серьезное лицо старого Нугиса, удержался. Его, однако, утешил взгляд девушки, такой красноречивый, что он потом думал о нем весь вечер.
У народного дома Реммельгас на минутку остановился. Конечно, он опоздал: торжественная часть уже кончилась, из открытых окон вместе с синим табачным дымом вырывался на улицу гул голосов, звон стаканов, стук ножей и вилок.
В небольшом зале вдоль трех стен стояли столы, лишь одна сторона оставалась свободной. Взад и вперед сновали женщины в белых передниках. Судя по тому, что люди разговаривали друг с другом еще негромко и неторопливо, пиршество началось совсем недавно. Все пока что вели себя крайне чинно: пододвигали соседям блюда, передавали бутылки и обменивались любезностями. Много курили и весьма умеренно ели, — разве что изредка подцепят вилкой кусочек колбасы или рыбы. Торопиться не следует, а то еще про тебя подумают, что в предвкушении банкета морил себя дома голодом.
Осмус сидел прямо против входа. На самом почетном месте. Заметив в дверях беспомощно озиравшегося Реммельгаса, он поднялся и крикнул, перекрывая гул голосов:
— Товарищ лесничий, пробирайтесь-ка сюда, ко мне! Пропустите лесничего, посторонитесь! — Когда же Реммельгас попытался сесть на ближайший свободный стул, Осмус взревел, как труба: — Нет, нет, не прячьтесь в угол! Ваше место тут, рядом со мной.
Реммельгас кое-как пробрался вперед. «Хорошо, что у меня не Осмусова комплекция, — подумал он, — не то нипочем не пролез бы между стеной и стульями».
Уже были провозглашены первые тосты и выпиты, как полагается, до дна первые рюмки. От этих ли опустошенных, как полагается, рюмок или от духоты, но лица у всех раскраснелись, а гул в зале усилился. Осмус заставил Реммельгаса опрокинуть «штрафную», предложил закусить угрем, винегретом и селедкой со сметаной и, не прерывая своей бурной деятельности, успел выразить сожаление по поводу того, что лесничий не смог прийти раньше. Затем он рассказал Реммельгасу о том, что было до его прихода.
— Я выступил с торжественной речью. Проанализировал причины достигнутых успехов и сурово раскритиковал ошибки и недостатки, которые препятствуют движению вперед и достижению еще больших успехов.
Затем выступили Киркма, один браковщик и двое рабочих. Осмусу очень хотелось, чтобы выступило по крайней мерей трое рабочих, но третий «сдрейфил». Все его поздравляли — как свои, так и прибывшее волостное начальство. Подъем достиг наивысшего предела, когда в конце зачитали его приказ и выдали премии.
— Аплодировали без конца. Все обещали, что в будущем году будут работать так же хорошо и даже еще лучше, чем в нынешнем! И я по лицам видел, что не обманут!
Все это Осмус выложил не сразу: он ухаживал за сидевшими по соседству гостями, приказывал заменять пустые блюда новыми, то и дело предлагал «последовать примеру древних эстонцев», то есть выпить. Время от времени он повторял Реммельгасу:
— Мы так ждали вас! Я раз десять спрашивал, не видал ли кто лесничего. Я хорошо знал, что у вас лесопосадки, но надеялся, что вы там все организуете и примчитесь сюда пораньше. Думал, что вы тоже выступите. Мы ведь соседи, да к тому же по одному делу мастера, как говорится.
На стол поставили блюда со свининой, с картошкой, с кислой капустой и жирной подливкой. Становилось жарко, мужчины расстегивали пиджаки, лица начинали краснеть, разгорались споры, голоса повышались…
Большинство соседей по столу было незнакомо Реммельгасу, и он почувствовал себя одиноко. Он чуть не вскочил от радости, встретившись взглядом с серьезными глазами Хельми Киркмы, сидевшей за столом напротив. Реммельгас радостно помахал ей рукой, Киркма улыбнулась. Осмус, занятый сотней дел, заметил его приветствие и погрозил пальцем.
— Ай-яй-яй, товарищ лесничий, очаровываете нашу красавицу, нашу недотрогу!
— Мы раза два встречались…
— Как же! Вы ведь сидели вместе на бревне у опушки и ворковали, словно голубки. Ха-ха-ха, отчего же такое испуганное лицо? Все мы только люди, не более того.
Прежде чем лесничий успел ответить, из сеней послышались крикливые голоса. Реммельгас недовольно нахмурился. В дверях появился Питкасте. У него был вид побитого вояки: одежда помята и вся в соломе, волосы, сколько он их ни приглаживает пятерней, торчат во все стороны, лицо хмурое и злое. Со всех сторон к нему полетели иронические, хоть и дружелюбные приветствия, все наперебой приглашали его к своему столу, но, не обращая ни на кого внимания, объездчик пробрался в самый дальний конец зала.
Осмус встал и произнес первую застольную речь. Он поблагодарил доблестных тружеников, которые помогли «руководимому мною лесопункту так успешно справиться с выполнением плана», обратился с приветствием к дорогим гостям, и к местным, и к приезжим. Говорил Осмус складно и, по доброму застольному обычаю, несколько шутливо. Он был в ударе: успех, премии, аплодисменты, вино — все это взбодрило его, обострило ощущение собственной силы и энергии. К концу речи голос его окреп, зазвучал душевно и сильно — его было слышно даже в соседних помещениях, где тоже сидел народ.
— Наступает лето, наступает пора, когда нам обычно удается перевести дух. Но говорю вам заранее, что в нынешнем году эта пора сильно сократится, так как нам скоро придется приступить к выполнению трудовых заданий следующего года. Ведь я и в следующем году не намерен уступать кому бы то ни было честь заведующего лучшим лесопунктом в уезде. В этом году мы обогнали Пуурманиский лесопункт всего лишь на один процент, поэтому надо быть начеку, чтобы нас не побили. Выпьем за новые успехи нашего лесопункта!
Все остальные ораторы тоже превозносили Куллиаруский лесопункт, и особенно его заведующего Рудольфа Осмуса. Весьма робко отмечая недостатки, сослуживцы обменивались взаимными похвалами и восторгами, не забывая скромно упомянуть и о самих себе. Настроение поднималось, гул усиливался, новым ораторам приходилось все дольше и дольше стучать по стакану вилкой или ложкой, чтобы установить тишину.
За соседним столом низкий бас затянул неторопливую песню, к нему примкнул высокий тенор, сбивающийся и нетерпеливый, — они не спелись, не нашли общего языка и умолкли.
Осмус наклонился к Реммельгасу.
— А вы не скажете несколько слов?
Направляясь сюда, Реммельгас и в самом деле предполагал выступить с небольшой речью. Он ведь думал, что попадет на торжественную часть, и тогда это было бы неизбежно. Но поскольку он угодил прямо на банкет, то всякая мысль о выступлении сразу же отпала, и даже более того: он уже давно подумывал, под каким бы предлогом ему подняться и незаметно улизнуть. Поэтому он отрицательно покачал головой. Осмус, словно не замечая этого, встал и позвенел бокалом о бокал.
— Товарищи, прошу потише. Тихо! Слово предоставляется начальнику Туликсаареского лесничества товарищу Реммельгасу.
За столами сразу умолкли. Лесничий? Это обещало быть интересным. В глухих углах о каждом новом человеке быстро распространяются слухи и суждения, порицания и похвалы. У Реммельгаса было много сторонников, особенно среди колхозников, но для работников лесопункта его имя уже успело приобрести зловещий смысл, им частенько пугали друг друга: «Вот придет лесничий — уж он покажет! Уж он запретит!» Но все же и на лесопункте мнения о новом лесничем были столь противоречивы, что сейчас все с любопытством повернули к нему головы.
Реммельгас выругал про себя Осмуса. Ну и хитер же этот деятель! Ведь выступать на празднике с критикой — неприлично, а похвалишь — потом на тебя же самого будут ссылаться. С чего же, в самом у деле, начать? Отделаться по примеру Осмуса дешевыми шуточками? Или плыть по течению, нагромождать сладкие слова, поздравлять и превозносить? Интересно побывать как-нибудь на производственном совещании лесопункта, посмотреть, как там по части самокритики, очень ли она процветает. В голове кружились какие-то посторонние мысли, и, не решив твердо, о чем сказать, а о чем умолчать, Реммельгас начал самым трафаретным образом:
— Прошу прощения за то, что опоздал, — сегодня мы в лесничестве подняли большое дело. Извините, что только теперь, задним числом, я могу поздравить вас от имени Туликсаареского лесничества с перевыполнением плана…
Кое-где послышались жидкие аплодисменты. Сегодня так много хлопали, что это занятие всем уже приелось. Если ему больше нечего сказать, пусть побыстрее закругляется.
Реммельгас пробубнил еще несколько уклончивых фраз. Они как бы сами собой сходили с языка, пока мысль перескакивала с одного на другое. Кончить, что ли, на этом? Нет, так нельзя. Осмус бы торжествующе улыбнулся: «Реммельгас — парень с головой: грозить — грозил, но после моего успеха сразу поджал хвост». Все бы решили, что раз новый лесничий пропел лесопункту аллилуйю, то, значит, все разговоры о том, будто он недоволен их работой, будто он видит в ней большие ошибки и недостатки, все это бабьи сплетни…
Конечно место и время были неподходящими, но еще хуже было бы промолчать, став подпевалой в хоре сегодняшних славословий.
— Впрочем, хотя успехи ваши велики, они все же не должны вас ослеплять… — Как пошло это звучало, запетое и перепетое тысячу раз. Прямее, откровенней, короче! — В практике Куллиаруского лесопункта имеются ошибки, которые привели к извращению советской лесохозяйственной политики. Вырублен большой массив рядом с железной дорогой и поблизости от большаков, а в более далеких местах сняты лишь отдельные делянки. У дорог рубили подчистую, валили даже незрелый лес, в то время как за Кяанис-озером, у Люмату и в дальних уголках Ээсниду, лес перестаивается, гниет на корню, теряя значительную часть своей ценности.
Ни один нож, ни одна вилка не звякнули о тарелку, даже подавальщицы застыли с подносами и пивными кружками в руках. Осмус покачивался на задних ножках стула то назад, то вперед, засунув пальцы за проймы жилета. На лице его играла улыбка, разве что улыбка была несколько неподвижная, как бы застывшая. В широко раскрытых глазах Хельми Киркмы Реммельгас прочел растерянность, смешанную с восхищением. Питкасте опустился грудью на стол и вытянул голову далеко вперед, словно боялся пропустить хоть словечко. Его лицо выражало попеременно то испуг, то восторг.
— Некоторым, быть может, не понравится, что я напоминаю об этом сейчас, на вашем торжестве. Но я верю, что вы достаточно сильны, чтобы услышать о себе правду и понять ее. Ошибки существуют для того, чтобы их исправляли. У нас нет причин сомневаться в том, что в предстоящем сезоне товарищ Осмус вместе со всеми работниками лесопункта направит свое главное внимание именно на дальние районы. В трудные послевоенные годы мы закрывали глаза на некоторые недостатки в лесопользовании. Самое главное было — быстро снабдить народное хозяйство всеми лесными материалами. Теперь мы ушли далеко вперед, теперь решает не количество сделанного, а качество. В переводе на язык работников лесного хозяйства это означает, что мы должны заботиться о лесе, как садовники о своем саде. У вас немало опыта, у вас достаточно знающих, честных, неутомимых работников. Что вам может помешать отметить Первое мая следующего, пятидесятого года, с таким же большим торжеством, как сегодняшнее? Что вам может помешать выполнить план по валке и вывозке леса, несмотря на трудные условия, в которых вы окажетесь после перевода лесосек в дальние углы Люмату, Сурру и Ээсниду? Мы в лесничестве уже делаем для этого все что нужно, замеряем новые делянки…
— Это невозможно! — выпалил Осмус. — Это… просто безумие.
Своей вспышкой он как бы подал знак и остальным: поднялся шум, отовсюду полетели выкрики, люди застучали посудой, заколотили кулаками по столу, — все наперебой выражали свое негодование.
— В таких трущобах дай бог выполнить план хоть на десять процентов!
— Ишь молодчик! — выкрикнул жидкобородый лесоруб, которого Реммельгас видел на лесосеке № 126.
Браковщик Кари, участок которого добился лучших результатов на всем лесопункте и который сидел напротив Осмуса, вскочил со стула. Глаза его горели, на лице выступили красные пятна.
— Вы говорите — нужно выполнять план! — закричал он. — И тут же одним взмахом руки бросаете нас в болота и топи. Это издевательство, а не товарищеское отношение!
Осмус с большим усилием сдержал себя и, постучав рукой по столу, воскликнул:
— Успокойтесь, товарищи! Тут не ярмарка… У нас демократический строй, каждый имеет право выступить. Не будем лишать своего гостя права на критику нашей работы, права вносить предложения…
— Чихали мы на такие предложения! — бросил здоровенный парень, которого Реммельгас тоже видел на лесосеке.
— А если эти предложения правильны?
Это было произнесено не Реммельгасом, а Хельми Киркмой, и настолько неожиданно, что на миг воцарилась тишина. Хельми Киркма была человеком с лесопункта, мастером участка. Да еще таким мастером, которого никак невозможно было обвинить в беспечном равнодушии к интересам своего коллектива. Но как же это так — работник лесопункта защищает предложения, которые выбивают почву из-под ног лесопункта?
Реммельгас несколько испугался результата своей речи. Он знал, что многим не понравятся его предложения, но никак не ожидал подобной бури. Лесорубы, как видно, были очень односторонне информированы. Бросив Киркме благодарный взгляд, он воспользовался затишьем, вызванным всеобщим удивлением, и продолжал:
— Вы можете сколько угодно кричать, и не давать мне говорить, но это не изменит фактов. Несомненно, многие из вас думают так же, как товарищ Киркма, и находят линию лесничества правильной, считают нужным ее придерживаться. Наш долг — служить интересам народа, проводить в жизнь политику партии и правительства, даже если это порой и неприятно любителям легкой жизни, даже если это иногда и вынуждает идти по незнакомым, непроторенным путям. Лесничество будет в этом отношении последовательным. Сегодня первое мая, а на делянках Куллиаруского лесопункта лежит еще много лесоматериалов. Весь неошкуренный и невывезенный лес будет изъят у лесопункта и передан какому-нибудь другому предприятию, которое честно придерживается установленных предписаний и сроков.
Осмус молниеносно повернулся к Реммельгасу.
— Вы, конечно, шутите, не так ли? Ха-ха! Ну, и весельчак же вы — нынче первое мая, а вы нас разыгрываете, как первого апреля!
— Я абсолютно серьезен. Предписания даются не для того, чтобы из года в год обходить их под разными вежливыми предлогами и отговорками. Пока в лесу не будет порядка, пока будет бессмысленно разбазариваться драгоценное народное добро, мы не сможем справиться с вредителями леса.
— Это… — начал Осмус, но, не зная, что сказать, лишь развел руками.
Снова поднялся шум, зал возбужденно загудел, как встревоженный улей.
Молодой Кари остался равнодушен к тому, что Реммельгас говорил об изъятии у лесопункта оставшегося в лесу материала. Пусть возьмет кто угодно, лишь бы сумел вывезти, чтоб добро не гнило. С этим он согласен. Но он решительно переставал понимать лесничего, когда тот предлагал перевести лесозаготовки в Сурру. Ведь ясно, к чему это приведет! К тому, что будущей весной еще больше обреченных на гниение бревен и пропсов останется в лесу. Слова-то хороши, а каковы будут дела! У Кари был горячий, вспыльчивый нрав, он стоял на прежнем месте и ждал, когда в зале станет тихо. Когда настойчивое ожидание Кари было замечено, разговоры утихли, потому что всем хотелось слышать, как он разнесет лесничего. Кари был одним из тех, кто не боялся нападать даже на Осмуса, если у него накипало на сердце, — теперь он наверняка задаст жару этому чучелу еловому.
Сопровождая свои слова яростными жестами, Кари заговорил:
— Вот вы требуете: ступайте на берега Кяанис-озера. Не знаю, приходилось ли вам бывать так далеко, но я возил лес и оттуда и знаю, чего это стоит. Да хуторяне скорее убьют нас, чем станут калечить там своих лошадей и рвать постромки. Не скажу, что вы от начала до конца говорили неправильно. Вы красиво говорили о том, как надо беречь лес. Но раз вы такой умный, раз вы учите нас, как сопляков, так уж не поленитесь и объяснить нам, каким манером мы выволочем хлысты из этой преисподней?
— Верно! Пусть говорит!
— Ничего не скажешь — крыть нечем!
«Вот я и прижат к стене, — подумал Реммельгас. — Так запутался, что и деваться некуда. Следовало все это предвидеть и ограничиться общепринятыми, шаблонными поздравлениями. Признать себя банкротом, сказать, что ответить нечего, значит стать посмешищем. Остается только одно: пойти еще дальше, раскрыть свою главную, заветную, до сих пор скрываемую от всех идею. Но в ней еще много непродуманного»… Чтобы как-то выкрутиться, он решил отделаться чисто формальным ответом.
— Я не работник лесопункта…
— Ха-ха-ха! — захохотал кто-то у двери утробным басом.
— Уже труса празднует!
Нет, это был не выход. Оставалось идти напролом. Да и к чему медлить? С кем же еще, как не с лесорубами, и обсуждать свой план? И, решившись, он сказал как можно спокойнее:
— Может, разрешите мне кончить? Я не работник лесопункта и не могу предписывать вам тех или иных методов. Тут все решит ваша собственная инициатива, находчивость, упорство. Но, если хотите, скажу, как бы я на вашем месте выбрался из тупика и организовал бы вывозку. Сквозь болото Люмату и Кяанис-озеро протекает река Куллиару. Вокруг нее лежат самые гиблые, самые заболоченные места, изрезанные ручьями. Этого-то вы и боитесь, если не считать зарослей и расстояния, не так ли? Но к чему гнать крестьян за реки, болота и чащи? К чему калечить лошадей и рвать постромки, как тут патетически воскликнул Кари, молодой лесовик? На вашем месте я свез бы зимой кругляки от Кяанис-озера к реке Куллиару и, дождавшись вскрытия льда, сбросил бы их в реку, да погнал бы сплавом до самой станции Куллиару.
Идея была настолько новой и неожиданной, что все, оторопев, затихли. О сплаве леса слыхали. Предложение лесничего казалось очень заманчивым, казалось, что возразить на него нечего. Действительно, если можно от Кяанис-озера до станции добраться по воде и тем самым избежать самой ужасной, самой непролазной дороги, длиною в девять-десять километров, то…
Слова Реммельгаса забрали Хельми за живое. У нее еще раньше возникло смутное ощущение его правоты, но она пока что не решалась в этом признаться даже самой себе. О, намерения-то у него прекрасные, но они связаны с такими трудностями, что, пожалуй, ничегошеньки из них не выйдет. Хельми с напряженным вниманием переживала каждое слово лесничего. Она сразу поняла, сколько размаха в этой идее использовать реку, но она же первая и увидела ее неосуществимость. Почти невольно она воскликнула:
— Но река Куллиару не годится для сплава. — И более тихо, более грустно добавила: — Ведь в Мяннисалу — наносы, мели, пороги. Плоты там не пройдут. Да и плотина мешает.
— Ха-ха-ха! — снова загремел злорадный бас. — Может, лесничий протащит их три-четыре километра на своем горбу?
— Мне нравится быстрая реакция товарища Киркмы. — И Реммельгас улыбнулся девушке. — Она права. Но если река из-за наносов обмелела, ее надо углубить. Более того, надо выпрямить мяннисалускую излучину, укоротить путь сплава. Предварительная работа уже начата, необходимые проекты составлены, согласие уездного начальства получено, с руководством мелиоративной станции все договорено. На следующей неделе мы с Таммом поедем в столицу, выясним вопрос о кредитах. Сейчас повсюду начато наступление на болота, топи и пустоши. Туликсааре ведь не захочет быть среди последних. Нам дадут машины, дадут средства на углубление и выпрямление реки, но разве это означает, что мы сами вправе остаться в стороне и сидеть сложа руки? Нет, товарищи! Колхоз после весеннего сева, а работники лесничества после посадочных работ выйдут на берега реки очищать от деревьев и кустов трассу нового русла. Эта большая работа потребует участия всего сельсовета. Мы ждем помощи и от вас, работники лесопункта!
Вместе с остальными опешил и Осмус. Его первой мыслью было: придется все-таки отправиться в Сурру. Но возражение Хельми Киркмы дало ему зацепку, в нем снова проснулся дух скептицизма. «Ишь какую громадину задумал своротить, — подумал он про Реммельгаса. — Рискованная затея, — пожалуй, и надорваться недолго. Не иначе как он фанатик или авантюрист крупного калибра». А затем он вдруг вспомнил о лесопилке. Несколько раз он поднимал руку, но лесничий будто и не видел этого. Улучив небольшую паузу в речи Реммельгаса, он воскликнул:
— А лесопилка? Что будет с мяннисалуской лесопилкой?
— Имеются две возможности: или закрыть ее, или перевести на электроэнергию…
— Да ведь у нас электрического освещения и то нет!
— Тем более необходимо провести в Туликсааре линию высокого напряжения или построить свою гидростанцию… Но я не кончил. Раз уж зашла речь о том, что я сделал бы на вашем месте, то поделюсь с вами еще одной мыслью. Я бы от Кяанис-озера, от места сплава, провел до самых далеких делянок конную узкоколейку. Три-четыре километра такой узкоколейки, которая вовсе не является новинкой в лесном деле, еще больше упростили бы вывозку, сберегли бы рабочую силу, облегчили бы труд и людям и лошадям. Вы и сами понимаете, что если мы углубим реку, если мы построим эту узкоколейку, то никому не придется выбиваться из сил, разбивать сани и калечить лошадей.
Жареная свинина остыла, стаканы стояли ненаполненные, папиросы и трубки погасли. Испокон веков природа была врагом человека. Природа скупилась на дары, природа нередко вставала суровым и непреодолимым препятствием на пути человека. Покорить ее, преобразовать соответственно своим желаниям и потребностям всегда стоило человеку огромных сил, но зато, когда это удавалось, в книгу истории вписывались самые зажигательные, самые захватывающие страницы. План преобразования туликсаареской природы захватил слушателей, к вражде против Реммельгаса примешались восхищение и молчаливое одобрение. Хоть с виду он еще так молод, этот лесничий, но в смелости ему не откажешь, никого не боится — ни реки Куллиару, ни начальника лесопункта Осмуса. Лицо чуть зарделось, но возле губ такая твердая складка, во взгляде столько задора и огня, что поневоле начинаешь ему верить: а кто его знает, вдруг все-таки будет сделано, как он сказал…
Браковщик Кари почувствовал себя глупо. Стоит как столб и словно воды в рот набрал. Выкопать новую реку? Построить узкоколейку? Послушать — так не поверишь, но кто этих большевиков разберет: раз говорят, значит и выкопают и построят. Если больше не будет порогов, если на конной узкоколейке застучат колеса, то… как знать… Кто-то дернул Кари за полу пиджака, и он обрадовался возможности потихоньку исчезнуть со своего боевого поста…
Низкий бас умолк. Питкасте сидел прямо, уперевшись руками в стол, словно намереваясь поднять свое длинное тело. Сонное и тупое выражение на его лице уступило место искреннему восхищению.
Все взгляды были обращены к Реммельгасу, все словно забыли о начальнике Куллиаруского лесопункта, о его ста двадцати процентах… Сам Осмус забыл о том, что лесопункт получил звание лучшего в леспромхозе, все у него в голове вертелось. Уж больно много было на него обрушено подряд: сперва лесосеки, потом изъятие неубранного леса, потом новое русло и, наконец, узкоколейка. Что за беспокойный народ появился на свете!
Но оцепенение Осмуса длилось лишь несколько минут. Он вспомнил о завоеванных позициях, а заодно о длинном, трудном и, что более ужасно, незнакомом пути, на который его намеревался толкнуть лесничий. И громко, очень громко Осмус сказал:
— Товарищ Реммельгас энергичный человек. Как и полагается молодежи, он горяч. А кто горяч, тот частенько бывает нетерпелив, а то и — вы уж меня простите — опрометчив. Новое русло, конная узкоколейка! Уж не слишком ли просто решает все это товарищ Реммельгас? Все равно как тот мужик, что говорит своей старухе: «А не сделать ли нам загон для козы?»
Кто-то в глубине зала громко фыркнул, кто-то еще хихикнул, но шутка не развеселила всех. Видно, речь Реммельгаса произвела слишком глубокое впечатление, чтобы рассеять его зубоскальством. У Осмуса хватило чутья сообразить это, и он принял серьезный вид.
— Смех смехом, но такие вещи не выкладывают между двумя блюдами. Ведь речь идет об огромном, ответственном деле. О деле, потребующем колоссального количества материалов, машин, людей. У нас нет ни того, ни другого, ни третьего.
— Люди у нас есть! — воскликнула Киркма.
— Машины дает мелиоративная станция, материалы — министерство, — добавил Реммельгас.
Осмус из-под нахмуренных бровей метнул на Киркму ядовитый взгляд.
— Беспочвенный оптимизм! Не поймите меня превратно, я не хочу сказать, что раздобыть ничего не удастся. В нашей стране изготовляется много хороших машин для мелиоративных работ. Снабжение промышленной продукцией неизмеримо улучшилось. Но ведь надо обеспечить, организовать и еще раз организовать доставку всего оборудования на место, а сколько это возьмет времени? На это понадобятся годы. Товарищ Реммельгас обладает, конечно, выдающимися способностями и заглядывает очень далеко, только он принимает далекое за близкое, забывает о возможностях сегодняшнего дня. У мечты товарища Реммельгаса могучие крылья, но реальная действительность намного отстает от нее.
«Так и должно было получиться, — подумал Реммельгас. — Вечная история. Вынашиваешь в одиночку грандиозные планы, проверяешь их по сто раз на дню, убеждаешься, наконец, в их правильности, загораешься, а потом вдруг жизнь опрокидывает их и ты в отчаянии хватаешься за голову». Вот так же получилось и сегодня, едва он выставил на открытый суд свою идею, сочетавшую выпрямление реки со сплавом леса. По правде сказать, он ожидал иного приема и почему-то рассчитывал на восторги, на горячее одобрение. Ему казалось, что идея сплава и постройки узкоколейки не может не захватить Осмуса. Ведь это был выход из тупика, в который попал лесопункт. А так хотелось найти наконец общий язык с ним, покончить с этими вечными препирательствами, с недоверием и даже с враждой, положить начало товарищескому, единодушному сотрудничеству. Но все обернулось иначе, и они с Осмусом оказались еще более далекими друг от друга.
— Почему вы говорите — мечта? — Хельми Киркма вскочила со стула. — Каждое новое дело это мечта, и наша жизнь потому так стремительно и развивается, что эти мечты становятся явью. Идея лесничего просто превосходна! Конная узкоколейка, а весной — сплав. Министерство предлагало нам узкоколейку еще в прошлом году, но мы отказались, потому что не могли ее рентабельно использовать. А теперь есть такая возможность. И даже необходимость.
Молодой Кари стукнул кулаком по столу, и его лицо опять зарделось.
— Дело ясное! — воскликнул он звонким, срывающимся голосом. — Если будет сплав да узкоколейка, так мы и из Сурру все вывезем. Дельно придумано: и лес начнем валить там, где надо, и древесина не останется гнить на делянках. О чем тут говорить — за работу, и все!
Снова поднялся невообразимый шум. Одни кричали что-то одобрительное, другие вопили: «Мальчишки! Ветрогоны!»
Осмус стоял, опустив веки. Он размышлял. У него был достаточный опыт по части обращения с толпой и руководства шумными собраниями, чтобы безошибочно определить, в чью пользу склоняется настроение. И он горько усмехнулся: «Орут, довольные, как малые ребята, а самим и невдомек, какую обузу на них взваливают. Года три придется отдуваться, пока с ней разделаются. Но пока об этом молчок! Так будет умнее».
И, подняв веки, он непринужденно улыбнулся:
— Мне кажется, что мы уклонились в сторону. Ведь нынче, как-никак, праздник! И мы пришли сюда повеселиться, душу отвести, а не голову ломать. Это мы еще и завтра успеем. А теперь… Не спеть ли нам настоящую песню?
Низкий бас начал выводить мелодию. К нему стали присоединяться отдельные голоса. К потолку потянулись папиросные дымки, застучали ножи и вилки, наполнились долго стоявшие пустыми рюмки.
И все же уловка Осмуса имела лишь временный успех — за всеми столами вскоре опять зашел разговор о новых лесосеках, о работе сплавщиков, об углублении реки, об узкоколейке. Опять разгорелись споры: одни защищали идею Реммельгаса, другие на нее нападали, люди ожесточались, ссорились и тут же, впрочем, мирились.
Лишь Реммельгас и Осмус тщательно избегали этой опасной темы, предпочитая говорить о пустяках. Их беседа становилась все более холодной и отрывочной, оба чувствовали, что сегодня они разошлись навсегда и отныне каждый пойдет своим путем.
Глава восьмая
Сурру уже проснулось, птицы заливались вовсю, но в сторожке еще спали. Пауки, путешествовавшие ночью между деревьями и кустами, развесили под карнизом свои сети, протянули поперек двери тонкие ниточки, и казалось, будто дом давно покинут его обитателями. Капли росы повисли на паутинках, словно драгоценные камни на тонкой ткани, которая сверкала и переливалась в рассветных лучах.
Но долговязый человек в резиновых сапогах, подходивший к сторожке, не испытывал, по-видимому, никакого восхищения перед красотой раннего лесного утра. Он не слышал щебета птиц, не видел дивных узоров, вытканных пауками. Стрела и Молния бросились было к пришельцу, но в двух шагах от него азарт их увял, а лай внезапно оборвался. К их разочарованию, человек этот оказался и не чужим, и не настолько своим, чтобы можно было кинуться к нему на грудь и оставить на его одежде большие следы грязных лап. Все, что им оставалось, — это поплестись за ним следом на почтительном расстоянии.
Очевидно, лай собак разбудил спящих, потому что не успел Питкасте — а это был не кто иной, как он — стукнуть кулаком в дверь, как за ней со скрежетом отодвинулся засов.
— Дрыхнете! — воскликнул Питкасте. — А солнце-то уже где?
— Часы только-только шесть пробили, — проворчал Нугис. — Горит, что ли?
Но нигде ничего не горело, если не считать души Питкасте. Загорелась она еще в воскресенье, во вторую половину дня, после того как он проснулся в Туликсааре на соломе. Проснулся он достаточно трезвым и мигом постиг все безобразие своего поведения. Потихоньку, чтобы никто его не заметил, он пробрался к Куллиару в поисках лекарства от своей досады, неблагополучного состояния и тоски. Но прежде чем принятое лекарство успело оказать ощутительное действие, Питкасте снова попал в переплет. После слов лесничего о правильном уходе за лесами, об углублении реки и о лесной узкоколейке Питкасте стало так жаль себя, что он опрокинул внеочередную рюмку. Рюмка была большой, но не оказала никакого действия, словно он выпил воду. Он обжег горло новой порцией — и опять никакого толку. Когда он покончил с пятой или шестой — кто помнит, сколько их там было — рюмкой, зал с длинными столами и кричащими людьми каруселью завертелся перед глазами объездчика и его во второй раз за день водворили в ригу, чтобы он проспался.
На третий день после этого он стоял в кабинете лесничего, мял в руках шапку и, пристально разглядывая пол, исповедовался.
— Пошел я вчера на реку, утопиться решил, — продолжал Питкасте после томительной паузы, в течение которой лесничий смотрел на него ничего не выражавшим взглядом и не говоря ни слова. — Сунулся было в воду — холодная. Сел я тогда на камень и думаю: кто я есть? Разве я человек? Где там! Рвань, и больше ничего!
Он прижал руки к груди, и его круглые глаза увлажнились, в них было столько отчаяния и тоски, что впервые за всю эту долгую исповедь в Реммельгасе проснулось сочувствие к его жалкому состоянию. Но все-таки он ничего не сказал.
— Рвань я, — тихо повторил Питкасте. — Слушал я вас на банкете, и будто плетью меня хлестали. Смотрел на вас и думал: вот каким должен быть человек. Ни перед кем не струсит, со своей дороги не свернет. Сбить себя не даст, в чаще не заплутает. И так я себе стал противен, что…
— …Что принялись опрокидывать рюмку за рюмкой?
— Да, слаб я по этой части.
— Ну, вечером — еще ладно. А зачем же вы утром-то налакались? Забыли, что ли, про воскресник?
— Не забыл… В субботу я еще рассказывал Осмусу о наших ста двадцати гектарах.
— Осмусу?
— Да, ему. Пошел вечером на станцию, он мне там и встретился. Начал меня расспрашивать про воскресник: что, да как, да сколько людей выйдет, и… предложил рюмочку. С этого и началось.
Питкасте переступил с ноги на ногу и, поскольку лесничий, задумчиво смотревший в окно, казалось, ждал продолжения, — вернулся к началу исповеди, к тому моменту, когда он решил утопиться. Так и не решившись на этот крайний шаг, он побрел в лес, ходил там без конца, терзался, давал тысячи обетов и, набираясь смелости, чтобы отправиться к лесничему, даже вспотел, как в бане.
— Долго же вам пришлось потеть…
— Если б вы были немного иным человеком, я бы пришел еще вчера. Да больно стыдно было перед вами. Стыдно. Думалось, что вы не поймете. Не поймете, какое проклятье быть размазней и тряпкой. Не поймете, какой это дьявольский соблазн для людей вроде меня — посидеть за рюмочкой…
Он вывернул себя перед лесничим наизнанку, чего еще не делал ни перед кем за всю свою жизнь. В комнате было тепло, а поскольку Питкасте, не снявшего полупальто, бросило еще в жар от собственных признаний, то бедняга совсем взмок: по его лбу и длинному носу ручьями струился пот. Он выглядел таким несчастным и жалким, что Реммельгас не смог больше выдерживать характер и смягчился. Да он был и не столько рассержен, сколько обижен на объездчика за то, что тот в воскресенье налакался. Следовало бы его наказать, но как? Чем можно было его пронять?
— Ну, хорошо, хватит! — прервал он исповедь. — Лучше посоветуйте, что делать с таким, как вы.
Питкасте за последние полтора дня придумывал для себя всевозможные кары, но все их отбрасывал, как слишком мягкие и недостаточные.
— Накажите, как считаете нужным, — сказал он поспешно. — Объявите приказом выговор или поставьте на вид, как хотите… Прошу у вас только одного: пошлите меня в Сурру замерять новые лесосеки. Пойду хоть сегодня. Не говорите нет! В конце концов всю кашу, которую вам приходится расхлебывать, заварил я.
Новыми лесосеками Реммельгас думал заняться на следующей неделе, после того, как съездит в столицу. Но предложение Питкасте было дельным, и если это заодно поможет объездчику свести счеты со своей совестью, тем лучше.
— В лесничестве идет сев и посадка, некого дать вам в помощь.
— И не надо. Я, Нугис и какой-нибудь штатный рабочий — вот и достаточно. Да рабочего даже и не нужно, ведь Анне обязательно вызовется в помощницы.
— Анне?
В груди у Реммельгаса что-то кольнуло. Но он тотчас на себя рассердился: что за чушь! Как ни славился Питкасте своими похождениями на чердаках и сеновалах, однако при одной мысли о том, что между ним и Анне может что-то быть, становилось смешно. Да если бы даже и так, ему-то что? Кто он для Анне, чтобы хоть немного ревновать ее? Добрый знакомый да веселый товарищ, каких много! Откуда он взял, что он значит для нее больше, чем тот же Питкасте, чем любой другой?
— Она такая деловая да знающая, что лучшего помощника и не найти, — продолжал Питкасте. И поскольку Реммельгас не ответил сразу, он повторил: — Ради бога, не говорите мне на этот раз нет, товарищ лесничий. Я готов…
— Ладно, — прервал его Реммельгас, — будь по-вашему. А пока что разденьтесь и сядьте, я покажу вам, где замерять новые лесосеки.
Вот в результате чего Питкасте, не проспавший ночью и двух часов, чуть свет явился в Сурру. Он не стал долго разговаривать с Нугисом в дверях, а, не ожидая приглашения, прошел в дом и разложил на столе карту. Хозяин же, натянув поскорей сапоги, сел у другого конца стола и принялся набивать свою трубку. Дома он курил старинную трубку с длинным чубуком и всегда набивал ее большую чашечку очень подолгу, но сегодня, как казалось объездчику, этому конца не будет.
А Нугис не торопился. Ему надо было кое-что обдумать. Это не ахти какое чудо, что Питкасте так рано явился в Сурру. У него и раньше бывали разные причуды. Однажды он забарабанил в дверь после полуночи, приглашая Нугиса на тетеревиный ток. Но ни той ночью, ни в другие разы Питкасте никогда не бывал один. Вместе с ним являлся либо Осмус, либо начальник станции, либо еще кто. Питкасте шумел и бушевал обычно больше всех, послушать его — так подумаешь, что дни всех тетеревов в Сурру сочтены. Но дело зачастую кончалось тем, что не только сам Питкасте не убивал ни одного петуха, но и другие из-за его безалаберной суетливости возвращались ни с чем.
Вот и сегодня он какой-то непоседливый, хоть и пришел один. Только не такой суматошный, как всегда, и говорит так уверенно, что его прямо не узнать. И старик все вглядывался в Питкасте из-под лохматых бровей: что же в нем изменилось, в этом долговязом?
Разложив карту, Питкасте выложил без всякого вступления:
— Сегодня мы на Каарнамяэ начнем замерять новые лесосеки. Что, Анне сможет пойти с нами?
Нугис готовился к этому дню. Он знал, что его не миновать, но тяжело все же было, ужасно тяжело свыкнуться с мыслью, что уже следующей зимой сильно поредеют дебри Сурру. Приболотного леса возле Люмату не жалко — болото действительно наступает, деревья там снизу гниют, а с ветвей сохнут, — но то, что самые прекрасные ельники в Каарнамяэ… Ежедневно он уговаривал себя, что ельники старые, что они достигли спелости, что с каждым годом ценность их будет падать. Понемногу он уже свыкся с мыслью о лесозаготовках и представлял себе, что все примерно так и начнется — с расстеленной на столе карты. Только вот по другую сторону стола, как он себе воображал, сядет не Питкасте, а Реммельгас. Сядет, обведет на карте пальцем Каарнамяэ и пытливо взглянет на него своими синими глазами. И он, Нугис, не будет с ним спорить, не будет волноваться, а только деловито спросит, с чего начинать. И потом, цыкнув на собак, что станут проситься в лес, он пойдет с лесничим и дочкой к далекому Каарнамяэ. Так он себе представлял. А тут вдруг вместо лесничего восседает напротив Питкасте, и это так все запутывает, что трубка Нугиса долго остается незажженной. Объездчик что-то говорит, не переставая, просит поторопиться, — дескать, они должны за несколько дней управиться с разметкой всех лесосек, хоть дух из них вон. А старик будто его и не слушает, и лишь когда объездчик произносит имя Анне, он, вздрогнув, поднимает голову и спрашивает:
— Что ты сказал?
— Анне дома? Или куда уехала? Тогда надо позвать на помощь кого-нибудь из рабочих.
Старик защелкнул крышечку трубки и поднялся. Спина его выпрямилась, а руки согнулись в локтях, будто он драться приготовился.
— Так ты… — спросил он прерывисто и хрипло, — так значит ты… пришел в Сурру метить лес для рубки?
Питкасте что-то изучал на карте, он не обратил внимания на волнение лесника и небрежно бросил:
— Вот-вот, я, и никто другой. — И нетерпеливо добавил: — Ну, как Анне?
— Ах ты, значит!.. Возле железной дороги все опустошил, и тебе еще мало — в Сурру полез?
Питкасте удивленно поднял голову. Уж не злится ли старый Михкель? Ишь ты, и впрямь на то похоже, глазищи словно угли горят. Не понимая, чем он так досадил хозяину, Питкасте примирительно улыбнулся.
— А я-то здесь при чем? Ведь приказано!
— Еще ягненочком прикидывается! Если б в Туликсааре с самого начала рубили как полагается, по твердому плану, не пришлось бы теперь в Сурру валить разом столько лесу. Этого вы и добивались с Осмусом.
Питкасте всегда считал Нугиса чудаком, он бы и сейчас не обратил большого внимания на его слова, но упоминание об Осмусе больно его задело.
— Чего ты сюда Осмуса припутываешь? И еще строишь такое лицо, будто мы бог весть какие преступники. Лесопункт и лесничество должны работать рука об руку. Еще скажи мне спасибо, что твоего Сурру так долго не трогали.
— Дожидайся! Одно — когда понемногу валят, из года в год, и другое — когда так, разом. Сердце заходится.
Питкасте покачал головой. Стареет сурруский Нугис, — всегда молодцом держался, а теперь, видно, совсем одряхлел, в детство впадает. Лесу-то снимут каких-нибудь два дерева, а он такую ламентацию закатил, что просто смех берет.
И, чтобы успокоить старика, он сказал:
— Да что ты старое вспоминаешь? А нынче, если кто и виноват, то новый лесничий. Ему все не так, все перевернуть надо вверх тормашками.
Питкасте запнулся, так как вид Нугиса ему не понравился. Он надеялся на одобрение, потому что хорошо помнил, как однажды старик обозлился на Реммельгаса и удрал из его кабинета. Но внезапно этот леший так помрачнел, что, казалось, того и гляди с кулаками кинется.
— На лесничего ты не наговаривай! — сказал он тихо и раздельно.
— Спокойней, папа!
В дверях задней комнаты стояла Анне. На ее заспанной щеке еще был виден отпечатавшийся узор кружевной наволочки.
Нугис вполоборота посмотрел на дочь. Он стоял посреди комнаты, расставив ноги, высокий, крепкий, и, хотя его волосы и усы уже посеребрились, трудно было дать ему шестьдесят лет.
— Новый лесничий сажает лес, углубляет реку, прокладывает канавы на болоте: он имеет право загнать Осмуса в вековой лес. А вот с тобой, Питкасте, я не пойду замерять лесосеки.
Спокойно, словно разговор шел о самой пустой вещи на свете, он взял трубку, спички и ушел.
Питкасте обиделся, но он не знал, как выразить свое недовольство. Он — объездчик, а лесник сперва изругал его, потом отказался с ним работать. Это же… черт знает что! Даже дочери своей не постеснялся, такой милой девушки, на которую и впрямь можно заглядеться. Но что же ему делать? По правде говоря, надо бы поднять крик, наскандалить и так хлопнуть кулаком по столу, чтоб с потолка штукатурка посыпалась…
Питкасте медленно свернул карту и сложил свои бумаги. Что ему еще оставалось? Ничего больше, как сидеть, опустив голову, да разглядывать свои жилистые руки, лежавшие на столе. Ему вдруг стало жаль самого себя, у него даже в горле защипало. С каким жаром, с каким рвением он ринулся в Сурру, готовый продираться сквозь любые болота, топи и реки. Лесник будто окатил его холодной водой, а ему и крыть было нечем, — по совести говоря, старый черт имел на это право. И вот он сидит тут дурак дураком.
Анне колола лучину, что-то напевая вполголоса. Это еще больше расстроило Питкасте: даже эта стрекоза ни во что его не ставит. Человек переживает, а она поет. Совсем они тут одичали в своей трущобе, для них что человек, что чурка бесчувственная — все едино.
Не придумав для себя ничего утешительного, Питкасте поднялся и стал беспорядочно запихивать бумаги в потрепанный портфель, замки которого давно испортились и который перевязывался измочаленной веревкой. Анне упрекнула его:
— Потише, карту сомнете… — Так как Питкасте ничего не ответил, она спросила: — Уже уходите?
— Конечно.
— А распоряжение лесничего? Что же вы скажете, если он спросит, сколько лесосек замерено?
— А что же, я один буду разве замерять?
— Садитесь.
— Зачем?
И девушка невнятно произнесла какое-то слово, очень похожее на «размазню». Ее тон был настолько решительным, что Питкасте опустился на скамью. Анне поджарила сала, разбила о край сковородки несколько яиц и принялась поправлять горевшие в плите дрова, словно забыв о существовании Питкасте. Объездчик барабанил пальцами по столу и молча ждал. Мучительное это было занятие, но что ему оставалось делать?
Анне только что переложила яичницу со сковородки на тарелку, когда на кухню вернулся Нугис, который, повесив на гвоздь свою большую трубку, сел на прежнее место. Проскользнувшая вслед за ним Кирр повертелась вокруг Анне и, вспрыгнув к Нугису на колени, улеглась. Если бы выдра умела говорить и если бы ее стали спрашивать, она рассказала бы о том, как лесник выкурил подряд три трубки самосада, высушенного в печке, отравляя чистейший утренний воздух. Она уж даже сердито зафыркала на хозяина. Но выдру никто ни о чем не расспрашивал, а сам Нугис, может быть, и не помнил, сколько выкурил трубок, потому что он думал сейчас о другом.
— Откуда начнем? — опросил он.
— О чем ты? — оторопел Питкасте.
— Можно бы зайти с Кяанис-озера, но, по-моему, правильней начать с Ээсниду.
Питкасте глотнул воздух и принялся судорожно развязывать веревочку на портфеле, но та запуталась, а пальцы его почему-то дрожали, и прошло несколько минут, прежде чем он вновь расстелил на столе карту.
— Ты считаешь, что отсюда? — И он провел пальцем по карте.
— Нет, отсюда. — Нугис взял руку Питкасте и ткнул его пальцем в южный склон Каарнамяэ.
Он знал, какие участки лесничий предназначил к рубке. Реммельгас показывал их Нугису и спрашивал, согласен ли он, не предложит ли чего-нибудь другого. Он бы уж предложил, он бы поспорил, он бы разнес и даже высмеял план Реммельгаса, найдись в нем хоть какая-нибудь промашка. Но, к сожалению, план был правильный.
Молча позавтракали. Потом без долгих разговоров собрали все инструменты и отправились к синевшим вдалеке холмам Каарнамяэ: впереди, вожаком, — Нугис, за ним его легконогая дочь, а позади всех волочился долговязый объездчик.
Питкасте вскоре забыл о своей обиде и завел шутливый разговор с Анне. Потом он вдруг заметил шагах в десяти зайчишку, который сидел на задних лапах и, подняв одно ухо, прислушивался к людским голосам. Решив спугнуть серого, он отчаянно засвистел и заулюлюкал. После этого он стал подражать крику разъяренной рыси, и с таким успехом, что две косули, щипавшие весеннюю траву, взмахнув белыми хвостиками, пустились наутек, высоко вскидывая ноги. Нугис хмурился. Он не понимал людей, которые становятся в лесу такими шумными. Ему случалось часами сидеть у оленьего пастбища, ни разу не пошевельнувшись, будто он был каменный. Иногда начинал идти снег и окутывал его всего, с усами, мягким белым покровом, отчего он становился похожим на усатую снежную бабу. Или вот бывало веселье, когда удавалось так осторожно подобраться к лисьей норе, что осторожная кума выводила при нем своих ребятишек порезвиться на солнышке. Разве смог бы он поднять ружье при виде такой умильной картины? Никогда! Другое дело — на честной охоте, когда огненно-рыжий зверь стрелой несется впереди задыхающихся собак.
Застучали топоры, упали деревья на будущих просеках, зашелестела, блестя в траве, серая лента рулетки. Наметив просеки, они приступили к оценке леса. Нугис и Анне ходили от дерева к дереву, обхватывая их длинными деревянными ножками циркуля, выкликали породу и толщину дерева, а Питкасте заносил данные в счетный лист. Там, где не рос подлесок и где песчаная почва была покрыта мягким мхом, работалось легко. Но они не могли миновать густых зарослей, где лохматые елочки тесно переплетались друг с другом, где отовсюду торчали острые сухие сучья, где густые ветви царапали руки, хлестали по лицам и рвали одежду. Что-то колючее, сухое и шершавое все время сыпалось за воротники и соскальзывало вниз, щекоча и царапая спину.
Они отправились в чащу и на другой день, и на третий. Питкасте, хоть ему было и легче, чем леснику с дочерью, так как он только записывал, начинал уже полениваться: то устроит внеочередной перекур, то растянется на мху под елью, и никак его оттуда не поднимешь, а поднимешь — так будет зевать и потягиваться чуть ли не с полчаса. Наконец, еще задолго до сумерек, он захлопнул свою папку и заявил:
— На сегодня хватит!
Нугис даже оторопел и сделал на ели такой затес, что показалась нежная светло-зеленая кожица.
— Ель, сорок! — выкрикнул он и спросил: — Почему хватит?
— Да вспомнил, что… мне дома надо побывать…
Анне обхватила циркулем дерево и крикнула, громче чем обычно:
— Ель, тридцать шесть. Записали?
Питкасте снова раскрыл счетный лист и записал обе ели. Тут он увидел, что Нугис уже перешел к следующему дереву, и рассердился.
— Вы что, не слышали? На сегодня хватит!
Нугис обменялся с дочкой быстрым взглядом.
— Как так хватит? — спросил он с притворным недоумением. — Ты же сам нам сказал, когда заявился: «Пока не придет лесничий, не уйду».
— У меня завтра приемный день.
— Но вы же сами повесили записку, что приема не будет, — рассмеялась Анне.
Пока Питкасте ломал голову, что бы ему такое придумать поправдоподобнее, Нугис уже успел перейти к следующему дереву.
— Береза, тридцать два!
Они словно зажали Питкасте в тиски и не дали ему удрать ни в этот, ни в следующие дни.
— Нечего тебе поглядывать на Мяннисалу, — мягко уговаривал его Нугис. — Тебе-то что, а подумай, каково мне: свой родной лес под топор пускаю! Ты просто ленишься, таскаться неохота, вот и все, а у меня сердце кровью обливается. Раз я креплюсь, крепись и ты, — в лесу иначе пропадешь. Загораешься-то ты скоро, да остываешь еще скорей.
Питкасте хоть и не переставал ворчать, но больше не пытался удрать из Сурру и постепенно свыкся с лесной тишью. Бродил со Стрелой и Молнией — Кирр его и близко не подпускала — и поддразнивал Анне, если ей случалось бросить взгляд на дорогу из Туликсааре.
— Ждешь? — спрашивал он с насмешливой улыбкой.
— Кого? — сердито отвечала Анне и краснела.
— Да все того же Реммельгаса, нашего лесного принца! — смеялся Питкасте.
Да, он подсмеивался над девушкой, но — удивительное дело, — часто и подолгу бывая с ней наедине, ни разу не пытался ее облапить. Небывалый случай!
Однажды вечером, когда они втроем — впереди, как всегда, Нугис, за ним Анне, а за ней через полкилометра Питкасте, — усталые до изнеможения, со взлохмаченными волосами, исцарапанными руками, подошли к сторожке, то увидели над ее трубой синий дымок. Ничего удивительного в том, что кто-то проник в жилье не было, хотя они и заперли дверь на замок. Единственный ключ от него всегда прятали в трещину балки на тот случай, если отец или дочь придет домой в отсутствие другого, и это потайное место было известно всем их знакомым. Но оставалось непонятным, кто мог прийти так поздно? Чтоб решить эту загадку, только и оставалось, что прибавить шагу.
Они со дня на день ожидали Реммельгаса, но тот, как им казалось, никогда бы не стал заниматься стряпней. Но, ввалившись в дом, все трое увидели именно его, облаченного в передник Анне и колдующего у плиты над кипящим чугуном.
— Здравствуйте! — воскликнул он и приветственно взмахнул поварешкой. — Не ждал вас так скоро, а то бы раньше картошку засыпал.
Выяснилось, что он пришел не так давно. Идти за ними в лес было уже поздно, и потому он счел за лучшее приготовить усталым работягам горячий ужин.
— К сожалению, меню не очень богатое, — сообщил Реммельгас. — Всего из двух блюд: из картошки в мундире с мучным соусом и чая, горячего, как огонь.
Анне забрала у гостя передник и поварешку, назначение которой оставалось для него, по всей видимости, неясным, и через несколько минут миска с дымящейся картошкой была поставлена на стол. Питкасте, поев, тотчас оживился и принялся необычайно обстоятельно докладывать, сколько трудностей и опасностей было ими пережито за эти дни на Каарнамяэ. Его фантазия могла вызвать зависть у любого. Оказалось, что у них тут было так много приключений, что Нугис, все время хмуро молчавший, даже уши развесил. Весельчак он, этот Питкасте!
Старик вернулся из леса в хорошем настроении — к сегодняшнему дню дело здорово продвинулось. Но при виде Реммельгаса он опять расстроился. Поневоле вспомнился тот далекий уже день, когда новый лесничий впервые пришел в Сурру. И снова проснулась в сердце та же боль за свой лес — с этим ничего нельзя было поделать.
— Очень интересно, — сказал Реммельгас, когда Питкасте кончил, — а что вы за это время успели сделать?
— Товарищ лесничий, о чем вы думали? — Питкасте покачал головой. — Я целый час рассказывал…
— Рассказ был захватывающий, но насколько продвинулось дело, я так и не понял.
Анне в нескольких словах подвела итоги почти недельной работы. Сделано было немало. Лесничий, удивившись, похвалил их.
Нугис покончил с картошкой и взял со стены трубку. Огорчение прошло, — похоже, что он стал наконец отходчивей и рассудительней, чем бывало. Только вот болтовня Питкасте его сердила: ну что он говорит все об одном и том же — о прокладке просек, об оценке да обмере леса, — будто это самое главное. Месяц тому назад, может, так и было, но теперь… И, вновь нахмурясь, Михкель прикусил ус.
Однако любопытство его было так велико, что взяло верх над его обычной сдержанностью, и, вмешавшись в разговор, он спросил:
— Как у вас там… обошлось в столице?
Беседа оборвалась, как ножом обрезанная. Оказалось, что этот вопрос вертелся на языке у всех, что интерес к остальному был сегодня притворным. Три пары глаз выжидающе уставились на лесничего.
— Да, какие вы привезли новости? — тихо сказала Анне.
Реммельгас отодвинул тарелку. На лице его появилось лукавое и задорное, совсем мальчишеское выражение. Он, как бы недоумевая, пожал плечами и склонил голову набок.
— Ах, в столице? Да что там? — спросил он, чуточку скривив губы. Но, не сумев больше притворяться, он вдруг торжествующе стукнул кулаком по столу и глаза его загорелись.
— Я привез хорошие новости, — сказал он, — только хорошие! Мы выпрямим Куллиару, вытянем ее в струнку.
— Когда начнем?
Это спросил старый Нугис.
— Когда! В этом году, конечно. В Центральном Комитете сказали… Но уж позвольте рассказать все по порядку.
История была длинная, но Реммельгаса не прерывали. Ее начало не предвещало туликсаарцам особого успеха: чуть ли не всюду Тамма с Реммельгасом встречали весьма холодно. В главном мелиоративном управлении не могли понять, почему именно лесничий так хлопочет об углублении реки; в министерстве лесного хозяйства с удивлением посмотрели на председателя колхоза, а в министерстве лесной и целлюлозной промышленности с недоумением воззрились на обоих и принялись втолковывать, что у них как-никак промышленное министерство. «А что, — спросил Реммельгас, — если именно промышленность выиграет от углубления реки, получив новую трассу для сплава?» Этого соображения оспаривать не стали, но о финансировании и слышать не хотели.
За день туликсаареские делегаты всего только и успели, что понять: согласованности в деле мелиорации нет. Министерство лесного хозяйства с каждым годом прорывает все больше канав, главное мелиоративное управление тоже не жалеет сил, но о работе друг друга они узнают лишь из газет. Есть, правда, то утешение, что объемистый план по координации их действий уже разрабатывается, надо только подождать. Но туликсаарцы не хотят ждать, у них лежат в портфеле все проекты и расчеты, они готовы показать их каждому, они не собираются так легко отступаться, они требуют, чтобы еще в этом году на их земле загремели экскаваторы и бульдозеры, и ради достижения своей цели они не побоятся постучать в двери или в души хоть трех министров.
Но все же и на другой день они продолжали двигаться все с той же черепашьей скоростью. Всюду им говорили, что в этом году никак еще нельзя начать такого огромного дела, и на то были весьма веские причины. Поначалу с ними говорили очень вежливо и даже терпеливо, убеждали их раз, убеждали два, но потом наконец потеряли терпение. Тамм уже пришел в отчаяние и, ругаясь на чем свет стоит, грозился связать всех бюрократов одной веревкой и засолить их в бочке. Приуныл и Реммельгас — видать, им и вправду было не под силу распутать этот клубок и привлечь три министерства к углублению одной речушки. Только и оставалось, что направить свои шаги в Цека.
Там внимательно выслушали рассказ об их заботах, вызвали на совещание представителей всех трех министерств, и дело вдруг разрешилось быстро и просто: появилось взаимопонимание, появились деньги, и, более того, — все вдруг стали превозносить инициативу и настойчивость захолустных ходоков.
Таков был вкратце рассказ Реммельгаса. Питкасте все время прерывал его своими «да ну?», «ишь ты!», «вот это да!» Анне вся светилась от радости. А Нугис почему-то сидел серьезный и даже не глядел на Реммельгаса. Лишь когда тот добрался до совещания в Цека, он спросил с недоверием:
— Неужто все так и было?..
— Как так?
— Ну, что созвали людей из нескольких министерств… словно в парламент…
Реммельгас подтвердил, что так оно все и было, и перешел к концу своего рассказа, а Нугис всем телом повернулся к окну, словно на дворе происходили куда более интересные и важные вещи, чем те, о которых ему сообщали. Но там ничего не было, лишь Молния, резвясь, носилась за Стрелой, да черемуха, вся в пышном белом уборе, заглядывала в дом. Весна! Нугис не раз встречал и провожал в Сурру весну, но ни одна из них не наступала так стремительно и так беспокойно, ни одна не вносила столько путаницы в его жизнь. Только Нугис об этом подумал, как вдруг на кухне стало тихо, и ему почему-то почудилось, что все уставились на него, словно ожидая, что он скажет по поводу услышанного. Старик попытался собрать разбежавшиеся мысли, но в голову ему не пришло ничего более умного, как сказать:
— Хороша нынче весна…
На следующий день они работали вчетвером, и настроение Питкасте опять упало, потому что теперь и ему приходилось продираться от дерева к дереву. Он удивлялся тому, как быстро успевал Реммельгас заносить в таблицу данные трех оценщиков. Из-за этого у них не было ни минуты передышки и вечером они едва дотащили ноги до Сурру. Дома им и разговаривать не хотелось, не то что любоваться теплым сумеречным вечером. Только Реммельгас и Анне задержались ненадолго у крыльца, заглядевшись на высокое прозрачное небо. За домом, в черемухе, заливались наперебой соловьи, вдали, на сырых берегах Кяанис-озера, хором квакали лягушки. Хорошо было стоять так вдвоем и молча слушать весенние голоса, но утром предстояло рано вставать, и потому, пожелав друг другу спокойной ночи, они вскоре пошли спать.
Оставаться после работы на крыльце вошло у них в привычку. Однажды вечером они задержались дольше обычного.
«Какая она неутомимая, сколько в ней выдержки! — подумал Реммельгас об Анне. — Изо дня в день пробираться сквозь непролазные заросли, обдирая лицо и руки, шлепать по болоту, вымокать насквозь и никогда не падать духом. И про какую птицу или растение ее ни спросишь, все-то она знает, — видно, оттого, что с детства бродит по лесу с отцом».
А девушку в этот вечер томило тайное беспокойство. Оно одолевало ее уже не первый день. Все началось во время воскресника, когда ей запала в голову одна мысль, которую она никак не могла отогнать. Эта мысль порождала множество сомнений, не давала покоя, возвращалась все снова и снова, порой даже по ночам, надолго лишая сна.
Анне решила, что прежде всего надо поговорить с лесничим, он поймет ее лучше других, он не станет ее высмеивать или осуждать. Но почему-то приступиться к этому было ужасно трудно и она начала издалека:
— Я все собираюсь поговорить с вами…
Реммельгас повернулся к девушке и взглянул ей в глаза, отражавшие последний отблеск заката.
— Почему же только собираетесь?
— Не знаю, вправе ли я… досаждать вам своими заботами. У вас и своих хватает, а тут еще какая-то девчонка лезет с глупостями.
— Что вы, Анне! — воскликнул Реммельгас. — Это же ерунда!
Анне прислонилась к дверному косяку. Звезда сорвалась с темного небосвода и, взмахнув ярким хвостом, полетела вниз.
— В Сурру так хорошо и спокойно, — тихо заговорила Анне. — Я тут родилась, тут выросла… Наверно, очень некрасиво с моей стороны… Но я не могу иначе…
Она покинула свое место и подошла к Реммельгасу.
— Вы не будете смеяться, — произнесла она торопливо, — если я скажу, что хочу пойти учиться в лесной техникум? — И, прежде чем Реммельгас успел ответить, она добавила: — Я уж давно места себе не нахожу, живу как неприкаянная, — все тянет уехать неизвестно куда, что-то сделать, что-то преодолеть, пожить трудной жизнью. И сама себя ругаю за это, знаю ведь — детская романтика. Я воображала, будто все мне о лесе известно, вдоль и поперек его изучила, оттого-то мне здесь и скучно. Но недавно я поняла, как мало я о нем знаю, о лесе. Он мне всегда казался таким спокойным — шелестит вечно об одном и том же. Но вдруг я увидела, какая в нем идет борьба. И меня перестало тянуть отсюда, только не хочется больше стоять в стороне, сложа руки. На воскреснике я словно прозрела и с тех пор больше ни о чем, кроме учения, не могу думать. Я должна выучиться, а потом вернуться сюда, чтобы приносить лесу пользу. Как вы.
Слушая сбивчивые излияния Анне, Реммельгас испытывал самые противоречивые чувства. «Так она на несколько лет уедет в город», — подумал он в первую очередь и сразу представил себе, как будет пусто без нее в лесничьей сторожке. И ему стало грустно. Но все же его гораздо больше обрадовало, чем опечалило, такое верное и смелое решение Анне.
— Что же вас смущает? — спросил он тихо.
— То, что поздно спохватилась. Я уже не школьница.
— Это не серьезно.
— Знаю… Но меня беспокоит мысль об отце. Я ведь женщина, а он привык к тому, что лес сторожат и выращивают мужчины. И ему так одиноко будет…
Это соображение показалось Реммельгасу более важным. Старому Нугису было бы трудно проводить целые дни без дочери, он привык к ее обществу, к ее помощи и в лесу и дома.
— Я поговорю с ним, — предложил лесничий.
— Ох, нет! Лучше уж я сама, только мне нужно набраться храбрости.
«И мне нужно набраться храбрости, — подумал Реммельгас, после того как Анне, пожелав ему спокойной ночи, ушла в дом. — Трудно, ужасно трудно открыть свою душу, свое сердце другому человеку, даже такому, с которым тебя связывают тысячи незримых нитей. Как признаться ему в том, что с тобой творится?»
За четыре дня они управились с разметкой лесосек на Каарнамяэ. Работу около Люмату пока отложили, потому что в воскресенье Реммельгас должен был выступить на открытом партийном собрании и рассказать о том, что задумано сделать для осушения Туликсааре и каковы виды на осуществление этих замыслов в ближайшем будущем.
Это было самое многолюдное собрание из всех, какие проводились в просторном зале туликсаареской школы. А кроме того оно было и самым единодушным: среди пришедших не нашлось никого, кто высказался бы против войны с болотной, пойменной и полой водой. Все как один человек решили дать ей первое сражение сразу же, едва немного спадет весенне-посевная горячка.
Такие же собрания Тэхни организовал во всех других сельсоветах и колхозах, и всюду принималось столь же единогласное решение: обуздаем паводки, осушим поля, покончим с болотами!
Глава девятая
Ренате Осмус, маленькая женщина с большими грустными глазами и горькой складкой около рта, уединилась на кухне, где она тихо, как мышь, просиживала почти все дни напролет — с утра до вечера шила или вязала.
Единственное ее общество составлял сегодня огромный, ростом с теленка, Нестор, спавший у плиты и порой повизгивавший во сне. Ему только и оставалось, что коротать таким образом бесконечное время, потому что хозяин уехал в город.
Наконец на лестнице послышались долгожданные шаги, и, как ни крепко спала собака, она тут же вскочила и радостно рванулась к открывшейся двери. Но, увидев хозяина, она сразу отпрянула назад и прижала уши: чутье подсказало ей, что у вошедшего такое настроение, когда ничего не стоит получить пинка.
Примерно такую же реакцию вызвало возвращение Осмуса и у всей конторы. Едва он туда явился, как все разговоры прекратились, а если люди и обращались друг к другу по делу, так только шепотом. То же повторилось и на другой день, и на третий, и казалось, этому не будет конца. Одни лезли из кожи, тщетно пытаясь заслужить одобрение заведующего, другие выискивали самые хитроумные доводы, чтобы улизнуть на складочную площадку, на лесосеку, на станцию, где грузили вагоны, — куда угодно, лишь бы не ощущать на себе придирчивого, хмурого взгляда своего начальника. Всем было ясно, что его постигли в городе какие-то неприятности, но какие?
Сам же Осмус почти не мог работать. По ночам он не спал и ходил по комнате из угла в угол или прижимался лбом к окну и смотрел на улицу. Погода внезапно испортилась: над землей навис ровный серый туман, а временами по листьям деревьев начинал нервно барабанить дождь. Ветер стал пронизывающим и холодным. Была бы более сносная погода — повесил бы ружье на плечо, пошатался бы по лесу, рассеялся…
Как он обрадовался, когда несколько дней назад его вызвали в леспромхоз. Он и сам туда собирался — ведь так приятно побывать среди людей, которые всегда тебя хвалят, всегда превозносят твои заслуги. Там твердо можно рассчитывать на поддержку в борьбе с Реммельгасом, которому пора было покрепче наступить на пальцы. В основном из-за этого он и хотел туда поехать.
В леспромхозе он застал представителей министерства. Осмуса поздравили с достигнутыми успехами, и он сразу почувствовал себя, как рыба в воде. Люди из министерства с таинственными лицами намекали на то, что его ждет какой-то сюрприз. Сердце Осмуса громко забилось: не собираются ли его куда-нибудь перевести из этой чертовой куллиаруской дыры?
Но работники министерства имели в виду совсем другое. Они намеревались превратить Куллиару, этот передовой лесопункт, в образцовое механизированное хозяйство. Не далее как предстоящей зимой они смогут подбросить Осмусу две-три силовые передвижки, и тогда он сможет применить электропилы. Кроме того, за Куллиару уже закреплены мощные трелевочные тракторы и погрузочные установки. Лесная узкоколейка будет обеспечена рельсами, вагонетками и специализированным локомотивом. Сообщая все это, работники министерства прямо сияли от радости, не замечая в своем ликовании, как потемнело лицо Осмуса.
— Замечательно! — воскликнул директор леспромхоза, потирая руки. — Как только меня спросили, какому лесопункту доверить все это богатство, я не задумываясь ответил: «Конечно, Куллиарускому, какому же еще!»
Представители министерства уже слыхали о намерении углубить реку настолько, чтоб она стала годной для сплава, и их привела в восторг возможность комбинированного использования воды и железной дороги.
И только Осмус оставался холодным. Им-то что, этим бюрократам! Они выделят машины, пилы и тракторы, выполнят тем самым свои планы, почистят, словно кукушки, свои клювы и станут ждать. А за работу придется приниматься Осмусу. Электропилы! Может, где-нибудь в Сибири, где растут высокие стволы без сучков, они и годятся. Может, когда имеются обученные кадры, когда под рукой есть механики, бригадиры и пильщики, когда лес очищен от подлеска, а стволы от нижних ветвей (о таких вещах, вроде, писали), тогда во всем этом и есть какой-то толк. Но откуда у людей появится квалификация? Кто их обучит? Кто подготовит лес? И еще трелевочные тракторы… Никто даже и не видал, как они работают и работают ли вообще, а нормы небось будут такие, что только покряхтывай…
Осмус не доверял технике. Хитрая это штука, то и знай, что ломается, не начинишься! Вообще-то говоря, механизация, конечно, вещь прогрессивная, но иметь дело с новыми, неосвоенными машинами — слуга покорный. Может, годика через два, а то и через три, когда все они пройдут серьезное испытание, когда научатся ими пользоваться, механизация станет рентабельной и даст, быть может, колоссальную экономию людского труда, необычайно повысит производительность и т. д., и т. п. Но почему хотят именно его, Осмуса, превратить в подопытного кролика, который должен первым переболеть всеми хворостями? Вот будь это американские машины — тогда другое дело!
Вечером того же дня они с директором леспромхоза «вспрыснули» получение новой техники, хоть она и была для Осмуса все равно что нож острый. И директор сообщил ему по секрету, что весной он рассчитывает перевестись на работу в министерство. Стало быть, его пост в леспромхозе станет вакантным, а он вряд ли сможет рекомендовать на это место более подходящего кандидата, чем Омсус. Особенно, если тот в следующем сезоне не подкачает и закончит его с высокими показателями: тогда обоим обеспечено повышение.
Надо же, чтобы так получилось! Чтобы на него вдруг свалилась неосвоенная техника как раз в тот момент, когда от нее зависело получение директорского места. Недаром он всегда не доверял всем этим машинам, пропади они пропадом!
Добро бы, если б еще Реммельгас не наседал на него с новыми лесосеками. Тогда бы черт с ними, пускай бы и машины всучили, и план повысили: уж он как-нибудь его выполнил бы все с теми же дровенками да с двуручной пилой. А между делом осваивал бы себе потихоньку и силовые передвижки, и локомотивы, и трелевочные тракторы. В опытном, так сказать, порядке. Но если его загонят на Каарнамяэ, то ничего из этих опытов не выйдет. И нового плана ему не выполнить.
В леспромхозе он попытался было осторожно поддеть Реммельгаса, опорочить его план, но по тому, как сразу насторожились представители министерства, понял, что поддержки от них ждать нечего. Лесничего не назвали, как он ожидал, пустым мечтателем, а директор, вместо того чтобы прийти Осмусу на помощь, дипломатично промолчал. Так он и поехал назад ни с чем, если не считать неприятных новостей. По мере приближения к дому настроение портилось все больше и больше. Сначала его охватило уныние, потом досада, которая мало-помалу переросла в озлобление. Эх, если бы сорвались их воскресники! Или не удалось бы получить экскаваторы! Тогда бы не смогли углубить реку и вывозка из Сурру стала бы невозможной — волей-неволей пришлось бы им перестраивать все планы. Если бы…
«Если бы да кабы» — вот и все, что оставалось теперь Осмусу. Реммельгас упрямый человек, он от своего не отступится. Питкасте, до того как слетел с места, успел, к счастью, предоставить лесосеки у железной дороги. При нем в лесах Куллиару без Осмуса не предпринималось ничего важного, а теперь всем заправляет этот Реммельгас. Надо же, чтоб он попал именно сюда, в эту дыру. И все из-за того, что вышибли Питкасте. Не давать бы ему пить — так, может, удержался бы…
За стеной в столовой раздавалось спокойное тиканье стенных часов. Почему в середине дня такая тишина в доме? Жена ушла еще утром, но почему не слышно голосов в конторе? Отлынивают? «Вот я устрою им баню, такую баню, что надолго запомнят, как разгуливать в рабочее время, обкрадывать государство!»
Он поднялся, но в тот же момент в дверь постучали. Это не мог быть кто-либо из конторщиков — те так громко не стучат. Осмус снова опустился на стул и громко крикнул:
— Войдите!
Осмус ожидал кого угодно, только не лесничего.
Но тот стоял перед ним, и с его плаща стекала вода, образуя на полу вокруг ног темный круг.
— Извините, я вам залил весь пол.
— Это пустяки, не беспокойтесь! — И Осмус, очнувшись от оцепенения, вскочил со стула. — Давайте снимем плащ и повесим его в сенях.
Осмус отнес плащ и, вернувшись, пододвинул гостю просторное кресло. Реммельгас едва сумел вставить два словца о том, что, относя почту на станцию, он решился зайти ненадолго к заведующему и потревожить его, — Осмус так и сыпал словами: предлагал сигареты и сигары, задавал вопросы, вертелся вокруг стола, превозносил лесничего за рвение и за находчивость. Вдруг он хлопнул себя по лбу.
— Как жаль, что жены именно сегодня нет дома, — в такую сырость чашка горячего кофе просто необходима.
— К чему такие хлопоты…
— Какие там хлопоты? Ведь мы с вами встречались до сих пор только на собраниях и вообще — на работе…
— Я пришел…
— …по служебному делу, разумеется. Знаю, знаю, уже изучил вас. Успеется, успеется, ведь и советским людям разрешается иногда посидеть без дела и поболтать.
Он обрушил на Реммельгаса поток слов. От кофе он перескочил к лисицам, которые истребляют маленьких тетеревят; сообщил рецепт скорейшего приготовления грога «для целебных нужд»; выложил несколько анекдотов — «а вот самый последний, вы слышали?»
— Меня ждут, — соврал наконец лесничий. — Я зашел, чтобы спросить: знаете ли вы лесника Тюура?
Осмус прищурился и склонил голову набок, как бы напрягая память.
— Тюур? Как будто что-то знакомое…
— Он работал на дегтярной фабрике.
— Ах да, верно! Вот иногда, понимаете, выскочит имя из головы. Когда фабрика перестала работать, Питкасте нанял его лесником.
— По вашей рекомендации?
— Разве по моей? Что-то не помню. Помню только, что когда Питкасте пожаловался на нехватку лесников, мне вспомнился Тюур. Человек старательный, энергичный. Говорил, что лесное дело знает хорошо, что будто бы даже изучал его где-то — в лесной школе, кажется.
— Откуда он приехал в Куллиару?
Осмус пожал плечами.
— Не знаю, не имею понятия, ведь я тут новичок. Полагал, что Питкасте, как местный житель, знает о нем больше.
Так как Реммельгас ничего не ответил, Осмус спросил:
— А в чем дело, позвольте спросить? Уж не случилось ли чего… с этим Тюуром?
Реммельгас рассказал о жалобе объездчика на то, что Тюур нерадиво относится к своим обязанностям. Объездчик при проверке обнаружил, что посадка на вырубке проведена лишь наполовину, хотя в отчете сообщалось, что работа закончена. Вызывают сомнения и некоторые ведомости по зарплате.
Когда он захотел подняться, Осмус дружески усадил его обратно в кресло.
— Посидите еще полчасика. И у меня есть к вам деловой разговор. Я бы и так пришел завтра или послезавтра в лесничество, но если вы не против, то лучше поговорим сейчас…
Осмус уселся поудобнее и после этого рассказал, как много он за последнее время думал о начинаниях и новшествах Реммельгаса.
— Ведь вы знаете, что сперва я противился, — улыбнулся Осмус. — Что скрывать — боялся трудностей. Между нами говоря, я не столько боялся местных, так сказать, домашних препятствий, сколько тех, которые могли встретиться наверху. Ведь они там не знают местных условий, они ко всему относятся по-бумажному. Дадут ли все нужное для железной дороги? Для нее понадобится довольно-таки много рельсов, вагонеток, болтов, да и мало ли чего еще. У меня есть опыт по части добывания материалов — сложное это дело. И я знаю, как упорно приходится бороться за каждое новшество. Когда мне сообщили, что в наш леспромхоз прибудут двое ответственных работников из министерства, я, не теряя времени, помчался в уездный центр. Я описал положение и заявил резко и решительно, что необходимо построить узкоколейку. Я пошел еще дальше! Я красочно, с жаром рассказал, какую пользу и экономию дала бы полная механизация работ на Куллиаруском лесопункте. Поначалу товарищи лишь отпускали снисходительные замечания да насмешки, но я пускал в ход все более тяжелые орудия, пока противники не заколебались. В конце концов их удалось даже зажечь нашими планами. Ну, тут уж я не пожалел пороху. Они обещали доложить министерству, посулили со своей стороны посодействовать и нажать. Недавно из столицы сообщили по телефону, что мое сообщение вызвало в министерстве настоящую бурю. Механизация Куллиаруского лесопункта — дело уже решенное, нужные машины и материалы выделены, зимой пришлют в помощь инженера или хотя бы техника.
Реммельгас не поверил в то, что все было именно так, как изложил Осмус, но все же услышанное его обрадовало. Суть не в том, насколько он привирает, а в том, что последний противник его плана складывает оружие. Очевидно, он лишился наверху какой-то поддержки, и не исключено, что его даже распекли в леспромхозе.
— Приятно слышать, — сказал Реммельгас.
— А мне? Да я просто запрыгал от радости, как мальчишка. Но теперь к делу. Обращаюсь к вам за помощью. Лесопункт ужасно отстал: на реке все подготовительные работы уже закончены, а трасса узкоколейки еще не проложена. У вас по этой части есть опыт — что, если б вы пришли и помогли? Если вы сами заняты, пришлите Питкасте. Или Нугиса, он тоже под рукой…
Реммельгас задумался: дел у него было по горло, но все-таки не стоило отказывать Осмусу.
— Когда вы думаете начинать? — спросил он в раздумье.
— Благодарю вас, товарищ Реммельгас! — Заведующий сделал вид, что принимает его слова за согласие. — Товарищ Киркма тоже, наверно, обрадуется такой ценной помощи. Она будет от нас бригадиром на постройке узкоколейки. Я всем твердил о вашем великодушии и не ошибся.
Вопрос о сроке так и остался открытым, Осмус пообещал сообщить его позже.
Реммельгас уже надел плащ, когда Осмус вспомнил еще об одной вещи.
— Ах да!.. Вы говорили о Тюуре… Что вы думаете делать с этим жуликом?
— Жуликом?
— Вы ведь сказали, что культуры не посеяны, а ведомости подозрительны.
— Все это еще требует проверки. Когда освобожусь, схожу в Кулли, сам все расследую.
— Конечно! Таких лодырей ни на один день нельзя оставлять без присмотра.
На прощанье они обменялись крепким рукопожатием. Осмус подошел к окну и сквозь гардину посмотрел вслед лесничему, осторожно пробиравшемуся на велосипеде по грязи. Он стоял не двигаясь еще и тогда, когда Реммельгас уже скрылся за поворотом и на улице ничего нельзя было увидеть, кроме серого дождя, который лил вовсю, наполняя колеи мутными бурлящими потоками. Беспокойство, одолевавшее Осмуса с утра, наконец-то рассеялось, но все же еще было о чем подумать. К вечеру, когда облачная завеса прорвалась и дождь немного унялся, он натянул плащ и достал из шкафа трехстволку.
— Куда ты, на ночь глядя? — спросила успевшая вернуться жена.
— Да так… Прогуляться… До завтра не жди, — может, засядем с ночи на тетеревов…
— Опять с Тюуром?
— С чего ты решила?.. Ну, а если и с ним? Хотя нет, я не пойду в Кулли… Слишком далеко.
В воскресенье Реммельгас проснулся рано. Кончив бриться, он пошел на кухню, налил в эмалированный таз свежей колодезной воды и, блаженно отфыркиваясь, вымылся до пояса, а затем растерся докрасна полотенцем.
После этого он выглянул в открытое окно. На востоке, чуть пониже солнечного шара, синели тучи, сулившие мало хорошего.
Реммельгас наморщил нос. Ему не нравились эти тучи. Но что он мог тут поделать? Другая статья — пустошь вокруг дома, которая не нравилась ему еще больше: ее можно было озеленить. Реммельгас уже давно начал заниматься этим: в лесу он постепенно приглядывал молоденькие ясени, клены, рябины, липы, тополя, пирамидальные можжевельники и стройные осинки. Часть из них уже в этом году была пересажена на новое место. Это лишь скромное начало. Он задумал устроить у своего дома, с восточной стороны, нечто вроде заповедника, где будут представлены все туликсаареские породы.
Квартира лесничего состояла, если не считать кухни, всего-навсего из одной комнаты. Но зато она была просторной, и два широких окна давали ей много света. Стены были обиты полосатым картоном, потолок обшит мореными досками. Рядом с книжной полкой стоял шкаф, за стеклами которого виднелись аккуратные ряды жуков и бабочек, приколотых булавками. На стуле у печки лежала стопка древесных срезов, под стулом сохла куча губок — новое пополнение стремительно растущей коллекции, аккуратно разложенной в кабинете: там были представлены виды местных деревьев и наглядные данные об их росте, о вредителях.
Утренний ветер лениво шевелил белые занавески. Из деревни донесся скрип колодезного вала и послышался звон цепи, а еще дальше, за невысоким ивняком и черемухой, принялся весело пыхтеть трактор, — видно, Тамм взялся за целину.
Реммельгас захлопнул окно, чтоб никакие звуки не отвлекали его внимания. Часа два он занимался чтением. Читать по утрам книги по лесоводству и делать заметки вошло у него в такую же привычку, в такую же насущную потребность, как пить кофе. Но он помнил ту пору, когда большая часть утреннего времени уходила у него на то, чтоб сосредоточиться и не отвлекаться от чтения. Он невольно вспомнил об этом и сегодня, потому что уже не раз ловил свою мысль на чем-то очень далеком от того, что читал. Несколько раз он вставал и озабоченно присматривался к поднимающейся все выше тучевой завесе, от которой отрывались временами одинокие облака. «Хоть бы на день задержался», — с досадой подумал Реммельгас о дожде и принялся приводить в порядок коллекцию жуков. Но и это занятие, всегда такое захватывающее, так помогающее собраться с мыслями, показалось сегодня однообразным и скучным. Тут он вдруг обнаружил, что скоро у него кончатся папиросы. Значит, придется выйти. Кстати, можно будет купить табаку и на долю старого Нугиса. Подумав об этом, он тотчас выкатил велосипед и поехал на станцию, где был ларек.
Тучи упорно приближались, наступали сомкнутыми темно-серыми рядами. Когда Реммельгас подъехал к дому мастера Киркмы, до него отчетливо донесся нарастающий гул, и то не был шум леса. Вскоре упали первые тяжелые капли, затем небо над ним потемнело и сразу хлынул проливной дождь. «Надо подождать, пока утихнет», — подумал Реммельгас и спрыгнул с велосипеда.
При виде лесничего Хельми Киркма всплеснула от удивления руками. Стоя на крыльце, она схватила его за руку и увлекла в комнату.
— Может быть, я нарушу ваш воскресный покой, — извинился Реммельгас. — Но дождь отчаянный.
— Наоборот, мне вы всегда приносите покой.
Киркма работала: она подытоживала данные предыдущей недели. Волосы ее были зачесаны назад, открывая маленькие белые уши.
— Красивая прическа, — сказал Реммельгас. — Она придает вам такой энергичный вид.
— Скажите пожалуйста! — воскликнула Хельми. — А я-то думала, что вы вообще не обращаете внимания на женщин и на их внешность.
Хельми сегодня смеялась часто и много, смеялась даже тогда, когда Реммельгас не находил для этого достаточных причин. «Она очень, очень чему-то радуется», — промелькнуло в голове у лесничего, и он с грустью прислушался к тому, как дождь барабанил по стеклу.
Для Хельми было новостью сообщение о постройке узкоколейки и о появлении новой техники. Нет, Осмус обо всем этом не говорил ей ни слова. Впервые она слышит и о том, что ее назначают бригадиром на постройку узкоколейки. Электропилы, трелевочные тракторы, лебедки, узкоколейка… Как она об этом мечтала! Радость ее была так велика, что она чуть не бросилась к лесничему на шею. Разве она не знает, как тяжела, как ужасно тяжела работа в лесу. Порой при виде того, как безнадежно увязала в сучковатой березе или ели пила, которую держали молоденькие девушки или пожилые женщины, она сама хваталась за ручку, чтоб дать передохнуть неопытной пильщице. Она не раз видела, как лесорубы приходили на ночлег в тесный, скупо освещенный коптилками барак, как они медленно съедали свою холодную пищу и ложились потом на тюфяки, набитые сеном или соломой. Опытных рабочих было мало, а страна нуждалась в стройматериалах больше, чем когда-либо прежде. «Как ни тяжело, а работать надо», — думали все и делали свое дело, а Хельми мечтала о том времени, когда машина облегчит труд лесорубов. В том, что это не за горами, она ни минуты не сомневалась.
— А вы не боитесь новых, незнакомых машин? С ними на первых порах много хлопот… У нас ведь нет обученных кадров…
— Раз наши инженеры и рабочие сумели сделать эти машины, то чего бы мы стоили, если бы не сумели их использовать?
— Отлично сказано! — воскликнул Реммельгас и добавил: — Даже Осмус меня обрадовал вчера, я его просто не узнал. Человек-то он вообще веселый и живой, но когда он рассказывал об углублении реки и механизации лесопункта, то был так воодушевлен, что я им залюбовался. Уж и повоевал же он в министерстве!
— Осмус?
Ухо Реммельгаса уловило в голосе Хельми то же сомнение, с каким он сам вчера слушал Осмуса.
— Да-да, он мне все вчера рассказал…
Хельми принялась разглядывать ногти.
— Я больше не очень-то верю… этому человеку… Хитрый он, оборотистый и любит власть. А вы поперек дороги ему стали. Он этого никогда не простит.
— Не пугайте, а то я сон потеряю, — пошутил Реммельгас.
— Осмус уволил Кари. Браковщика, помните? Конечно, он мотивировал это не критикой, с которой Кари выступил по адресу заведующего лесопунктом на нескольких последних собраниях, а беспорядком на лесосеках. Но как делянкам стать чистыми, если сам Осмус только и знает, что торопить все время с вывозкой леса. Он всегда говорил: хлам пусть подождет! А теперь все свалил с больной головы на здоровую…
— Это просто невероятно!
— Но все-таки это правда. Кари сам рассказывал. Он был тут, ушел за несколько минут до вас. Пошел на станцию…
Заметив, с каким жаром она обо всем рассказывает, Хельми смешалась, потеряла нить своей мысли и даже слегка покраснела. В замешательстве она встала и выглянула в окно. Реммельгас улыбнулся.
— Смотрите-ка… Все столько говорят о вашем мужененавистничестве, а вы…
Хельми обернулась, глаза ее улыбались.
— Товарищ Реммельгас! — Она торопливо села на диван рядом с лесничим и крепко сжала его руку. — Не скрою — я счастлива. И за это счастье я должна благодарить вас… Вы лучший человек на свете!
Она выпустила руку Реммельгаса и, не поднимая взгляда, торопливо, словно боясь, что ее прервут, заговорила:
— Я боялась людей, а мужчин презирала. Скольких насмешек мне это стоило! Это казалось таким странным и нелепым, — мужчины пытались на пари излечить меня от этой странности. Да так и не вылечили. Своим ухаживаньем они внушали мне еще большую неприязнь. Если б мы встретились года три-четыре назад, вы бы меня испугались: злющая была, как ведьма. Никого не любила, никому не доверяла, друзей у меня не было. Я даже и не искала их, считала, что с меня хватит моей работы, я отдавала ей всю душу, все свои молодые силы. Я ведь не с рождения такая, я была раньше обыкновенной девушкой, скорее хохотуньей и озорницей, чем тихоней, но жизнь меня обламывала и мяла до тех пор, пока не согнула. Сызмала я работала на чужих — сначала пасла скот, а потом батрачила на хуторе. Зимой жила на кухне, летом — в амбаре или на чердаке. Назови меня кто человеком, я б решила, что насмехаются. Хозяин, бывало, пропьет в трактире несколько тысяч, а потом вымещает свою досаду на батраках. Даже если ты понравишься хозяйке, то она за все лето не даст тебе ни одного свободного дня. А если ты не по душе хозяевам или посмеешь требовать, чтоб они платили жалованье вовремя, так тебе укажут на дверь. Собаку никто не выгонял с хутора, а выгнать батрачку было так же легко и просто, как переменить субботним вечером рубашку… А если вдруг ночью к тебе явится хозяин, пресыщенный своей дородной супругой, а ты, глупая девка, не оценишь такой чести, так тоже можешь убираться. И работа, работа и работа. Мне было смешно слышать, будто она приносит радость… Девочкой я, бывало, расхохочусь, мать меня бранит за это: что, мол, заливаешься, голытьба. Я тогда ее не понимала, не знала еще, что беднякам смеяться не положено. Доверяла жизни. Однажды даже поверила, по своей глупости, сердечным излияниям хозяйского сына, его красивым словам. Дело было не столько в заманчивых обещаниях, сколько в том, что сын хозяина мне нравился. Потом я дорого заплатила за свою наивность — забыла смех и радость, возненавидела жизнь, стала бояться людей, презирать мужчин, воображающих, что у батрачки нет ни души, ни сердца…
Хельми рассказывала, опустив голову, глядя на свои стиснутые руки. Кончив, она глубоко вздохнула, словно ей стало легче, словно с души ее упала тяжесть, и, когда она подняла лицо, Реммельгас заметил, как в ее глазах блеснули слезы.
— Все это было слишком несправедливо, слишком бесчеловечно, чтоб длиться дольше. Сами можете догадаться, что для меня значило установление советской власти. В первую же осень я поступила в Вольветский лесопромышленный техникум. Лес всегда был мне другом, всегда меня успокаивал, возвращал силы. Человек быстро забывает и быстро учится. Я стала браковщиком и забыла многое из пережитого, с головой погрузилась в свою работу. Не только из благодарности, не только из сознания долга перед советской властью, а потому что работа была для меня всем. Возвращаясь в первые дни домой, я плясала от радости. Да-да, скакала, как сумасшедшая: мой труд был свободным, был нужным, и все во мне пело, и лес пел вместе со мной. Я хорошо понимала, что мне дала советская власть. Она дала мне жизнь, богатую, многогранную жизнь. Но я по-прежнему оставалась одинокой, сторонилась людей. Доверие к людям постепенно возвращалось, но неприязнь к мужчинам упорно не проходила. Мужчины со своей стороны немало приложили усилий, чтоб я оставалась все таким же «чертополохом». Вы меня ободрили, сокрушили во мне последнее предубеждение батрачки.
— Только ли я? А Кари? — поддел ее Реммельгас.
— А с ним иначе, совсем, совсем иначе! — Щеки Хельми опять зарделись. — Без вашего ободрения я и его бы сторонилась, заставляла бы себя сторониться вопреки своим чувствам. Так что и тут я вам обязана…
— Сколько вы мне приписываете!
— Это еще не все. Когда заведующим лесопунктом стал Осмус, я залюбовалась тем, как энергично, как настойчиво он повел дело и принялся хозяйничать в лесу. Особенно впечатляли высокие проценты и похвалы на собраниях и в газетах. Они приносили мне большое удовлетворение, они ведь говорили об успехе нашего общего дела, а в нем была и моя доля, доля труда той самой Золушки, которая лишь недавно стоила ничуть не больше, чем плуг, или борона, или какой-нибудь другой инструмент в сарае серого барона. Вы все перевернули. Осмус пришел в ярость, и я поначалу обиделась. А потом поразмыслила обо всем и поняла, что вы были правы. Мне стало стыдно за себя, за то, что я ничего не замечала.
— Осмус и сейчас еще не понимает…
— Понимает, он все понимает, но просто не признается в этом. Будет ли здесь шуметь лес или останутся одни голые пни, — ему все едино. Завтрашний день Туликсааре его не волнует, он заботится лишь о собственном будущем.
— Будущее леса и нас самих — одно с другим связано.
— Это верно — человек поднимается не в одиночку, а вместе со всеми.
Хельми поставила на стол молоко и свежеиспеченные пышки. Они уже принялись за еду, когда вдруг пришел Осмус. Он сделал удивленное лицо, принялся извиняться и даже попытался тотчас уйти. Хотя он не обронил ни одного намека, но все его поведение говорило о том, что он понимает увиденное по-своему и сделает свои выводы.
Осмус пришел рассказать о своей борьбе с министерством, о том, как он добился материалов для лесной узкоколейки, и о том, что он поручает Хельми руководить строительством. Но разговор о будущей работе не клеился, всем было не по себе, и Реммельгас вскоре поднялся.
— Ну нет! — Осмус вскочил. — Я здесь у вас третий лишний, так что я и уйду…
Реммельгас и виду не подал, что понимает его намек. Тем временем дождь прекратился, хотя надвигавшиеся густые тучи обещали новый ливень. «Если потороплюсь, может, поспею до дождя в Сурру», — подумал Реммельгас, но ошибся: не успел он дойти и до дому, как полило вновь.
Этот день оказался долгим для Реммельгаса, долгим и томительным. Большую его часть он простоял у окна, по которому стекали струи мутной воды. Тучам, казалось, не было ни конца, ни краю, но все же к вечеру их сплошная серая масса разорвалась и дождь затих.
Однако было уже поздно пускаться в Сурру…
В середине недели Реммельгасу пришлось послать Питкасте замерять лесосеки в районе Люмату, а когда Осмус напомнил о прокладке железнодорожной трассы, лесничий был настолько занят другими неотложными делами, что и на помощь лесопункту послал объездчика. С разрешения лесничего на подмогу пригласили и Нугиса с дочкой, но девушка отказалась. В воскресенье Анне ждала Реммельгаса, она хотела в тот день поделиться с отцом своими планами и надеялась на поддержку лесничего. Погода, правда, была плохая, но в полдень дождь перестал, — если б он захотел, то вполне мог бы успеть добраться до Сурру.
— Пусть лесничий сам бегает, — обиженно проворчала она теперь в ответ на приглашение, — нечего ему командовать.
Осмус на это сказал, что у лесничего, мол, очень много дел, особенно теперь, когда он, по-видимому, готовится к свадьбе.
— К какой свадьбе? — спросил оторопевший Питкасте.
Когда Осмус назвал Хельми невестой лесничего, Питкасте махнул рукой: охота, мол, слушать бабьи сплетни! Осмус притворился рассерженным и, чтоб восстановить свой престиж, рассказал о том, как застал воркующую пару наедине. Видно, праздновали помолвку. Он взглянул потихоньку на Анне и остался доволен тем, какое впечатление на нее произвела эта новость: девушка прикусила губу и побелела как бумага.
Осмус едва заметно усмехнулся. Пусть это будет первой местью лесничему за все, что свалилось теперь на его шею, — за этих комаров, за то, что приходится таскаться тут по болотам и продираться сквозь заросли.
Несколько дней спустя — прокладка железнодорожной трассы была еще не закончена, — ранним утром в лесничестве зазвонил телефон. Лесничий, вернувшийся лишь поздно ночью с делянки в Линкаэву, натянул на голову одеяло, чтобы ничего не слышать. Но телефон был упрям: как бы задумчиво помолчав, он снова принялся звать его, протяжно и требовательно.
Реммельгас откинул ногами одеяло и спрыгнул на пол.
— Алло! — крикнул он в телефон. — Неужели вы не могли подождать хотя бы до восьми?
Из трубки ответил нетерпеливый, но твердый женский голос:
— Не могли. Немедленно приходите к объездчику, браконьеры убили лося.
Странно! Голос знакомый, а чей — не поймешь. Но еще более странным было само сообщение. Лось? Откуда забрел этот редкий зверь в Туликсааре?
— Оставьте лучше свои первоапрельские шутки! — ответил он. — В Туликсаареском лесничестве больше пяти лет не видали ни одного лося.
— Вы так думаете? — В голосе послышалось раздражение: — Ну что ж, если у вас нет времени…
— А кто это говорит?
Из трубки послышалось дыхание, и лишь после короткой паузы раздалось.
— Дочь Нугиса — Анне Нугис.
— А где отец?
— Пошел по следам лося к Люмату.
— С кем?
— Ни с кем, один.
— А объездчик Питкасте?
— Он с Осмусом на железнодорожной трассе.
Сон и усталость как рукой смахнуло. Тот, кто отважился выстрелить в лося, не побоится выстрелить и в человека, чтобы скрыть свое черное дело. На лосей не ходят в одиночку, на них охотятся сообща. Значит, старый Михкель не зря поднял тревогу.
— Подождите меня!
— Я тронусь потихоньку в Сурру, вы меня догоните.
Реммельгас торопливо оделся. Вот так история — лоси! Странно, неужто старый Михкель не знал о том, что на его участке появилась такая редкость? А может, звонила не Анне и все это обман? Заманивание в ловушку? Но лесничий тут же рассмеялся. Кому это нужно? Бандиты вывелись в лесах Туликсааре еще раньше лосей… Он повесил на плечо двустволку и вспрыгнул на велосипед.
Воздух был свеж и полон утренней росистой прохлады. Над зубчатым силуэтом леса пылал багровый рассвет. В небе реяла одинокая полоска облаков, нижний край ее был светлым, почти белым. Лесничий никогда не пропускал возможности полюбоваться на игру красок при восходе солнца, это зрелище всегда очаровывало его, но сегодня он лишь бегло взглянул на все это великолепие. Вдали показались красноватые стволы соснового бора.
До Мяннисалу дорога была ровной и достаточно широкой, здесь можно было ехать быстро. Не останавливаясь около дома объездчика, Реммельгас свернул на узкую и бугристую лесную дорогу, по которой мало ходили. Тут росли высокие, густые деревья, отсюда восхода совсем не было видно. Да и некогда было на него заглядываться, как некогда было и заслушиваться звонким птичьим пением. Неровная, усеянная корнями дорога, даже летом утопавшая в грязи, приковывала к себе все внимание.
Реммельгас проехал бы мимо Анне, если б она его не окликнула. Девушка сидела на бревне у дороги. Лесничий спрыгнул с велосипеда и вернулся. Анне поднялась и пошла ему навстречу. На ней были длинные коричневые брюки, заправленные в солдатские ботинки, и куртка того же цвета с большими карманами. «Прямо амазонка», — подумал Реммельгас, увидев, как легко и уверенно девушка вскинула на плечо ружье.
— Однако у вас сегодня мужественный вид! — воскликнул лесничий.
Анне ответила как можно более равнодушным и холодным голосом:
— Велосипед поставьте в кусты. Мы пройдем на болото прямо лесом, здесь недалеко.
Удивленный тоном девушки, Реммельгас спрятал велосипед и снова повернулся к Анне.
— Вы беспокоитесь об отце? Но, наверняка, браконьеры уже удрали как можно дальше.
Анне, не говоря ни слова, пошла по направлению к болоту. Когда лесничий догнал ее и попросил извинения за то, что не пришел в воскресенье из-за жуткого ливня, она и вовсе отвернулась в сторону.
— Не беспокойтесь, товарищ лесничий.
Анне шла быстро, ловко уклоняясь в сторону от веток. Легко, как лань, она перескакивала через поваленные ветром деревья, мигом определяя, куда надо ступить, чтоб не провалиться по колено в грязь. Реммельгасу стоило немалого труда держаться с ней рядом, чтоб не пропустить мимо ушей ни слова из ее рассказа.
Нугис уже несколько ночей бродит по окрестностям, зная, что недавно лоси покинули болото Люмату. Они даже промчались через поляну у сторожки. Еще до этого в лесу раздался выстрел, и Нугис опасался за жизнь лосей. И его опасения оправдались: сегодня ночью, за несколько часов до восхода, тишину леса вновь нарушил грохот выстрелов. Нугис пошел по следам лосей и нашел место, где трава была забрызгана кровью. Раненый лось вскоре отстал от своих, свернул в сторону и кинулся через лес к острову на болоте Люмату. Нугис послал дочку за помощью, а сам по следам отправился на болото.
— Вы хорошо знаете, как туда идти? — спросил с сомнением Реммельгас, вспомнив о размерах Люмату.
Анне не ответила. Она шла напрямик, не раздумывая и не сворачивая, очевидно, хорошо зная, куда направился раненый лось. «Но как она думает найти на болоте отца или лося?» — продолжал недоумевать лесничий.
Они добрались до топкой поймы, сплошь заросшей густым ивняком, черемухой и ольхой. Между кочками блестела вода. Кочки так проминались под ногами, словно были надуты воздухом. Появилась голубика с хрупкими стебельками, распространял одуряющий аромат багульник. Кустарник сменился сучковатыми и приземистыми соснами. Когда они пробрались сквозь них, перед ними открылась пустая волнистая равнина. Солнце уже встало над нею, и все тут переливалось десятками оттенков красного, желтого и фиолетового.
Это было Люмату. Отдельные забравшиеся сюда сосенки жались к земле, их стволы и ветви, словно мучимые ревматизмом, были скрючены и изуродованы. Вереск, голубика и багульник покрывали землю высокой, по колено, порослью. Метров с двести тут было суше, чем в кустарнике на краю болота, но затем густую траву сменил мягкий, пропитанный водой мох. Почва колыхалась и чавкала под ногами.
— Осторожнее! — крикнула через плечо Анне. — Тут есть окна.
Реммельгас уже приметил их. — Покрытые мягким светло-зеленым мхом, на котором рос многокоренник и водяной лютик, они были совсем не приметны. Эти веселые полянки, окруженные частоколами осоки и пушицы, казались такими приветливыми, но и Анне, и лесничий старательно их обходили.
Они пробирались не прямо к середине болота, а держались правее. Им даже пришлось пересечь полуостров, глубоко вдававшийся в болото, и покрытый соснами, березами и сочной травой. Миновав его, они были вынуждены обойти маленькое, быстро зарастающее озеро с топкими берегами. С него, крякая и шумно хлопая крыльями, взлетели и принялись кружиться над людьми потревоженные утки.
Лесничий в душе выругал себя за то, что не изучил заранее болота Люмату. Он совершенно не ориентировался в этой системе островов, рощиц, озер и окон, он даже и представить себе не мог, где тут бродят звери, где находятся лосьи тропы. Анне же, по-видимому, ориентировалась тут не хуже, чем среди берез, ясеней и кленов возле своего дома.
Вдруг совсем рядом раздался свист ястреба, и лесничий, вздрогнув, посмотрел наверх. По небу тянулись редкие серые облака, но сколько Реммельгас ни смотрел, он так и не мог найти хищника, парящего над добычей.
«Ну да, тот уже улетел — вот его свист слышится совсем далеко, над одиноко вздымающимся островом».
И тут вдруг ястребиное «фью-фью» послышалось совсем рядом. Но как будто не в воздухе… И тогда лесничий понял. Он подошел к стоявшей впереди Анне.
— У вас это хорошо выходит, — сказал он одобрительно.
Анне улыбнулась и поспешила вперед. Вскоре Реммельгас понял, что дочь лесника не стала рисковать потерей времени на розыски надежной дороги, а пошла самым коротким путем прямо к видневшемуся на болоте острову. Этот путь проходил между окнами, порой совсем заросшими, и нередко стоило сделать только шаг в сторону, чтобы провалиться в тинистую, засасывающую и вонючую грязь.
В кустарнике на острове перед ними возникла высокая, слегка сутулая фигура лесника Нугиса. Он опирался на толстую можжевеловую палку, на плече у него висело ружье.
— Наконец-то! — сказал он тихо, словно боясь потревожить тишину острова. Тут и в самом деле была особенная тишина, не слышалось даже щебета птиц.
— Где лось? — спросила Анне.
— На этом самом острове. Я сидел тихо, чтобы не вспугнуть его. Теперь уж ему не уйти.
— А браконьеры? — спросил лесничий.
Нугис сжал в руке палку и неторопливо ответил:
— Не знаю, не видел их. Слыхать слыхал…
— В тебя стреляли? — Анне схватила его за руку.
— Не знаю… Выстрел был, но, может, стреляли в уток… Они как раз перед этим закрякали и взлетели…
Выстрел застал старика на полуострове, через который только что переходили Анне и Реммельгас. Лось уже убежал оттуда дальше, на болото. Старик сразу после выстрела отпрыгнул за корни поваленного дерева и даже вскинул ружье, потому что хоть кругом не было ни души, ему послышался неподалеку треск веток. Но потом все затихло. Нугис рассказывал обо всем этом отрывочно, вроде как с неохотой.
— Стреляли, наверно, просто так… — добавил он. — А может, хотели попугать меня, старика…
— Так я и поверила! — буркнула Анне, и ее зеленоватые глаза блеснули.
Нугис все так же спокойно и тихо продолжал рассказ о том, как лось промчался дальше, выбирая самые топкие и непроходимые места, надеясь таким образом отделаться от неотступных преследователей.
— Бежал сохатый, бежал, по колени проваливался, брюхом землю вспахивал. Прыгал в окна и плыл по грязи, словно кит. Добрался до острова, выбросил на берег передние ноги и втащил следом все тело, будто не впервой ему было так передвигаться. Тут опять кинулся бежать, потом устал. Лег, стал отдыхать. Подпустил меня шагов на сто, потом снова вскочил и помчался дальше… Я дал бы ему бежать своей дорогой, да пуля попала ему в живот, все равно уж не жилец он был.
Нугис умолк, опустив голову, и затем добавил, скорее обращаясь к себе, чем к другим:
— Красивей зверя в жизни не видел…
Сделав знак рукой, он раздвинул руками ветки и углубился в заросли, куда, наверно, редко кто заглядывал. Старик старался не шуметь и время от времени останавливался, чтобы прислушаться. Наконец он остановился и сделал предостерегающий знак палкой. Раздвинув последние ветви, все трое увидели небольшую полянку и лежавшего на ней темно-бурого лося. Лесной царь услышал их и вскинул голову, резко взмахнув широкими, как лопаты, рогами. Крепкие острые уши настороженно задвигались, толстая верхняя губа задрожала от тяжелого дыхания. Лось лежал так близко, что были хорошо видны его глаза, уже не косившие чутко по сторонам, как у всякого лесного зверя…
Сохатый собрался с силами и приподнялся на передних ногах. Его грива была запачкана и растрепана, на ней висели водоросли и клочья мха. Когда он поднимался на ноги, мускулы под его кожей вздулись от огромного напряжения. Это был крупный зверь, чуть ли не двухметровой высоты. Он гордо, как бы вызывающе вскинул голову и даже сделал шаг, но тут ноги его ослабели и красавец вновь рухнул на траву.
— Конец! — вздохнул Нугис. — Теперь в Сурру осталось только два лося — мать с годовалым телком.
— Так ты знал, что у нас в Сурру поселились лоси? — спросил Реммельгас.
Вместо лесника ответила Анне:
— А как же вы думали? У отца в лесу каждая косуля на счету, не то что лоси…
— А ты мне ничего не говорил. Раз я даже спросил тебя об этом, а ты ответил, что не знаешь…
— Не стану же я на погибель своим лосям рассказывать о них всякому, — ответил Нугис. — Человек ты был тогда новый…
Лось не двигался, лишь по тому, как поднималась и опускалась грудная клетка, видно было, что он еще жив. Он не попытался встать даже после того, как Нугис сделал к нему несколько шагов. Старик велел Анне и лесничему стоять на месте.
Он осторожно обошел вокруг лося, чьи глаза все время следили за людьми. Но зверь уже не мог оторвать от земли голову.
— Пристрелить бы его, чтоб не мучался, — прошептала Анне.
Лесник снова подошел к лесничему.
— Как я и думал — в живот.
И он вопросительно посмотрел на Реммельгаса.
Тот кивнул.
Лесник выстрелил в упор. Лось вздрогнул, словно хотел вскочить и помчаться в лес, но затем голова его сникла и опустилась на мох…
Решили, что Нугис пойдет домой за лошадью, а лесничий и Анне останутся на острове сторожить лося. Не было ничего невозможного в том, что браконьеры, прячущиеся поблизости, увидев, что все ушли, разрежут лося на куски и унесут. В жизни Нугиса случалось и такое.
Когда лесник отошел уже далеко, лесничий пошутил:
— Мы теперь вроде двух робинзонов на необитаемом острове…
— Вы становитесь сентиментальны, товарищ лесничий!
— Вы сегодня колючая. Я помню вас совсем…
— К тому же вы еще и романтичны! — прервала его Анне.
Тогда Реммельгас встал и, чертыхнувшись про себя, побрел по острову. Вскоре он нашел среди сосен одинокую березу, под которой можно было отдохнуть. Перед ним простиралось скучное бурое болото, издалека доносился унылый крик кроншнепа, где-то поближе хлопал крыльями болотный журавль.
По ветвям запрыгали лучи солнца, они пробирались все дальше и наконец добрались до лица лесничего. Крупная полосатая пчела закружила перед самым носом, но он был не в силах даже поднять руку, чтобы отогнать ее. Казалось, что время замерло на месте, словно парившая над болотом пустельга…
И лесничий задремал, прислонившись спиной к стволу шершавой березы и свесив голову на плечо.
Он видел сон.
Он был лосем, которого преследовали браконьеры. У охотника не было ружья, и он грозил беглецу рогатиной. Реммельгас бежал по трясине, бежал до тех пор, пока не устал и не свалился в грязь. Он напрягал все силы, чтоб вылезти, но все погружался и погружался… Браконьер стоял на берегу, выставив вперед рогатину и торжествующе усмехаясь. Теперь глаза его стали зелеными, и, когда он снял с головы шапку, лесничий понял, что это — Анне. Девушка положила руку ему на голову, чтобы толкнуть его под воду. Собрав все силы, лесничий размахнулся…
Кто-то глухо вскрикнул. Реммельгас открыл глаза. Анне стояла рядом с ним и сгибалась от смеха, тут же был и Нугис, который потирал свой живот и ворчал:
— Зачем же драться-то?
Реммельгас вскочил на ноги.
— Извини… я видел ужасный сон…
Девушка все еще хохотала. Оказывается, Реммельгас стукнул старика, когда тот захотел разбудить его и положил ему на голову руку. Но Нугису уже было не до смеха, пора было торопиться.
Он привез на лошади топоры и веревки. Срубили две крепкие ивы и привязали их веревками к лошади. Не очень-то было легко втащить на ветки тушу весом в двадцать пять пудов. Если бы не лесник, лось так бы и остался на своем смертном одре, но едва Нугис ухватился за ношу своими ручищами, как она сразу сдвинулась.
Они двинулись в обход, по более сухой и надежной дороге, известной только леснику. Не доверяя своей памяти, Нугис подчас придерживал лошадь и, перескакивая через зыбкие места, ходил смотреть дорогу. Лошадь задыхалась и фыркала, бока ее блестели от пота, и вскоре вся она была в мыле. Копыта ее глубоко погружались в грязь, она не раз вскидывалась с громким храпом на самых вязких местах, но шаг за шагом, мужественно и упорно продвигалась вперед.
Наконец, сделав небольшой крюк, они выволокли лося из болота, на краю которого, в самом начале дороги на Сурру, Нугис оставил телегу. Тут они встретились с новой трудностью: сил трех человек было явно недостаточно, чтоб взвалить лося на повозку. Лишь после того как они прислонили к ней жерди, им удалось втащить по ним на веревках тяжелого зверя.
Сели отдохнуть. Уже наступал вечер этого незаметно пролетевшего в хлопотах дня. Лишь усевшись, люди почувствовали, как устали и проголодались. Только мужчины кончили курить, как со стороны Сурру послышались людские голоса. Они сидели в стороне от дороги под густой елью и молчали, чтоб не выдать своего присутствия. Но у Осмуса были зоркие глаза, он заметил их еще издали и закричал:
— Вон они где уселись рядком, как ласточки на проводах! А мы их в Сурру ищем.
Осмус и Питкасте возвращались с прокладки железнодорожной трассы. Они сегодня кончили работать раньше и зашли в Сурру, чтоб узнать, когда Нугисы снова смогут прийти на помощь, — завтра придется работать в дремучем лесу, и без старика с дочерью там не обойтись.
Питкасте первым заметил лося.
— А что это у вас на телеге?.. Никак лось?
— Да что ты!.. — оборвал его Осмус, но, заметив раскидистые рога, свесившиеся с телеги, и торопливо подойдя поближе, воскликнул: — Господи боже, лось и есть! Да еще какой! Тридцать пудов, да к тому же и с рогами. Прямо-таки королевский лось! Где вы нашли это чудо?
Питкасте вскинул свою круглую голову и щелкнул языком.
— Губа-то у него какая! Губа лося — да ведь это первейшая закуска!
Осмус покачал головой.
— Вот тебе и краса лесов! Протянул ноги, бедный. Какой удар! Какая потеря, боже мой, какая потеря!
Лесничий и Нугис все еще сидели — они, как поздоровались, так с тех пор и не вымолвили ни словечка. Питкасте обошел вокруг лошади с телегой, потрогал лосиные рога и затем уселся на ствол дерева. Он выглядел хмурым, будто ему было жаль, что он не принимал участия в охоте на лося. Осмус испытывал нетерпение, ему не стоялось на месте, он тыкал пальцем то в губу лося, то в рога, то в загривок, измерял то высоту лося, то ширину его рогов. Он не скрывал своего удивления.
— Как же она вам досталась, эта редкая добыча? Ай-ай-ай! — Он хитро погрозил Нугису пальцем. — Ну и хитрец! Вырастил в лесу такого чудо-зверя и никому ни слова.
— Для себя вырастил, не для других… — начал было Питкасте, но тут Нугис вскочил на ноги и так поглядел на него, что он сразу осекся.
Осмус повернулся к объездчику.
— То, что ты сказал, Питкасте, это не шутки… Или я тебя неверно понял, или ты намекнул на то, что лесничий и лесник…
— Ох, нет!.. Я просто так… Сболтнул… — возразил Питкасте.
— Хорошее дело! Вот сболтнешь так, а потом пойдут разговоры, и уж тогда людям рта не заткнешь! Так что — тсс!
— Кое-кому такие разговоры пришлись бы по душе.
Нугис поднялся и принялся распутывать привязанные к деревцу вожжи. Реммельгас и Анне встали позади телеги, и вновь пришедшие поспешили к ним на помощь. Все вместе они выкатили воз на дорогу.
Анне решила идти прямо домой. Кивнув на прощанье всем, кто отправлялся в Мяннисалу, и незаметно улыбнувшись Реммельгасу, она отправилась в Сурру.
Нугис шагал рядом с телегой, следя все время, чтоб колеса катились по колее. Осмус говорил почти не умолкая и все восхищался могучими рогами лося, его густой красноватой шерстью и острыми копытами. Он без конца задавал вопросы лесничему, пытаясь вовлечь того в разговор, но это ему не удавалось. А Питкасте все больше и больше отставал от телеги. Когда он отстал совсем, Реммельгас высказал по этому поводу удивление, но Осмус его тут же успокоил: еще на берегу Кяанис-озера Питкасте жаловался на плохое самочувствие…
Лося оставили у объездчика, чтобы освежевать его там. Весть о гибели зверя распространилась мигом, и в Мяннисалу повалил народ, чтобы полюбоваться на лося. Люди удивленно покачивали головами и все снова и снова спрашивали:
— Кто ж его подстрелил?..
Но сколько раз ни задавался этот вопрос, ответить на него так и не могли.
Глава десятая
Приближался день толоки.[3]
Реммельгас просиживал целыми днями и вечерами в сельсовете, который стал штабом осушительных работ. Они с Рястасом взяли на себя руководство подготовительными работами на территории Туликсааре.
В начале последней недели к ним прибыл техник с мелиоративной станции, знания которого сослужили большую службу при направлении людей на работу. Мероприятие принимало гораздо больший размах, чем можно было ожидать. Тэхни сообщил по телефону, что все окрестные деревни и поселки обещали свою помощь, а Койтъярв взялся организовать приезд городских шефов.
План сражения слегка изменили. К рытью нового русла решили не приступать, пока не прибудет экскаватор. Выкопать все равно успели бы очень немного, а когда мощная машина прибудет, то выброшенная земля только помешает ей работать. Сочли, что гораздо выгодней направить людей на рытье водосборных канав. Поначалу их требовалось две: одна — на земле колхоза «Будущее», другая — по ту сторону реки, между лугом и пойменным лесом.
В этой горячке Реммельгас не забывал о текущей работе и, прихватив однажды утром объездчика Охтмана, поехал на участок Кулли, чтобы познакомиться поближе с деятельностью лесника Тюура. Данные объездчика об участке Кулли были отрывочными и поверхностными, и Реммельгас усомнился в их достоверности. Охтман сначала спорил, но наконец признался в том, что он их не проверял.
— Лесник Тюур — вспыльчивый человек, — оправдывался он. — Живет один, как сыч, страшновато с ним.
— Вы его боитесь?
Охтман посмотрел в сторону.
— Не угрожал ли вам Тюур?
— Прямо — нет… но все же давал понять, что нечего совать нос в его лес… И ружьецо у него имеется.
— Как же леснику без ружья…
— У Тюура винтовка.
— Вы видели?
— Нет, я не видел… Но говорят.
— Говорят, говорят… Такой старый лесовик, а дал себя запугать какими-то сплетнями.
— В сорок шестом году в Вахесалу застрелили лесничего…
— Так то было в сорок шестом… Или вы что-то знаете? Может, вы заметили что-нибудь подозрительное?
— Нет, боже упаси! Вот насчет того, что я старый лесовик, это вы правильно сказали. Люблю лес. В полночь могу пройти по самому дремучему бору, как по своей комнате, но… У Тюура такой взгляд, что прямо дрожь берет.
Куллиский лес был самым сухим и высокорасположенным в Туликсаареском лесничестве. Тут росли крепкоствольные березы, тут на песках высились корабельные сосны и ясени, тут была даже дубовая роща — правда, изрядно разоренная. Дом лесника примостился как раз рядом с гигантскими дубами. К нему вела заросшая травой тропинка, которую теснил кустарник. Все тут казалось запущенным, и особенно сам дом со своей залатанной крышей.
Рослая овчарка бросилась навстречу пришедшим. Ощетинившись и оскалив зубы, она помчалась прямо на Реммельгаса, который, несмотря на предостерегающие возгласы Охтмана, отскочившего в сторону, не сошел с тропинки, уверенный, что собака либо свернет, чтоб вцепиться в него сбоку, либо хоть на миг задержится, чтоб взять разгон для последнего прыжка. Но овчарка кинулась прямо на лесничего, и он едва успел отскочить, после чего собака промчалась дальше шагов на двадцать.
Реммельгас покрепче ухватился за палку, которую всегда брал с собой в лес. Охтман крикнул издали:
— Прячьтесь за дерево! Она вас в клочья разорвет.
Лесничий стоял и Ждал. Овчарка побежала к нему, но уже не сломя голову. Шагах в десяти от Реммельгаса она пригнулась к земле и вытянула голову, готовая каждую минуту достичь его одним прыжком. Она молча следила налитыми кровью глазами за лесничим, скорее даже за его дубиной.
«Она боится палки, — промелькнуло в голове у лесничего, — ее, видно, отчаянно избивали». Лесничий поднял палку, как бы собираясь ударить, и, не спуская с собаки глаз, начал приближаться к ней неторопливым, но ровным и уверенным шагом. Зад собаки приподнялся, под шерстью заходили мускулы — она приготовилась прыгнуть. Ближе, еще ближе… Теперь подходящее расстояние для прыжка… Еще шаг…
Легко, словно кошка, собака отскочила в сторону, перемахнула через канаву и скрылась в лесу.
— Ну и тварь! — Охтман вернулся на тропинку. — Когда я приходил в Кулли, она всегда бывала на привязи…
Они постучали в дверь дома, никто не ответил. Они дернули за ручку, и дверь открылась. Дом был пуст.
— Он не мог уйти далеко, — Охтман показал на недоеденный завтрак на столе. И действительно: едва они вышли из дома, как встретились на крыльце с Тюуром.
— Ба, какие гости! — воскликнул он с удивлением, которое казалось притворным. Едва выслушав приветствие, он, насмешливо прищурившись, посмотрел на Реммельгаса и добавил: — Пришли меня увольнять, товарищ лесничий?
Реммельгас не ответил, он с любопытством оглядывал двор. Все на нем было отмечено печатью нерадения и равнодушия: инструменты валялись где подпало, солома, которую, видно, осенью таскали из риги в хлев, так и осталась лежать неубранной. Весной Реммельгас предлагал Тюуру деньги на ремонт, но тот отказался — дом, дескать, был еще достаточно крепким. Какой там! Всякий сразу бы увидел, что крыша протекает, — по всему двору была разбросана сорванная с нее ветром, истлевшая дранка.
— Почему вы думаете, что я должен вас уволить? — спросил Реммельгас после паузы.
— Да все из-за моего языка. Никогда не умел держать его за зубами.
— За критику у нас никого не увольняют…
— Да ну! — Тюур ухмыльнулся, но больше спорить не стал. Спокойно, даже как будто равнодушно, он выслушал, какова цель прихода лесничего, и, взяв дома шапку, повел обоих гостей на вырубки.
Все там было сделано кое-как. На одной вырубке каждый второй ряд оказался незасеянным, на другой — невскопанной половина земли, хотя плата за работу была получена полностью. В ведомости расписались четыре человека, среди них и сам Тюур.
— Не управились, — сказал Тюур без малейшего смущения, — а было велено управиться. И так через силу работали, людей-то было мало.
— Когда я спрашивал, не нужны ли вам помощники, вы отказались, — вспылил Охтман.
— Ну, просчитался… Да и читал я в одной книге, будто науке еще неизвестно, на каком расстоянии лучше всего сажать…
— Ах, вот как? — Реммельгас пристально взглянул прямо в глаза Тюуру. — Стало быть, вы тут научные новшества применили?
— Черт с ними, с новшествами!.. Не будем о них звонить… Я проведу на вырубке дополнительную посадку. Бесплатно, разумеется.
— Все у вас идет через пень-колоду.
— Да что здесь такого страшного? Одним саженцем больше, одним меньше…
Когда они тронулись обратно, Тюур угрюмо спросил:
— Значит, я теперь вылечу?
— Причин для этого более чем достаточно.
— А может, вы немного подождете? Дадите время осмотреться, приглядеть новую службу?
— А если я считаю нужным уволить вас сию минуту?
Тюур поднял толстые, как бы опухшие веки и так взглянул на Реммельгаса, что тот вздрогнул.
— Пословица говорит: как аукнется, так и откликнется. — И, не ожидая ответа, Тюур отвернулся.
Лесничий составил контрольный акт. Аккуратным, чуть ли не каллиграфическим почерком, лесник расписался внизу: Антс Тюур.
Лесничий и объездчик возвращались домой молча. Лишь когда ясени и вязы Кулли остались далеко за спиной, когда они миновали уже несколько поворотов дороги, Охтман сказал со вздохом облегчения:
— Мрачный тип.
Реммельгас глубоко задумался. Только ли мрачный? Нет, за этим равнодушием, за этой нерадивостью крылось что-то посерьезнее… «Сразу после толоки съезжу к директору лесхоза и попрошу, чтоб Тюура кем-нибудь заменить», — решил Реммельгас.
Но ему пришлось поехать в лесхоз еще раньше. Директор потребовал, чтоб он явился к нему немедленно, не желая и слышать никаких отговорок.
Контора лесхоза находилась в маленьком городке, на втором этаже каменного дома. Директор был молодым лохматым человеком в очках, он появился в лесхозе всего лишь на полгода раньше Реммельгаса, но за это время уже успел стать хорошо известным лесникам самых далеких участков. Он встряхнул лесхоз от спячки. Он не соглашался со старшим лесничим в том, что тишина и спокойствие всегда свойственны лесу, который живет века, и потому, дескать, не человеку его менять: много ли успеешь за нашу короткую жизнь. Директор лесхоза не любил сидеть на месте, его трудно было застать в конторе. При нем в лесхозе началась новая пора в деле выращивания и подбора кадров — тоже, вероятно, результат недооценки «теории покоя», проповедуемой старшим лесничим. Новый директор не питал слепого почтения к любому старому специалисту, к «лесничим-академикам» и к исконным лесникам. Он даже перебрасывал иных мудрецов, закосневших в усвоенной некогда книжной премудрости и пытавшихся следить за новой жизнью из окна кабинета, на менее ответственные места. Он сделал более интенсивной учебу на курсах по повышению квалификации и, не моргнув глазом, назначал старых, хорошо учившихся рабочих лесниками, а лесников объездчиками. В этом пункте у него никогда не было расхождений с Реммельгасом. Тем более тяжелым оказался для лесничего нынешний разговор. Едва предложив ему сесть, директор лесхоза, сердито сверкнув очками, начал без всякого вступления:
— Что за мерзавцев ты пригреваешь в Туликсааре?!
Реммельгас сразу догадался, что речь идет о Тюуре, но промолчал.
— Ведь это у тебя работает лесник Тюур?
Реммельгас кивнул.
— Знаешь ли ты, что это за человек?
— К несчастью, знаю о нем очень мало. Анкета у него нормальная…
— Анкета! В анкете соро́ка может и соловьем назваться, лишь бы нашлись охотники верить…
Оказывается, фамилия лесника была на самом деле Тоур. Во время оккупации он поспешно вступил добровольцем в фашистскую часть и расхаживал потом в высокой фуражке, сдвинутой на затылок, с железным крестом на выпяченной груди. Когда пришла Советская Армия, он сразу удрал в лес, где закинул подальше свою фуражку и свой железный крест.
Потом он приписал палочку к «о» в своей фамилии на документе, превратился таким образом в Тюура и пошел наниматься в Туликсаареское лесничество.
Да, теперь для Реммельгаса все стало ясным в поведении Тюура или Тоура, но от этого ему было не менее стыдно перед директором лесхоза. Но он не начал оправдываться, не заговорил о том, что и сам решил прогнать Тюура. Он сказал лишь:
— Сегодня же вечером схожу в Кулли…
— Сходите, обязательно сходите, не полагайтесь на то, что говорят о человеке другие.
Когда люди вечером подошли к Кулли, их встретила там гробовая тишина. В комнатах все было перевернуто, под тумбочку закатилось два патрона от немецкого автомата. За амбаром валялся убитый пес — его застрелили в лоб. На столе в задней комнате Реммельгас нашел записку с надписью: «Господину Реммельгасу». Записка была короткой.
«Из-за вашего острого нюха мне пришлось покинуть свое гнездышко. Я никогда не забываю своих „благодетелей“, при первом удобном случае вспомню и о вас. До свидания!
Тоур — Тюур»
Подумав немного, лесничий сунул клочок бумаги в карман. Пустое бахвальство. Сам небось удирает сейчас подальше от Туликсааре, да так, что только сучья трещат.
В субботу, перед толокой, состоялось собрание руководителей работ. До этого Реммельгас пригласил к себе Питкасте. Объездчик тихо сидел в углу кабинета и шелестел газетой, ожидая, пока Реммельгас кончит что-то писать. В последние дни Питкасте трудился за четверых. Вместе с Нугисом и его дочерью он кончал замерять лесосеки на берегу Люмату, и лесник полушутя, полусерьезно жаловался на то, что Питкасте решил его доконать: каждое утро встает вместе с солнцем, а из лесу не уходит дотемна, до тех пор, пока может хоть как-то записывать цифры. Покончив с лесосеками, Питкасте стал каждое утро являться в Туликсааре. Вместе с лесничим они заранее, чтоб не пришлось заниматься этим в воскресенье, разбили всю территорию работ на участки и прикрепили каждый участок к определенной, соответствующей по численности группе. Питкасте теперь не поглядывал на солнце, не торопился домой, каждый день был трезв и лишь изредка отпускал свои обычные шуточки. Реммельгас однажды даже спросил Питкасте, не болен ли он.
— Нет. — Питкасте покачал своей круглой головой.
— Может, случилось что-нибудь плохое?
Питкасте слегка вздрогнул.
— А что могло случиться?
— Уж очень вы на себя не похожи…
— Это просто кажется, — сказал Питкасте и умолк.
Когда Реммельгас поднялся, чтоб идти в сельсовет, он спросил, что ему сегодня делать.
— Пойдете вместе со мной на собрание.
— Зачем?..
— А как же может собрание состояться без бригадира по расчистке русла?
— Ну, а при чем тут я?
— При том, что вы и будете бригадиром.
Питкасте вертел шапку в больших жилистых руках. Он начистил утром сапоги, они ярко блестели и распространяли легкий запах скипидара. Он искоса взглянул на лесничего.
— Вы шутите…
— Нет, я серьезно. Мы вчера договорились с Рястасом.
— Вы предложили?
— Я.
Большой кадык Питкасте шевельнулся.
— После всего… После моего дурацкого поведения на посадочных работах…
— Ошибки надо исправлять.
Питкасте попытался что-то сказать, но не смог, и они молча направились в сельсовет, где собрался актив мелиораторов. Каждому руководителю группы указали на карте, где он будет работать. Общее командование возложили на Реммельгаса и техника мелиоративной станции. За речную трассу отвечала Хельми Киркма, а помогали ей в качестве бригадиров Анне Нугис и Эндель Питкасте. Работой по рытью водосборных канав руководили Тамм и Нугис. Старик очень отнекивался, уверяя, что ему легче работать самому, чем командовать другими, но его и слушать не стали.
Когда собрание кончилось и народ начал расходиться, Осмус увлек Питкасте в сторону.
— Заходи ко мне… Надо поговорить кой о чем.
— Времени нет. Иду на реку посмотреть свой участок.
— Так заходи после… Мне вчера привезли из Пую литровочку… Такой марки ты за всю жизнь не пробовал…
Питкасте проглотил слюну.
— Хорошее дело… Только все равно не приду…
И, нахлобучив шапку, он размашисто зашагал прочь.
Осмус был уверен, что Питкасте все-таки придет. Он заметил, как Питкасте сглотнул. Усмехаясь под нос, он подошел к остальным участникам собрания, все еще склоненным над картой…
Воскресное утро выдалось теплое и безветренное. Небо было чуть затянуто высокими облаками, но воздух был так неподвижен, что гудок паровоза, подъезжавшего к станции, разносился далеко-далеко по лесу, полям и болоту.
— Настоящая рабочая погодка, — одобрительно сказал Рястас, стоя на крыльце дома в Мяннисалу. Но вид у него был не очень-то веселый, потому что его оставили тут «регулировщиком движения», как он сам себя назвал.
— К полудню прояснится, — сказал Нугис.
Нугис грузил на телегу лопаты, топоры и ломы. Взяв вожжи, он собрался тронуться, но тут из дома вышел Питкасте, державший в каждой руке по кружке с пенящимся пивом. На объездчике была свежая сорочка, подбородок его прямо сверкал, до того был чисто выбрит.
— Выпьем по кружечке, чтобы веселей работалось! — И он неуверенно взглянул на Реммельгаса — вдруг еще осудит.
— Смотрите-ка, Питкасте с картофельного сока перешел на ячменный! — воскликнул Рястас, беря кружку. Вторую кружку Питкасте протянул Реммельгасу.
— Разоделся-то, как на праздник! — удивился Реммельгас, взглянув на Питкасте.
— Так разве нынче не праздник? — улыбнулся Рястас. — И пива догадался наварить! Молодец! Что это за толока без пива? Выпьем за толоку!
Кружки чокнулись, носы Рястаса и Реммельгаса уткнулись в шипучую пену. Пиво было темное, густое, да и хмеля в нем хватало.
— Что же это за мастер наварил такого пива? — Реммельгас стер с губ пену.
— Так ведь я из островитян, — не без гордости ответил Питкасте.
Кружки обошли всех, а потом люди разошлись, каждый на свое рабочее место. Реммельгас вместе с Питкасте и Киркмой перешли через плотину и направились к верхнему концу малой излучины, Анне пошла с отцом и техником мелиоративной станции на Кяанис-озеро.
Прошло немного времени, и со стороны Мяннисалу послышалась песня.
— Идут! — воскликнула Хельми, приходя в волнение, словно ей впервые в жизни предстояло руководить столь многолюдным отрядом. И она поправила платочек на голове. Будь у нее под рукой зеркало — обязательно бы в него погляделась.
С песней шел народ из колхоза «Новая жизнь», впереди всех сам председатель — Лембит Вяльк. Вяльк был еще зеленым юнцом, он лишь недавно кончил сельскохозяйственную школу. Новые методы, новая техника — он применял их всюду, и старики лишь головами покачивали, но спорить не спорили: как-никак Лембит у них на глазах вырос и, значит, худого своему родному колхозу пожелать не мог. И сегодня этот самый Лембит шел впереди всех, и его высокий тенор покрывал все голоса. Еще издали он крикнул во все горло Реммельгасу:
— Колхоз «Новая жизнь» в составе тридцати восьми здоровых и крепких работников прибыл. Пришли с тридцатью лопатами, десятью топорами, десятью метрами веревки, одной гармошкой и веселым настроением. Разрешите приступить к выполнению задания?
Реммельгас пожал председателю руку.
— Благодарю, но по-настоящему вам бы следовало доложить ей, — он показал на Хельми. — Расчисткой речной трассы руководит товарищ Киркма.
— Ого, неужто нас под женскую команду отдали? — крикнул кто-то из толпы, которая кольцом обступила Реммельгаса, Хельми и Питкасте.
— Теперь эти женщины всюду поспевают, — добродушно проворчал другой.
Маленькая девушка, вставшая в заднем ряду на цыпочки, чтоб видеть, что делается впереди, воскликнула:
— Вот здорово, что женщина! Значит, лодырям спуску не будет.
— Покажите, с чего начинать. — Вяльк скинул пиджак. — Митинга не надо, мы уже провели его дома.
Трасса новой реки начиналась там, где Куллиару делала крутой поворот на север. Река тут была широкой, словно небольшое озеро, берега сплошь заросли густым кустарником.
Ветвистые ивы склонялись к воде, словно хотели пить, на тонких, гибких ветках трепетали их серебристые и острые листья. При появлении людей в реку бултыхнулась водяная крыса. У самого берега почва чуть поднималась, кустарник уступал место молодым, невысоким деревьям — ольхе и березе, под которыми шелестела высокая и густая трава, выросшая в этом году выше колен. А дальше по берегу, в глубине речной излучины, можно было незаметно для себя забрести в воду, прятавшуюся под сочной луговой травой.
Хельми Киркма показала на два ряда кольев, вбитых в землю по краям будущего русла. Все, что находилось между кольями, надо было спилить или выкорчевать и оттащить в сторону.
— И это вся работа? — спросил Вяльк.
— На вашу долю — вся.
— Тогда начнем! — Вяльк протянул руку к топору. — Хотя… стойте! Есть такой хороший обычай, чтоб танцы открывали хозяева. Кто позвал гостей на праздник, тому и начинать, тому и рубить первое дерево.
— Правильно! Верно! — раздались возгласы, а некоторые даже захлопали.
— Ну? — Реммельгас посмотрел на Хельми.
— Что ж, приступим, — улыбнулась в ответ Хельми.
Принесли пилу, и они вдвоем направились к ближайшей березе, листья которой тихо шелестели на ветру. Острые стальные зубья быстро вгрызлись в белый ствол, на землю посыпались влажные опилки, сначала коричневые, потом белые. Когда дерево было перепилено наполовину, Реммельгас подрубил его топором с другой стороны.
И снова запела пила «сиух-сяух, сиух-сяух, сиух-сяух»… Она пела так же весело и звонко, как весело и звонко было на душе у пильщиков, и стало жаль даже, когда береза, дрогнув, откачнулась назад, зажимая пилу, а затем, потеряв устойчивость, с шумом рухнула наземь.
— Ура-а! — Вяльк помахал над головой топором. — Смерть паводкам, смерть болоту!
Народ помоложе с шумом и смехом набросился на кусты и деревья, да и старшие не остались в стороне.
Едва успели оттащить в сторону первые кусты, как прибыли новые работники — сначала народ из кооператива, а следом за ними железнодорожники с куллиаруского перегона. Вскоре после их появления в зарослях загремел раскатистый голос Осмуса:
— Э-ге-ге, товарищ лесничий!
Осмус привел людей больше чем обещал. Он зычно со всеми поздоровался, громко, во всеуслышание, похвалил Реммельгаса за то, что тот затеял все это дело, такое большое.
— Питкасте покажет вам место работы, — переменил Реммельгас тему разговора.
— А Хельми Киркма тут! — громко воскликнул Осмус и шутливо добавил: — Вот предательница — не пошла с нами!..
Когда Реммельгас сообщил, что Хельми руководитель работ по расчистке трассы, Осмус оторопел.
— Как — руководитель работ? А я?.. — Но он тут же опомнился и заговорил другим тоном: — Что же, товарищ Киркма молодец. А у вас, видно, слабость к женскому полу… Ну-ну, я просто шучу. Киркма — партийная, ей и руководить…
Но тут он увидел Питкасте и, забыв о Реммельгасе, побежал за ним. Схватив объездчика за рукав, он спросил приглушенным голосом:
— Ты что же вчера не пришел?
— Да так…
— Реммельгас удержал за хвост?
— Никто не удерживал… Просто не хотелось.
Осмус тихонько свистнул.
— Брось, я знаю, откуда ветер дует! Реммельгас тебя агитирует, хочет, чтоб ты стал ягненочком, трезвенником, домоседом, не так, что ли?
— Никто не агитирует… — Питкасте зашагал быстрее, Осмус отстал и уже не видел его лица. — Не хотелось, и все… Вон где ваш участок начинается: у той мохнатой елки.
Когда подошел остальной народ из лесопункта, Питкасте объяснил, что надо делать. Люди этой группы были хорошо знакомы с лесной работой, много объяснять не приходилось. Питкасте знал большинство из них — Осмус привел свои самые лучшие кадры. Едва Питкасте кончил, как Осмус скомандовал:
— Снимайте пиджаки и за дело! Лучшей паре премия — пол-литра водки.
Это было сказано шутливым тоном, но по тому, как рьяно люди принялись пилить, Питкасте догадался, какое наставление им дал перед этим Осмус: мол, покажите, ребята, как надо работать.
— Старайтесь, старайтесь, — ухмыльнулся Питкасте, — это пойдет на пользу делу.
Осмус пошел следом за ним и, когда они скрылись за кустами, он вытащил из кармана сплюснутую флягу.
— Ты еще не заслужил этого, но я не жадный. Хвати разок в честь толоки. — И он вытащил пробку. Питкасте уже больше недели не брал в рот ни капли, рука его сама потянулась за бутылкой. Самогон в ней был чистый, прозрачный и пах так заманчиво…
— Нет, прибереги для себя. — Глядя в сторону, Питкасте отдал бутылку Осмусу.
— Да не будь ты бабой!
— Потом… Вечером…
— Как же, жди! Останется от него что-нибудь…
— Не останется — и не надо… Обойдусь…
Осмус поболтал бутылку против света, и самогон так знакомо, так приятно забулькал… Питкасте почувствовал, что если пробудет здесь еще секунду, то он, как путник в пустыне, томимый жаждой, схватит эту бутылку и одним глотком опустошит ее. Он круто повернулся и, делая вид, что не слышит окликов Осмуса, пошел, почти побежал к зарослям, где работали люди.
Реммельгас шел вдоль трассы. За спиной осталась бригада Питкасте, оттуда доносились, затихая, смех, крики и пение. Те же звуки, нарастая, летели ему навстречу. В кустах мелькнула красноватая спина пышнохвостой лисицы — ей, видимо, помешали выслеживать у реки уток. В листве заливался и щелкал соловей. После каждой трели он замирал и прислушивался к шуму вокруг, такому новому и незнакомому.
И тут Реммельгасу встретилась Анне. Вся сияющая, она с жаром рассказала ему, как много пришло людей, как дружно они принялись за работу. И вот даже все тучи рассеялись, и день такой чудесный… Какие-то парни рядом с ними выдергивали из земли березу, и, когда она выдернулась, ребята все, как один, шлепнулись, вскинув ноги. Это было так смешно!..
Не только у танца, игры и песни есть свой ритм, есть он и в большой коллективной работе. Реммельгас ощущал это, проходя мимо людей, давая то там, то тут указания, показывая, как надо рубить или копать, посылая свежую подмогу туда, где не хватало рук. Особенно отчетливо он слышал ритм общего труда, когда закрывал глаза.
— Раз-два! Раз-два! Юхан, отдай топор!
— Нет, эту тощую мы прямо с корнями выдерем!
— Звени-звени, небо, гуди-гуди, поле…
«Сиух-сяух, сиух-сяух, сиух-сяух…»
Звонкие удары топора. Треск подожженных сучьев, гул разгорающегося пламени.
— Сальме, тащи сюда эту ель, вот дыму-то будет!
— Ребята, соседи уже кончают!
Шелест падающей березы, треск ломаемых кустов и гулкий удар о землю.
— Нет, далеко вашим парням до наших!
Реммельгас заторопился, чтобы поспеть к магистральным канавам, куда направили большую часть людей и куда после расчистки речной трассы должны были собраться все остальные бригады. Канавы были спланированы так, чтоб впадать в реку в одном и том же месте. По сути, слово «канава» было неудачным: тут рыли скорей небольшие каналы.
Участок Тамма был более ровным, и на нем росло меньше кустов и деревьев, чем на участке Нугиса, врезавшемся неподалеку от реки в заросли ольхи, березы и подгнившей осины. Все эти заросли были, правда, мелкими, кустарниковыми, и небольшую часть их Нугис вместе с рабочими лесничества успел уничтожить еще в предыдущие дни. Но копать здесь уже расчищенную землю было тяжело из-за обилия пеньков и бесчисленных корней.
Всюду по краям канав лежала сложенная грудами одежда. Стучали лопаты, звонко шмякался выброшенный грунт. Либо это была жидкая грязь, либо торф, либо синеватая глина, — в зависимости от того, насколько глубоко рыли. Между канавами и рекой оставляли до поры до времени перемычки шириной по пяти-шести метров. Перед самыми перемычками люди работали уже на большой глубине. Лишь когда они выпрямлялись и выбрасывали землю, показывались их плечи и головы со взмокшими волосами. Снизу просачивалась из-под перемычек вода, люди стояли по колени в грязи. Кто работал босиком, кто — в высоких резиновых сапогах, которые были собраны со всей волости. Дальше от реки копать было легче — там земля оставалась сухой.
Гости — так называли всех, кроме людей из колхоза «Будущее» и Туликсаареского лесничества — копали на поверхности, и копали до тех пор, пока в канаве не появлялась вода или пока под лопатой не начинал скрипеть гравий. После этого они переходили дальше, уступая участки местным, или, как их уже успели окрестить, «болотным» бригадам. Среди последних в свою очередь выделились «заслуженные канавщики», которые выравнивали стены рвов. При соревновании принималось в расчет и то, чтоб канавы были прямыми и ровными, а стены их — гладкими, последнее же требовало опытных рук.
На участках Нугиса и Тамма было тише, чем на расчистке речной трассы. Как видно, выбрасывание промокшей глины оставляло меньше сил и времени на шутки и смех. А когда люди выбирались наверх, чтоб расправить спину и пососать трубочку, то и тогда достоинство «канавщиков» не позволяло им вести себя по-мальчишески…
К лесничему подошел с озабоченным лицом техник мелиоративной станции. Он отозвал Реммельгаса в сторону и показал ему переломленный кол.
— Узнаете, что это такое?
— Веха.
— А почему она сломана?
— Люди не заметили и затоптали…
— Когда я нашел кол в кустах, то тоже так подумал. Но это неверно. Проходя вдоль канавы, я услышал, как один землекоп ругал тех, кто замерял участки и ставил вехи. Я — к нему, хочу оправдаться, а он указывает мне на край канавы и спрашивает: «Красиво?» Я смотрю и ахаю: края канавы так и вьются. А тот мне и говорит: «Не будь ваших дурацких вех, так у меня края были бы, как по линеечке. Слава богу, двадцать лет землю копаю, знаю свое дело. А здесь такая срамота получилась, того и гляди на смех поднимут». И мне ответить нечего: что криво, то криво. «В чем же дело, думаю, ведь я хорошо помню, что мы расставили вехи ровно как по ниточке?»
— И я помню.
— Ну, стал я смотреть… и прямо дух захватило: кто-то переставил вехи.
— Не может быть!
— Я тоже не поверил, никому ни слова не сказал… Но после того как нашел старые дыры от вех и вот этот сломанный кол в кустах, сомневаться стало невозможно.
— И намного ушли в сторону?
— Точно я пока не знаю, увидел вас и побежал сюда… Но, наверно, не очень, — видно, учли и то, что если слишком сильно изменить направление, так это сразу бросится в глаза.
Проверка подтвердила это предположение. В самом деле, направление канавы лишь слегка уклонилось вправо, однако этого было достаточно, чтоб загубить всю работу. Объявили перерыв. Люди сначала подумали, что так полагалось по расписанию, но когда лесничий и техник с несколькими помощниками принялись проверять края канав и переставлять вехи, народ заволновался и собрался около них. Им сказали о том, что случилось, и тут со всех сторон посыпались ругательства и проклятия. Начали разыскивать старые дыры от вех, но большинство из них было засыпано таинственным «землемером» или затоптано самими землекопами.
— Что же это за скотина? — негодовал Тамм, — Разве человек на такое пойдет?
«Уж не Тюур ли это дал мне знать о себе?» — подумал Реммельгас.
Пока на том берегу восстановили вехи, на этом берегу бригада Нугиса успела догнать бригаду Тамма. А как только последняя снова принялась у самой реки за работу, издалека вдруг послышались звуки труб и барабанов, игравших веселый марш. На берегу появился босоногий паренек, который задыхаясь сообщил, что прибыл народ из города и что людей пришло видимо-невидимо.
Да, Койтъярв в самом деле сдержал слово и прислал из города подкрепление, не уступавшее по численности местной армии. Людей собралось столько, что могло бы не хватить инструментов, если бы тут же не организовали посменную работу. Теперь каждый мог время от времени отдохнуть и собраться с силами. К обеду с расчисткой речной трассы уже покончили, и все силы оттуда перебросили на рытье канав, где работа закипела еще живей.
Не обошлось и без неприятностей. Так, несколько рабочих лесопункта разбили бивуак на самом видном месте, на берегу реки, выпили, закусили и принялись резаться в карты.
Питкасте, который попытался их усовестить, они подняли на смех и предложили ему выпить.
— Что делать? — спросил объездчик у Реммельгаса. — То, что они сами пьют, ладно, но другим смотреть противно. К тому же дурной пример заразителен.
Едва веселая компания увидела вдали приближающегося Реммельгаса, как веселая болтовня смолкла и сдача карт прекратилась.
— Бог в помощь! — сказал Реммельгас.
— От помощи не откажемся, — буркнул один из картежников. Это был тот самый верзила, с которым Реммельгас уже препирался однажды на лесосеке. Его гладко выбритые щеки раскраснелись от выпитого. Прищурясь, он исподлобья поглядел на Реммельгаса.
— У нас к вам небольшая просьба — перенесите свой лагерь куда-нибудь подальше.
Верзила грузно поднялся и встал. Он оказался на голову выше Реммельгаса.
— А вы что, разве купили эту речку заодно с лесом? — спросил он, и его поддержали одобрительным смехом.
— Нет. Но вы мешаете людям работать. Ну-ка, забирайте бутылки и проваливайте!
— Ишь какой горячий! — Верзила расставил ноги. — Ишь какой добродетельный, по виду и не скажешь, что лося убил! — И, захохотав, он схватил с земли бутылку, поднял ее и воскликнул: — Выпьем за охотника на лосей!
Реммельгас с размаху стукнул по дну бутылки, и та, описав дугу, отлетела в сторону. Верзила оторопел. Несмотря на рост, храбростью он не отличался. Он бы продолжал куражиться перед собутыльниками и дальше, но лицо лесничего не сулило ничего доброго. Да и его друзья, по-видимому, не особенно высоко оценили его удаль, — самый молодой из них поднялся и довольно сердито сказал:
— Не молол бы ты чепуху, Рууди!
А третий из компании, знакомый уже Реммельгасу жидкобородый лесоруб, торопливо поднял с земли вторую бутылку и, спрятав ее в карман, примирительно сказал:
— Да и верно, другого места не найдем, что ли?
Рууди решил незаметно отступить, но стоявший перед ним лесничий взглянул на него в упор и потребовал:
— Погодите уходить! Сперва объясните, что это за разговоры об убийстве лося.
— Это не я… Мне говорили…
— Что говорили?
— Будто лесничий и Нугис убили лося, а когда встретили людей, так соврали, что они ни при чем, что, дескать, браконьеры виноваты. Я-то не знаю, да так говорят…
— Кто говорит?
— Кто?.. Кто же это?.. Вот не помню, ей-богу, не помню. Рихард, — обратился он к самому молодому, — кто же это говорил?
Рихард даже и не взглянул на верзилу.
— Поделом тебе, теперь выпутывайся. Кто-то болтает невесть что, а он разносит, словно старая баба.
Реммельгасу больше ничего не удалось узнать. Люди рассовали по карманам бутылки, карты и закуску и, преследуемые смехом и ядовитыми замечаниями, поплелись куда-то вдоль берега.
Питкасте побелел как бумага, у него даже руки задрожали, и как ни был Реммельгас раздражен сам, он принялся его успокаивать.
— Ну-ну, объездчик, что с вами?
— Нахальство какое! — пробормотал Питкасте. — Теперь вы еще подумаете, что я пустил эти слухи. Нет-нет, не спорьте, конечно, подумаете. Ведь я тогда отпустил такую нехорошую шутку…
Реммельгасу вспомнилось, что тогда, на дороге в Сурру, объездчик действительно бросил намек, за который ему досталось от Осмуса. Но он уже и думать забыл об этом.
Ведь мясо лося давно распродали, а попытки лесничего и особенно Нугиса разыскать браконьеров ни к чему не привели. История уже начала забываться, и вдруг сегодня Реммельгас впервые услышал о том, что его и лесника считают убийцами лося. Впрочем, вряд ли это говорилось всерьез, просто сболтнул человек спьяну, да и все тут.
— Зря вы все принимаете к сердцу, — принялся он опять успокаивать Питкасте. — Поболтают-поболтают, да и перестанут. Довольно об этом думать, пошли работать.
Но Нугис озабоченно покачал головой.
— Нет, сплетни, они живучие и прилипчивые… И вас очернили неспроста: кому-то это нужно.
— Кто же поверит, что я убил лося? Слишком уж это неправдоподобно.
— И не такому еще верили, да выдавали другим за сущую правду!
Реммельгас разогнал столпившихся людей.
— За работу, товарищи, нечего нос вешать.
Он не забыл слов Нугиса. В самом деле, едва ли верзила сам выдумал историю с убийством лося. Нет, он ее услышал от кого-то другого. Обвинение лесничего в убийстве лося означало попытку изгнать его из среды работников лесничества, из среды честных людей вообще… Неужто у него действительно есть враги, которые готовы пойти на все, лишь бы от него избавиться? Вехи мог вытащить Тюур, но мог ли он, такой нелюдим, распустить всюду и везде эту клевету? Нет, один бы он с этим не справился. Значит, ему кто-то помогал…
В четыре часа кончили работу и сложили топоры с лопатами на телеги. Впереди загремел оркестр, и все двинулись к Мяннисалу, где в саду объездчика и в березовой роще было уже полно народу. Даже в ельнике поодаль, излюбленном приюте белок, толпилось много людей. Тамм с озабоченным видом расхаживал вдоль уже усатых овсов, простиравшихся чуть ли не до самого дома объездчика, опасаясь, как бы их не затоптали на радостях. Ровный темно-зеленый покров тянулся далеко-далеко, закрывая недавние межи, перепаханные этой весной трактором.
Сначала выступили ребята из туликсаареской школы, потом грянул смешанный хор колхоза «Новая жизнь», не отстали от всех и горожане, особенно ремесленники. То там, то тут возникал хоровод — словом, начался такой праздник, какого еще никогда не видели в Туликсааре.
Затем, загудели моторы автомашин. Началось прощание. Всего-навсего за один рабочий день люди успели так сблизиться! Долго махали вслед машинам платками и руками, да и с машин все махали в ответ: до свиданья!
Уехали помощники из соседних сельсоветов, разошлись по домам и многие из своих, но окрестность вокруг Мяннисалу все еще была полна народу, все никак не кончались танцы под гармошку, все еще разносились веселые песни, слышные даже на станции Куллиару, где пассажиры остановившегося скорого поезда прислушивались и спрашивали:
— Что это? Никак певческий праздник?
Молодой начальник станции улыбался, сдвигал на ухо фуражку и отвечал:
— Нет! Просто мы задали сегодня жару реке и болоту.
В новых канавах скоплялась вода и, медленно стекая к реке Куллиару, уносила с собой грязь, тину и мусор.
Глава одиннадцатая
Реммельгас, Осмус и техник лесопункта Вийльбаум катили на велосипедах в Сурру. Все трое помалкивали: на этой узкой и грязной дороге упасть ничего не стоило, так что было не до разговоров.
Все лесосеки Осмус принял без единого возражения, оставались только те, что были около Люмату. Но в нынешнем году они составляли две трети всего туликсаареского порубочного фонда, и потому Реммельгаса беспокоило молчание Осмуса. Что-то он стал больно уступчивым: и на углубление реки согласился, и отпустил Киркму на прокладку узкоколейки… Подозрительна эта сговорчивость, вряд ли Осмус уже выложил на стол все свои карты.
Заведующий лесопунктом ехал самым первым. Он гнал вовсю, не разбирая дороги, грязь так и взлетала из-под колес. Реммельгас поспевал за ним с трудом. Еще трудней приходилось технику, маленькому и щуплому, да к тому же, как видно, и неважному велосипедисту. Реммельгас поглядел через плечо назад и покачал головой: по лицу техника струился пот. Лесничий не догадывался, что Вийльбаум взмок не только от жары и гонки, но еще и от страха. Он боялся дремучего леса. Здесь так мрачно шелестит листва, так уныло скрипят на ветру стволы, которые сплелись друг с другом, здесь все время что-то пощелкивает и похрустывает… Здесь в чаще ничего не стоит наткнуться на медведя, а то и на злых людей…
Реммельгас окликнул Осмуса, и тот спрыгнул с велосипеда.
— Техник устал, — видно, не привык ездить.
Осмус равнодушно взглянул на острое, как у хорька, лицо техника, украшенное пенсне. Опершись на велосипед, он закурил папиросу. «Человек тоже!» — подумал Осмус презрительно. Никогда он не брал его с собой в лес — обуза с ним, но сегодня, сколько Вийльбаум ни увиливал, пришлось-таки ему потащиться вместе с Осмусом, у которого были на техника какие-то тайные виды.
Вийльбаум вытер большим платком лысину и лицо и поглядывая на лес, спросил:
— А медведи… здесь водятся?
Лесничий поспешил его уверить, что водятся, и с жаром рассказал о косолапом, который время от времени наведывается в овсы Нугиса, как бы проверяя, созрело ли уже зерно.
— Почему же старик не застрелит медведя? — спросил, заикаясь, Вийльбаум. Узнав же, что Нугис оставляет в лесу еду, чтобы получше привадить к этим местам косолапого, техник ошалело покачал головой. Рехнулся старик! В войну, мол, чуть не всех медведей истребили, так вот не надо отпугивать оставшихся, пусть их разоряют посевы.
Когда они снова сели на велосипеды, Вийльбаум уже не рискнул ехать последним и пристроился вторым.
С ними должен был еще поехать Питкасте. Реммельгас вечером позвонил ему, но объездчик заохал и сказал, что он обещал пойти в Ээсниду принимать лес после санитарных порубок, что его ждут, что будут неприятности, что… Одним словом, пусть обходятся без него. «Предчувствует споры, разногласия и, чтоб не портить ни с кем отношений, старается остаться в стороне», — подумал Реммельгас, не вполне, впрочем, в этом убежденный. Возможно, причина просто-напросто в том, что Питкасте стал человеком слова: раз он уже с кем-то сговорился, то ему стыдно надувать людей. И Реммельгас не стал спорить, рассчитывая на помощь Нугиса или Анне.
Он не знал, что Анне уехала. Она уже некоторое время назад отпросилась у отца в город, только не сказала зачем, откладывая со дня на день разговор начистоту: то у отца было плохое настроение, то она сама не находила нужных слов, скованная каким-то необъяснимым смущением. Но наконец больше стало невозможно тянуть. Может, потом и не будет возможности поступить в техникум? Вдруг все места заполнят более молодые, пришедшие прямо со школьной скамьи? Это соображение положило конец колебаниям девушки, и она пошла к отцу, который рубил хворост на задворках.
— Отец, — сказала она, — не сердись на меня и не думай обо мне плохо. Я давно уже хочу с тобой поговорить… Я решила поступить осенью в лесной техникум. — Словно испугавшись возражений отца, она торопливо продолжала: — Я все обдумала и передумывать не буду. Хватит мне стоять в стороне да смотреть, пора лесу пользу приносить. А без учебы это невозможно.
Старик загнал топор в козлы и, сев на чурбак, выудил из кармана трубку. То-то его дочь была в последние дни такой рассеянной, такой неприкаянной. Его не проведешь, он каждый пустяк приметит: в воскресенье на лесопосадках он сразу увидел, как им весело вдвоем — его дочке и лесничему, не то что обыкновенным добрым знакомым. И ему стало ясно, что Анне ждет не дождется Реммельгаса. Он частенько думал о дочери с легким страхом, он замечал беспокойство девушки, порой даже препирался с ней, когда она в плохую погоду отправлялась по грязи на какое-нибудь собрание или на вечер. А потом упрекал себя: нечего равнять молодых по себе, пню замшелому. Анне и не подозревала, что отец постепенно приучал себя к мысли, что рано или поздно она улетит из лесов Сурру. Да, он часто думал об этом, и все же ее теперешний разговор об учении явился для него неожиданностью… Тут было над чем подумать. Учиться! Несколько лет тому назад он бы посмеялся над намерением дочери, но теперь все учились, и мужчины, и женщины. Реммельгас тоже пришел из школы. И время и деньги, которые государство потратило на его обучение, нельзя считать потерянными… У Анне голова неплохая, лес она любит, трудолюбия у нее хоть отбавляй, из нее получился бы неплохой лесничий.
Заметив, что отец усмехается в усы, Анне опустилась рядом с ним.
— Ты не сердишься, что оставляю тебя одного?
Шершавая рука лесника коснулась волос дочери:
— Так ведь не на край света ты уедешь… Поживу один…
Решили, что Анне отправится осенью в техникум, а до этого они подыщут для Сурру какую-нибудь старушку, которая будет ухаживать за скотиной, стряпать на хозяина и штопать ему носки.
Рано утром, как только лучи солнца коснулись верхушек деревьев, Анне села на велосипед и уехала.
Приехав со спутниками в Сурру, Реммельгас сразу заметил, что сторожка пуста и тиха, более пуста и тиха, чем когда-либо раньше. Лениво тявкнув раза два, Стрела с Молнией, раскрыв пасти и вывалив розовые языки, снова поплелись в тень. Кирр металась по двору, она тосковала по прохладной воде. Выдра выросла, ее блестящая шерсть потемнела, гибкое тельце вытянулось.
— Какой зверь! — чуть не в десятый раз говорил Нугису Осмус. — Продай. Сколько хочешь?
Нугис покачал головой.
— Кирр не продается.
— Отдам тебе своего Нестора. Пса таких кровей во всем свете не сыщешь.
— Может быть. Но, будь у тебя хоть десять Несторов, я бы не поменялся.
— А что, в Куллиару еще водятся выдры? — полюбопытствовал Осмус.
— Кто их знает, может, и найдется одна-другая…
— Надо бы устроить охоту.
— Пусть живут. Выдра стала такой же редкостью, как куница.
— Бережешь их, будто они твои собственные! — рассердился Осмус, но тотчас же понял, что сказал это зря, и примирительно рассмеялся. — Ладно, ладно, я не всерьез — просто пошутил… Ну что ж, пойдем?
Погода все эти дни то и дело менялась: день-другой шел дождь, а потом так пекло, что дышать было нечем. Парило и сегодня. Воздух над поляной дрожал, небо и солнце затянулись белесой дымкой. На березе редко и лениво куковала кукушка, выкликнет свое «ку-ку» и надолго замолчит… И вокруг такая тишина — ни листок не шевельнется. Лишь пчелы непрерывно жужжат, неутомимо перелетая с цветка на цветок и оставляя за собой сладкий аромат меда и пыльцы.
Осмус уже взмок от ходьбы. Вийльбаум задыхался, но боялся жаловаться. Нугис был замкнут и хмур, лицо его словно окаменело. Реммельгас казался рассеянным и на вопросы Осмуса отвечал невпопад.
Они начали с высоких, как по ранжиру подобранных елей, а кончили подгнившим смешанным лесом у болота. В Сурру они вернулись к вечеру, усталые и измотанные, или, как выразился Осмус, «спекшиеся».
Расстелили на столе карту участков. Осмус и не взглянул на нее, а все расхаживал взад-вперед по просторной кухне. С него хватит: он все проверил, все изучил на месте, все обдумал. Изучать больше нечего, пора открыто высказать свое мнение. И он начал напрямик:
— Ну что ж, как я думал, так и есть, и после обхода могу сказать с полной ответственностью: Куллиаруский лесопункт не согласен с выбором лесосек, выделенных Туликсаареским лесничеством. Причин достаточно: разработка трудна, вывозка невозможна. Выделенных лесосек принять не могу.
— Правильно! — Техник протер пенсне. — Просто безумие забрасывать людей в такую медвежью глушь!
Реммельгас устал. Он сидел на стуле и вяло следил за Кирр. Зверек начал понемногу признавать его. Но слова Осмуса заставили его мигом очнуться. Реммельгасу уже казалось, что упорство сломлено: выпрямление реки, строительство узкоколейки, последние собрания сделали свое дело, несмотря на всю свою досаду, Осмус покорился неизбежному и притих. Лесничий именно так истолковал то, что тот сегодня упорно молчал с самого утра. И тут вдруг — нате, пожалуйста!
— Весьма категорическое заявление…
— Абсолютно категорическое. Разработка леса слишком серьезное дело, чтобы экспериментировать…
Глубоко засунув руки в карманы, Осмус стоял посреди комнаты. Сколько раз он думал об этом разговоре, сколько мечтал, чтобы все произошло именно так: он говорит «нет», и кончено. Было время, когда он в самом деле чувствовал себя разбитым, чувствовал, что из-под ног уходит почва, что все оборачивается против него. Все не ладилось и складывалось в пользу нового лесничего. Но уже Вильде здорово сказал, что один раз верх берет Пийбелехт, а другой раз Вестман.[4] Время начало наконец работать на Осмуса. Но одного этого мало, он и сам не покладал рук… Слава Реммельгаса несколько поблекла, о нем пошли плохие слухи. Надо было ими воспользоваться. Ведь это не шутки: застрелить лося, пригреть фашистского приспешника, забрать в свои руки всю власть. И если кому случалось спросить у Осмуса, что он обо всем этом думает, то заведующий сначала многозначительно поджимал губы, как бы показывая этим, что он не охотник до пустых сплетен, а потом все же говорил: «Мне не по душе роль судьи, но об экскаваторе пока ни слуху, ни духу…»
Да, экскаватора не было. Участники толоки вернулись к своей повседневной работе — либо в лесничестве, либо в колхозе, — а трасса нового русла начала опять потихоньку зарастать ивовым прутьем. Раз нет экскаваторов, из углубления реки ничего не выйдет, разговоры о сплаве бревен останутся болтовней, и требовать вывозки леса с Каарнамяэ, с берегов Кяанис-озера — нереально и просто-напросто преступно. И Осмус повторил:
— Да, это дело слишком серьезное, чтобы экспериментировать.
— Кто же это экспериментирует?
— Вы!
Реммельгас вскочил.
— Опять все сначала. Да некогда нам больше препираться, нужно решать. Туликсаареское лесничество ни на метр не изменит размещения лесосек.
— Ладно, пусть пятая часть наших делянок будет на Каарнамяэ, но от пойменного леса возле Люмату я категорически отказываюсь…
— Да что это за торговля? Мы ведь не на рынке!
Нугис сидел понурый, даже усы его обвисли, а спина согнулась, словно обремененная ношей. Техник Вийльбаум давно уже, требуя внимания, махал карандашом. В конце концов он не выдержал и закричал тоненьким голоском:
— Товарищ Осмус прав, прав на сто процентов. Мы должны считаться с существующей обстановкой, с реальными возможностями. Одно советское учреждение должно поддерживать другое, а не чинить ему препятствия…
«Старая песня, — подумал Реммельгас. — Поет с голоса Осмуса». Настроение у него испортилось, он даже ощутил во рту горечь. Значит, придется начинать все сначала: объяснять, аргументировать, убеждать. Посылать в районный центр, а потом и в министерство документы и разъяснительные записки. Придется спорить, улаживать, выяснять, а где гарантия, что Осмус не возьмет верх? Доводы его не лишены убедительности, особенно, если смотреть со стороны. В министерстве лесной и бумажной промышленности он, вероятно, найдет поддержку и одобрение, кто знает…
Реммельгас уперся локтями в стол. Зеленое золото! Разве случайно народ дал лесу такое прекрасное название? Так надо защищать его, а не падать духом! Нечего поддаваться и плыть по течению. Нет, если нужно, так дойди до самого министра, вытащи его сюда, убеди в своей правоте на месте, прямо в лесу…
— Ну что ж, — сказал он, сворачивая карту, — мы познакомились с лесосеками, но они вам не понравились. Не остается ничего другого, как апеллировать к высшим инстанциям.
— Зачем к высшим? — Осмус развел руками. — Можно ведь уладить все на месте, по-дружески. Нас тут четверо. Пока что имеется два голоса против одного. Послушаем, что скажет Нугис?
— Я? — Лесник вздрогнул. Брови его высоко поднялись, морщины на лбу стали глубокими, словно борозды.
— По сути, твое слово самое важное, ведь ты, так сказать, хозяин Сурру. Ты растил лес, берег его. Вся жизнь твоя в нем — с горем и с радостью. Ты за рубку или против?
В глазах лесника загорелся огонек. «Ловкач этот Осмус, — подумал Реммельгас, — играет на самых чувствительных струнах старика. Уж не мучил бы его, и так ему нелегко. За весь день словечка не проронил». Реммельгас не приставал к леснику с расспросами и разными пустяками, он вполне понимал его настроение. Но Осмус был последователен, он не отпускал жертву.
— Ну, решай же, Михкель, не трусь!
А техник тоже подзуживал:
— Ну, «за» или «против», а? Как на выборах, хе-хе…
Усы лесника шевельнулись. Ему казалось, что какой-то ком застрял у него в горле и не давал говорить. За короткое мгновение он снова пережил всю борьбу с самим собой. Сейчас от него ждали прямого ответа, невозможно было ни увильнуть от него, ни убежать. Лесник почувствовал, что именно от его слов, от его решения зависит, уцелеют или нет самые высокие и крупные деревья на Каарнамяэ.
Собрав все свои силы, он, запинаясь, произнес:
— Возраст каарнамяйским ельникам вышел… Мы весной посадили вместо них новые… Теперь каждую весну будем сажать…
— Как-как? — Осмус подскочил к старику. — Хорошенько подумай, что говоришь. Может, судьба всего Сурру будет зависеть от твоих слов.
— Судьба Сурру в надежных руках, — тихо ответил Нугис и, рассердившись вдруг на Кирр, спихнул ее со стула. — Ты чего торчишь в комнате? Ступай на двор! — Голос хозяина выдавал его плохое настроение, и зверек покорно проскользнул через открытую дверь на двор. Нугис грузно зашагал следом.
— Сумасшедший старик! — фыркнул Осмус.
«Провалилось его голосование, — подумал Реммельгас и незаметно усмехнулся. — Даже техника вытащил из конторы, чтоб одним голосом было больше. Он, видимо, был уверен в Нугисе — всего набралось бы три голоса против одного, и, хотя формально это голосование не играло никакой роли, оно все же явилось бы в своем роде осуждением моей лесной политики».
— Сумасшедший? — повторил Реммельгас. — Ну нет, старик замечательный!
— Радуйтесь, радуйтесь, — буркнул Осмус и снова принялся шагать по комнате. — Пословица, однако, говорит, что цыплят по осени считают.
Реммельгас защелкнул замок портфеля. Поступок Нугиса поднял его настроение. Раз Нугис, эта добрая лесная душа, за него, значит, все хорошо и он на верном пути. Он уже давно это понял. Невозможно, совершенно невозможно представить себе, чтобы старый лесник одобрил что-нибудь такое, что оказалось бы нечестным. Нугис впервые решительно и твердо встал на сторону Реммельгаса, и последнего это необычайно обрадовало, даже его досада на Осмуса улеглась. Спокойно, чуть ли не добродушно он сказал:
— К чему нам драться, товарищ Осмус? Я действую не из упрямства…
— Именно из упрямства. Своевольного, корыстного упрямства!
— Нет, вы и сами не верите своим словам… Разрешите мне кончить. Я хотел бы, чтоб вы хорошо поняли, какой выбор вам предстоит сделать. Перед вами сейчас два пути: по одному из них — по пути собственной выгоды, по пути равнодушия ко всеобщим интересам — вы уже шли…
— Чего вы только не выдумаете!
— На другой путь — путь служения интересам народа, единственно верный для советского человека путь, — вам еще не поздно вступить.
— Я не нуждаюсь в ваших проповедях. Я стою на страже интересов своего лесопункта.
Реммельгас взял портфель.
— Мне хотелось обратить ваше внимание на опасность положения…
Осмус остановился прямо перед Реммельгасом. Сощурив глаза, он процедил сквозь зубы:
— Тем, кто вставал Осмусу поперек дороги, всегда приходилось жалеть об этом…
— Это что, угроза?
Осмус криво усмехнулся:
— Вы сами начали с угроз…
— Я принес вам поесть, — раздался вдруг голос Нугиса.
Старик стоял в дверях с бидоном молока в одной руке и тарелкой масла в другой. Он вошел уже давно, в самом начале ссоры, и несколько раз порывался вмешаться, но где там! Пока он собирался с духом, те двое так и сыпали словами, — вот и поругались. Вид у старика был расстроенный: он терпеть не мог ссор да перебранок и сейчас даже струхнул. Осмус был вспыльчивым человеком, Нугис это знал, да и лесничий был не из робкого десятка. Не зная, что сказать, он повторил:
— Да, поесть… Готовить у нас теперь некому, только и могу предложить, что молоко да хлеб…
Молча поели. Нугис не садился; он то входил, то выходил из комнаты, а по пятам за ним бегали Стрела и Молния.
Потом Осмус поднялся и на прощанье сказал Нугису:
— Еще раз говорю: продай свою речную разбойницу.
— Разбойницу! — рассердился Нугис. — Кирр ловит рыбу, но сама ее не ест, мне приносит.
Он и слушать не хотел о продаже.
Осмус и техник уехали. Реммельгас остался ночевать в Сурру, чтобы на следующий день проверить, как ухаживают за саженцами. Долго сидел он на скамье под яблоней. Солнце скрылось за деревьями, и стало свежо. Легкий порыв ветра пробежал по лесу, и по зарослям пронесся тихий шепот. Кукушка оживилась и куковала не переставая. Реммельгас сосчитал до двадцати пяти, потом бросил. За домом во ржи заскрипел коростель.
— «Речная разбойница»!.. — проворчал Нугис, проходя мимо Реммельгаса. — Это Кирр-то — разбойница!..
Так как лесничий ничего не ответил, он добавил тише:
— Вот сам он действительно разбойник. Ух, и злющие были у него глаза, когда вы тут спорили, съел бы он тебя с потрохами, если б мог.
Как раз об этом думал и Реммельгас. Сегодняшний спор был необычным, речи Осмуса дышали ненавистью, сдерживаемой до сих пор, словно сжатая пружина.
— Мало ли что сгоряча сорвется, — успокоил он себя и лесника.
— Осмус давно мне знаком, и я не слепой. Он сегодня на загнанную лисицу был похож. Такая того и гляди в глотку вцепится. Нет, с ним надо ухо востро держать… Цеспроста он с такими плохими людьми дружит.
Реммельгас улыбнулся.
— Спасибо за предостережение. Буду о нем помнить. Только мне кажется, что Осмус одумается и еще попросит у меня прощения за сегодняшнее.
— Как же, дожидайся! — буркнул Нугис.
Тут Реммельгас счел возможным спросить об Анне. Лесник ответил уклончиво:
— Сказала, что едет в город…
— Завтра не вернется?
— Наверно, нет.
Не в обычае Нугиса было болтать о своих семейных делах. «И без того все узнается», — говорил он обычно. И на следующий вечер Реммельгас покинул Сурру, не повидав Анне.
Он и Осмус подготовили материалы о новых лесосеках, дополнили их своими соображениями и отослали все данные в министерство. Реммельгас рассчитывал, что его вызовут для устных объяснений, но этого не произошло. Зато недели через две приехал секретарь уездного комитета партии Койтъярв с тремя-четырьмя работниками лесхоза и леспромхоза, что немало удивило Реммельгаса.
Койтъярв держался холодно и сдержанно, его суровое лицо ни разу не осветила улыбка.
— Я обещал навестить вас, — сказал он, здороваясь, — давно собирался приехать, только вот не думал, что мне придется контролировать вашу деятельность.
— Контроля я не боюсь…
— Надеюсь, надеюсь. Мы начнем с вас, поскольку на лесничество много жалоб, а потом расследуем и работу лесопункта.
— Это в связи с нашим совместным рапортом о лесосеках?..
— Если бы только это!
— Что же еще?
— Услышите. Имеется целый ряд жалоб на вас, как подписанных, так и анонимных.
— И вы принимаете их за чистую монету?
— Я хочу их проверить. Жалоб на вас собралась такая груда, что можно прийти лишь к двум выводам: либо вы сумели всех нас провести, либо под вас кто-то подкапывается.
Реммельгас весь кипел, он едва сдерживался. Директору лесхоза, прибывшему с бригадой, он сказал с обидой:
— Наградили, нечего сказать…
Директор лесхоза посмотрел в сторону и буркнул:
— Заварил же ты кашу, только держись…
— Какую кашу?
— Чего ты злишься? — Директор пожал плечами. — Еще успеешь объяснить нам, кто здесь правый, кто виноватый.
Реммельгасу стало горько: вот она, благодарность! Сам все время поддерживал его, одобрял, ставил в пример другим. «Реммельгас настоящий борец за будущее нашего лесного богатства, нашего зеленого золота», — разве не такие слова были сказаны на последнем производственном совещании? «Заварил кашу»! Пока дела идут хорошо, все ласковы, все к тебе льнут, похлопывают по плечу, хвалят и превозносят, а едва уверенность поколеблется, как они поворачиваются спиной, делают вид, что их дело сторона, да еще насмехаются…
Лесничий устроил бригаду на ночлег и покинул ее. Самому ему было не до сна, он решил побродить. Еж, перебегая через дорогу, встревоженно и сердито зафыркал. Козодой захлопал крыльями. И немолчно шумел лес, шумел спокойно и тихо, словно убаюкивал уставших за день птиц, зверей и людей…
Реммельгас дошел до мельничной плотины. Лето нынче выдалось странное: солнечные дни чередовались все время с дождливыми и река с самой весны оставалась полноводной, местами даже выходила из берегов. Вода с ревом переливалась через плотину и падала на камни, взбивая внизу пышную желтоватую пену. Реммельгас наклонился над перилами, посмотрел на клокотание бурлящей воды, и при виде этого неистово кипящего водоворота у него слегка закружилась голова.
Уездный исполком уже принял решение о сносе плотины, но Осмус представлял все новые возражения, всячески затягивая дело. Тамм предостерегал, что это может плохо кончиться: река разольется после первого же ливня и погубит посевы.
Воронки на воде исчезали и возникали вновь, от них рябило в глазах, и Реммельгас оторвал наконец взгляд от реки. Он повернулся и тронулся было домой, но тут же застыл на месте: к нему шла Анне Нугис!..
Девушка была без пальто и даже без платка. Она, видно, очень торопилась и, может быть, только что бежала — дыхание у нее было прерывистое.
— Я искала вас повсюду… — сказала Анне, прижав руки к груди. — Почему вы тут?
— А где мне надо быть? — удивился лесничий.
— Да у секретаря уездного комитета. Нашли время мечтать на мостике! Вы должны спорить, убеждать, рассказывать о своей работе в Тулликсааре. Как глупо вообще думать, будто вы убили лося! Говорят, что поступила такая жалоба, это правда?
— Да, поступила и такая жалоба.
— Это же глупость! И я, и отец можем подтвердить…
— Михкеля Нугиса и его дочь Анне тоже обвиняют в убийстве лося.
Анне подняла глаза. Какие они были большие и горячие.
— Мы? Чтобы мой отец… чтобы сурруский Нугис убил лося?
Такое искреннее недоверие было написано в глазах девушки, такое огромное удивление прозвучало в ее голосе, что Реммельгас оправился от замешательства, вызванного неожиданностью встречи.
— Убил он или нет, но вы из числа свидетелей выбыли — обвиняемые не могут защищать друг друга.
— Какая подлость! — Анне вздрогнула, словно ей вдруг стало холодно, и придвинулась к Реммельгасу. — Но кто же этому поверит? Дикое предположение!
— Койтъярв сказал, что дело не в предположениях, а в фактах. Нужны факты, опровергающие обвинение.
— Так найдите их! Это ведь не только ваше личное дело, на весах честь всего нашего лесничества. Если вы этого не сделаете, я созову всех ваших сослуживцев, всех местных жителей, и мы еще посмотрим, найдется ли среди них хоть один, кто поверит в то, что лесничий, словно браконьер, застрелил лося.
Реммельгас не мог оторвать глаз от девушки, он уже забыл о своих заботах и о своей досаде. Он никогда не видел Анне такой взволнованной.
Вдруг она схватила его за руку.
— Господи, совсем забыла, из-за чего я прибежала сюда из Сурру! Встретила по дороге людей, услыхала о комиссии, и все из головы вылетело. Дело в том, что вам надо быть очень, очень осторожным!
— Почему?
— Отец сегодня в лесу видел Тюура!
— Вряд ли он решился остаться в этих местах, — усомнился Реммельгас.
— Отец уверен, что это был именно Тюур. Он наткнулся на него у Кяанис-озера, неподалеку от реки. Увидев отца, тот бросился в кусты и пропал… Тюур вас ненавидит, будьте осторожны.
— И вы так бежали только затем, чтобы предостеречь меня?
Анне нагнулась и, глядя вниз на бушующую воду, что-то произнесла. Реммельгас не разобрал слов и подошел ближе. Анне перегнулась через перила, подставляя свое разгоряченное лицо под прохладные брызги воды, взлетавшие с камней.
— Не слышу! — крикнул Реммельгас.
Анне выпрямилась и, все еще глядя в сторону, тихо сказала:
— Мне всегда тяжело думать о людях плохое… Но мне кажется, что… в этом деле замешан Осмус…
Реммельгас непонимающе пожал плечами.
— Только сегодня я услышала, что Хельми и Кари скоро поженятся… — Щеки Анне порозовели, и, наверно, не только оттого, что их окрасил закатный багрянец. — Осмус, конечно, знал об их планах, а все же наплел мне небылиц про вас и Хельми…
— И вы поверили?
Анне сердито тряхнула головой.
— Нет! — И добавила тихо: — Разве что совсем ненадолго…
— Анне!
Девушка улыбнулась, и они бок о бок склонились над перилами, глядя вниз, где клокотала над камнями вода. За мельницей, в дупле старой липы, протяжно и злобно ухнул проснувшийся филин. В Мяннисалу лениво и сонно залаяла собака.
Анне подняла голову.
— Пошли!
— Куда торопиться?
— Расскажем все-все, что знаем. Тюур страшный человек… Я боюсь за тебя.
И, видя, что Реммельгас все еще колеблется, она схватила его за руку и увлекла за собой.
Койтъярв еще не спал, и Анне рассказала ему о встрече своего отца с Тюуром.
— Он может бог знает что выкинуть, — сказал Реммельгас.
— Расставим несколько постов. И я думаю, что именно вам следует особенно поостеречься.
— Вот и я то же говорю, — подтвердила Анне. — Ведь Тюур угрожал лесничему, даже письмо ему прислал.
— Вот как? — Койтъярв поднял брови. — Где же оно?
— В моем письменном столе…
— Так-так, — задумчиво протянул секретарь. — В письменном столе, значит. А почему не в руках у представителей власти?
— Стоило ли им заниматься?.. Мальчишеская выходка, и все…
— Какая близорукость! — Секретарь стукнул рукой по столу. — Эти бандиты ни с чем не считаются, еще немного — и сейчас было бы уже слишком поздно… разбирать жалобы на вас. Неужели вы сами не понимаете, что наиболее тяжелым, наиболее серьезным из всех обвинений против вас было обвинение в сговоре, в сообщничестве с врагом народа? А тут угрожающее письмо Тюура… Ведь оно снимает подозрение. Ну, пойдем в вашу канцелярию, там есть телефон.
Койтъярв позвонил по телефону Рястасу, а потом в милицию и договорился насчет сторожевых постов. Реммельгас долго рылся в своем столе, прежде чем разыскал на дне ящика скомканное письмо Тюура. Койтъярв тщательно расправил его и положил в свой бумажник.
— Теперь о вашей безопасности… — обратился он к Реммельгасу.
— Не беспокойтесь, — возразил тот. — Я теперь буду осторожен.
— Этого мало, — проворчал Койтъярв, — ведь такая гиена не нападет в открытую.
— Все-таки не надо приставлять ко мне охрану, — рассмеялся Реммельгас. — Я пойду провожать Анне… товарищ Нугис.
— Неужели, товарищ Нугис, ночью, в такой час, вы пойдете домой через лес?
— Конечно, — ответила Анне. И Реммельгасу: — А тебе следовало бы остаться дома…
Реммельгас и слушать не стал возражений Анне, и оба они вскоре исчезли вдали, в темнеющем лесу.
Койтъярв задумчиво посмотрел им вслед и заказал еще один телефонный разговор с городом. Разговор был коротким, его поняли с нескольких слов.
Члены контрольной бригады погрузились в разбор дел лесничества, просмотрели все документы, сравнили записи в книгах. Койтъярв вызвал к себе людей, долго и подробно с ними беседовал.
Через день он вызвал Реммельгаса.
— Помните, весной я говорил вам в городе, что как-нибудь приеду в Туликсааре и вы мне расскажете о своем лесе. Я слушаю вас.
Реммельгас растерялся — он ожидал расспросов о Тюуре, об убитом лосе, но не о своих делах.
— Не знаю, что именно вас интересует…
— Все. Как вы возобновляете лес. Как снимаете. Как боретесь против заболачивания.
Реммельгас боялся, что рассказ его покажется Койтъярву скучным и тот быстро утомится, но прошло полтора часа, а его ни разу не прервали. Даже когда он кончил, Койтъярв все еще молчал и с задумчивым видом смотрел в окно.
— В какого великана превращается человек! — сказал он тихо. — Все хочет покорить, переделать по-своему, чтобы народу жилось лучше… Я просто заслушался вас, товарищ лесничий. Самому захотелось стать на ваше место.
— Чем бы ни кончилось расследование об убийстве лося, о покровительстве врагу народа и о прочих выдумках, я не прекращу борьбы за перевод лесосек в дальние районы. Если вы в этом вопросе станете на сторону Осмуса, я буду апеллировать в Центральный Комитет. Лес безгласен, сам он не может защитить себя от честолюбивых карьеристов…
Койтъярв так пристально посмотрел на Реммельгаса, что тот невольно опустил глаза.
— От вас прямо жаром пышет, — сказал он. — Теперь я начинаю понимать, почему люди так энергично защищают вас — вы всех тут зажгли. Знаете, вчера вечером ко мне явился поздний гость.
— Гостей к вам много ходит…
— Остальных я сам вызывал. Он один пришел незваный… Высокий такой, брови густые и лохматые, лицо словно медное, усы длинные, густые…
— Михкель Нугис?
— Он самый.
У Реммельгаса сердце оборвалось. Неужели старик пришел жаловаться? Нугис еще не свыкся, не примирился с мыслью о рубках в Сурру. Он боролся с собой, он даже поддерживал Реммельгаса, но сердце зачастую оказывается сильнее рассудка…
— Хотите узнать, о чем он говорил?
— Мы с Нугисом по-разному смотрим на размещение лесосек…
— Вот как? Интересно… Но разрешите рассказать вам о нашем разговоре. Было уже поздно, солнце зашло. Я видел, что мимо окна прошел высокий человек, но в дверь никто не постучал. Тропинка упирается в дом, и поэтому я насторожился. Поскольку в сенях по-прежнему было тихо, я не смог побороть любопытства и пошел взглянуть. Выглядываю в сени и вижу в наружных дверях высокую фигуру. Человек стоял ко мне спиной и дымил трубкой. Он услышал мои шаги и повернулся. «Ждете кого-нибудь?» — спрашиваю. «Я?.. Нет, кого мне тут ждать?..» Выхожу я на крыльцо, останавливаюсь рядом с ним и тоже закуриваю. Вечер был тихий, эти вот березки стояли такие понурые, солнце уже заходило, и на закате горели облака. «Хороший вечер», — говорю. Старик встрепенулся. «Чего? Ах, вечер? Да, ничего… Завтра опять будет дождь». Человек стоит себе и практикуется в метеорологических изысканиях — зачем мне мешать ему? И я начал спускаться с крыльца. Там у вас три ступеньки. На крыльце все по-прежнему было тихо. Только я сошел на землю, как предсказатель погоды не выдержал и спросил своим хриплым басом: «Это вы… это вы партийный секретарь?» — «Я». Старик опять замолчал и начал грызть трубку. Я остановился. Было ясно, что он пришел не просто поболтать, что на сердце у него тяжелый камень. Шутка ли, человек целые четверть часа простоял у двери. Вижу я, гасит он трубку пальцем, зажимает ее в кулак, сует в карман и говорит: «Тогда надо нам потолковать». Привел я его в дом, посадил. Прикусил он ус, задумался и сказал мне: «Я сурруский лесник. Говорят, на лесничего есть жалобы». Я молчу. «Это правда?» — «Правда», — говорю. Тут старик вскочил. Головой он доставал чуть ли не до потолка. Сделал он ко мне два размашистых шага, упер свои большие, как гири, кулаки в стол и этак в упор: «От Осмуса?» — «Не важно, от кого, важно, что есть». — «Я знаю, что от Осмуса. Он грозился. Лесничий прижал его к стене с новыми лесосеками. Тот и струсил, что плана не даст. Для него проценты — все!» — «Значит, начальник лесопункта прав?» Вижу, нахмурился старик, сдвинул свои лохматые брови и так зыркнул на меня глазами, словно ножом полоснул. «Нет, прав наш новый лесничий». Вижу, трудно ему говорить. Дышит тяжело, кашляет, задыхается, будто кто его за горло взял. Наконец пересиливает себя и выкладывает: «Да, прав лесничий. Он вперед заглядывает, вдаль». Сказал это старик и немного отошел — брови обратно разъехались, кровь от лица отлила. Сует руку в карман и достает опять свою трубку, большую такую, — добрая осьмушка табаку влезет. «Так, говорю, а дальше что?» Удивился он очень, забыл, что уже спичку зажег, держит ее над трубкой и смотрит на меня из-под бровей. «Дальше? Дальше ничего». На том наш разговор и кончился.
Реммельгас поднялся и подошел к окну. По стеклу барабанил мелкий дождь. Листья сирени блестели, словно отполированные. Леса не было видно — его окутала серая мгла.
— Да, — произнес подошедший неслышно Койтъярв. — Не очень-то у вас тут красиво… Слишком голо. — И, помолчав, добавил: — Но люди у вас чудесные, просто золотые.
— Из всех наших богатств главное — люди, — тихо, как бы про себя, откликнулся Реммельгас.
— Многое мне еще неясно. Есть у меня немало предположений, но, чтобы доказать их справедливость, нужны факты. Могу, впрочем, сказать вам уже сейчас: вы благотворно повлияли как на людей, так и на природу Туликсааре.
— Благодарю вас, — ответил Реммельгас. В последние дни было немало огорчений, и потому слова Койтъярва глубоко его расстрогали, он не смог этого скрыть.
— Когда коммунисту говорят, что он воспитал новых людей, советских людей, — это самая большая похвала, — продолжал Койтъярв. И, глубоко вздохнув, добавил: — Все же с вас еще не сняты серьезные обвинения. Я думаю не о расположении лесосек: после того как будут выслушаны доводы лесопункта, разрешение этой проблемы не вызовет больших затруднений. Гораздо сложнее обстоит дело с убийством лося…
Реммельгас резко обернулся.
— Вы верите?..
— Дело не в том, верю я или нет. Я спрашивал и Нугиса, он отрицал. Горячо, даже рассердился. Он не единственный, кто уверен в том, что лесничий Реммельгас не стал бы целиться в лося, даже если б имел на это право. Но пусть против вас нет улик, пусть все обвинения против вас будут признаны неосновательными: все же, пока не обнаружат браконьера, на вас будет лежать тень подозрения.
Прощаясь — бригада направлялась в Куллиаруский лесопункт, — Койтъярв повторил:
— В Куллиару мы проведем не больше одного дня… Может быть, нам удастся установить за это время и личность неизвестного убийцы лося.
«Может быть, нам удастся»! Какой великодушный, говорит «нам»! А сам небось думает: «Докажи-ка, лесничий Реммельгас, что ты не браконьер».
Реммельгас распахнул окно. Ветер стих, но небо было сплошь затянуто серыми тучами и капал дождь, капал тихо, беззвучно…
Глава двенадцатая
Рудольф Осмус объяснял Койтъярву, почему он так решительно возражает против переноса центра тяжести лесных работ в самые дальние районы Сурру.
— Реммельгас обвиняет меня в консерватизме, в косности, в том, что я цепляюсь за старое, — развел он руками. — Разве я заслужил такие упреки? Думаю, что нет. Я ведь вправе — думаю, что я даже обязан — защищать интересы своего предприятия. Ведь речь идет не о ста тридцати процентах Куллиаруского лесопункта, речь идет о стройматериалах, о крепежном лесе для шахт, о сырье для фанерных и спичечных фабрик. Насколько всего этого будет меньше, если мы углубимся в непроходимые трущобы! Я против плана лесничего, против не принципиально, а практически, не навсегда, а на год. Я бы говорил совсем иначе, если бы все было так, как обещали Реммельгас и Тамм, если бы приехали экскаваторы и углубили реку и мы могли бы организовать сплав. Но о машинах пока ни слуху ни духу. А если они прибудут, их придется сначала монтировать и устанавливать, так что в нынешнем году от них все равно мало проку…
Койтъярв не перебивал Осмуса, он только тихо постукивал карандашом по папке. Когда заведующий лесопунктом кончил, он взглянул на него и спросил:
— Значит, будь здесь экскаваторы, вы заговорили бы совсем иначе?
— Ну конечно же! Я еще раз повторяю: в принципе я не против…
— Хорошо, — прервал его Койтъярв. — Экскаваторы прибывают сегодня.
На дороге загремела телега, сердито залаял Нестор. Со станции доносился стук бревен, там загружали новые вагоны. Прошло несколько секунд, прежде чем Осмус сказал:
— Что-то я об этом не слышал…
Действительно, об этом знали лишь немногие в Туликсааре. Койтъярву хотелось порадовать местных жителей приятной неожиданностью: он никому не говорил о том, что экскаваторы уже прибыли на мелиоративную станцию, что он поторопил тамошнего директора и что машины вскоре ожидались в Туликсааре. Чтобы рассчитаться за опоздание, станция обещала прислать два экскаватора вместо одного и в придачу к ним кусторез.
Получилось так, что когда на туликсаареской дороге загремели какие-то таинственные машины, то на шум первыми выбежали собаки, которые уселись около дороги, подняли уши и принялись лаять на неведомые им страшилища. Потом железный лязг услыхали мальчишки, и среди них начался спор.
— Послушай-ка, никак танки едут!
— Какие теперь танки!
Пока они спорили, грохот все нарастал и нарастал, и в конце концов орава ребят, одолеваемых любопытством, кинулась к большаку.
Новость об экскаваторах быстро, как степной пожар, распространилась по всему колхозу. Народ побросал на лугу косы с граблями и побежал к дороге.
— Ну и громадины! — удивлялись люди.
— Ишь, словно танки гремят гусеницами.
Две грузные и широкие машины с длинными тросами не вызвали недоумения, это были экскаваторы. Но когда из-за поворота выползла третья, познания истощились.
— К чему нам летом снеговой плуг?.. Да нет, это вроде не он. Уж больно неуклюжий.
Грохот «Сталинца» с мотором в восемьдесят лошадиных сил заглушил возгласы колхозников, но водитель, заметив, что ему машут, остановил трактор. Люди обступили его плотным кольцом.
— Что это за машина?
— Неужто на полюс собрался снег счищать?
Водитель, сдвинув на затылок замасленную фуражку, снисходительно улыбнулся.
— Так-то вы разбираетесь в советской технике? Это же кусторез! Приходите посмотреть на мою работу — скошу ваши кусты раньше, чем вы с травой управитесь.
— Иди ты!
— Брось над стариками смеяться!
Но какой-то немолодой колхозник потер подбородок и пробормотал:
— Черт его знает… В пустынях хлеб сеют, новые реки выкапывают, атом раскусили, — долго ли им кусты скосить.
Машины, гремя, поехали дальше, а колхозники вернулись к своей прерванной работе. Некоторые даже позавидовали сорванцам-мальчишкам и непоседам-девчонкам, которые побежали за этими диковинными махинами, чтобы разглядеть получше их гусеницы и рычаги да послушать, как тарахтит мотор. Но косьба шла уже не так споро. Время от времени люди прислушивались к далекому грохоту и, улыбаясь, говорили:
— Что ты скажешь, приехали!
— Приехали! Теперь пойдет!..
Около лесничества машины остановились, и на одну из них сел Реммельгас. У Мяннисалу путь раздваивался: техник мелиоративной станции поехал на одном экскаваторе к Люмату, а Реммельгас на другом — к дальнему концу излучины.
У плотины собиралось все больше и больше народу, в обеденный перерыв здесь был в сборе весь колхоз. Экскаватор к тому времени уже взобрался на настил из балок и выбрал первый ковш земли, перемешанной с травой и корнями. Загудел мотор, весь с корпус повернулся и вдруг замер с вытянутой стрелой.
— Ой, уже сломался! — воскликнула на бегу какая-то женщина, подхватившая рукой подол платья, из-под которого виднелась синяя юбка в красную полоску.
— Что же это?.. — говорили в замешательстве люди и замедляли шаг.
Экскаваторщик Лепп подмигнул своему помощнику. Он был человеком небольшого роста, в острых чертах его лица было что-то решительное. Наполнив нефтебак, завинтив пробку и вытерев тряпкой перепачканные руки, он крикнул круглолицему помощнику:
— Покажем им, как она поломана?
Помощник, молодой парень, видно, совсем недавно выросший из своего кургузого пиджачка, стукнул кулаком по экскаватору.
— Покажем!
Водитель вскочил на вычищенное до блеска гусеничное полотно и влез в кабину.
— Эй, посторонись! — закричал помощник и, сорвав со своей светловолосой головы кепку, завертел ею в воздухе. — Отойдите, отойдите! А то ковшом глины угостим.
Лепп потянул за рычаг. Мотор зарычал сильнее, длинная стрела опустилась, тросы раскрутились, и ковш острыми зубами вгрызся в им же выкопанную яму.
— Вот это да!.. — Какой-то старик даже рот раскрыл от удивления.
Машина взвыла и вздрогнула на своем бревенчатом настиле. Зубы ковша впились в землю, вгрызлись глубже и замерли перед пнем… Мотор ускорил обороты, запел тоном выше, энергичнее, корни пня затрещали и вот тросы уже начали наматываться на толстый вал, поднимая ковш. Корпус машины повернулся, и ковш со свистом пронесся в воздухе, описывая размашистую дугу…
— Ай! — воскликнул старик, смотревший на все это с раскрытым ртом, и отпихнул женщину, наступившую ему на ногу.
— Сюда высыпает, уходите! — крикнула какая-то женщина.
— Отойдите, отойдите!..
Люди рассыпались. Лепп сверкнул зубами и открыл ковш. Он нарочно поднял его повыше, чтобы грязь разлетелась подальше.
— У, сатана! — выругался кто-то, кому забрызгало грязью нос.
— Ишь ты, сколько загреб сразу!
— Воза два, не меньше…
Экскаватор повернулся, ковш со стуком упал в яму, набрал новую груду, снова на солнце сверкнуло дно ковша, снова два воза земли легло на берег реки.
Лепп был в ударе. Он видел на лицах людей одобрение, восторг, удивление, и это подзадоривало его, руки проворно перелетали с рычага на рычаг. Машины были для него всем. После войны, когда тракторов так не хватало, он из нескольких старых, разбитых тракторов собрал по частям новый. А потом пересел с трактора на экскаватор.
Еще более широкая дуга, еще больший размах, зубы еще глубже вгрызаются в землю, и ковш снова полон доверху. Пройдет несколько недель и люди увидят, как весело потечет по новому руслу вода, как станут подсыхать поля и луга, как пышно разрастутся вика и клевер, а каждая картофелина будет вырастать чуть ли не с репу…
Дивились-дивились, никак не могли надивиться. Не отрываясь глядел на летающий ковш старый Андрес, который, опираясь на кривую суковатую палку, пришел сюда самым последним и сидел теперь в сторонке на срубленной березе. Андрес хорошо знаком с рытьем канав, еще как знаком! Пятнадцать лет ходил от одной канавы к другой с лопатой на плече, с почерневшим на кострах котелком и топором за поясом. Он принадлежал к сословию канавщиков. Он работал в холодной и ржавой болотной воде, он копал весной, копал летом, копал осенью, — копал до тех пор, пока лопата не начинала отскакивать со звоном от замерзшей земли. Нелегко это было — стоять часами в болотной или речной воде, от которой словно навсегда окоченели ноги — без палки шагу не сделать, словно навсегда скрючило руки — не разогнешь, и свело до боли поясницу — нагнуться больно. Не было профессии хуже, чем профессия канавщика, и не было прозвища хуже, чем прозвище канавщика. Дурная слава ходила за канавщиками, как тень… А теперь канавщик сидит в большой машине, передвигает всякие рычаги, и гора земли все растет, словно тут орудуют лопатами целых две сотни канавщиков. Люди с изумлением и восторгом смотрят во все глаза на машиниста, который ведь всего-навсего канавщик. И если бы он сейчас остановил машину и вылез из нее, то люди обязательно обступили бы его, а может, принялись бы качать с криками «ура!» Но канавщику Леппу некогда останавливать машину и вылезать из нее, потому что он вместе с другими экскаваторщиками принял на себя обязательство покончить к первому сентября и с углублением реки Куллиару, и с ее выпрямлением. А это значит, что нужно трудиться без передышки до тех пор, пока не прибудет третий экскаваторщик, а тогда они примутся работать в три смены…
Весело было глядеть, как быстро углубляется яма на месте нового русла, но Тамм уже начал выражать беспокойство, да и бригадир все поглядывал на солидные карманные часы: их собственная-то работа стояла. И наконец все колхозники разбрелись, но всюду, где бы они ни работали, до них доносился грохот экскаватора, и все сходились на том, что более приятной музыки они в жизни не слыхали.
Прошла ночь, а утром грохот возобновился и донесся до сторожки в Сурру — первый звук, который долетел туда извне. Он разбудил Нугиса, и старик, выйдя на крыльцо, долго прислушивался к нему. Жаль было уходить с крыльца. Впрочем, Нугису предстояло отправиться как раз в ту сторону, где тарахтели машины, в Туликсааре. Вчера вечером явились люди из лесопункта, которые должны были прорубать просеку для узкоколейки, и передали ему, что лесничий просит его прийти и принять работу землекопов из лесничества. Нугис быстро собрался и двинулся в Туликсааре. Но там ему сказали, что Реммельгас чуть свет ушел из дому. Старик отправился обратно. Он заглянул по дороге в палатку на станции, потом постоял немного около экскаваторов и вернулся к своей сторожке только в полдень.
Тут вдруг он услышал выстрел, раздавшийся в стороне Кяанис-озера. Залаяли Стрела и Молния. Они сидели на цепи, потому что Анне ушла вместе с рабочими на одну вырубку неподалеку — на ней росли саженцы, и ее надо было прополоть. Нугис прислушался, потом побежал в дом и вынес из задней комнаты свою двустволку. После этого он спустил с цепи собак.
Раздался второй выстрел.
— Ату! — крикнул Нугис.
Прижав уши, гончие помчались в лес.
«Заслышав собак, — решил Нугис, — браконьер сообразит, что я вернулся домой, и попытается удрать, но куда? Спереди лежат Кяанис-озеро, болото Люмату и река с глубокими омутами — там не проберешься. Остается свернуть на Каарнамяэ или скрыться в зарослях у Мяннисалу». Нугис обдумывал все это на бегу, прислушиваясь к лаю собак. Они, как слышно было, мчались к Мяннисалу. Нугис повернул влево, чтобы сократить путь и перерезать дорогу удиравшему браконьеру.
Какое-то коричневое тельце, мелькнув в траве, метнулось от одного куста к другому и притаилось. Что же это за зверь, который не убегает от человека? Или он так ловко ускользнул, что лесник даже и не заметил? Нет, вот он опять. Темно-бурый, приземистый, мчится к следующему кусту…
«Гиииррргхх!» — разнесся по лесу пронзительный крик.
— Кирр! — воскликнул Нугис и бросился к упавшему вдруг зверьку. Выдра лежала на боку. Услышав приближающиеся шаги, она напряглась, чтобы приподнять свою плоскую голову, но ей не хватило сил. Глаза ее были открыты и тускнеющий взгляд выражал боль.
— Киррушка! — Нугис опустился на колени и подложил руку под голову выдры. Голова поникла. Нугис сунул другую руку под грудь зверька, чтобы высвободить его ногу, придавленную собственным телом, и почувствовал на ладони кровь. Кирр была ранена в грудь. Инстинкт заставил ее скрыться в кустах, она бежала до тех пор, пока ей не отказали силы. Голова зверька откинулась назад, глаза потухли, сквозь зубы заструилась кровь.
Выдра умерла.
Нугис осторожно положил зверька набок, встал и прислушался. Выражение боли на его лице постепенно уступило место гневу. Собаки ушли дальше, но лаяли теперь чаще и яростней — они, видно, почуяли браконьера.
Нугис побежал изо всех сил, каждый миг готовый услышать выстрел. Не простятся ли сегодня и Стрела с Молнией со своей жизнью? Но что это? Гон ослабевает, собаки лают, но в их голосах нет прежнего ожесточения… Неужто браконьер им знаком и они не могут решить, наброситься ли им на него или, виляя хвостом, уйти своей дорогой? Закрывая глаза рукой Нугис бежал напрямик через густые еловые заросли.
За ельником лес поредел, чуть поодаль начинался луг. Тут Нугис остановился на миг, потом пригнулся и побежал, прячась за кустами. Вот мелькнула впереди фигура и снова скрылась. Расстояние было слишком велико, чтоб узнать человека. Нугис, окликая время от времени собак, бросился ему наперерез, продрался сквозь густые заросли и снова выбрался в редколесье. Теперь незнакомец должен был выйти прямо на него… Едва Нугис взвел курок, как увидел приближающегося человека с ружьем. Он сразу выскочил из-за дерева и закричал:
— Стой!
Человек застыл на месте и начал поднимать ружье.
— Бросай ружье! — И Нугис вскинул было свою двустволку, но тут же опустил ее: перед ним стоял Осмус…
У всегда столь самоуверенного заведующего лесопунктом был испуганный и растерянный вид. По лицу его струился пот — при его комплекции бегать было нелегко. Глаза его блуждали, словно отыскивая, куда бы ему спрятаться.
— Вот так орел попался! — В голосе Нугиса звучала насмешка, но он был смущен. Заведующий лесопунктом… Но ведь не он же убил Кирр? Это казалось невероятным. Скверно, если настоящий браконьер удирает сейчас все дальше и дальше от Сурру, а он подозревает… Но почему Осмус здесь? Именно сейчас?.. Не зная, что подумать и что предпринять, лесник спросил:
— Охотитесь?..
Осмус приободрился и сумел даже улыбнуться, хотя и несколько криво.
— Да вот — выдался свободный денек… Захотелось побродить по лесу… Разрешение на охоту имеется. — И он схватился за нагрудный карман.
— Знаю, что имеется. — Нугис до боли стиснул зубы. «Значит, тихая воскресная прогулка? Что-то непохоже на Осмуса. Надо бы проверить его ружье, но как это сделать?»
— Попали? — спросил вдруг Нугис.
— Я? В кого? — Осмус смешался, но быстро оправился. — Это вы о выстреле?.. Представьте, промазал. Ястреб, правда, летел слишком высоко, но я все-таки попробовал. Этакий разбойник, еще утащит какого-нибудь цыпленка…
— Ишь какой вы жалостливый! — Нугис почувствовал, что Осмус притворяется, более того, — насмехается над ним, и в нем опять все закипело. — А второй выстрел?
— Какой второй? — Глаза Осмуса стали круглыми. — Это ведь вы стреляли? Или нет? Кто же тогда, кроме вас? Уж не ваша ли амазонка Анне?
Нугис протянул руку к ружью Осмуса и неторопливо, с притворным безразличием сказал:
— Ну и стволы! Небось шагов на сто бьют? Можно посмотреть?
— Ружье у меня в самом деле, как у Ястребиного Глаза, — ответил Осмус и молниеносно вскинул свою трехстволку. Тотчас сверкнул огонь и прогремел выстрел. Маленькая сойка, что, тревожась за гнездо, перескакивала невдалеке с ветки на ветку и сердилась на незваных гостей, взлетела в воздух и тут же камнем рухнула вниз. — Вот видите, расстояние не меньше шестидесяти шагов. Желаете поглядеть? Прошу!
И Осмус протянул Нугису ружье, но у лесничего уже пропал к нему интерес: попробуй теперь установить, были или нет закопчены раньше оба ствола.
Если бы Осмус в этот момент не усмехнулся высокомерно и насмешливо, Нугис позволил бы ему уйти своей дорогой. Правда, улыбка была едва заметной, но все же острый глаз лесника ее увидел.
— Идем со мной! — Нугис кивнул головой в сторону Сурру.
— В другой раз, сегодня некогда… — снисходительно сказал Осмус, но Нугис крикнул:
— Молчать! — и так угрожающе поднял ружье, что Осмус испугался и, сам того не желая, поплелся за стариком.
«Черт его разберет, этого лешего, — подумал заведующий, — совсем он одичал в своей берлоге, нелюдимый такой, взбалмошный, еще застрелит, с него станется». Осмус взглянул на шагавшего рядом Нугиса, и на душе его стало еще тяжелей. «Жуткий старик, лицо словно каменное, поди догадайся, что у него на уме, чего он хочет…»
Он попытался завести разговор, но тщетно — старик упорно молчал. Осмус и злился и трусил в одно и то же время, не зная, чем все это кончится.
Когда же он вдруг увидел валяющуюся в траве Кирр, ему стало окончательно не по себе.
— Хоть ружье у вас бьет на сто шагов, но вы не стесняетесь убивать и с десяти!
— Не понимаю… — пробормотал Осмус.
— Кирр не убегала от людей.
— Но вы же не… Я протестую… Неужели вы в самом деле смеете думать, что я…
— Уверен в этом!
— Возмутительно! И вообще, что за идиотство устраивать целое представление из-за какой-то выдры? — И он ткнул сапогом безжизненного зверька.
Молчание, угрожающее молчание заставило его поднять взгляд. Стволы Нугиса были направлены на него, и не блеснуло ли в глазах лесника нечто вроде безумия? Ружье у него, конечно, заряжено…
— Что за шутки?.
Воротник рубашки прилип к шее Осмуса, ружье так дрожало в его руках, что, будь оно и заряжено, от него не было бы никакого толку. «Пощады от него не жди, — промелькнуло в голове Осмуса, — нужно же мне было ткнуть ее ногой! Кусты далеко — не добежишь… Пугает он меня или вправду задумал недоброе? Нет, видно, он всерьез — лицо-то какое страшное!»
— Давайте уладим это дело… — Каким беззвучным стал голос! — Плачу пятьсот рублей…
— Мерзавец! — с презрением прохрипел Нугис.
— Отец!
Никто не видел, как Анне появилась между деревьями. Оглядевшись, она на миг замерла и затем бросилась к ним. Девушка услышала последние слова, и хотя не догадалась, за что Осмус предлагал деньги, но по лицу отца сразу поняла, как это его разозлило.
Бросившись к нему, она схватила его за руку.
— Отец, — повторила она, — что случилось?
Нугис показал на Кирр. Анне упала на колени и попыталась приподнять голову выдры, но приподнялось все тело — зверек уже закоченел.
— Киррушка! — прошептала она. — Киррушка…
Она поднялась и провела рукой по глазам. Все еще глядя на Кирр, чтоб скрыть слезы, она спросила:
— Он?
Прежде чем Нугис успел ответить, Осмус крикнул:
— Это недоразумение, глупое недоразумение…
— Отнесем ее домой, — сказал Нугис.
— Я застрелил только ястреба… — продолжал Осмус.
Он заметил, что его не слушают, и умолк. Отец и дочь взяли вдвоем выдру и, не бросив на Осмуса ни одного взгляда, направились в Сурру.
— Ты ведь не всерьез?.. — спросила Анне, когда за деревьями показался их дом.
— Что?
— У тебя было такое лицо!.. Ты ведь не…
— Стану я руки марать из-за всякой дряни! Хотел просто напугать, чтоб у него язык развязался. Ты мне помешала, теперь трудней будет прижать его к стене.
Во дворе они положили Кирр на землю, густо заросшую пахучей ромашкой и крупным подорожником.
Вечером, когда на верхушках деревьев запылали последние лучи солнца, они похоронили Кирр под липой за домом… Как только стемнело, Стрела и Молния, порыскав вокруг, уселись над свежим бугром и, подняв морды, завыли долго и печально. Долгим и печальным был этот вечер в сурруской сторожке…
Глава тринадцатая
Два секретаря — Койтъярв и Рястас — сидели за столом в сельсовете один против другого. Рястаса раздражали спокойствие и уверенность Койтъярва, которые он принимал за равнодушие и холодность. А Койтъярва забавляло нетерпение председателя сельсовета. К чему он сейчас горячится и сердится, когда можно было бы разговаривать спокойно и деловито?
— То вы зарываетесь в бумаги и карты, то разгуливаете по каким-то сурруским трущобам… — начал Рястас, но Койтъярв спокойно прервал его:
— Но как же иначе проверить, правильно ли выделены лесосеки? — спросил он, прищурив один глаз и слегка вытянув губы. — А вы сами ходили на Каарнамяэ?
— Нет.
— А на берега Кяанис-озера?
— Тоже нет.
— Так-так… Жаль. Я еще не видал таких прекрасных ельников, как на Каарнамяэ. Следующим летом непременно приеду в отпуск стрелять уток на Кяанис-озере.
Рястас, не вытерпев, вскочил. Это уж черт знает что! Речь идет о человеке, о члене туликсаареской парторганизации, можно сказать, о его жизни и смерти, а секретарь уездного комитета партии мечтает об охоте на уток.
— А если вы не бродили по лесам Сурру, — продолжал Койтъярв, — то как же вы намерены определить свою позицию в споре между Куллиаруским лесопунктом и Туликсаареским лесничеством?
— Ах, это их внутреннее, производственное дело. Если не разберутся своими силами, приедут специалисты из министерства и скажут, кто прав.
— А вы? Будете наблюдать со стороны?
— Как так — наблюдать со стороны? Тут сейчас разрешаются гораздо более важные вопросы. — И Рястас вдруг осекся. Его одолела внезапная робость: Койтъярв, секретарь уездного комитета, большой начальник, — еще рассердится. Но все равно, надо высказать все, что накопилось в душе, выложить начистоту. — Я не отрицаю, лесосеки, конечно, тоже важная вещь… Но вы забываете о самом важном — о человеке, забываете о слухах, распространяемых про Реммельгаса. Реммельгас пришел к нам недавно, он принес с собой много нового и свежего, он смело продирается сквозь заросли косности. Я убежден, что клевету против Реммельгаса распространяют сознательно, что ее раздувают намеренно…
— Ну, а что вы предприняли для защиты члена своей парторганизации?
Рястас замер на полуслове и во все глаза уставился на Койтъярва. Но он был еще полон такого негодования на секретаря укома, что встречный упрек показался ему лишь ловким маневром, и он снова бросился в атаку.
— Почему мы сами не займемся расследованием? Где все нужные данные? Почему не доведут до всеобщего сведения результаты следствия? Скажите всем, что это клевета и ложь, будто лесничий убил лося, будто он покровительствовал врагу народа…
— Вы требуете, чтобы я за три дня сделал то, чего вы сами не сделали за три месяца? Это вы, товарищ Рястас, оставляете в одиночестве членов своей организации.
Рястас почувствовал, что из атакующего он вдруг превратился в атакуемого. Не сумев защититься, он повторил уже сказанное:
— Не важно, как это все получилось, но на скамью подсудимых попал лучший член нашей организации…
— Лучший? У вас имеются доказательства?
Рястас выпрямился и словно вырос.
— Не всегда нужные доказательства фиксируются на бумаге, должна быть вера в людей. И я верю в Реммельгаса. Реммельгас коммунист, член нашей парторганизации, и мы выступим в его защиту. Я только… не знаю толком, как это сделать…
Койтъярв добродушно улыбнулся.
— Разрешите дать совет?
— Спрашиваете! — проворчал Рястас.
— Созовите совещание, пригласите всех партийцев и всех людей, сколько-нибудь причастных к делу, например Осмуса, Нугисов, Питкасте, членов контрольной бригады — словом, каждого, кто вам может понадобиться, и мы обсудим этот вопрос сообща.
— Вы скажете вступительное слово?
— Нет.
— Почему? Ведь не может быть, чтобы вам нечего было сказать.
— Даже если мне и есть что сказать, я предпочитаю сначала послушать. Мне кажется, что туликсаарцы настолько выросли и созрели, что они сами, своими силами очистят свою среду от чуждых ей элементов.
Рястас уставился на Койтъярва, открыл рот, чтоб сказать что-то, но махнул рукой и подошел к телефону, чтобы обзвонить всех участников завтрашнего совещания.
Анне пришла на совещание пораньше, чтоб успеть рассказать Реммельгасу про гибель Кирр, но Реммельгас опоздал и они успели обменяться лишь торопливым рукопожатием.
Собрались все местные партийцы. Питкасте, вопреки своему обыкновению, был тих и как будто озабочен. Он сел у печки и, уткнув локти в колени, подпер голову руками. Одним из последних вошел Осмус, а следом за ним, скрываясь за его могучей спиной, семенил тщедушный Вийльбаум. Возле стола стоял свободный стул, и Осмус опустился на него.
Рястас, пошептавшись о чем-то с Койтъярвом, поднялся.
— Все приглашенные в сборе, — начал он. — Докладов мы тут делать не будем, собрались мы не за этим, а затем, чтобы обменяться мыслями, посоветоваться и, насколько возможно, разобраться в деле. Поэтому я скажу лишь несколько слов.
Рястас кратко подытожил обвинения, предъявленные Реммельгасу и вызвавшие множество всяких толков.
— Поскольку речь идет о члене партии, мы сочли нужным созвать всех местных партийцев и причастных к делу лиц, чтобы откровенно, с глазу на глаз, высказать друг другу все, что мы знаем, все, что мы думаем.
Реммельгас украдкой скользнул взглядом по присутствующим. На всех лицах были написаны растерянность и смущение… Только Осмус выглядел спокойным и уверенным, хотя… не отражалось ли и в его глазах старательно скрываемое волнение?
Реммельгас не хотел приходить на совещание.
— Ни к чему оно, — сказал он Рястасу, — опять эти споры с Осмусом, эти орудийные залпы вперемежку с китайскими церемониями — только время потеряем. Ну, я выступлю, потом Нугисы, расскажем опять, как было дело с убийством лося, а Осмус по-прежнему будет усмехаться и недоверчиво покачивать головой… Хорошо еще, что сохранилось угрожающее письмо Тюура, теперь по крайней мере никто не поверит в покровительство врагу народа.
Реммельгас, улыбаясь, кивнул Анне. Какая она сегодня бледная, — видно, за отца тревожится. А Нугис еще более мрачен, чем обычно…
— Кто просит слова? — спросил наконец Рястас.
«Теперь наступит длинная пауза, все будут поглядывать друг на друга, а выступать первым никто не захочет», — подумал Реммельгас. И вдруг неожиданно для всех раздался уверенный голос:
— Я.
Поднялась Хельми Киркма. Ее щеки горели, блокнот в руках дрожал от волнения.
— Рястас лишь мимоходом упомянул о лесосеках и об их расположении, как будто это наименее важно. Но надо начинать именно с них, тут, по-моему, корень всего остального, тут источник всех слухов, всей клеветы. Осмус обвиняет лесничего Реммельгаса в том, что тот срывает работу лесопункта, что тот сознательно мешает ему…
— Я только сказал, — Осмус высоко поднял палец, — что лесничий Реммельгас исходит лишь из личных интересов, из интересов своего лесничества.
— Осмус тычет пальцем в Реммельгаса: тот якобы работает лишь в личных интересах. Пришло время высказать всю правду, понравится она или нет, и поэтому я так поспешно попросила слова. Не дела Реммельгаса, а обвинения Осмуса преследуют корыстную цель. Хоть сама я и работник лесопункта, но не могу не сказать, что прав товарищ Реммельгас, а не Осмус. Осмус хозяйничает плохо, он неправильно использует лес, он гонится только за почестями да за славой.
— Неслыханно! Что это за тон? Я протестую! — От негодования Осмус даже вскочил. — Это умышленная ложь, это чистая клевета…
— Это не клевета, а правда. Вы, товарищ Осмус, знаете это сами лучше всех. Вы думаете только об одном: как бы и в нынешнем году выжать свои сто тридцать процентов. Сто — для вас катастрофа: чтоб не потерять тридцать процентов, вы готовы утопить человека, думающего о будущем наших лесов!
Киркма кончила.
Осмус, стукнув по столу, крикнул:
— Я прошу слова!.. Прошу слова!..
Хельми слушали, затаив дыхание. Питкасте весь подался вперед и прямо глотал каждое ее слово. Нугис перестал теребить усы, а его дочь невольно прошептала:
— Замечательно!
Рястас кивнул Осмусу.
— Прошу!
— Начну с выступления товарища Киркмы… Мне просто не хватает слов! Я в самом деле не ожидал… Ведь я же принимал ее на работу… И сегодня… мне наносят такой удар в спину!
— Честная и откровенная критика это не удар в спину, — сказал резким тоном Койтъярв.
— Извините, я слегка разволновался… Я только хотел обратить внимание на то, что ведь это я ее выдвинул. Да-да, конечно, это сейчас не важно… — Осмус собирался с мыслями. «Ну и бой-баба, выбила из колеи такого старого льва, такого краснобая, как Осмус! Надо переменить тон». И Осмус заговорил мягко, негромко, со смущенной улыбкой.
— Меня упрекают в том, что я не принял выделенного Реммельгасом массива возле Люмату. Это так. Но разве у меня не было для этого оснований? Ведь я лишь встал на защиту лесопункта, на защиту его доброго имени, имея в виду реальные возможности. Это было некоторое время назад, а теперь многое изменилось, теперь начали работать экскаваторы и настал срок заново пересмотреть проблему, взглянуть на дело под новым углом зрения. Разве я с этим спорю? А тут вдруг мастер моего лесопункта припутывает к размещению лесосек убийство лося и, более того, припутывает ко всему махинации каких-то темных личностей вроде Тюура, будто эти махинации имеют что-то общее с моими возражениями. Ну, что мне после этого остается? Ничего иного, как посмеяться над человеческой глупостью. По мне, так пускай в Сурру перебьют хоть всех лосей, да и всех косуль в придачу…
Анне вцепилась в жилистую руку отца, но было уже поздно: Михкель поднялся. Не такой плотный, как Осмус, он все же оказался гораздо выше его.
— Ах, пускай перебьют?! — загремел он. — Сказал бы уж лучше прямо, что сам же и убиваешь зверей в Сурру.
Все онемели. Люди не понимали причин этой внезапной вспышки. Умолк и Осмус. Он понял, куда метит старик, очень хорошо понял. Этого следовало ожидать, хотя Нугисы могли и не выступить на совещании. Фактов-то у них никаких не было — одни предположения. Осмус задумался. Некстати этот старик вылез. А впрочем, выступление Хельми Киркмы было куда похлеще. Главное — не теряться, и вот Осмус улыбнулся, развел руками и сказал, как бы оправдывая старика:
— Нугис в состоянии аффекта… Я вполне понимаю его чувства… Не всем присутствующим, может быть, известно, что вчера погибла его выдра, которую он так любил.
Питкасте вздрогнул.
— Кирр? — воскликнул Реммельгас.
— Не погибла, а вы ее застрелили! — сказал Нугис, махнув на Осмуса рукой.
— Я вижу, что многие поражены, — поспешил объяснить Осмус. — Еще бы! Товарищ Нугис говорил так драматически, если так можно выразиться, — это впечатляет. Но история очень проста, и я могу изложить ее в нескольких словах. Вчера, возвращаясь с узкоколейки, я проходил неподалеку от Нугисовой сторожки. Там я оказался свидетелем грустного события: какой-то бессердечный браконьер застрелил прирученную выдру Нугисов — Кирр. Я видел, какой это был удар для лесника, поэтому мне понятно и его сегодняшнее волнение. Я готов простить необоснованные, грубые слова, которые были сказаны по моему адресу.
— Не надо мне вашего прощения, — снова загремел Нугис. — Я не откажусь ни от одного слова, а повторяю еще раз и готов повторить сколько угодно раз: вы убили Кирр.
— Я ведь объяснил вчера, как все это произошло в действительности…
— Не верю ни одному слову. Если вы такая невинная овечка, зачем тогда было предлагать мне пятьсот рублей?
Оба глядели друг другу в лицо, оба говорили быстро, почти не ожидая, когда другой кончит. Осмус опять обратился к присутствующим.
— Я снова вынужден сказать в объяснение несколько слов… Нугис был так потрясен смертью Кирр, что угрожал мне оружием. Поскольку он… почти обезумел, мне надо было как-то утихомирить его… любым способом… и тогда я предложил возмещение. А пока Нугис изливал на меня свой гнев, настоящий браконьер беспрепятственно удрал.
Анне вскочила со стула и подошла к отцу. Она едва доставала ему до плеча. Осмус, встретив ее взгляд, прочел в нем такое презрение, что отвел глаза в сторону.
— Вы лжете, — произнесла Анне очень чистым и звонким голосом, — когда говорите, что не вы убили Кирр. Более того, я уверена, я поняла это еще вчера, что именно вы убили лося, очень ловко взвалив потом вину на лесничего и моего отца…
Осмус обратился к Рястасу и Койтъярву:
— Видно, тут просто сговорились оклеветать меня… Я не могу сказать слова, меня все время перебивают..
— Но появились новые данные, которые требуют разъяснения, — ответил Рястас.
— Мне кажется, что в порядке дня стоял вопрос о Реммельгасе, а не обо мне…
— По-видимому, одно тесно связано с другим, — возразил Рястас. На всяком другом собрании он признал бы правоту Осмуса: отступление от принятой повестки — вещь нетерпимая. Но сегодня происходит лишь совещание, так зачем же обрывать Нугисов? Им, как видно, есть о чем рассказать.
— Ладно, — Осмус устало вздохнул. — Дочь лесника бросила мне новое обвинение. Но я ни на кого ничего не взваливал. Господи, какое ребячество! Только женская голова могла до этого додуматься…
— Оставьте женщин в покое, — вставил Койтъярв.
— Извините… Но выступление Анне Нугис просто глупое и не выдерживает никакой критики. Ведь всем известно, как было дело. Я с объездчиком Питкасте спокойно шел по дороге и вдруг увидел, как вы волочите на опушку лося… Я бы не стал поднимать шум, а промолчал бы, хоть мне, советскому гражданину, и нелегко скрывать такие вещи, но вот товарищ Вийльбаум счел своим долгом сообщить властям…
Вийльбаум выскочил из-за спины Осмуса, и, словно хорек, вертя по сторонам головой, протянул пискливо:
— Разве я был в силах молчать после того, как услыхал о тяжком злодеянии, совершенном в наших лесах?
Тамм громко расхохотался, не смогли удержаться от улыбки и остальные. Осмус заметил, что выступление Вийльбаума производит неблагоприятное впечатление, и толкнул его локтем, после чего техник снова скрылся за спиной своего начальника.
— Что ж, товарищи, я вижу, что личные симпатии тут ставятся выше истины. — И Осмус, разыгрывая смущение, стыдливо опустил взгляд. — Я никогда не сую носа в чужие интимные отношения, но когда на меня так бесстыдно набрасываются, мне не остается выбора. Ни для кого, я думаю, не секрет, что нападавшие на меня сегодня так рьяно и на первый взгляд так принципиально товарищи женщины… не смогли остаться, так сказать, равнодушными к Реммельгасу, как к мужчине… к его выдающимся качествам…
— Замолчите! — Реммельгас стукнул кулаком по столу.
— Товарищ Осмус, я призываю вас к порядку! — воскликнул Рястас.
— Теперь вы призываете меня к порядку, — развел руками Осмус, — а когда на меня нападали по низменным личным мотивам, тогда вы молчали. А молчание — знак одобрения. Таково-то ваше беспристрастие как секретаря парторганизации? Куда делась ваша бдительность, товарищ Рястас, если вы на столь уважаемом, на партийном собрании, позволяете оговаривать честного беспартийного большевика?
Поднялась буря криков, трудно было понять, кто и что кричал. Никто не слышал, как председатель стучал по столу, чтобы призвать присутствующих к порядку. Рястаса даже в жар бросило: здесь и без того было душно, а тут еще такие речи.
Питкасте со своего места у печки крикнул: «Прошу слова!» — но и это потонуло в общем гуле. Тогда он пробрался к столу и заявил о своем желании громче. Под глазами у Питкасте набухли темные мешки, хотя он уже несколько недель ни капли не брал в рот, и взгляд был какой-то лихорадочный. Сапоги его, всегда щеголевато начищенные, сегодня не блестели и были забрызганы грязью.
— Подождите, пока я не кончу, товарищ Питкасте, — резким тоном заявил Осмус. — А до тех пор тщательно обдумайте…
Питкасте покачал своей круглой головой. Весь он казался очень изменившимся. Шея стала еще более длинной и тонкой, на лице появились морщины, которых раньше не было или которых не замечали, — словом, объездчик выглядел сегодня гораздо старше, чем обычно.
Большой кадык Питкасте дрогнул.
— Кто убил выдру, я не знаю. Но лося убил Рудольф Осмус!
— Ты с ума сошел!
Этот крик сорвался с побелевших губ Осмуса.
— Не сошел, но, может, еще сойду… Мысли так и кружат… И стыдно. Голова трещит день и ночь… Но пока я еще в здравом рассудке. Я видел, как Осмус выстрелил в лося. Лесник Тюур тоже видел, тот самый Тюур, которого Осмус рекомендовал в лесники. Ему нужен был в Кулли свой человек, чтоб всегда можно было охотиться. Я не стрелял, я никогда не увлекался этим делом… Но виноват я больше всех. Ведь это я сказал Осмусу, что в Сурру появился лось. Я ведь при Осмусе вроде щенка был… Угостит водкой — и я на задних лапках хожу… Накажите меня по заслугам… Сделайте со мной что хотите, но так жить я больше не могу.
Питкасте заплакал. Он не рыдал, не всхлипывал, а просто из глаз его бежали слезы. Они скатывались по щекам к носу, потом к подбородку, а он, видно, и не замечал этого.
— Гражданин Осмус, не достаточно ли этого свидетельства? — спросил Рястас после короткой паузы.
Осмус стоял, опустив голову. Один миг, другой. Так как никто ничего не произнес, он поднял голову и, упрямо сдвинув брови, сказал:
— Ладно, признаю: я был при том, как Тюур убил лося. Не отрицаю своего соучастия. Что делать — придется уплатить положенные по закону десять тысяч рублей штрафа… А теперь можно идти?
— Нет! — Койтъярв, который до этого сидел, откинувшись назад и ни во что не вмешиваясь, поднялся. — Может быть, раньше вы ответите на некоторые вопросы. Например — кем вы были раньше, до советской власти?
— Вас интересует анкета? Здесь мне скрывать нечего: я был браковщиком и был скупщиком, всегда и всюду работал на других, гнул спину на хозяев.
— Только ли? Может, вы были одновременно и дельцом? Что-то покупали для хозяев, а что-то — тайком от них — и для себя самого? Словом, шныряли среди акул и ждали часа, чтобы схватить куш пожирнее и самому стать акулой?
На лице Осмуса появились красные пятна.
— Это… это не соответствует истине…
— Очень даже соответствует. Но это сейчас не самое главное. Гораздо существенней то, что вы слишком просто представляете себе суть дела и воображаете, будто все можно возместить деньгами. Ваша деятельность оставила в Туликсааре слишком глубокие следы, чтоб о ней так легко забыли.
На лице Осмуса появилась заносчивая улыбка.
— Мелодрама тут ни к чему, мы не дети. Вы опять о размещении лесосек?
— Нет, о них говорилось уже достаточно. Теперь поговорим о вашем сообщнике Тюуре.
Осмус вздрогнул и пригнулся, словно зверь, готовящийся к прыжку.
Койтъярв продолжал:
— Тюур был вашим главным козырем в борьбе с Реммельгасом. Директору лесхоза вы заявили, будто лесничий укрывает врага народа, а Тюуру посоветовали бежать, потому что лесничий якобы его выследил. Вы сразу выстрелили из двух стволов: опорочили в глазах начальства Реммельгаса и завели в лесу хищника, готового для вас на все. Завели так, на всякий случай. Этот поступок окончательно определил ваш путь. Вы не всегда были активным вредителем, в вас было заложено не только плохое, но и хорошее. Но эгоизм, честолюбие, стремление во что бы то ни стало сделать карьеру — все эти чувства непомерно разрослись в вашей душе, и вы это чувствовали, но старались не замечать. Вас предостерегали, это делал, между прочим, и Реммельгас, но вы уже вкусили у себя в Куллиару сладость единовластия и оно ударило вам в голову. Узкому эгоизму, индивидуализму нет места в советском обществе. Многие избавляются от этой болезни, но, к сожалению, вы не из их числа. Вы пошли другой дорогой, вы сочли себя обиженным, ваше себялюбие заглушило все остальные чувства, и в конце концов вы перестали разбираться в средствах для достижения своих целей. Вы начали с мелкого обмана, а потом перешли к более хитроумным и более обдуманным приемам — вспомним хотя бы инсценировку с убийством лося, — пока наконец в отчаянии, не сумев вовремя сойти с порочного пути, не сумев признать своих ошибок, считая в слепой злобе причиной всех своих неудач лесничего Реммельгаса, вы не натравили против него Тюура.
— Я категорически протестую против этой низкой клеветы! — сказал Осмус, но голос его уже прозвучал глухо.
— После очной ставки с Тюуром у вас пропадет охота протестовать.
По комнате пронесся гул удивления. Койтъярв отвернулся от словно пришибленного Осмуса и обвел взглядом присутствующих.
— Извините меня, что я не поделился с вами одной новостью. Вчера ночью неподалеку от Туликсааре поймали Тюура… Нет-нет, Осмус, останьтесь еще на несколько минут… Этим мы обязаны сообщению Анне Нугис. Тюуру показали заявление Осмуса насчет него, поданное на имя директора лесхоза, и тогда он признался, что Осмус подговорил его убить лесничего.
Тамм вскочил, с грохотом опрокинув стул, и, если бы Реммельгас не схватил его за руку, Осмусу пришлось бы плохо.
— И ты еще защищаешь такого!.. — сказал он, задыхаясь от ярости.
Осмус, втянув голову в плечи, боязливо озирался по сторонам, словно опасаясь, что отовсюду могут посыпаться удары. Не сопротивляясь, он дал себя вывести.
— До чего может дойти человек! — сказала Хельми Киркма, и плечи ее дрогнули.
На миг в помещении стало так тихо, что было слышно, как дышат люди и как где-то недалеко отбивают косу. Тут Рястас вспомнил о своих председательских обязанностях и растерялся… Он не знал, что ему делать дальше и вопросительно посмотрел на Койтъярва.
— А теперь что? Все вроде выяснилось…
— Все?
— Я думаю, что да… Или у кого-нибудь есть вопросы?
— У меня есть, — сказал Койтъярв. — Как будет с лесосеками Куллиаруского лесопункта? Куда в нынешнем году переместится главный район заготовок, — опять к самым дорогам или в дальние уголки Сурру?
Реммельгас сразу вскочил, но Койтъярв улыбнулся и поднял руку, предлагая ему снова сесть.
— С позицией товарища Реммельгаса мы все знакомы очень хорошо — он хоть до Центрального Комитета дойдет. А что об этом думает мастер Киркма?
Хельми еще находилась под впечатлением всего того, что произошло с Осмусом, и не сразу поняла, о чем ее спрашивают.
— Ах, о лесосеках?.. Я убеждена в том, что прежняя практика Куллиару была порочной и ложной. В будущем центр тяжести работ следует перенести в район Кяанис-озера и Каарнамяэ…
Койтъярв поднял брови и с лукавым видом произнес:
— Осталась бы мастер Киркма при своем мнении, если бы она оказалась заведующей Куллиаруским лесопунктом?
Реммельгас раньше всех понял, что означают слова Койтъярва. Так как он сидел рядом с Хельми, то схватил и крепко потряс ей руку.
— Поздравляю, от души поздравляю!
Койтъярв предупреждающе поднял руку.
— Прошу понять меня правильно, это пока лишь предложение. Все будет зависеть от того, поддержит ли партия кандидатуру товарища Киркмы или нет.
Один Тамм остался сердитым, даже мрачным. Он крикнул громче всех:
— Я против!
Все в недоумении умолкли.
— От имени колхоза «Будущее» я заявляю, что мы поддержим кандидатуру Киркмы лишь при одном условии: она должна, как заведующая лесопунктом, немедленно отдать приказ о сносе мельницы!
— Вы согласны? — спросил Койтъярв.
— Согласна! — откликнулась Хельми.
— Тогда колхоз «Будущее» единодушно поддерживает кандидатуру Хельми Киркмы на пост заведующей лесопунктом! — торжественно заявил Тамм и, обхватив Хельми, поднял ее так высоко, что головой она чуть не коснулась потолка.
— Вот мы и пришли к единодушному решению, — одобрительно сказал Койтъярв. — Дни, проведенные мною в Туликсааре, оказались полезными как для вас, так и для меня. Я предлагаю товарищам Реммельгасу и Киркме подготовить к заседанию бюро укома партии доклад о правильном ведении лесного хозяйства, с тем, чтобы извлечь из уроков Туликсааре выводы и для других лесничеств как относительно ухода за лесом, так и относительно его использования. — Койтъярв сделал небольшую паузу и затем обратился к Рястасу: — Если б мы и вас попросили принять участие в этой работе, товарищ Рястас, то что бы вы ответили?
Рястас покраснел. Он сложил лежавшие на столе бумаги, затем поднял взгляд и, поглядев в глаза Койтъярву, ответил:
— Я сделал бы это с радостью… Это и мне бы принесло большую пользу…
Из кадровых рабочих лесопункта организовали бригады и снова началась прокладка узкоколейки от берега Кяанис-озера до Каарнамяэ. Шпалы тесали на месте, рельсы и прочий необходимый материал привозили на машинах в Мяннисалу, а оттуда доставляли его до Кяанис-озера на дровнях, потому что через многие топкие места у реки телеги не могли проехать. А кое-где не помогали и дровни. Там приходилось переносить материалы на спинах, а лошадей гнать в далекий объезд по более твердому грунту. Хельми Киркма трудилась тут изо дня в день наравне с лучшими, и кое-кто лишь потому мирился с тяжелой работой, что стыдно было отставать от женщины…
Мелиоративная станция прислала третьего водителя, и после этого песня экскаваторов стала круглосуточно звучать над Туликсааре: ее слышали засыпая, и она приветствовала людей поутру, вместе с кукованием кукушки. Ясным утром, когда вся местность блестела и сверкала, будто чисто вымытая, гудение экскаваторов слышалось далеко-далеко, разносилось над лесом и рекой, долетало до самой станции.
Оно проникло в воскресенье и в здание сельсовета, где проводилось собрание парторганизации. Гул то нарастал, то затихал, но ни на миг не прекращался. Когда Рястас захотел закрыть окно, Тамм остановил его:
— Пускай!.. Этот концерт нам не помешает.
На собрании Хельми Киркму приняли в члены партии. После нее из коридора вызвали высокого, сутулого человека. Он был в новом темном костюме, волосы его были расчесаны на пробор, под подбородком красовался галстук… Человек кашлянул и обвел всех вопросительным взглядом. Рястас шелестел бумагами, Тамм уставился в открытое окно, а Киркма еще не оправилась от волнения и ничего вокруг себя не видела. Лишь Реммельгас одобрительно улыбнулся вошедшему…
«Что же это никто ничего не скажет? Или ждут, чтобы я заговорил? Но с чего начать? Пожалуй со своего имени и фамилии — так, вроде, положено», — подумал он и потому сказал:
— Меня зовут Михкель Нугис, служу лесником в Сурру… Прошу принять меня в партию…
«Глупо начал, ведь я им не чужой», — пришло вдруг ему в голову, и он прикусил ус. Старик ожидал, что все рассмеются, но люди оставались серьезными. Реммельгас одобрительно кивнул. Рястас нашел в папке то, что искал, и поднялся.
— В туликсаарескую первичную организацию ВКП(б) поступило следующее заявление: «Я прожил больше шестидесяти лет, видел за это время не одно правительство, не один государственный строй. Но только советская власть проявила заботу о народе, о самых простых людях вроде меня. Много за короткое время сделано хорошего в нашей стране, много сделано и в Туликсааре. И все это под руководством Коммунистической партии. Я прочел устав партии внимательно и скажу, что в нем все очень правильно написано, и готов в своей жизни всегда и во всем ему следовать. Если товарищи найдут, что я подходящий человек, то прошу принять меня в кандидаты Коммунистической партии». Подпись: «Михкель Нугис». Рекомендуют: начальник Туликсаареского лесничества Аугуст Реммельгас, председатель колхоза «Будущее» Ханс Тамм и председатель Туликсаареского сельсовета Карл Рястас…
На следующее утро — Нугис переночевал у лесничего — Михкель попытался припомнить, как все это происходило. Анне все приставала к нему, хотела, чтоб он рассказал обо всем, обо всем, до самой малой малости, но это было не так-то просто. О чем тут рассказывать. Ну, изложил свою биографию — долго ли ее было излагать, — а потом задавали вопросы.
— Какие? — не отставала Анне.
— Не упомнил как следует. Спрашивали о работе, о том, как в оккупации жили, и еще об этом ельнике, который мы посадили в день Победы. А потом проголосовали, и Рястас объявил, что я принят, и все пожали мне руку, и, так как никто больше не обращал на меня внимания, я и пошел к двери, да тут вдруг Рястас меня окликнул: «Куда ты, лесник?» — «Да пойду себе», — говорю. «Нет, ты садись». Ну, делать было нечего, сел и я, как все другие.
— А дальше?
— Дальше?.. Ну, дальше серьезный разговор у нас был о разных делах.
Анне расхохоталась.
— Как важно ты это говоришь!..
Мысли Нугиса были заняты уже другим. Он натянул на ноги свои болотные сапоги, в которых обычно бродил по лесу.
— Ты помнишь сосняк в семьдесят пятом квартале?.. — спросил он вдруг.
— Коцечно, — недоумевающе ответила Анне и вопросительно уставилась на отца. — К чему ты это об нем?
— Хорошие там сосны — в самый раз для электрических столбов.
— На что тебе столбы?..
— Мне-то они ни к чему, а вот туликсаарцам очень нужны.
— Так в Туликсааре нет электричества.
— Пока нет, но будет. Ах, да! Ты ведь и не знаешь, что мы решили на собрании. Ну, прежде всего отчитались насчет осушительных работ, а потом Рястас и говорит: «Расскажите нам, товарищ Реммельгас, как обстоят дела с электрификацией Туликсаареского сельсовета, какие у нас на это дело виды».
— Линия высокого напряжения далеко.
— Далеко, это верно, но столбов у нас хватит, а трансформатор мы получим — Реммельгас уже разведал об этом в городе. Еще в нынешнем году проведем свет в колхоз, в школу, во все дома. Мало этого — все наши машины будут работать на электричестве: будем током и лес пилить, и молотить, и воду откачивать, и щепу драть…
Он снял с вешалки форменную фуражку и надел ее на голову.
— Куда ты?
— На семьдесят пятую… Лесничий тоже туда придет. Интересно, сколько в том сосняке столбов наберется. Таких прямых стволов во всем Туликсааре не найти, да и возить оттуда не очень далеко.
— Погоди, я с тобой.
И Анне побежала в комнату переодеться. Нугис опустился на скамью у окна, погладил гладкую голову гончей, сунувшей морду к нему на колени, и добродушно проворчал:
— Нужно же мне было говорить, что лесничий придет…
Был погожий летний день. Почти созревшая для жатвы рожь уже слегка пожелтела. Под застрехой пищали птенцы ласточки, высовывая из гнезда алчно раскрытые клювы. Деревья в лесу бросали на землю длинные тени, а на открытых полянах еще дрожал от тепла воздух. На солнечных косогорах алела земляника, и Нугис крикнул ребятишкам, которые собирали ягоды на двухлетней вырубке:
— Только осторожней у меня! Хоть один саженец затопчете, так задам я вам по первое число — навек запомните!
Но ребята видели, что дед на самом деле не сердится, что глаза у него веселые. И у него действительно было легко на душе. Он поймал и посадил на дерево тетеревенка, чья мать, чтоб отвлечь внимание от сына, бросилась, растопырив крылья, прямо к его ногам. Он, кажется, готов был влезть на ветвистую сосну, чтобы сбить наземь гнездо разбойницы-сойки, но, заметив, что дочь следит за ним, с улыбкой оставил эту затею.
— Тебя не узнать, — сказала Анне. — Сам идешь выбирать, какие деревья валить, да еще торопишься, будто тебе одному за всем следить и за все отвечать.
Они дошли до длинной и прямой просеки, по обеим сторонам которой, словно недвижный строй почетного караула, высились ели, березы, осины и сосны. В плохие времена, когда лесники были предоставлены самим себе, Нугис один обкашивал такие просеки тяжелой кустарниковой косой. Но теперь было кому следить за ними, и они выглядели, словно широкие большаки. Над ними почти смыкался свод могучих ветвей, и тут было прохладно и уютно. Нугис остановился на просеке, достал свою потрепанную записную книжку, полистал ее, нашел нужную страницу и лишь после этого сказал:
— А кому же еще и отвечать, как не мне да председателю колхоза? Нам было велено на собрании разобраться, как оно с этим обстоит, с электрификацией… Разобраться и потом уж доложить всему Туликсаарескому сельсовету…
— Ах, вот что! — сказала Анне и почтительно умолкла.
Реммельгас уже ожидал их в семьдесят пятом квартале.
Это было одно из немногих здесь песчаных мест, находившееся на самой границе Сурру. Когда Анне случалось заготовлять на зиму бруснику, то ей удавалось набрать вдоволь ягод лишь в одном квартале, а именно — в семьдесят пятом. Тут стоял когда-то дивный бор, сосны в нем были одна к одной — рослые, прямые, почти до самого верху без единого сучка. Но еще задолго до сорокового года, в тяжелое кризисное время, бор этот был принесен в жертву на алтарь английского фунта. От него, благодаря странной случайности, уцелели только сосны, росшие на холме, посередине квартала. Они гордо высились над мелкой порослью вокруг, над куллиарускими кустарниками, над смешанным лесом позади себя. Ветер ежегодно валил часть деревьев, но тем стройнее становились уцелевшие. «Из этих сосен хоть скрипки делай, — любил говаривать прежде Нугис, — у них в каждом волоконце музыка дождя да ветра». Но сегодня он сказал Реммельгасу:
— Лучших столбов нигде не найдешь: высокие, крепкие, прямые.
— Да, для линии высокого напряжения не каждое дерево годится. — И лесничий смерил взглядом качавшиеся на ветру сосны. Не было смысла беречь их, — с каждым годом роща становилась все реже от бурь, которые уничтожали прекрасную деловую древесину. — Что ж, начнем?
Они пересчитали годные для столбов сосны. Взгляд лесничего время от времени пытливо останавливался на Нугисе — не удручен ли тот. Но в конце концов Реммельгас успокоился: старик действовал уверенно и спокойно, делая зарубки на самых стройных и высоких деревьях. Когда они кончили, Нугис предложил вернуться домой через Мяннисалу, и ни Реммельгас, ни Анне не поняли, зачем ему понадобилось в этот жаркий день давать такой крюк.
Впрочем, оба они ничего не имели против прогулки, даже наоборот. Анне последние недели провела в городе, у обоих накопилось столько новостей, что в первый момент они не знали, с чего начать. Важней всего было то, что Анне сдала вступительные экзамены в техникум, для чего ей пришлось порядочно позаниматься, чтобы освежить в памяти забытое.
Облака сегодня были светлыми и пушистыми, они весело и стремительно плыли по светло-синему небу. Лесная зелень уже не была такой свежей, как весной, — деревья давно отцвели, и на их ветвях прятались под листьями ягоды. А на прогалинках переливалась всеми оттенками сочная лесная трава, ожидавшая стрекочущей косилки.
Нугис шагал впереди. За травянистой лужайкой дорога пошла вверх, и вскоре они оказались на всем им хорошо знакомой поляне: тут нынешней весной был открыт сезон лесопосадочных работ, в одно из майских воскресений сюда сошлись толпы молодых и старых людей.
— Я потом и не заходил сюда… — буркнул Нугис, как бы извиняясь.
Все трое склонились над посадками. И здесь, и там, всюду-всюду вылезали из земли молодые побеги, — их маковки еще были запачканы землей. Из-за дождливого лета пышно разрослась трава, Нугис выдергивал ее пучками и оттуда, и отсюда, озабоченно покачивая головой.
— Надо прополоть, не то трава здесь все заглушит..
Потом он выпрямился и, прикрыв рукой глаза, посмотрел вдаль на темнеющие полосы посадок, и его длинные усы приподнялись от улыбки. Молодые посмотрели на него со стороны и тоже улыбнулись — лишь очень бесчувственный человек смог бы остаться равнодушным, глядя, как весело улыбается старый сурруский лесник.
Над поляной пронесся порыв ветра. Взволновав высокую полевицу и чуть пригнув молодые побеги, он пробежал дальше к синевшему впереди лесу. В стороне Туликсааре гудели экскаваторы, а тут, вдалеке от них, казалось, будто машины поют песню, будто песню эту подхватывают птицы и бескрайний лес, гудящий немолчно и мирно…