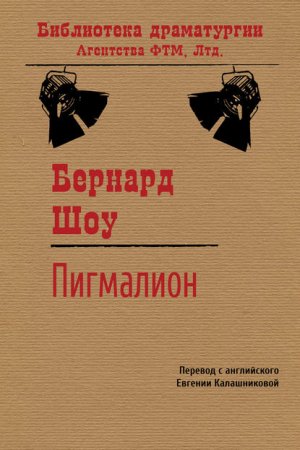
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как мы увидим дальше, «Пигмалион» нуждается не в предисловии, а в продолжении, которым я и снабдил пьесу в должном месте.
Англичане не уважают родной язык и упорно не желают учить детей говорить на нем. Написание слов у них столь чудовищно, что человеку не научиться самому произносить их. Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения у другого англичанина. Немецкий и испанский языки вполне доступны иностранцам, но английский недоступен даже англичанам. Энергичный энтузиаст-фонетист – вот кто требуется сейчас Англии в качестве реформатора, потому-то я и сделал такового главным действующим лицом моей ныне столь популярной пьесы. Герои такого толка, тщетно вопиющие в пустыне, уже случались в последнее время. Когда к концу 1870-х годов я заинтересовался этой темой, прославленный Александр Мелвил Бел, изобретатель Наглядной Речи, уже давно эмигрировал в Канаду, где сын его изобрел телефон. Но Александр Дж. Элис еще оставался лондонским патриархом, его величественную голову прикрывала неизменная бархатная шапочка, за что он изысканно извинялся перед аудиторией. Он и Тито Пальярдини, еще один ветеран-фонетист, принадлежали к тем людям, к которым невозможно испытывать неприязнь. Генри Суит, тогда еще молодой человек, отнюдь не отличался присущей им мягкостью и к обыкновенным смертным он относился примерно так же снисходительно, как Ибсен или Сэмюэл Батлер[1]. Его талант фонетиста (а на мой взгляд, он лучше их всех знал свое дело) дал бы ему право на высокое официальное признание и, вероятно, возможность популяризировать любимую науку, если бы не его сатанинское презрение к академическим должностным лицам и вообще ко всем тем, кто греческий ставил выше фонетики. В те дни, когда в Южном Кенсингтоне возник Имперский институт и Джозеф Чемберлен расширял пределы империи, я подбил как-то раз одного издателя ежемесячного журнала заказать Суиту статью о значении его науки для Британской империи. Присланная им статья не содержала ничего, кроме издевательских нападок на профессора языка и литературы, чью должность, по мнению Суита, имел право занимать исключительно специалист по фонетике. Статью печатать было невозможно по причине ее пасквильного характера, и ее пришлось вернуть автору, а мне пришлось отказаться от мечты вытащить ее автора на сцену. Когда много лет спустя я встретил его после долгого перерыва, я, к удивлению моему, увидел, что он ухитрился из молодого человека вполне сносной наружности превратить себя (по чистому пренебрежению) в воплощенное отрицание Оксфорда и всех его традиций. Суита, очевидно, назло ему, втиснули в должность преподавателя фонетики. Будущее фонетики, возможно, и принадлежит его ученикам – все они молились на него, – но самого учителя ничто не могло примирить с университетом, за который, пользуясь святым правом, он тем не менее цеплялся, как самый типичный оксфордец. Смею предположить, что его записки, если он таковые после себя оставил, содержат кое-какие сатиры, которые можно будет опубликовать без особых разрушительных последствий лет этак через пятьдесят. Он, как мне кажется, вовсе не был недоброжелательным, скорее, я бы сказал, наоборот, но просто он не выносил дураков.
Те, кто его знал, угадают у меня в III акте намек на изобретенную им систему стенографии, с помощью которой он писал открытки и которую можно изучить по руководству ценой в четыре шиллинга шесть пенсов, выпущенному Кларендон Пресс. Именно такие открытки, о которых упоминает миссис Хигинс, я и получал от Суита. Расшифровав звук, который кокни передал бы как «зерр», а француз как «се», я затем писал Суиту, требуя с некоторой запальчивостью разъяснить, что именно, черт его подери, он хотел сказать. С безграничным презрением к моей тупости Суит отвечал, что он не только хотел, но и сказал слово «результат» и что ни в одном из существующих на земле языков нет другого слова, содержащего этот звук и имеющего смысл в данном контексте. Думать, что менее квалифицированным смертным требуются более подробные разъяснения – это уже было свыше суитовского терпения. Задуман его Универсальный алфавит был для того, чтобы безупречно изображать любой звук в языке, как гласный, так и согласный, держа при этом руку под любым наиболее удобным углом и делая самые легкие и беглые движения, какие нужны для написания не только «м» и «н», но также «у», «л», «п» и «к». Однако неудачная идея использовать этот оригинальный и вполне удобочитаемый алфавит еще и как стенографию превратила его в суитовских руках в самую неразборчивую из криптограмм. Первоначальной задачей Суита было снабдить исчерпывающим, аккуратным, удобочитаемым шрифтом наш благородный, но плохо экипированный язык. Но Суита увело в сторону презрение к популярной Питменовской системе стенографии[2], которую он окрестил ямографией. Торжество Питмена было торжеством умелой организации дела: еженедельная газета убеждала вас изучать систему Питмена; вам предоставлялись дешевые пособия и сборники упражнений и расшифровки стенограмм речей, а также школы, где опытные педагоги натаскивали вас до необходимого уровня. Суит же не умел подобным образом организовать спрос на себя. Его скорее можно уподобить сивилле, разорвавшей листы со своим пророчеством оттого, что ее никто не желал слушать. Учебник за четыре шиллинга шесть пенсов, собственноручно им написанный и залитографированный, никогда не имел пошлой рекламы. Быть может, однажды его и подхватит какой-нибудь синдикат и навяжет обществу, как «Таймс» навязал читателям Британскую Энциклопедию, но до тех пор, пока этого не произошло, его системе, безусловно, не одержать верха над Питменовской. За свою жизнь я купил три экземпляра Суита. Через издательство мне известно, что учебник его продолжает упорно вести здоровое затворническое существование. Я овладевал системой Суита дважды, в разные периоды своей жизни, и, однако, эти вот строки записаны по системе Питмена. Причина в том, что моя секретарша не умеет стенографировать по Суиту, так как волею обстоятельств обучалась по школе Питмена. Вот Суит и нападал в своих речах на Питмена так же тщетно, как Терсит на Аяка, и хотя язвительные нападки, может статься, и облегчали его душу, но повальной моды на Универсальный алфавит не обеспечили.
Пигмалион-Хигинс не есть портрет Суита, вся история с Элизой Дулитл для Суита была бы невозможна. Но, как вы увидите, в Хигинсе присутствуют черты Суита. Обладай тот телосложением и темпераментом Хигинса, он сумел бы поджечь Темзу. Будучи же самим собой, Суит как профессионал произвел на Европу такое впечатление, что сравнительная безвестность и непризнание Оксфордом суитовских заслуг до сих пор остаются загадкой для иностранных специалистов в этой области. Я не виню Оксфорд, так как считаю, что Оксфорд вправе требовать от своих питомцев хотя бы толики светской вежливости (видит Бог, ничего непомерного нет в этом требовании!). Хотя я хорошо понимаю, как трудно человеку талантливому, чью науку недооценивают, поддерживать безоблачно дружелюбные отношения с теми, кто ее недооценивает и отводит лучшие места менее важным дисциплинам (которые преподают без оригинальности и подчас не имея должных способностей), все же, коль скоро ты изливаешь презрение и ярость, вряд ли следует ожидать, что тебя будут осыпать почестями.
О последующих поколениях фонетистов я знаю мало. Среди них высится поэт-лауреат, которому, возможно, Хигинс обязан своим увлечением Мильтоном, но и тут я опять-таки отрицаю всякое портретное сходство. Если моя пьеса доведет до сознания общества, что есть на свете такой народ фонетисты и что они принадлежат в современной Англии к самым нужным людям, то она сделала свое дело.
Хочу похвастаться: «Пигмалион» пользуется большим успехом во всей Европе и Северной Америке и даже у себя на родине. Пьеса столь интенсивно и нарочито дидактична, и тема ее слывет столь сухой, это я с наслаждением сую ее в нос умникам, которые как попугаи твердят, что искусство ни в коем случае не должно быть дидактичным. Она льет воду на мою мельницу, подтверждая, что искусство иным и быть не должно.
И в заключение, чтобы подбодрить тех, кого акцент лишает возможности сделать служебную карьеру, добавлю, что перемена, которую произвел профессор Хигинс в цветочнице, не является чем-то несбыточным и необычным. В наш век дочь консьержа, которая играет королеву Испании в «Рюи Блазе» в Комеди Франсез, осуществляя свои честолюбивые мечты, – лишь одна из многих тысяч (женщин и мужчин), отбросивших родные диалекты, как сбрасывают старую кожу, и приобретших новый язык. Но совершать превращение надо по-научному, иначе последняя стадия обучения может оказаться безнадежнее первой: честный природный диалект трущоб вынести куда легче, чем попытку фонетически необученной личности подражать вульгарному жаргону членов гольф-клуба. А я с сожалением должен признать, что, невзирая на усилия нашей Королевской академии драматического искусства, на сцене нашей до сих пор слишком много поддельного английского, заимствованного именно из гольф-клубов, и слишком мало благородного английского языка Форбса Робертсона.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Ковент Гарден. 11:15 вечера. Лето. Проливной дождь. Со всех сторон отчаянные гудки автомобилей. Прохожие бегут к рынку и к церкви св. Павла, под портиком которой уже укрылось несколько человек. Среди них дама с дочерью, обе в вечерних туалетах. Все мрачно взирают на потоки дождя, и только один человек, стоящий спиной к остальным, по-видимому, целиком поглощен своей записной книжкой; он торопливо делает какие-то заметки.
Бьет четверть двенадцатого.
Дочь (стоит между двумя центральными Колоннами портика, ближе к левой). Я продрогла до костей. Куда пропал Фредди? Вот уже двадцать минут как он ушел.
Мать (справа от дочери). Положим, не двадцать. Но такси он бы все-таки мог уже найти.
Прохожий (справа от дамы). Раньше половины двенадцатого никакого такси он вам не достанет, мэм, и не надейтесь; сейчас все из театров разъезжаются.
Мать. Но нам очень нужно. Мы не можем стоять здесь до половины двенадцатого. Какое безобразие!
Прохожий. А я чем виноват?
Дочь. Будь у него голова на плечах, он давно бы нашел такси у театра.
Мать. Ну что ты хочешь от бедного мальчика?
Дочь. Все достают такси. А он почему не может?
Под потоками дождя со стороны Саутгемптон-стрит вылетает Фредди и становится между ними, закрывая зонтик, с которого стекает вода. Это молодой человек лет двадцати в вечернем костюме, брюки у него мокры по щиколотку.
Дочь. Ну, достал-таки?
Фредди. Нигде ни одного, ни за какие деньги.
Мать. Ах, Фредди, машину всегда можно достать. Ты просто плохо искал.
Дочь. Боже, как мне все надоело. Уж не прикажешь ли нам самим идти за такси?
Фредди. Я же вам говорю, все машины расхватали. Дождь начался внезапно, никто его не ожидал, и все кинулись искать такси. Я дошел до Черинг-кросс, потом повернул и добрался почти до самого Ледгет-серкус: нигде ни одной свободной машины.
Мать. А на Трафальгар-сквер?
Фредди. И на Трафальгар-сквер ни одной.
Дочь. А ты там был?
Фредди. Я был на Черинг-кросском вокзале. Ты, вероятно, ожидала, что я пробегусь до Хамерсмита?
Дочь. Никуда ты не ходил.
Мать. Ты в самом деле ужасно беспомощен, Фредди. Иди опять и, пока не найдешь такси, не возвращайся.
Фредди. Только зря вымокну до нитки.
Дочь. А мы? По-твоему, мы всю ночь будем стоять здесь на ветру, в одних платьях? Это свинство. Эгоист несчастный!
Фредди. Ну, ладно, ладно, иду.
Раскрывает зонтик и бросается в сторону Стрэнда, но по дороге сталкивается с уличной цветочницей, которая спешит укрыться от дождя, и выбивает у нее из рук корзину с цветами. Ослепительная вспышка молнии, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, служит фоном для этого происшествия.
Цветочница. Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь!
Фредди. Виноват… (Убегает.)
Цветочница (подбирая рассыпанные цветы и укладывая их в корзинку). А еще называется образованный! Все мои фиялочки копытами перемял.
Усаживается у подножия колонны справа от дамы и начинает приводить в порядок цветы. Привлекательной ее не назовешь. Лет ей восемнадцать-двадцать, не больше. На ней маленькая матросская шапочка из черной соломки, с многочисленными следами лондонской пыли и копоти, явно скучающая по щетке. Ее давно не мытые волосы приобрели какой-то неестественный мышиный цвет. Поношенное черное пальто, узкое в талии, едва доходит до колен. На ней коричневая юбка и грубый фартук. Башмаки тоже знавали лучшие дни. Нельзя сказать, что она не старается быть по-своему опрятной, но по сравнению с окружающими ее дамами выглядит настоящей грязнулей. Черты ее лица не хуже, чем у них, но кожа оставляет желать лучшего. К тому же девушка явно нуждается в услугах зубного врача.
Мать. Простите, откуда вы знаете, что моего сына зовут Фредди?
Цветочница. Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как положено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег не заплатить. Вот вы теперь и гоните монету!
Прошу извинения, но попытка воспроизвести ее отчаянный диалект без фонетической транскрипции неосуществима за пределами Лондона.
Дочь. Только этого еще не хватало!
Мать. Не вмешивайся, Клара. Есть у тебя мелочь?
Дочь. Шестипенсовик. Мельче нет.
Цветочница (с надеждой). Так я вам его разменяю, леди.
Мать (Кларе). Дай сюда. (Дочь неохотно подчиняется.) Так. (Цветочнице.) Вот вам за цветы, милая.
Цветочница. Премного благодарна…
Дочь. Пусть она даст сдачи. Такому букетику красная цена – пенни.
Мать. Помолчи, Клара. (Цветочнице.) Сдачу оставьте себе.
Цветочница. У… у… у… х, спасибо вам, леди.
Мать. А теперь скажите мне, откуда вам известно имя этого молодого человека?
Цветочница. Да я его и не знаю.
Мать. Но я слышала, как вы назвали его по имени. Не обманывайте меня.
Цветочница (возражая). А чего мне вас обманывать? Ну, Фредди, Чарли не все одно? Надо же из вежливости как-то назвать человека. (Усаживается возле своей корзины.)
Дочь. Зря только выбросили шесть пенсов. Право, мама, тут уж вы могли бы пощадить Фредди. (Брезгливо отступает за колонну.)
Пожилой джентльмен – привлекательный тип старого военного – спешит укрыться от дождя, закрывая на ходу зонтик, с которого льет вода. У него, как и у Фредди, брюки внизу совершенно мокрые. Он в вечернем костюме и легком пальто. Занимает освободившееся место у колонны слева.
Джентльмен. Уфф!
Мать (джентльмену). Ну, как там, сэр? Просвета все еще не видно?
Джентльмен. Ни малейшего намека. Напротив, дождь усиливается. (Подходит к тому месту, где сидит цветочница, ставит ногу на плинтус колонны и, нагнувшись, подвертывает мокрые брюки.)
Мать. О Господи! (Огорченно отходит к дочери).
Цветочница (пользуется соседством пожилого джентльмена, чтобы завязать с ним дружеские отношения). Раз опять припустил, значит, конец видать. Не огорчайтесь, кэптен, купите лучше букетик у бедной девушки.
Джентльмен. К сожалению, у меня нет мелочи.
Цветочница. Я вам разменяю, кэптен.
Джентльмен. Соверен? Мельче у меня нет.
Цветочница. Ух ты! Купите цветочек, кэптен, купите! Полкроны я еще разменяю. Возьмите вот этот – всего два пенса.
Джентльмен. Не приставай ко мне, девочка, – это нехорошо. (Шарит по карманам.) У меня в самом деле нет мелочи… Постой-ка! Вот три монетки по полпенса, если тебя устроит… (Переходит к другой колонне.)
Цветочница (разочарованно, но понимая, что полтора пенса лучше, чем ничего). Спасибо вам, сэр.
Прохожий (цветочнице). Эй ты, полегче, взяла деньги – так дай ему цветок. Видишь вон того типа за колонной? Он записывает каждое твое слово.
Все оборачиваются к человеку с записной книжкой.
Цветочница (испуганно вскакивая). Что я худого сделала? Ну, заговорила с джентльменом – так я имею право продавать цветы, если на тротуар не лезу. (Истерически.) Я девушка порядочная! Я ничего такого ему не сказала – просто попросила купить цветочек…
Общий шум. Большая часть публики сочувствует цветочнице, но осуждает ее чрезмерную чувствительность. Люди пожилые, солидные треплют ее по плечу, бросая ободряющие реплики вроде: «Чего расхныкалась? Кто тебя трогает? Кому ты нужна? К чему шум поднимать? Ну-ну, успокойся. Будет, будет! " Менее терпеливые рекомендуют ей заткнуть глотку или сердито спрашивают, чего, собственно, она разоралась? Те, кто стояли далеко и не знают, в чем дело, спешат к месту происшествия и усугубляют суматоху расспросами и объяснениями: «Что за шум? Что она натворила? Где он? Да вот, застукал ее легавый. Какой? Да вон тот, за колонной. Деньги у джентльмена выманила». И так далее. Цветочница, оглушенная и растерянная, протискивается сквозь толпу к джентльмену и громко вопит.
Цветочница. Ой, сэр, пожалуйста, не велите ему заявлять на меня. Вы не знаете, что мне за это будет! У меня отберут патент, меня выкинут на улицу за приставанье к мужчинам. Они мне…
Человек с записной книжкой (выходит вперед, толпа окружает его). Ну, хватит, хватит! Кто вас обижает, глупая вы девчонка! За кого вы меня принимаете?
Прохожий. Все в порядке. Это джентльмен – поглядите, какие у него ботинки. (Объясняет человеку с записной книжкой.) Она думала, сэр, что вы легавый.
Человек с записной книжкой (с живым интересом). А что значит «легавый»?
Прохожий (не находя определения). Легавый – это… это… ну, одним словом, легавый. Как его иначе назовешь? Ну, вроде сыщика или полицейского агента.
Цветочница (все еще истерически). Да я на Библии могу присягнуть, что ничего такого…
Человек с записной книжкой (повелительно, но добродушно). Довольно! Замолчите наконец. Разве я похож на полицейского?
Цветочница (далеко не успокоенная). А зачем тогда записывали каждое слово? Почем я знаю, что вы там накатали? А ну-ка, покажите, что у вас там обо мне накарякано? (Он раскрывает записную книжку и сует ей под нос. Толпа, пытаясь прочесть написанное через его плечо, напирает так, что человек послабее не устоял бы на ногах.) Чего это? Написано-то не по-нашему. Я не разбираю…
Человек с записной книжкой. Зато я разберу. (Читает, точно воспроизводя ее выговор.) «Ни огарчайтись, кэптин, купитя лучше пукетик у бенной девушки».
Цветочница (в полном смятении). Может, вы за то, что я его назвала «кэптен»? Так я ж ничего плохого не думала. (Джентльмену.) Ах, сэр, не велите ему на меня заявлять, за одно только слово. Вы…
Джентльмен. О чем заявлять? Я вас ни в чем не обвиняю. (К человеку с записной книжкой.) Право, сэр, хоть вы и сыщик, вам вовсе незачем ограждать меня от приставаний, пока я сам не попрошу. Слепому ясно, что у девушки не было дурных намерений.
Голоса в толпе (протестующе против полицейского произвола). Правильно! Чего он суется? Пусть лучше занимается своим делом! Не видите, что ли? Он выслужиться захотел! Каждое слово за человеком записывает! Девушка с ним слова не сказала! А хоть бы и сказала! Хорошенькое дело, девушке уж и от дождя нельзя укрыться, чтобы ее не оскорбили. (И т. д. и т. п.)
Прохожие, настроенные наиболее сочувственно, отводят цветочницу обратно к колонне, где она снова усаживается, стараясь побороть волнение.
Прохожий. Никакой он не сыщик. Просто любит соваться в чужие дела. Я же вам говорю, посмотрите на его ботинки.
Человек с записной книжкой (обернувшись к нему, сердечно). Как поживают ваши родные в Селси?
Прохожий (подозрительно). А кто вам сказал, что мои родные из Селси?
Человек с записной книжкой. Неважно кто. Ведь это же так. (К цветочнице.) А вас как занесло так далеко на восток? Вы ведь родились в Лисонгрове.
Цветочница (ошеломленная). А что такого, если я уехала из Лисонгрова? Я там в конуре вонючей жила, – у свиньи хлев и то лучше, – а платила четыре шиллинга шесть пенсов в неделю. (Заливается слезами.) О… о… о… ой… ой… ой…
Человек с записной книжкой. Живите где угодно, только прекратите реветь.
Джентльмен (девушке). Ну полно, полно! Он не тронет тебя, ты имеешь право жить где хочешь.
Саркастический прохожий (протискиваясь между человеком с записной книжкой и джентльменом). Например, в собственном особняке на Парк-лейн. А знаете, я не прочь обсудить с вами жилищную проблему.
Цветочница (пригорюнившись над корзиной, потихоньку причитает). Я девушка честная. Да, честная.
Саркастический прохожий (не обращая на нее внимания). Ну, а откуда я родом, вы знаете?
Человек с записной книжкой (не моргнув глазом). Из Хокстона.
В толпе хихикают. Интерес к человеку с записной книжкой явно возрастает.
Саркастический прохожий (пораженный). Угадал, ничего не скажешь. Черт побери, да вы действительно всезнайка.
Цветочница (все еще переживая нанесенную ей обиду). Нет у него таких правов, чтобы лезть в чужие дела. Чего он ко мне пристал?
Прохожий (цветочнице). Верно! Вот ты ему и не спускай. (К человеку с записной книжкой.) Послушайте, а на каком таком основании вы все знаете о людях, которые с вами не желают иметь дела? Где ваше удостоверение?
Несколько человек из толпы (ободренные ссылкой на статью закона). Точно! Где у вас удостоверение?
Цветочница. А пусть его болтает чего вздумается! Не хочу с ним связываться.
Прохожий. А все потому, что вы нас за людей не считаете. С джентльменом вы бы себе шутки шутить не позволили.
Саркастический прохожий. Верно! Если уж взялись ворожить, так скажите нам – откуда он взялся? (Указывает на пожилого джентльмена.)
Человек с записной книжкой. Челтенхем, Харроу, Кембридж, позднее Индия.
Джентльмен. Совершенно верно.
Толпа разражается хохотом. Теперь сочувствие явно на стороне человека с записной книжкой. Раздаются восклицания: «Все насквозь знает! Так и отрезал! Слыхали, как он ему выложил что, да как, да где? " И т. д.
Джентльмен. Позвольте спросить, сэр. Вы, наверно, из мюзик-холла? Зарабатываете этим номером на жизнь?
Человек с записной книжкой. Я уже подумывал об этом. Возможно, когда-нибудь попробую.
Дождь прекратился, и толпа понемногу начинает расходиться.
Цветочница (недовольная переменой общего настроения не в ее пользу). Никакой он не порядочный. Порядочный не станет обижать бедную девушку.
Дочь (потеряв терпение, бесцеремонно проталкивается вперед). Куда же пропал Фредди? Я схвачу воспаление легких, если еще постою на этом сквозняке.
Пожилой джентльмен, вежливо сторонясь, отступает за колонну.
Человек с записной книжкой (поспешно делает отметку, повторив про себя). Эрлкорт.
Дочь (возмущенно). Попрошу держать при себе свои дерзости.
Человек с записной книжкой. Неужели я сказал что-либо вслух? Простите, это невольно. Но матушка ваша, несомненно, из Эпсома.
Мать (подходит к дочери и становится между ней и человеком с записной книжкой). Подумайте, как интересно! Я действительно выросла в Широкаледи-парк, неподалеку от Эпсома.
Человек с записной книжкой (весело смеясь). Ха-ха-ха! Черт, ну и название. (К дочери.) Простите, вам, кажется, нужно такси?
Дочь. Как вы смеете обращаться ко мне!
Мать. Клара, Клара!
Дочь сердито пожимает плечами и, не удостоив ответом, с надменным видом отходит в сторону.
Мать. Мы были бы страшно признательны вам, сэр, если бы вы достали для нас такси.
Человек с записной книжкой вытаскивает свисток. Мать отходит к дочери. Человек с записной книжкой пронзительно свистит.
Саркастический прохожий. Видали? Я же говорил, что это шпик, только в штатском.
Прохожий. Нет, у него не полицейский, а спортивный.
Цветочница (все еще негодуя). Нет у него таких правов, чтобы забрать мой патент. Мне нужен патент, как и всякой леди.
Человек с записной книжкой. Кстати, вы заметили, что дождь уже перестал?
Прохожий. И верно. Чего же вы раньше не сказали? А то мы торчим здесь и теряем время: слушаем ваши глупости. (Уходит по направлению к Стрэнду.)
Саркастический прохожий. А я могу сказать, откуда вас самих принесло. Из психической лечебницы. Возвращайтесь-ка туда.
Человек с записной книжкой (поправляя). Психиатрической.
Саркастический прохожий (стараясь говорить изысканно). Весьма признателен, господин учитель. Ха-ха-ха! Всего наилучшего! (Издевательски-почтительно приподнимает шляпу и уходит.)
Цветочница. Людей только пугает! Самого бы его пугнуть.
Мать. Дождя нет. Клара. Теперь можно добраться до автобуса. Идем. (Подбирает юбку и торопливо уходит по направлению к Стрэнду.)
Дочь. А как же такси…
Мать уже не слышит ее.
Дочь. Ах, как мне все надоело! (С раздраженным видом следует за матерью.)
Вся публика постепенно разошлась. Остались только человек с записной книжкой, джентльмен и цветочница, которая сидит и, укладывая в корзину цветы, продолжает тихо жаловаться на судьбу.
Цветочница. Бедная ты девушка! И так тебе жизни нет, а тут еще каждый цепляется да надсмехается.
Джентльмен (возвращаясь на свое прежнее место, слева от человека с записной книжкой). Могу я узнать, как это у вас получается?
Человек с записной книжкой. Фонетика и еще раз фонетика. Наука о произношении. Моя профессия и моя страсть. Поистине счастлив тот, кому любимое занятие дает средства к жизни. Ирландца или йоркширца легко узнать по акценту. Но я могу определить место рождения человека с точностью до шести миль, а в Лондоне – двух. Иногда даже в пределах двух улиц.
Цветочница. Стыда на вас нет, бессовестный!
Джентльмен. Неужели этим можно заработать на жизнь?
Человек с записной книжкой. Конечно, можно. И на вполне приличную жизнь. Наш век – это век выскочек. Есть люди, которые начинают в Кентиштауне, живя на восемьдесят фунтов, а кончают в особняке на Парк-лейн, имея сто тысяч годового дохода. Они хотят отделаться от Кентиштауна, но стоит им раскрыть рот, как они выдают себя. Я же могу научить их…
Цветочница. Занимался бы лучше своим делом, чем мучить бедную девушку.
Человек с записной книжкой (вспылив). Женщина! Сейчас же прекрати свое мерзкое нытье или ищи себе место на другой паперти.
Цветочница (с робким вызовом). Я имею право тут сидеть, как и вы.
Человек с записной книжкой. Женщина, издающая такие омерзительные и убогие звуки, не имеет права сидеть где бы то ни было. Она вообще не имеет права жить. Не забывайте, что вы человеческое существо, наделенное душой и Божественным даром членораздельной речи. Ваш родной язык – язык Шекспира, Мильтона и Библии. А вы тут сидите и квакаете, как простуженная лягушка.
Цветочница (совершенно подавленная, боясь поднять голову, искоса смотрит на него со смешанным чувством удивления и осуждения). Ай… о… о… у… у… а!
Человек с записной книжкой (хватаясь за карандаш). Боже мой! Что за звуки! (Записывает, затем, глядя в книжку, читает, точно воспроизводя сочетание звуков.) Ай… о… о… у… у… у… а!
Цветочница (довольная представлением, невольно смеется). Ух ты!
Человек с записной книжкой. Взгляните на эту девчонку! Слышали вы, на каком жаргоне она говорит? Этот жаргон навсегда приковал ее к панели. Так вот, сэр, дайте мне три месяца, и эта девушка сойдет у меня за герцогиню на приеме в любом посольстве. Я даже смогу устроить ее горничной или продавщицей в магазин, где надо говорить совсем уж безукоризненно. Нашим миллионерам я оказываю услуги именно этого рода, а на заработанные деньги веду научные изыскания в области фонетики и немножко занимаюсь поэзией – в духе Мильтона.
Джентльмен. Я сам изучаю индийские диалекты и…
Человек с записной книжкой (с нетерпением). Серьезно? А не знаете ли вы случайно полковника Пикеринга, автора «Разговорного санскрита»?
Джентльмен. Я и есть полковник Пикеринг. А кто вы?
Человек с записной книжкой. Генри Хигинс – изобретатель «Универсального алфавита Хигинса».
Пикеринг (восторженно). Я же приехал из Индии, чтобы повидаться с вами!
Хигинс. А я собирался в Индию, чтобы встретиться с вами!
Пикеринг. Где вы живете?
Хигинс. Уимпол-стрит, двадцать семь «а». Жду вас у себя завтра же.
Пикеринг. Я остановился в отеле «Карлтон». Идемте ко мне, мы еще успеем перекинуться словечком за ужином.
Хигинс. С восторгом!
Цветочница (Пикерингу, когда он проходит мимо). Купите цветочек, добрый джентльмен, а то мне за квартиру платить нечем.
Пикеринг. К сожалению, у меня в самом деле нет мелочи. (Уходит.)
Хигинс (возмущенный лживостью девушки). Лгунья! Вы же говорили, что можете разменять полкроны.
Цветочница (в отчаянии вскакивая). Сердце у вас каменное, вот что! (Швыряет к его ногам корзину.) Нате, забирайте всю эту чертову корзину за шесть пенсов.
Часы на колокольне бьют половину двенадцатого.
Хигинс (услышав в этом бое укор свыше за фарисейскую жестокость к бедной девушке). Глас Божий! (Торжественно приподнимает шляпу, затем бросает в корзину пригоршню монет и уходит вслед за Пикерингом.)
Цветочница (вытаскивая полкроны). Ау… у… у… ох! (Вытаскивает два флорина.) У… а… а… ооу! (Вытаскивает еще несколько монет.) Ую… ю… ю… ай! (Вытаскивая полсоверена.) А… а… а… ха… ха… ха… ой!
Фредди (выскакивая из такси). Наконец-то достал! Хелло! (Цветочнице.) Тут стояли две дамы. Не знаете, где они?
Цветочница. А как дождь кончился, так они к автобусу и потопали.
Фредди. Безобразие! А что я буду делать с такси?
Цветочница (величественно). Не беспокойтесь, молодой человек. На вашей такси поеду домой я.
Проплывает мимо Фредди к машине. Шофер при виде ее поспешно захлопывает дверцу. Понимая его сомнения, она гордо показывает ему пригоршню монет.
Цветочница. Видал, Чарли? Восемь пенсов для нас – кха, тьфу!
Шофер ухмыляется и открывает ей дверцу.
Цветочница. Энджел-корт, Друри-лейн, за керосиновой лавкой. И жми на всю железку!
С шумом захлопывает дверцу. Такси трогается.
Фредди. Вот это номер!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Одиннадцать утра. Кабинет Хигинса на Уимпол-стрит. Это комната в первом этаже, окнами на улицу, первоначально предназначавшаяся под гостиную. Посередине задней стены – двустворчатая дверь: входя через нее, видишь справа у стены два высоких картотечных шкафа, стоящих под прямым углом друг к другу. Там же письменный стол, где громоздятся фонограф, ларингоскоп, батарея тонких органных труб с воздуходувными мехами, ряд газовых горелок под ламповыми стеклами, подсоединенных резиновым шлангом к газовому рожку на стене, несколько разного размера камертонов, муляж человеческой головы в натуральную величину, показывающий голосовые органы в разрезе, и коробка с запасными восковыми валиками для фонографа.
По ту же сторону – камин; возле него, ближе к двери, – удобное кожаное кресло и ящик для угля. На каминной доске – часы. Между письменным столом и камином – журнальный столик.
По левую руку от двери – шкафчик с неглубокими ящиками; на нем телефон и телефонная книга. Почти вся остающаяся часть левого угла занята концертным роялем, расположенным хвостом к двери; перед роялем не табурет, как обычно, а скамейка во всю длину клавиатуры. На рояле ваза с фруктами и сладостями, преимущественно шоколадными конфетами.
Середина кабинета пуста. Кроме кресла, скамейки и двух стульев у письменного стола, в комнате есть лишь еще один стул, не имеющий определенного назначения. Сейчас он придвинут к камину. На стенах гравюры, в основном Пиранези, и портреты меццотинто. Картин нет. Пике ринг, сидя у стола, раскладывает по местам камертон и карточки, которыми только что пользовался. Хигинс, стоя рядом, у картотеки, водворяет обратно выдвинутые ящики. Сейчас, при дневном свете, видно, что это крепкий, жизнерадостный, отменного здоровья мужчина лет сорока, в костюме, свидетельствующем о принадлежности к определенной профессии, – черный сюртук, крахмальный воротничок, черный шелковый галстук. Он один из тех энергичных людей науки, которые глубоко, даже страстно интересуются всем, что может служить предметом научного исследования, и в то же время равнодушны к себе и ближним, а заодно и к их чувствам. Несмотря на возраст и внушительную комплекцию, он, в сущности, очень похож: на непоседу ребенка, который шумно и бурно реагирует на все, что привлекает его внимание, и за которым нужно внимательно присматривать, чтобы он не натворил беды. По-детски неустойчиво и его поведение: добродушная ворчливость в минуты хорошего настроения мгновенно сменяется у него яростными вспышками, как только ему что-нибудь не по нраву; но он так непосредствен и бесхитростен, что симпатичен даже тогда, когда заведомо не прав.
Хигинс (задвигая последний ящик). Ну вот, как будто и все.
Пикеринг. Поистине потрясающе. Но знаете, я не воспринял даже половины.
Хигинс. Хотите снова прослушать на выбор?
Пикеринг (встает, подходит к камину и становится спиной к огню). Нет, спасибо, больше не могу. На сегодня хватит.
Хигинс (идет за ним и становится рядом, с левой стороны). Устали слушать звуки?
Пикеринг. Да. Ужасное напряжение. А я-то гордился, что могу отчетливо произнести двадцать четыре гласных. Но ваши сто тридцать сразили меня. В большинстве случаев я даже не могу уловить разницу между ними.
Хигинс. (посмеиваясь, отходит к роялю и берется за конфеты). Вопрос привычки. Вначале вы не улавливаете разницы; но вслушайтесь хорошенько и вскоре убедитесь, что они отличаются друг от друга, как «А» от «Б». (В комнату заглядывает миссис Пирс, экономка Хигинса.) В чем дело, миссис Пирс?
Миссис Пирс (колеблясь: она явно растеряна). Какая-то юная особа желает вас видеть, сэр.
Хигинс. Юная особа? А что ей угодно?
Миссис Пирс. Видите ли, сэр, она утверждает, что вы очень обрадуетесь, когда узнаете, зачем она пришла. Совсем простая девушка, сэр. Из самых простых. Я бы сразу выпроводила ее, но подумала, может быть, она вам нужна, чтобы наговаривать в ваши машины. Не знаю, правильно ли я поступила, но к вам иногда приходят такие странные люди… Надеюсь, вы меня извините, сэр…
Хигинс. Ничего, ничего, миссис Пирс. А у нее забавное произношение?
Миссис Пирс. Кошмарное, сэр, просто кошмарное. Не понимаю, как вы можете интересоваться такими вещами.
Хигинс (Пикерингу). Давайте послушаем. Тащите ее сюда, миссис Пирс. (Бросается к письменному столу и достает новый валик для фонографа.)
Миссис Пирс (подчиняясь не без внутренней борьбы). Слушаю, сэр. Как вам угодно. (Уходит.)
Хигинс. Какая удача! Я покажу вам, как делаю запись. Заставим ее говорить – я запишу ее сначала по системе Белла, а затем латинским алфавитом. Потом запишем ее на фонограф, и вы сможете прослушивать запись сколько захотите, сравнивая звук с транскрипцией.
Миссис Пирс (возвращаясь). Вот эта юная особа, сэр.
Входит цветочница. Она в полном параде. На голове у нее шляпа с тремя страусовыми перьями: оранжевого, небесно-голубого и красного цвета. Ее передник почти чист, и грубошерстное пальто подверглось воздействию щетки.
Пафос этой жалкой фигурки, с ее наивным тщеславием и видом важной дамы, трогает Пикеринга, который и так уже выпрямился в кресле при появлении миссис Пирс. Что касается Хигинса, то ему безразлично, с мужчиной или женщиной он имеет дело; разница заключается лишь в том, что в тех случаях, когда он не воздевает руки к небу в отчаянии от тупости какого-нибудь небесного создания или же не помыкает им, он заискивает перед женщиной, как ребенок перед своей нянькой, когда ему хочется выпросить у нее что-нибудь.
Хигинс (сразу узнав цветочницу и не скрывая своего разочарования, которое у него, как у ребенка, превращается в смертельную обиду). Это же та девчонка, которую я записал вчера вечером. Она нам не нужна. У меня достаточно записей с лисонгровским жаргоном. Нет смысла тратить на нее еще один валик. (Цветочнице.) Уходите, вы нам не нужны.
Цветочница. А вы не задирайте нос раньше времени! Вы еще не знаете, зачем я пришла. (К миссис Пирс, которая остановилась в дверях, ожидая дальнейших приказаний.) Вы сказали ему, что я приехала на такси?
Миссис Пирс. Какие глупости, моя милая! Неужели вы думаете, что такому джентльмену, как мистер Хигинс, не все равно, на чем вы приехали?
Цветочница. Ого, какие мы гордые! А ведь он не брезговает давать уроки; я сама слышала, как он говорил. Ну так вот! Я сюда не кланяться пришла. Если мои денежки вам не по вкусу, я пойду к другому.
Хигинс. При чем здесь ваши деньги?
Цветочница. Как при чем? При том, что я пришла брать уроки. Теперь расчухали? И платить за них собираюсь, не сумлевайтесь!
Хигинс (ошеломлен). Ну, знаете! (С трудом переводя дыхание.) И чего же вы ожидаете от меня?
Цветочница. А были бы вы джентльменом, так для начала предложили бы мне сесть. Я ведь уже сказала, что дам вам заработать.
Хигинс. Пикеринг, как мы поступим с этим пугалом? Предложим ей сесть или вышвырнем ее за окно?
Цветочница (в ужасе отступает за рояль, готовая отчаянно защищаться). А-а-оо-уу. (Оскорбленная в своих лучших чувствах, хнычет.) Что вы обзываете меня пугалом? Я же сказала, что буду платить, как всякая другая леди.
Мужчины, остолбенев, растерянно смотрят на нее.
Пикеринг (мягко). Чего вы хотите, дитя мое?
Цветочница. Я хочу быть продавщицей в цветочном магазине, а не торговать фиалками на углу Тотенхэм Корт-роуд. А меня туда не возьмут, если я не буду выражаться по-образованному. А он сказал, что берется научить меня. Я не прошу никаких одолжениев, понятно? Я могу заплатить, а он меня обзывает, словно я дрянь последняя.
Миссис Пирс. Как можно быть такой глупой, невежественной девушкой? Неужели вы думаете, что вы в состоянии брать уроки у мистера Хигинса?
Цветочница. А почему бы нет? Я не хуже вас знаю, почем стоят уроки, и согласна платить.
Хигинс. Сколько?
Цветочница (приближаясь к нему, торжествующе). Наконец-то заговорил по-людски. Я ведь знала: стоит вам увидеть, что можно вернуть хоть часть того, что вы швырнули мне вчера вечером, вы сразу станете посговорчивее. (Доверительно.) Малость подзаложили за галстук, а?
Хигинс (повелительно). Сядьте!
Цветочница. Только выкиньте из головы, что мне из милости…
Хигинс (громовым голосом). Кому я сказал? Сядьте!
Миссис Пирс (строго). Садитесь, моя милая. Делайте, что вам велят.
Придвигает свободный стул к камину между Хигинсом и Пикерингом и становится за ним, ожидая, пока девушка сядет.
Цветочница. А… аааоооу… у. (Стоит ошеломленная, но с вызывающим видом.)
Пикеринг (с изысканной вежливостью). Не присядете ли?
Цветочница (неуверенно). Что ж, это можно. (Садится.)
Пикеринг возвращается к камину.
Хигинс. Как вас зовут?
Цветочница. Элиза Дулитл.
Хигинс (торжественно декламирует).
Элиза, Элизабет, Бетси и Бесс
Удрали за птичьими гнездами в лес.
Пикеринг. В гнезде там четыре яйца отыскали.
Хигинс. Оставили три, а по штучке забрали.
Оба заливаются хохотом, довольные своим остроумием.
Элиза. Хватит дурить-то!
Миссис Пирс. Так, милая, с джентльменами говорить не полагается.
Элиза. А чего он со мной не по-людски разговаривает?
Хигинс. Вернемся к делу. Сколько же вы намерены платить за уроки?
Элиза. Да уж не знаю, сколько положено. Моя подружка берет уроки французского языка по восемнадцать пенсов за час. Так то у настоящего француза. А у вас ведь не хватит нахальства брать с меня за мой родной язык столько же. Вот я и не дам больше шиллинга. Хотите – берите, не хотите – как хотите.
Хигинс (расхаживает по комнате и, засунув руки в карманы, позванивает ключами и мелочью). Знаете, Пикеринг, если рассматривать шиллинг не просто как шиллинг, а как некий процент с ее заработка, то он для нее то же, что шестьдесят-семьдесят фунтов для какого-нибудь миллионера.
Пикеринг. То есть как?
Хигинс. А вот так – посчитайте сами. Миллионер имеет примерно сто пятьдесят фунтов в день. Она зарабатывает примерно полкроны.
Элиза (заносчиво). Кто это вам сказал, что я зарабатываю только…
Хигинс (продолжая). Она предлагает мне за уроки две пятых своего дневного дохода. Две пятых дневного дохода миллионера составили бы примерно шестьдесят фунтов. Недурно! Нет, черт побери, колоссально! Это, пожалуй, самый высокий гонорар в моей жизни.
Элиза (вскочив в ужасе). Шестьдесят фунтов! Что вы такое городите! Я и не думала предлагать вам шестьдесят фунтов. Откуда мне их взять…
Хигинс. Придержите язык!
Элиза (плача). Нету у меня столько…
Миссис Пирс. Не плачьте, глупенькая. Сядьте. Никто не возьмет ваших денег.
Хигинс. Зато кто-то возьмет метлу и всыплет вам как следует, если не перестанете реветь. Сядьте.
Элиза (нехотя повинуется). О-о-о… аау. Полегче – вы мне пока что не отец!
Хигинс. Если уж я возьмусь вас учить, то буду пострашнее двух отцов. Нате. (Протягивает ей свой шелковый носовой платок.)
Элиза. Это еще для чего?
Хигинс. Чтобы вытирать глаза. Вытирать нос, вытирать все, что окажется мокрым; и запомните: вот это – платок, а это – рукав. Не путайте их, если хотите стать леди и поступить в цветочный магазин.
Окончательно сбитая с толку, Элиза беспомощно смотрит на него.
Миссис Пирс. Бесполезно с ней говорить, мистер Хигинс: она же вас не понимает. Кроме того, вы не правы, она рукавом не утирается. (Берет у нее носовой платок.)
Элиза (вырывая платок). Еще чего! Отдавайте платок! Он не вам его дал, а мне.
Пикеринг (смеясь). Верно. Боюсь, миссис Пирс, что платок теперь придется рассматривать как ее собственность.
Миссис Пирс (подчиняясь силе обстоятельств). Так вам и надо, мистер Хигинс.
Пикеринг. Послушайте, Хигинс! Мне пришла в голову интересная мысль. Помните, вы похвастались, что сумели бы выдать ее за герцогиню на приеме в посольстве? Если вам это удастся, я признаю, что вы лучший педагог в мире. Держу пари на все издержки по эксперименту, что вам это не удастся. Я даже согласен платить за ее уроки.
Элиза. Вот это добряк! Спасибо, кэптен.
Хигинс (соблазненный предложением, смотрит на Элизу). Чертовски соблазнительно! Она так неподражаемо вульгарна, так невероятно грязна.
Элиза (с возмущением). Оау-ооооо. И совсем я не грязная. Я мыла и лицо и руки, а потом уж пошла к вам. Вот!
Пикеринг. Вы, безусловно, не вскружите ей голову комплиментами, Хигинс.
Миссис Пирс (с беспокойством). Не скажите, сэр. Есть много способов вскружить голову девушке, и нет человека, который бы умел это делать лучше, чем мистер Хигинс, пусть даже не всегда умышленно. Надеюсь, сэр, вы не толкнете его на безрассудные поступки.
Хигинс (зажигаясь идеей Пикеринга). Что такое жизнь, как не ряд безрассудных поступков? Вот повод для них найти труднее. Никогда не упускай случая: он подворачивается не каждый день. Согласен! Я сделаю герцогиню из этой чумички, из этого грязного, вонючего окурка!
Элиза (энергично протестуя против такой оценки ее особы). Ооооааау!
Хигинс (с увлечением). Через полгода, да нет, через три месяца, если у нее хороший слух и гибкий язык – я свезу ее куда угодно и выдам за кого угодно. Начнем сегодня же! Сейчас! Сию минуту! Миссис Пирс, возьмите ее и отмойте хорошенько! Не поможет мыло, трите наждаком! Плиту вы уже затопили?
Миссис Пирс (протестуя). Да, но…
Хигинс (неистово). Сорвите с нее все эти тряпки и немедленно сожгите. Позвоните к Уайтли или в любой магазин и велите прислать все новое! А пока не привезут – заверните ее в газету.
Элиза. Вы не джентльмен, никакой вы не джентльмен, если говорите такие вещи. Я честная девушка, да, честная. Знаю я таких, как вы! Видала!
Хигинс. Вот что, милая, хватит с меня вашей лисонгровской добродетели. Вы должны теперь учиться вести себя как герцогиня. Уведите ее, миссис Пирс. Если она не будет слушаться, вздуйте ее!
Элиза (вскакивает и бросается к Пикерингу, ища защиты). Нет! Я позову полицию, вот увидите, позову!
Миссис Пирс. Но у меня нет для нее места.
Хигинс. Суньте ее в мусорное ведро!
Элиза. Ааооооооу!
Пикеринг. Ну-ну, Хигинс! Будьте же благоразумны!
Миссис Пирс (решительно). Вы должны быть благоразумны, мистер Хигинс, право, должны. Нельзя так третировать людей.
Хигинс, получив нагоняй, стихает. Ураган переходит в ласкающий ветерок изумления.
Хигинс (с профессиональной изысканностью модуляций). Я третирую людей! Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, я не имел ни малейшего намерения третировать кого бы то ни было. Наоборот! Я считаю, что все мы должны как можно лучше отнестись к этой бедной девушке. Мы должны подготовить ее к новому образу жизни и помочь ей освоиться с ним. Если я недостаточно вразумительно высказывался, то делал это лишь из боязни ранить ее или ваши чувства.
Элиза, успокоившись, пробирается на свое прежнее место.
Миссис Пирс (Пикерингу). Нет, вы слыхали что-нибудь подобное, сэр?
Пикеринг (смеясь от души). Никогда, миссис Пирс, никогда.
Хигинс (терпеливо). А в чем, собственно, дело?
Миссис Пирс. А дело в том, что нельзя же вот так просто подобрать девушку, как подбирают камешек на пляже.
Хигинс. А почему бы нет?
Миссис Пирс. Как почему? Да ведь вы ничего о ней не знаете. Кто ее родители? К тому же она может быть замужем.
Элиза. Черта с два!
Хигинс. Вот именно. Как совершенно справедливо выразилась девушка черта с два! Какой там замужем! Разве вы не знаете, что женщина ее происхождения, пробыв год замужем, выглядит как пятидесятилетняя поденщица.
Элиза. Да кто на мне женится!
Хигинс (внезапно переходя на самые волнующие, низкие ноты своего голоса и к самым убедительным приемам своего красноречия). Клянусь вам, Элиза, еще прежде чем я успею обучить вас, улицы у вашего дома будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся от безумной любви к вам.
Миссис Пирс. Хватит, сэр. Вам не следует так разговаривать с ней.
Элиза (решительно встает и выпрямляется). Я ухожу. У него у самого не все дома! Ясно! Не нужно мне тронутых учителей!
Хигинс (оскорбленный до глубины души тем, что она осталась глуха к его красноречию.) Ах вот как! Я сумасшедший, не так ли? Прекрасно. Миссис Пирс, не заказывайте ей новые платья. Вышвырните ее.
Элиза (хнычет). Легче, легче… Нет у вас таких прав, чтобы меня трогать.
Миссис Пирс. Видите, к чему приводит дерзость. (Указывая на дверь.) Сюда, пожалуйста.
Элиза (чуть не плача). Я и не просила платьев. Я бы все равно их не надела. (Бросает платок Хигинса.) Я сама могу себе платья купить.
Хигинс (ловко подхватывает платок и загораживает ей дорогу). Вы дрянная, неблагодарная девчонка. Вот как вы мне платите за то, что я хотел вытащить вас из грязи, красиво одеть и сделать настоящей леди.
Миссис Пирс. Довольно, мистер Хигинс! Я этого не допущу. Дурно поступаете вы, а не она. Возвращайтесь домой к родителям, дитя мое, и скажите им, чтобы они лучше смотрели за вами.
Элиза. Нет у меня никаких родителев. Они сказали, что я уже взрослая, сама могу прокормиться, и выгнали меня.
Миссис Пирс. А где ваша мать?
Элиза. Нет у меня матери. А выгнала меня моя мачеха… шестая. Ну и наплевать – я и без них обхожусь. Но вы не думайте, я девушка честная.
Хигинс. Вот и прекрасно! К чему тогда весь шум? «Нет у нее никаких родителев». Девушка никому не принадлежит и никому не нужна, кроме меня. (Подходит к миссис Пирс и вкрадчиво убеждает.) Вы же можете удочерить ее, миссис Пирс. Иметь дочку – такая радость. А теперь довольно болтовни. Тащите ее вниз и…
Миссис Пирс. Но что станется с ней? Собираетесь ли вы платить ей? Опомнитесь же, сэр.
Хигинс (нетерпеливо). Да платите вы ей сколько положено; можете занести это в графу хозяйственных расходов. А зачем, черт побери, ей деньги? У нее будет вдоволь еды и платьев. А если дать ей денег, она запьет.
Элиза (набрасывается на него). Совести у вас нет! Все вы врете! В жизни никто не видел, чтобы я хоть каплю спиртного в рот взяла. (Возвращается к своему стулу и с вызывающим видом садится).
Пикеринг (с добродушным упреком). А вам не приходит в голову, Хигинс, что у девушки могут быть какие-то чувства?
Хигинс (критически осматривая ее). Нет, вряд ли. Во всяком случае, не такие, которые следовало бы принимать во внимание. (Весело.) Есть у вас какие-нибудь чувства, Элиза, а?
Элиза. У меня чувства такие, как у всех людей.
Хигинс (задумчиво). Понимаете вы, Пикеринг, в чем трудность?
Пикеринг. Что? Какая трудность?
Хигинс. Исправить произношение легко. Научить грамотно говорить – куда труднее.
Элиза. Не желаю я грамотно говорить. Я хочу говорить как леди.
Миссис Пирс. Мистер Хигинс, прошу вас, не уклоняйтесь в сторону. Я должна знать, на каких условиях остается здесь девушка. Собираетесь вы платить ей жалованье? Что станет с ней, когда вы кончите ее учить? Надо же хоть немного смотреть вперед, сэр.
Хигинс (нетерпеливо). А что станет с ней, если я оставлю ее в канаве? Ответьте-ка мне на этот вопрос, миссис Пирс.
Миссис Пирс. Это дело ее, а не ваше, мистер Хигинс.
Хигинс. В таком случае, когда я закончу обучение, мы сможем выбросить ее обратно в канаву, и это снова станет ее делом, так что все в порядке.
Элиза. Сердца у вас нет; на всех вам наплевать, кроме себя. (Встает и решительно объявляет.) Хватит с меня, я ухожу. (Направляется к двери) Постыдились бы вы, да, постыдились.
Хигинс (берет конфету из вазы на рояле, глаза его лукаво блестят). Возьмите шоколадку, Элиза.
Элиза (колеблется, поддаваясь соблазну). Почем я знаю, что там внутри? Такие вот, как вы, отравили не одну порядочную девушку. Я знаю, слышала.
Хигинс вынимает перочинный нож, разрезает конфету, кладет половину в рот и, смакуя ее, протягивает вторую половинку девушке.
Хигинс. Вот, смотрите, в залог доверия, одну половину вам, другую мне.
Элиза хочет что-то возразить, Хигинс всовывает ей в рот конфету.
Хигинс. Вы будете получать шоколад коробками, бочками, каждый день. Вы только им и будете питаться. Ну как?
Элиза (наконец проглатывает конфету, чуть не подавившись ею). Сдалась мне ваша конфета! Я бы и не стала ее есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плюваться.
Хигинс. Послушайте, Элиза, вы, кажется, приехали в такси?
Элиза: Ну, а если приехала? Я что, не имею права на такси ездить, как все?
Хигинс. Имеете, имеете, Элиза. Теперь вы будете ездить в такси сколько захотите. Можете хоть каждый день кататься по всему городу и вдоль, и поперек, и вокруг. Подумайте об этом, Элиза.
Миссис Пирс. Мистер Хигинс, вы искушаете девушку. Это нехорошо. Ей надо думать о будущем.
Хигинс. В ее возрасте! Вздор! О будущем она успеет подумать тогда, когда впереди уже не будет будущего. Нет, Элиза, берите пример с этой леди: думайте о чужом будущем, но никогда не размышляйте о своем собственном. Думайте лучше о шоколаде и такси, о золоте и бриллиантах.
Элиза. Не хочу я вашего золота и бриллиантов. Я порядочная девушка, вот! (Снова садится, пытаясь принять позу, исполненную достоинства.)
Хигинс. Вы и останетесь порядочной девушкой – об этом позаботится миссис Пирс. А замуж вы выйдете за гвардейского офицера с пышными усами. Он окажется сыном маркиза, и отец сначала лишит его наследства за то, что он женится на вас, а потом, тронутый вашей красотой и добродетелью, смягчится и…
Пикеринг. Простите, Хигинс, но я обязан вмешаться. Миссис Пирс, безусловно, права. Раз девушка намерена довериться вам на полгода, то есть на время вашего опыта, она должна ясно понимать, что делает.
Хигинс. Невозможно! Она решительно неспособна понимать что бы то ни было. Да и вообще, кто из нас понимает, что делает? Мы бы никогда ничего не сделали, если бы понимали, что делаем.
Пикеринг. Очень остроумно, Хигинс, но маловразумительно. (Элизе.) Мисс Дулитл…
Элиза (ошеломленная). А… у… у… у… о!..
Хигинс. Ну вот! Это все, что можно выжать из Элизы. А… у… у… у… о! Объяснять ей что-либо – бесполезно. Вы должны понимать это, как человек военный. Ей надо приказывать – вот и все, что требуется. Элиза, вы будете жить здесь полгода и учиться красиво говорить, как леди из цветочного магазина. Если вы будете слушаться и делать то, что вам скажут, вы будете спать в хорошей спальне, есть вволю, покупать конфеты и разъезжать в такси. Если вы будете непослушной и ленивой, вы будете спать в чулане с черными тараканами, и миссис Пирс будет колотить вас метлой. Через полгода вы наденете роскошное платье и в карете поедете в Бэкингэмский дворец. Если король увидит, что вы не настоящая леди, он прикажет полицейским засадить вас в Тауэр, где вам отрубят голову в назидание другим дерзким цветочницам. Если же никто ничего не узнает, вы получите в подарок семь шиллингов шесть пенсов, поступите продавщицей в цветочный магазин и начнете новую жизнь. Если вы откажетесь от моего предложения, значит, вы самая неблагодарная и злая девчонка на свете, и ангелы будут плакать, глядя на вас. (Пикерингу.) Надеюсь, теперь вы удовлетворены, Пикеринг? (Миссис Пирс.) Я полагаю, что объяснил все предельно ясно и просто. Не так ли, миссис Пирс?
Миссис Пирс (терпеливо). Позвольте мне лучше, сэр, поговорить с девушкой с глазу на глаз. Не знаю, смогу ли я взять на себя заботу о ней и вообще соглашусь ли я на эту затею. Конечно, я уверена, что вы не желаете ей зла, но уж если вы заинтересуетесь произношением человека, так забываете обо всем на свете. Пойдемте со мной, Элиза.
Хигинс. Отлично, миссис Пирс, благодарю вас. Тащите ее в ванну.
Элиза (неохотно вставая, подозрительно). Невежа вы, вот кто. Не понравится мне здесь, так я и не останусь, а уж бить себя метлой никому не дам. Не просилась я в ваш Бэкнемский дворец. А с полицией никогда делов не имела, никогда. Я девушка порядочная…
Миссис Пирс. Нельзя возражать старшим, моя милая. Вы не поняли этого джентльмена. Пойдемте, пойдемте. (Ведет Элизу и распахивает перед ней дверь.)
Элиза (на пороге). А чего там, я правду сказала. И не стану я соваться ни к какому королю, пусть мне хоть голову отрубят. Знала бы я, что здесь получится, ни за какие коврижки не пришла бы. Я всегда была девушка честная, к нему я не лезла, ничего я ему не должна, наплевать мне, не позволю над собой измываться, и какие у всех людей чувства, такие и у меня…
Миссис Пирс закрывает дверь, и причитаний Элизы больше не слышно. Пикеринг отходит от камина и, усевшись верхом на стул, кладет локти на спинку.
Пикеринг. Простите за откровенный вопрос, Хигинс. Порядочный ли вы человек в отношениях с женщинами?
Хигинс (уныло). А вы встречали мужчин, которые были бы порядочны в отношениях с женщинами?
Пикеринг. Да, довольно часто.
Хигинс (опершись ладонями на крышку рояля, подпрыгивает, с шумом усаживается и авторитетно объясняет). Ну, а я не встречал! Стоит только женщине сблизиться со мной, как она становится ревнивой, требовательной, подозрительной и чертовски надоедливой. Стоит только мне сблизиться с женщиной, как я превращаюсь в тирана и эгоиста. Женщины все ставят с ног на голову. Впустите только женщину в свою жизнь, и вы обязательно увидите, что ей всегда нужно одно, а вам – совершенно другое.
Пикеринг. Что же, например?
Хигинс (в нетерпении спрыгивает с рояля). А черт его знает! Вероятно, женщина хочет жить своей жизнью, а мужчина своей, причем каждый старается свести другого с правильного пути. Один хочет ехать на юг, другой – на север, в результате оба вынуждены отправиться на восток, хотя оба не выносят восточного ветра. (Садится на скамейку у рояля.) Вот почему я старый убежденный холостяк и, по-видимому, таковым и останусь.
Пикеринг (встает и, подойдя к нему, говорит серьезно). Бросьте, Хигинс! Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Приняв участие в этой затее, я беру на себя ответственность за судьбу девушки. Надеюсь, вы не попытаетесь злоупотребить ее положением? Ясно?
Хигинс. Что? Ах, вот вы о чем! Дело свято – можете быть спокойны. (Встает и объясняет.) Поймите, она ведь будет моей ученицей, а научить чему-нибудь можно лишь при условии, что личность ученика – священна. Я научил десятки американских миллионерш правильно говорить по-английски, а это самые красивые женщины в мире. Я человек закаленный. На уроке женщина для меня все равно что полено, и сам я не мужчина, а полено. Видите ли…
Миссис Пирс приоткрывает дверь. В руках у нее шляпа Элизы. Пикеринг усаживается в кресло перед камином.
Хигинс. (Живо.) Ну что, миссис Пирс? Все в порядке?
Миссис Пирс (в дверях). Если разрешите, мистер Хигинс, я хотела бы сказать вам несколько слов.
Хигинс. Разумеется, миссис Пирс. Входите. (Она входит в комнату.) Не сжигайте это (он берет у нее шляпу), я хочу сохранить ее как антикварную редкость.
Миссис Пирс. Только, пожалуйста, поосторожнее, сэр. Мне пришлось дать девушке слово, что я не сожгу эту шляпу, но немножко прокалить ее в печке отнюдь не мешает.
Хигинс (поспешно кладет шляпу на рояль). Спасибо за предупреждение! Так что же вы хотите мне сказать?
Пикеринг. Я не помешаю?
Миссис Пирс. Нисколько, сэр. Мистер Хигинс, очень прошу вас тщательно выбирать выражения в присутствии этой девушки.
Хигинс (строго). Разумеется. Я всегда чрезвычайно тщательно выбираю выражения. Почему вас это беспокоит?
Миссис Пирс (невозмутимо). Нет, сэр, вы вовсе не выбираете выражения, особенно если что-нибудь ищете или теряете терпение. Для меня это не имеет значения: я привыкла. Но, право, вам не следует ругаться при девушке.
Хигинс (возмущенно). Я – ругаюсь! (С пафосом.) Я никогда не ругаюсь. Терпеть не могу сквернословия. Какого черта вы имеете в виду?
Миссис Пирс (бесстрастно). Как раз это я и имею в виду, сэр. Вы злоупотребляете бранными словами. С проклятиями я готова примириться: «к черту», «на черта», «какого черта», «какому черту» – это еще куда ни шло…
Хигинс. Миссис Пирс! Что за выражения я слышу от вас! Ну, знаете!
Миссис Пирс (твердо)….но есть одно слово, которое я самым настоятельным образом прошу не употреблять. Девушка только что сама произнесла это слово, стукнувшись о дверь. Кстати, оно начинается на ту же букву. Девушке простительно, сэр, она с детства ничего другого не слышала. Но она не должна слышать этого слова от вас.
Хигинс (надменно). Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь произносил это слово, миссис Пирс. (Миссис Пирс пристально смотрит на него. Он вынужден добавить с мнимым беспристрастием судьи.) Разве в редкие минуты крайнего и справедливого возмущения.
Миссис Пирс. Еще сегодня утром, сэр, вы помянули этим словом свои ботинки, масло и хлеб.
Хигинс. Вот как! Но это же просто метафора, вполне естественная в устах поэта.
Миссис Пирс. Как бы это ни называлось, сэр, прошу вас не повторять этого слова при девушке.
Хигинс. Ну ладно, ладно, не буду. Это все?
Миссис Пирс. Нет, сэр. Присутствие девушки обязывает нас быть особенно аккуратными и опрятными.
Хигинс. Несомненно. Вы совершенно правы. Это очень важно.
Миссис Пирс. Ее нужно отучить от неряшливости в одежде и нельзя позволять ей разбрасывать повсюду свои вещи.
Хигинс (подходя к ней, торжественно). Золотые слова! Я как раз хотел обратить на это ваше внимание. (Отходит к Пикерингу, который наслаждается этим разговором.) Именно такие мелочи, Пикеринг, имеют огромное значение. Береги пенсы, а фунты сами себя сберегут – эту пословицу можно в равной мере отнести и к нашим личным привычкам и к деньгам. (Теперь Хигинс бросил якорь на коврике у камина с видом человека, занявшего неприступную позицию.)
Миссис Пирс. Да, сэр. В таком случае я попрошу вас не выходить к завтраку в халате или, по крайней мере, возможно реже пользоваться им вместо салфетки. А если вы еще будете так любезны и перестанете есть все с одной тарелки и запомните, что не следует ставить кастрюльку с овсянкой прямо на чистую скатерть, то у девушки перед глазами всегда будет полезный пример. Ведь на прошлой неделе вы чуть не подавились рыбьей костью, которая ни с того ни с сего очутилась в вашем варенье.
Хигинс (снявшись с якоря, снова берет курс к роялю). Допускаю, что такое может произойти со мной – по рассеянности. Во всяком случае, не часто. (Разозлившись.) Кстати, от моего халата чертовски разит бензином.
Миссис Пирс. Верно, мистер Хигинс. Но если вы будете вытирать руки…
Хигинс (вопит). Ну хорошо, хорошо, хорошо! Отныне я буду вытирать их о свои волосы.
Миссис Пирс. Надеюсь, вы не обиделись на меня, мистер Хигинс?
Хигинс (смутясь при мысли, что его могли заподозрить в столь недобрых чувствах). Что вы, что вы, миссис Пирс! Вы совершенно правы. Я буду крайне осмотрителен при девушке. Теперь все?
Миссис Пирс. Нет, сэр. Не разрешите ли мне дать ей пока один из японских халатов, которые вы привезли из-за границы? Я просто не решаюсь снова надеть на нее старое платье.
Хигинс. Разумеется, разрешаю. Берите все, что хотите. А теперь, наконец, все?
Миссис Пирс. Теперь все. Благодарю вас, сэр. (Уходит.)
Хигинс. Знаете, Пикеринг, у этой женщины совершенно превратное представление обо мне. Я человек скромный и застенчивый. Мне до сих пор кажется, что я не такой взрослый и внушительный, как другие. И тем не менее она глубоко убеждена, что я деспот, домашний тиран и сумасброд. Почему – не понимаю.
Миссис Пирс возвращается.
Миссис Пирс. Ну вот, сэр, неприятности уже начинаются. Пришел мусорщик Элфрид Дулитл и хочет вас видеть. Он говорит, что здесь его дочь.
Пикеринг (встает). Ого! Ну и ну! (Отступает к камину.)
Хигинс (быстро). Впустите-ка этого прохвоста.
Миссис Пирс. Слушаю, сэр. (Уходит.)
Пикеринг. А может быть, он вовсе не прохвост, Хигинс?
Хигинс. Вздор! Конечно прохвост!
Пикеринг. Прохвост он или нет, но, боюсь, у вас будут неприятности.
Хигинс (самоуверенно). Не думаю. А если уж будут, то скорее у него, чем у меня. И уж, конечно, мы услышим что-нибудь интересное.
Пикеринг. Насчет девушки?
Хигинс. Нет, я имею в виду его речь.
Пикеринг. О!
Миссис Пирс (в дверях). Дулитл, сэр. (Впускает Дулитла и уходит.)
Элфрид Дулитл – пожилой, но еще крепкий мусорщик в рабочей одежде и в шляпе, поля которой закрывают шею и плечи. У него энергичные, довольно интересные черты лица: он производит впечатление человека, которому одинаково чужды страх и совесть. У него на редкость выразительный голос результат привычки давать волю своим чувствам. В данный момент весь его вид говорит об оскорбленном достоинстве и решимости.
Дулитл (останавливается в дверях, стараясь понять, к кому из двоих он должен обратиться). Профессор Хигинс?
Хигинс. Да. Доброе утро. Садитесь.
Дулитл. Доброе утро, хозяин. (Опускается на стул с важностью сановной особы.) Я пришел по очень важному делу, хозяин.
Хигинс (Пикерингу). Вырос в Хоунслоу, мать, вероятней всего, из Уэльса. (Дулитлу, который смотрит на него разинув рот.) Что вам нужно, Дулитл?
Дулитл (угрожающе). Мне нужна моя дочь, вот что мне нужно. Понятно?
Хигинс. Вполне. Вы ведь ее отец, верно? Кому же она еще нужна, кроме вас? Я рад, что в вас еще жива искра отцовского чувства. Ваша дочь здесь, наверху. Забирайте ее немедленно.
Дулитл (встает, страшно обескураженный). Чего?
Хигинс. Забирайте свою дочь! Неужели вы думали, что я буду нянчиться с нею вместо вас?
Дулитл (протестуя). Ну-ну, погодите же, хозяин, да разве так можно? Разве так поступают с человеком? Девчонка – моя, вы ее забрали себе, а я с чем остаюсь? (Снова садится.)
Хигинс. Ваша дочь имела наглость явиться ко мне и потребовать, чтобы я научил ее правильно говорить, иначе ей не получить места продавщицы в цветочном магазине. Разговор происходил при этом джентльмене и моей экономке. (Наступая на него.) Как вы смели явиться ко мне и шантажировать меня? Вы ее нарочно сюда подослали.
Дулитл. Что вы, хозяин! Я тут ни при чем.
Хигинс. Нет, подослали. Откуда вы иначе узнали, что она здесь?
Дулитл (протестуя.) Легче, легче! Нельзя так сразу брать человека за горло!
Хигинс. Берегитесь, как бы за вас не взялась полиция! Чистой воды мошенничество! Он еще мне угрожает! Попытка выманить деньги налицо! Сейчас же звоню в полицию. (С решительным видом идет к телефону и открывает справочник.)
Дулитл. Да разве я с вас хоть фартинг потребовал? Вот этот джентльмен пусть скажет. (Пикерингу.) Сказал я хоть слово о деньгах?
Хигинс (бросает справочник и подходит к Дулитлу). Так зачем же вы пришли сюда?
Дулитл (заискивающе). Зачем всякий пришел бы на моем месте? Будьте человеком, хозяин.
Хигинс (обезоруженный). Элфрид, скажите, вы нарочно подослали ее сюда?
Дулитл. Не подсылал, хозяин, чтоб мне с места не сойти. Могу хоть на Библии присягнуть, я девчонку уже два месяца в глаза не видел.
Хигинс. Откуда же вы узнали, где она?
Дулитл («сладко, печально»). Сейчас объясню, хозяин, дайте только рот раскрыть. Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить!
Хигинс. Пикеринг, да этот парень – прирожденный оратор! Обратите внимание на инстинктивную ритмичность его фразы: «Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить». Сентиментальная риторика. Вот что значит примесь уэльской крови. Попрошайничество и жульничество отсюда же.
Пикеринг. Помилосердствуйте, Хигинс! Я ведь сам с Запада. (Дулитлу) Откуда вы узнали, что девушка здесь, если не подослали ее?
Дулитл. Вот как получилось, хозяин. Дочка как поехала к вам, так взяла с собой мальчонку на такси прокатить. Он сынишкой ее квартирной хозяйке приходится. Вот он и болтался тут, думал, она его обратно тоже подвезет. А она, как узнала, что вы ее здесь оставляете, возьми да и пошли его домой за своим барахлишком, а он на меня и нарвался на углу Лонг-экр и Эндел-стрит.
Хигинс. У пивной, не так ли?
Дулитл. Пивная – клуб для бедного человека, хозяин. Что же тут дурного?
Пикеринг. Дайте же ему договорить, Хигинс.
Дулитл. Вот он и рассказал мне, какое дело вышло. Спрашиваю вас, что я должен был почувствовать, как поступить? Я же ей отец! Я говорю мальчонке: тащи сюда ее барахло, говорю я…
Пикеринг. А почему вы сами не пошли за вещами?
Дулитл. Да хозяйка мне их ни в жизнь не доверит. Бывают, знаете, такие бабы. Мальчонка – и тот, поросенок, пенни сорвал, иначе ни в какую не хотел доверить. А я человек услужливый. Взял да и притащил вещички сюда. Вот и все.
Хигинс. Что это за вещи?
Дулитл. Музыкальный инструмент, хозяин, парочка фотографий, кое-какие побрякушки да птичья клетка. Платьев брать она не велела. Что я должен был подумать, а, хозяин? Я вас спрашиваю. Что я должен был подумать, как ее родитель, спрашиваю я вас.
Хигинс. Итак, вы пришли, чтоб спасти ее от позора более страшного, чем смерть? Не так ли?
Дулитл (с заметным облегчением – он доволен тем, что его так хорошо поняли.) Именно так, хозяин. Именно так.
Пикеринг. Но зачем же вы принесли ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда?
Дулитл. А разве я сказал, что собираюсь? Заикнулся я хоть раз насчет этого?
Хигинс (решительно). Вы ее заберете, и заберете немедленно. (Подходит к камину и звонит.)
Дулитл. Нет, хозяин, не надо так говорить. Не такой я человек, чтобы собственной дочке встать поперек дороги. Тут, можно сказать, перед ней карьера открывается, а я…
В дверях, ожидая приказаний, появляется миссис Пирс.
Хигинс. Миссис Пирс, за Элизой пришел ее отец. Он хочет увести ее. Выдайте ему девушку. (Отходит к роялю с видом человека, решившего умыть руки)
Дулитл. Да нет, тут ошибка вышла, послушайте…
Миссис Пирс. Он не может увести ее, мистер Хигинс. Ей же не в чем идти – вы сами велели мне сжечь ее платье.
Дулитл. Правильно! Не могу же я тащить девчонку по улице в чем мать родила, как какую-нибудь мартышку! Ну, сами посудите, разве это можно?
Хигинс. Вы заявили мне, что требуете свою дочь. Вот и заберите ее. А если она сидит без платья – пойдите и купите.
Дулитл (в отчаянии.) А где платье, в котором она пришла к вам? Кто его сжег – я или эта ваша мадам?
Миссис Пирс. В этом доме я, с вашего позволения, не мадам, а экономка. Я послала за платьем для вашей дочери. Когда его принесут, можете взять ее домой. Подождите на кухне. Сюда, пожалуйста.
Расстроенный Дулитл идет за ней к двери, затем останавливается и после некоторого колебания вкрадчиво обращается к Хигинсу.
Дулитл. Да погодите минутку, хозяин, не торопитесь. Мы ведь с вами люди воспитанные, верно?
Хигинс. Вот оно что! Мы – люди воспитанные! Вам, пожалуй, лучше пока уйти, миссис Пирс.
Миссис Пирс. Я тоже так думаю, сэр! (С достоинством удаляется.)
Пикеринг. Слово за вами, мистер Дулитл.
Дулитл (Пикерингу). Спасибо, хозяин. (Хигинсу, который пытается укрыться на стуле у рояля: он избегает чрезмерной близости к посетителю, потому что от Дулитла исходит свойственный его профессии запах.) А знаете, хозяин, по правде говоря, вы мне здорово нравитесь. Если девчонка вам так уж нужна, пусть остается. Ведь если глядеть на нее как на женщину, ей-богу, она годится по всем статьям – хорошая, красивая девка. А как дочь – ее прокормить себе дороже станет. Я с вами начистоту говорю и только одного прошу – не забывайте мои отцовские права! Вы, я вижу, человек справедливый, хозяин! Не хотите же вы, чтобы я уступил ее просто так, за здорово живешь? Что для вас пять фунтов? И что для меня Элиза! (Возвращается к стулу и торжественно садится.)
Пикеринг. Вам следует знать, Дулитл, что у мистера Хигинса вполне благородные намерения.
Дулитл (Пикерингу). Само собой, благородные, хозяин. Иначе я запросил бы пятьдесят фунтов.
Хигинс (возмущенно). Вы хотите сказать, бессердечный негодяй, что продали бы родную дочь за пятьдесят фунтов?
Дулитл. Продавать ее заведенным порядком мне ни к чему. Другое дело, услужить такому джентльмену, как вы. Тут я готов на все, верьте слову.
Пикеринг. Неужели вы начисто лишены моральных устоев?
Дулитл (откровенно). Я не могу позволить себе такую роскошь, хозяин. Да и вы не смогли бы, окажись вы в моей шкуре. Да и что тут особенного? Как, по-вашему, уж если Элизе перепало кой-что, почему бы и мне не попользоваться? А?
Хигинс (озабоченно). Право, не знаю, что и делать, Пикеринг. Дать этому типу хоть фартинг – с точки зрения морали равносильно преступлению. И в то же время я чувствую, что в его требованиях есть какая-то первобытная справедливость.
Дулитл. То-то и оно, хозяин. Вот и я так думаю. Отцовское сердце, как ни скажите.
Пикеринг (Хигинсу). Я понимаю вашу щепетильность, но едва ли правильно будет…
Дулитл. Зачем так говорить, хозяин. Вы на это дело взгляните с другой стороны. Кто я такой? Я вас спрашиваю, кто я такой? Я бедняк и человек недостойный, вот я кто. Вдумайтесь-ка, что это значит? А это значит, что буржуазная мораль не для таких, как я. Если я чего-нибудь захотел в этой жизни, мне твердят одно и то же – ты человек недостойный, тебе нельзя. А ведь нужды у меня такие же, как у самой предостойной вдовы, которая в одну неделю получает деньги с шести благотворительных обществ за смерть одного и того же мужа. Мне нужно не меньше, чем достойному, – мне нужно больше. У меня аппетит не хуже, чем у него, а пью я куда больше. Мне и развлечься надо, потому что я человек мыслящий. Мне и на людях побыть охота, и песню послушать, и музыку, когда на душе худо. А дерут с меня за все, как с достойного. Чем же она оборачивается, ваша буржуазная мораль? Да это же просто предлог, чтобы мне ни шиша не дать. Поэтому я и обращаюсь к Вам, как к джентльменам, и прошу поступить со мной по-честному. Я ведь с вами играю начистоту – не притворяюсь достойным. Был я всю жизнь недостойным, таким и останусь. Мне это даже нравится, если хотите знать. Так неужели вы обманете человека и не дадите ему настоящую цену за его родную дочь, которую он в поте лица растил, кормил и одевал, пока она не стала достаточно взрослой, чтобы заинтересовать сразу двух джентльменов? Разве пять фунтов такая уж крупная сумма? Я спрашиваю вас и жду вашего решения.
Хигинс (подходит к Пикерингу). А знаете, Пикеринг, займись мы этим человеком, он уже через три месяца мог бы выбирать между постом министра и церковной кафедрой в Уэльсе.
Пикеринг. Что вы на это скажете, Дулитл?
Дулитл. Нет, уж увольте, хозяин, не подойдет. Доводилось мне слушать и проповедников и премьер-министров – потому человек я мыслящий и для меня всякая там политика, религия или социальные реформы – тоже развлечение. Но скажу вам одно: куда ни кинь – всюду жизнь собачья. Так что мне уж лучше быть недостойным бедняком. Как сравнишь различные положения в обществе, то в моем, ну в общем на мой вкус, в нем хоть изюминка есть.
Хигинс. Дадим ему, пожалуй, пять фунтов.
Пикеринг. Боюсь, он истратит их без всякой пользы.
Дулитл. С пользой, хозяин, лопни мои глаза! Вы, может, боитесь, что я их припрячу и буду на них жить себе понемножку, не работая? Не беспокойтесь, к понедельнику от них уж пенни не останется, и потопаю я на работу, будто у меня их и не было. В нищие не скачусь, можете быть спокойны. Малость кутну со старухой, сам отведу душу и другим заработать дам. А вам приятно будет знать, что деньги не выброшены на ветер. Да вы и сами их разумнее не истратите.
Хигинс (вынимая бумажник, подходит к Дулитлу). Нет, он неотразим. Дадим ему десять. (Протягивает две кредитки.)
Дулитл. Не надо, хозяин: у старухи не хватит духу истратить десятку. Да и у меня, пожалуй, тоже. Десять фунтов – большие деньги; заведутся они, и человек становится расчетливым, а тогда прощай счастье! Нет, дайте мне столько, сколько я прошу, хозяин, – ни больше ни меньше.
Пикеринг. Дулитл, почему вы не женитесь на этой вашей старухе? Я не склонен поощрять безнравственность.
Дулитл. Вот вы ей это и скажите, хозяин, скажите! Я-то со всем удовольствием. Ведь сейчас кто страдает? Я. Власти у меня нет над ней: я и угождай ей, и подарки делай, и платья покупай. Грех да и только! Я раб этой женщины, хозяин, а все потому, что я ей не муж. И она это знает. Попробуйте-ка, заставьте ее выйти за меня. Послушайтесь моего совета, хозяин: женитесь на Элизе, пока она еще молодая и не смыслит, что к чему. Не женитесь – потом пожалеете. А женитесь – потом пожалеет она. Так уж пусть лучше она пожалеет, поскольку вы мужчина, а она всего-навсего баба и все равно своего счастья не понимает.
Хигинс. Пикеринг, если мы еще минуту послушаем этого человека, у нас не останется никаких убеждений. (Дулитлу.) Пять фунтов? Так вы, кажется, сказали?
Дулитл. Покорно благодарю, хозяин.
Хигинс. Итак, вы отказываетесь взять десять?
Дулитл. Сейчас отказываюсь. Как-нибудь в другой раз, хозяин.
Хигинс (вручает ему кредитку). Получите.
Дулитл. Спасибо, хозяин. Счастливо оставаться. (Дулитл спешит к двери, чтобы поскорее улизнуть со своей добычей. На пороге он сталкивается с изящной, ослепительно чистой молодой японкой в скромном голубом кимоно, искусно вышитом мелкими белыми цветами жасмина. За ней следует миссис Пирс. Он почтительно уступает ей дорогу и извиняется.) Прошу прощения, мисс.
Японка. Провалиться мне на этом месте! Родную дочку не признал!
Дулитл. Лопни мои глаза! Элиза!
Хигинс. Кто это? Она?
Пикеринг. Боже мой, ну и ну!
Элиза. А верно, я как придурковатая выгляжу?
Хигинс. Придурковатая?
Миссис Пирс (у двери). Прошу вас, мистер Хигинс, не говорите лишнего, а то девушка Бог весть что о себе возомнит.
Хигинс (спохватившись). Ах да, да, совершенно верно, миссис Пирс. (Элизе.) Черт знает, что у вас за идиотский вид.
Миссис Пирс. Пожалуйста, сэр!
Хигинс (поправляясь). Я хотел сказать, очень глупый вид.
Элиза. Вот надену шляпку, так будет получше. (Берет свою шляпу, надевает ее и с непринужденностью светской дамы шествует к камину.)
Хигинс. Ей-богу, новая мода! А ведь могло выглядеть ужасно!
Дулитл (с отцовской гордостью). Батюшки, вот не думал, что ее можно отмыть до такой красоты, хозяин. Она делает мне честь, верно?
Элиза. Подумаешь, великое дело здесь мытой ходить! Вода в кране и тебе горячая, и холодная, плескайся, сколько влезет. Полотенца пушистые, а вешалка под ними такая горячая, что пальцы обожжешь, и щетки мягкие есть, чтобы тереться, а уж мыла полная чашка, и запах от него – ну, что твой первоцвет. Теперь понятно, почему все леди такие намытые ходят. Мытье им одно удовольствие. Вот посмотрели бы они, как оно нам достается!
Хигинс. Очень рад, что моя ванна пришлась вам по вкусу.
Элиза. И вовсе не все мне по вкусу. Уж как там хотите, а я скажу – не постесняюсь. Вот миссис Пирс знает.
Хигинс. Какой-нибудь непорядок, миссис Пирс?
Миссис Пирс (мягко). Пустяки, сэр. Право, не стоит говорить об этом.
Элиза. Покалечить я его хотела, вот что. Со стыда не знаешь, куда глаза девать. Потом-то я справилась, взяла да полотенце на него и навесила.
Хигинс. На кого?
Миссис Пирс. На зеркало, сэр.
Хигинс. Дулитл, вы слишком строго воспитали свою дочь.
Дулитл. Я? А я ее и не воспитывал. Так разве постегаешь ремнем для порядку. Вы уж не взыщите, хозяин. Не привыкла она еще – вот в чем штука. Поживет у вас, так научится свободному поведению, как в ваших кругах полагается.
Элиза. Не стану я учиться свободному поведению: я не какая-нибудь, я девушка порядочная.
Хигинс. Элиза, если вы еще раз скажете, что вы порядочная девушка, отец заберет вас домой.
Элиза. Как же, заберет! Держи карман шире! Плохо вы моего папашу знаете. Он сюда пришел, чтобы из вас деньжат выжать да нализаться как следует – только и всего.
Дулитл. А что мне еще с деньгами делать! В церковную кружку бросить, что ли? (Элиза показывает ему язык. Он так взбешен этим, что Пикерингу приходится встать между ними.) Ты у меня язык попридержи да смотри, не вздумай с этим джентльменом разные штучки откалывать, а то я тебе по первое число всыплю. Поняла?
Хигинс. Не хотите ли вы дать ей еще какие-нибудь наставления, Дулитл? Или, может быть, благословить ее на прощанье?
Дулитл. Нет, хозяин. Не такой я отпетый дурак, чтобы своим деткам выложить все, что знаю. С ними и без того не совладаешь. Хотите, чтоб Элиза ума набралась, возьмите ремень, хозяин, да поучите ее сами. Счастливо оставаться, джентльмены! (Направляется к двери.)
Хигинс (повелительно). Стойте! Вы должны регулярно навещать свою дочь. Это ваш отцовский долг. У меня есть брат священник, он поможет вам направить ее.
Дулитл (уклончиво). Ну как же, как же. Я приду, хозяин. На этой неделе, правда, не смогу, работаю очень далеко. Но малость попозже можете на меня рассчитывать. Всего доброго, джентльмены! Всего доброго, мэм! (Снимает шляпу перед миссис Пирс, но та не отвечает на его приветствие, и он направляется к двери. Обернувшись на пороге, он подмигивает Хигинсу, видимо, соболезнуя ему по поводу тяжелого характера миссис Пирс; затем уходит вслед за ней.)
Элиза. Не верьте вы этому старому брехуну. Да он скорее согласится, чтобы вы на него бульдога напустили, чем священника. И не ждите – он сюда скоро не сунется.
Хигинс. Мы не очень жаждем видеть его, Элиза. А вы?
Элиза. А я уж и подавно. Век бы мне его не видеть. Срамит меня только с мусором возжается, вместо того чтоб свое дело делать.
Пикеринг. Чем он занимается, Элиза?
Элиза. Людям зубы заговаривает да денежки в свой карман перекачивает. А сам-то он – землекоп. Бывает, и теперь берется за лопату, когда поразмяться захочет, и хорошие деньги зашибает. А вы больше не хотите звать меня мисс Дулитл?
Пикеринг. Простите, мисс Дулитл, я оговорился.
Элиза. Да нет, я не обижаюсь. Просто очень уж это красиво получается мисс Дулитл. А можно мне сейчас такси нанять и проехаться по Тотенхэм Корт-роуд? Я бы там вышла и велела подождать. Вот бы наши девчонки утерлись – пусть знают свое место. Разговаривать с ними я бы, понятное дело, не стала.
Пикеринг. Лучше подождите, пока вам принесут новое модное платье.
Хигинс. Кроме того, заняв высокое положение, не следует забывать старых друзей. Мы это называем снобизмом.
Элиза. Нет уж, вы меня теперь с ихней компанией не путайте. Было время, насмехались они надо мной почем зря, а теперь я им нос утру. Конечно, если я получу новые модные платья, можно и подождать. Больно мне заиметь их охота. Миссис Пирс говорит, что вы мне разные дадите – одни днем носить, другие ночью в постель надевать. А по-моему, чего деньги зря переводить, раз в них никому не покажешься? А потом, мне и думать страшно: зимой раздеваться да на ночь холодные вещи на себя напяливать!
Миссис Пирс (возвращается). Идемте, Элиза. Там принесли платья, нужно примерить.
Элиза. Ууух ты! А… а… а… ах! Уй… ий… и. (Вылетает из комнаты.)
Миссис Пирс (следуя за ней). Не надо носиться сломя голову, моя милая. (Закрывает за собой дверь.)
Хигинс. Трудное нам предстоит дело, Пикеринг.
Пикеринг (убежденно). Да, Хигинс. Очень трудное.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Приемный день у миссис Хигинс. Еще никого нет. Квартира ее расположена на набережной Челси, и гостиная всеми тремя окнами выходит на реку; только потолок в ней ниже, чем был бы в таком доме, будь он более старинной постройки. Окна – во всю стену. Они распахнуты, открывая доступ на балкон, уставленный цветами в горшках. Слева, если стоять лицом к окнам, – камин; в правой стене, поближе к углу, – дверь. Миссис Хигинс воспитана на Моррисе и Берн-Джонсе, и ее жилище разительно отличается от квартиры ее сына на Уимпол-стрит: ни лишней мебели, ни полочек, ни безделушек. Посреди комнаты – просторная тахта. Подушки и парчовое покрывало на ней, ковер на полу, моррисовские обои и моррисовские набивные занавеси на окнах – вот и все убранство гостиной, но оно настолько изысканно, что его грешно было бы прятать за нагромождением никому не нужных вещей. На стенах несколько хороших картин (в манере Берн-Джонса, а не Уистлера), лет за тридцать до этого выставлявшихся в галерее Гровнер. Пейзаж: всего один: Сесил Лоусон в масштабах Рубенса. Здесь же портрет миссис Хигинс в молодости; на ней, наперекор тогдашней моде, один из тех очаровательных россетиевских костюмов, которым так карикатурно подражали невежды, чьими стараниями был насажден безвкусный эстетизм семидесятых годов.
В углу, наискосок от двери, за простым, но элегантным письменным столиком с пуговкой звонка под рукою, сидит миссис Хигинс и пишет письмо; ныне ей за шестьдесят, и она давным-давно не дает себе труда одеваться не так, как требует мода. В глубине, между столиком и окном, чипендейловский стул. На другой стороне комнаты, подальше от окна, елизаветинское кресло с грубой резьбой в духе Иниго Джонса. Там же рояль в чехле со строчкой. Между камином и окнами диванчик с обивкой из моррисовского кретона. Время – пятый час пополудни. Дверь с шумом распахивается, входит Хигинс в шляпе.
Миссис Хигинс (тревожно). Генри! (Укоризненно.) Зачем ты явился? Ты же обещал не приходить в мои приемные дни.
В то время как он наклоняется поцеловать ее, она снимает с него шляпу и подает ему.
Хигинс. А, черт! (Швыряет шляпу на стол.)
Миссис Хигинс. Сейчас же возвращайся домой.
Хигинс (целуя ее). Знаю, знаю, мама. Я пришел нарочно.
Миссис Хигинс. И напрасно. Я не шучу, Генри. Ты распугал всех моих друзей. Стоит им встретиться с тобой, как они перестают бывать у меня.
Хигинс. Вздор! Светских разговоров я вести не умею, что верно, то верно, но это никого не трогает. (Садится на диван.)
Миссис Хигинс. Ты так думаешь? Светские разговоры! А не светские ты умеешь вести? Нет, милый, уходи, я решительно настаиваю на этом.
Хигинс. Не могу. Вы должны помочь мне в одном деле… связанном с фонетикой.
Миссис Хигинс. Нет, милый. К сожалению, твои гласные выше моего понимания. Я с удовольствием получаю от тебя хорошенькие открытки, стенографированные по твоей системе, но читать мне приходится написанные обычными буквами подстрочники, которые ты предусмотрительно прикладываешь.
Хигинс. Тогда считайте, что мое дело не связано с фонетикой.
Миссис Хигинс. Но ты же сам так сказал.
Хигинс. То есть оно связано, но вы к ней не будете иметь отношения. Я тут подцепил девушку…
Миссис Хигинс. А не значит ли это, что девушка подцепила тебя?
Хигинс. Ничего подобного. О любви здесь и речи нет.
Миссис Хигинс. Очень жаль!
Хигинс. Почему?
Миссис Хигинс. Ты еще ни разу не влюблялся в женщину моложе сорока пяти. Когда наконец ты поймешь, что на свете есть немало прелестных девушек?
Хигинс. Не собираюсь возиться с девушками. Мой идеал – женщина, насколько это возможно, похожая на вас. Ни одна девушка никогда мне всерьез не понравится: у меня свои привычки, а старые привычки трудно менять. (Порывисто вскакивает, начинает шагать из угла в угол, побрякивая ключами и мелочью в кармане.) Кроме того, все они дуры.
Миссис Хигинс. Знаешь, Генри, что бы ты сделал, если бы по-настоящему любил меня?
Хигинс. А, черт! Ну что еще? Женился бы, наверное, да?
Миссис Хигинс. Нет. Вынул бы руки из карманов и перестал носиться по комнате. (С жестом отчаяния он повинуется и снова усаживается на диван.) Вот пай-мальчик. А теперь расскажи мне о девушке.
Хигинс. Она сегодня явится к вам с визитом.
Миссис Хигинс. Не припоминаю, чтобы я ее приглашала.
Хигинс. Вы не приглашали. Пригласил я. Вы бы ее ни за что не пригласили, если бы знали, кто она.
Миссис Хигинс. Интересно! А почему?
Хигинс. Вот как обстоит дело. Она простая цветочница. Я подобрал ее на панели.
Миссис Хигинс. И пригласил ко мне в мой приемный день!
Хигинс (подходит к матери, стараясь задобрить ее). Не беспокойтесь, все будет в порядке. Я научил ее правильно говорить и дал точные указания, как вести себя. Ей строго-настрого велено касаться только двух тем: погоды и здоровья. Словом, ничего не значащие фразы: «Как поживаете? " – „Сегодня прекрасный день“ – и никаких рассуждений на общие темы. Уверяю вас, это совершенно безопасно!
Миссис Хигинс. Безопасно! Безопасно говорить о нашем здоровье! О внутренностях! Может быть, даже о внешности! Как мог ты так наглупить, Генри!
Хигинс (нетерпеливо). Должна же она о чем-то говорить. (Вовремя берет себя в руки и снова садится.) Да не волнуйтесь вы, пожалуйста, из-за пустяков, все будет хорошо. Пикеринг тоже принимает в ней участие. Я держал с ним пари, что через полгода смогу выдать ее за герцогиню. Я работаю с ней всего несколько месяцев, но она уже сделала потрясающие успехи. Пари я непременно выиграю. У нее превосходный слух, и воспринимает она все куда лучше, чем мои ученики из буржуазных кругов, потому что ее приходится учить с самого начала, как учат чужому языку. Сейчас она уже говорит по-английски почти так, как вы по-французски.
Миссис Хигинс. Во всяком случае, это уже не так страшно.
Хигинс. И да и нет.
Миссис Хигинс. Как это понимать?
Хигинс. Видите ли, произношение она освоила. Но сейчас мне уже надо думать не только о том, как эта девушка произносит, но и о том, что она произносит. И вот тут-то…
Разговор их прерывает горничная, докладывающая о гостях.
Горничная. Миссис и мисс Эйнсфорд Хилл. (Уходит.)
Хигинс. Чтоб их черт побрал! (Вскакивает, хватает со стола свою шляпу и спешит к двери, но прежде чем успевает до нее дойти, мать уже представляет его входящим.)
Миссис и мисс Эйнсфорд Хилл – те самые мать и дочь, которые укрывались от дождя в Ковент-Гардене. Мать – хорошо воспитанная, спокойная женщина, но чувствуется, что она находится в постоянном напряжении, как все люди с ограниченными средствами. Дочь усвоила светский тон девушки, постоянно бывающей в обществе: бравада прикрашенной бедности.
Миссис Эйнсфорд Хилл (мистеру Хигинсу). Здравствуйте!
Здороваются.
Мисс Эйнсфорд Хилл. Здравствуйте.
Здороваются.
Миссис Хигинс (представляя). Мой сын Генри.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Ваш знаменитый сын! Я жаждала познакомиться с вами, профессор Хигинс.
Хигинс (мрачно, не двигаясь с места). Очень рад. (Облокачивается на рояль и небрежно кивает ей.)
Мисс Эйнсфорд Хилл (доверительно-фамильярно, приближаясь к нему). Здравствуйте.
Хигинс (уставившись на нее). Я вас уже где-то видел. Где и когда – не имею представления, но голос ваш я тоже слышал. (Мрачно.) Впрочем, это совершенно безразлично. Что же вы стоите? Сели бы куда-нибудь.
Миссис Хигинс. К сожалению, должна признаться, что мой знаменитый сын совершенно не умеет вести себя. Не обижайтесь на него.
Мисс Эйнсфорд Хилл (весело). Ну что вы! (Садится в елизаветинское кресло.)
Миссис Эйнсфорд Хилл (слегка растерянно). Конечно, конечно. (Садится на тахту слева от дочери и справа от миссис Хигинс, которая повернула к ним свое кресло у письменного стола.)
Хигинс. Разве я нахамил? Простите, нечаянно. (Подходит к окну и, став спиной к гостям, созерцает реку и цветы Бетерси-парка с таким видом, словно перед ним вечные льды.)
Горничная возвращается с Пикерингом.
Горничная. Полковник Пикеринг. (Уходит.)
Пикеринг. Здравствуйте, миссис Хигинс.
Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. Вы знакомы? Миссис Эйнсфорд Хилл, мисс Эйнсфорд Хилл.
Обмен поклонами. Полковник ставит чипендейловский стул между миссис Хигинс и миссис Эйнсфорд Хилл и усаживается.
Пикеринг. Генри рассказал вам о цели нашего визита?
Хигинс (через плечо). Не успел досказать, черт побери.
Миссис Хигинс. Генри, Генри, прошу тебя.
Миссис Эйнсфорд Хилл (приподнимаясь). Может быть, мы помешали?
Миссис Хигинс (встает и снова усаживает ее). Что вы, что вы! Напротив, вы пришли как раз вовремя. Мы хотим познакомить вас с одной нашей приятельницей.
Хигинс (обрадованный, поворачивается к ним). Черт побери, а ведь верно! Нам нужно, чтоб было несколько человек. Вы вполне сойдете.
Горничная возвращается, за ней следует Фредди.
Горничная. Мистер Эйнсфорд Хилл.
Хигинс (чуть ли не в полный голос). А, черт! Еще одного нелегкая принесла!
Фредди (здороваясь с миссис Хигинс). Здрассте.
Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. (Знакомит.) Полковник Пикеринг.
Фредди (кланяется). Здрассте.
Миссис Хигинс. Вы, вероятно, не знакомы с моим сыном, профессором Хигинсом?
Фредди (подходя к Хигинсу). Здрассте.
Хигинс (разглядывает его так, будто перед ним вор-карманник). Голову даю на отсечение, что и вас я где-то уже видел. Только вот где?
Фредди. Что-то не припомню.
Хигинс (покорившись судьбе). Впрочем, это не имеет значения. Садитесь. (Пожимает руку Фредди и чуть ли не силой усаживает его на тахту. Сам переходит на другую сторону.) Ну вот, мы и уселись. (Садится рядом с миссис Эйнсфорд Хилл, слева.) О чем же, черт возьми, нам говорить до прихода Элизы?
Миссис Хигинс. Генри, на вечерах Королевского общества[3] ты, вероятно, неотразим, но в менее торжественных случаях тебя трудно переносить.
Хигинс. В самом деле? Сожалею. (Внезапно просияв.) А знаете, наверно, действительно трудно. (Хохочет.) Ха-ха-ха!
Мисс Эйнсфорд Хилл (которая находит Хигинса вполне приемлемым с матримониальной точки зрения). Я понимаю вас. Я сама не умею вести светские разговоры. Ах, почему люди так редко бывают откровенны и говорят не то, что думают!
Хигинс (мрачнея). И слава Богу!
Миссис Эйнсфорд Хилл (перехватывая реплику дочери). Но почему?
Хигинс. То, что, как люди полагают, они обязаны думать, видит Бог, уже достаточно мерзко. А то, что они на самом деле думают, вообще ни в какие ворота не лезет. Вы полагаете, вам будет приятно, если я сейчас возьму и выложу все, что думаю на самом деле?
Мисс Эйнсфорд Хилл (весело). Неужели это так неприлично?
Хигинс. Неприлично? Куда к черту неприлично! Просто непристойно!
Миссис Эйнсфорд Хилл (серьезно). Я уверена, что вы шутите, мистер Хигинс.
Хигинс. Видите ли, все мы в той или иной мере дикари. Предполагается, что мы цивилизованны и культурны – разбираемся в поэзии, философии, науке, искусстве и прочее, и прочее. Но скажите, многие ли из нас знают, что представляют собой хотя бы одни эти названия? (К мисс Хилл.) Ну что вы, например, понимаете в поэзии? (К миссис Хилл.) Что вы знаете о науке? (Указывая на Фредди.) А вот он, что он смыслит в искусстве, науке и вообще в чем бы то ни было? А что я сам, черт побери, знаю о философии?
Миссис Хигинс (предостерегающе). Или об умении вести себя в обществе.
Горничная (открыв дверь). Мисс Дулитл. (Уходит.)
Хигинс (поспешно вскакивает и бежит к матери). Мама, это она. (Становится за креслом матери и, поднявшись на цыпочки, глазами показывает Элизе, кто из дам хозяйка дома.)
Элиза, изысканно одетая, производит такое впечатление своей красотой и элегантностью, что все невольно встают. Направляемая сигналами Хигинса, она с заученной грацией подходит к миссис Хигинс.
Элиза (произносит слова с педантичной чистотой, приятным музыкальным голосом). Здравствуйте, миссис Хигинс. Мистер Хигинс передал мне ваше приглашение.
Миссис Хигинс (приветливо). Да, да! Я очень рада вас видеть.
Пикеринг. Здравствуйте, мисс Дулитл.
Элиза. Если не ошибаюсь, полковник Пикеринг?
Миссис Эйнсфорд Хилл. Я уверена, что мы с вами уже встречались, мисс Дулитл. Я помню ваши глаза.
Элиза. Здравствуйте. (Грациозно опускается на тахту, заняв место, которое только что освободил Хигинс.)
Миссис Эйнсфорд Хилл (знакомя). Моя дочь Клара.
Элиза. Здравствуйте.
Клара (возбужденно). Здравствуйте! (Садится рядом с Элизой, пожирая ее глазами.)
Фредди (подходя). Я уже имел счастье…
Миссис Эйнсфорд Хилл (представляя). Мой сын Фредди.
Элиза. Здравствуйте.
Фредди кланяется и совершенно покоренный, опускается в елизаветинское кресло.
Хигинс (внезапно). Ах, черт побери, теперь я вспомнил!
Все уставились на него.
Хигинс. Ковент-Гарден! (Сокрушенно.) Вот нелегкая!
Миссис Хигинс. Генри! (Заметив, что он собирается сесть на ее письменный столик.) Не садись на мой письменный стол – сломаешь.
Хигинс (хмуро). Прошу прощения.
Направляется к дивану, но по дороге спотыкается о каминную решетку и роняет щипцы. Ругаясь сквозь зубы, приводит все в порядок и, завершив наконец свое неудачное путешествие, обрушивается на диван с такой силой, что диван трещит. Миссис Хигинс наблюдает за ним, но сдерживается и молчит. Долгая тягостная пауза.
Миссис Хигинс (прерывая молчание). Как вы думаете, будет сегодня дождь?
Элиза. Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части Британских островов, постепенно захватит и восточные районы. Судя по барометру, существенных перемен в состоянии атмосферы не предвидится.
Фредди. Ха-ха-ха! Как смешно!
Элиза. Что тут смешного, молодой человек? Держу пари, я все сказала, как надо.
Фредди. Восхитительно!
Миссис Эйнсфорд Хилл. Надеюсь, в этом году не будет неожиданного похолодания! Кругом столько случаев инфлюэнцы. А наша семья так подвержена ей – каждую весну все заболевают.
Элиза (мрачно). Тетка у меня померла, так тоже сказали – от инфлюэнцы.
Миссис Эйнсфорд Хилл сочувственно прищелкивает языком.
Элиза (тем же трагическим тоном.) А мое такое мнение – пришили старуху.
Миссис Хигинс (озадаченно). Пришили?
Элиза. Факт! Боже ж ты мой, с чего бы это ей помирать от инфлюэнцы? Прошлый год она дифтеритом болела – и то как с гуся вода. Она аж посинела, я своими глазами видела. Все уж думали, ей крышка, а папаша мой возьми ложку да и начни ей в глотку джин лить, так она сразу очухалась и полложки откусила.
Миссис Эйнсфорд Хилл (потрясенная). Господи!
Элиза (нагромождая улики). Ну, скажите на милость, с чего бы такой здоровенной тетке вдруг помереть от инфлюэнцы! А куда девалась ее новая соломенная шляпа, что должна была достаться мне? Стибрили! Вот я и говорю: кто шляпу стибрил, тот и тетку пришил!
Миссис Эйнсфорд Хилл. А что это значит – пришил?
Хигинс (поспешно). О, это модное светское выражение. Пришить человека значит убить его.
Миссис Эйнсфорд Хилл (Элизе, в ужасе). Неужели вы серьезно думаете, что вашу тетушку убили?
Элиза. Великое дело! Да эта публика могла пристукнуть ее за шляпную булавку, не то что за целую шляпу.
Миссис Эйнсфорд Хилл. И все же вашему отцу не следовало вливать ей в горло алкоголь. Это действительно могло убить ее.
Элиза. Кого? Ее? Да для нее джин – что материнское молоко для младенца. Моему ли папаше не знать, что за штука джин? Он на своем веку немало за галстук залил.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Вы хотите сказать, что ваш отец много пил?
Элиза. Пил? Лакал без передышки, черт бы его подрал!
Миссис Эйнсфорд Хилл. Как вы, должно быть, страдали!
Элиза. Нисколечко! Как я замечала, это ему только на пользу шло. Да он и не то чтобы подряд глушил, запоем. (Весело.) Так, бывало, загуляет время от времени. Он, когда выпивши, куда лучше становится. Вот сидит он без работы, а мать дает ему четыре пенса и велит домой не приходить, пока он не напьется, потому что тогда он веселый да ласковый. Многим женщинам приходится своих мужей поить, а то, пока они не выпивши, с ними и житья нет. (Окончательно почувствовав себя как дома.) Тут ведь какой переплет получается. Вот, к примеру, человек совесть имеет, так трезвого она его ух как заедает, и он от этого на стенку лезет. А долбанет стаканчик-другой, горя как не бывало. (К Фредди, который корчится от сдерживаемого смеха.) Эй, молодой человек! Вы чего ржете?
Фредди. Ах, эти модные светские выражения. До чего же здорово они у вас получаются!
Элиза. А если здорово, так чего зубы скалить. (Хигинсу.) Разве я сказала, чего не следует?
Миссис Хигинс (опередив сына). Нет, что вы, мисс Дулитл!
Элиза. Слава тебе Господи! (С увлечением.) Я ведь что говорю…
Хигинс (поднимаясь и глядя на часы). Гм…
Элиза (взглянув на него, понимает намек и встает). Простите, мне пора идти.
Все встают. Фредди направляется к двери.
Мне было так приятно познакомиться с вами. До свиданья.
(Прощается с миссис Хигинс.)
Миссис Хигинс. До свиданья.
Элиза. До свиданья, полковник Пикеринг.
Пикеринг. До свиданья, мисс Дулитл. (Пожимает ей руку.)
Элиза (кивком головы прощаясь с остальными). И вам всем до свиданья.
Фредди (распахивая перед ней дверь). Вы идете через парк, мисс Дулитл? Позвольте мне…
Элиза. Че-его? Пешком топать? К чертям собачьим!
Все потрясены.
Элиза. Я в такси еду! (Выходит.)
Пикеринг, задохнувшись от изумления, падает в кресло. Фредди выбегает на балкон, чтобы еще раз взглянуть на Элизу.
Миссис Эйнсфорд Хилл (все еще не оправившись от потрясения). Все-таки я никак не могу привыкнуть к этой новой манере выражаться.
Клара (с досадой бросаясь в елизаветинское кресло). Ну полно, мама, полно. Вы так старомодны, что люди подумают, будто мы никогда нигде не бываем.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Вероятно, я действительно очень старомодна, но, надеюсь, Клара, ты не будешь употреблять таких выражений. Я уже привыкла к тому, что мужчин ты называешь «пройдохами», на каждом шагу говоришь «мерзость» и «свинство», хотя я лично считаю это неприличным и неженственным. Но то, что мы сейчас слышали, – это уж слишком! Как вы считаете, полковник Пикеринг?
Пикеринг. Меня не спрашивайте. Я несколько лет провел в Индии, и за это время манера держаться так изменилась, что, право, иногда не знаешь, где находишься – на званом обеде в респектабельном доме или в пароходном кубрике.
Клара. Дело привычки. Это ни хорошо, ни плохо. И никто не придает этому никакого значения. Просто такая необычность придает особый шик тому, что само по себе не слишком остроумно. Я нахожу новую манеру выражаться прелестной и вполне безобидной.
Миссис Эйнсфорд Хилл (встает). Пожалуй, нам пора.
Пикеринг и Хигинс встают.
Клара (встает). Да, сегодня нам предстоит сделать еще три визита. До свиданья, миссис Хигинс. До свиданья, полковник Пикеринг. До свиданья, профессор Хигинс.
Хигинс (мрачно провожая ее до двери). До свиданья. Смотрите не забудьте на всех трех визитах испробовать новую манеру выражаться. Главное, не смущайтесь и валяйте вовсю.
Клара (расплываясь в улыбке). Обязательно! До свиданья. Вся эта старомодная викторианская благовоспитанность – такая чушь!
Хигинс (искушая ее). Будь она проклята!
Клара. К чертям ее собачьим!
Миссис Эйнсфорд Хилл (содрогаясь). Клара!
Клара. Ха-ха-ха! (Уходит, сияя оттого, что оказалась на уровне современных требований. С лестницы доносится ее звонкий смех.)
Фредди (ко всей вселенной). Нет, вы мне скажите… (Не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, прощается с миссис Хигинс.) До свиданья.
Миссис Хигинс (обмениваясь рукопожатием). До свиданья. Хотели бы вы снова встретиться с мисс Дулитл?
Фредди (горячо). Да, да, ужасно хотел бы!
Миссис Хигинс. Милости просим. Вы знаете мои приемные дни.
Фредди. Благодарю вас. До свиданья. (Уходит.)
Миссис Эйнсфорд Хилл. До свиданья, мистер Хигинс.
Хигинс. До свиданья, до свиданья.
Миссис Эйнсфорд Хилл (Пикерингу). Ничего не поделаешь, я никогда не сумею себя заставить употреблять эти ужасные выражения.
Пикеринг. И не старайтесь: это вовсе не обязательно. Вы прекрасно обойдетесь без них.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Да вот Клара опять обрушится на меня за то, что я пренебрегаю самым модным жаргоном. До свиданья.
Пикеринг. До свиданья. (Пожимают руки друг другу.)
Миссис Эйнсфорд Хилл (миссис Хигинс). Не сердитесь на Клару.
Пикеринг, услышав, что она понизила голос, деликатно отходит к окну, где стоит Хигинс.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Мы так бедны, и она так редко бывает в обществе, бедная девочка! Она просто не знает, как сейчас следует держаться.
Миссис Хигинс, заметив у нее на глазах слезы, сочувственно пожимает ей руку и провожает ее до двери.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Но Фредди у меня очень славный, правда?
Миссис Хигинс. Он очень мил, и я всегда буду рада ему.
Миссис Эйнсфорд Хилл. Благодарю вас, дорогая. До свиданья. (Уходит.)
Хигинс (нетерпеливо). Ну как? Можно показывать Элизу в обществе? (Тащит мать к дивану.)
Миссис Хигинс садится на место Элизы, сын садится слева от нее. Пикеринг возвращается на свой стул справа.
Миссис Хигинс. Ну, конечно, нет, глупый мой мальчик. Она шедевр искусства – твоего и ее портнихи. Но если ты хоть на минуту сомневаешься в том, что она выдает себя каждой фразой, значит, ты просто помешан на ней.
Пикеринг. И вы полагаете, что ничего нельзя сделать? Неужели невозможно отучить ее от ругательств?
Миссис Хигинс. До тех пор, пока она будет находиться в обществе Генри нет.
Хигинс (обиженно). По-вашему, моя манера выражаться неприлична?
Миссис Хигинс. Нет, дорогой, отчего же. Для грузовой пристани вполне прилична, но в гостях едва ли.
Хигинс (глубоко оскорбленный). Ну, знаете…
Пикеринг (прерывая его). Не кипятитесь, Хигинс, а лучше последите за собой. Таких словечек, как ваши, я не слыхал с тех пор, как производил смотры волонтеров в Гайд-парке лет двадцать назад.
Хигинс (надувшись). Ну что ж, вероятно, я действительно не всегда выражаюсь, как епископ.
Миссис Хигинс (успокаивая его жестом). Полковник Пикеринг, может быть, вы мне расскажете, что происходит на Уимпол-стрит.
Пикеринг (весело, будто вопрос изменил тему разговора). Я переехал к Генри и живу у него. Мы вместе работаем над моей книгой «Индийские диалекты» – мы решили, что так нам будет удобнее…
Миссис Хигинс. Да, да, все это мне известно, и вы действительно все очень разумно устроили. Но где живет эта девушка?
Хигинс. Как где? Конечно, у нас. Где же ей еще жить?
Миссис Хигинс. Но на каком положении? Она ваша горничная? А если нет, так кто?
Пикеринг (медленно). Миссис Хигинс, я, кажется, начинаю понимать, что вы имеете в виду.
Хигинс. Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю. Одно ясно – три месяца я изо дня в день работаю над этой девушкой, чтобы привести ее в человеческий вид. Кроме того, она оказалась очень полезной: она знает, где найти мои вещи, помнит, когда и с кем я должен встретиться.
Миссис Хигинс. А как с ней ладит твоя экономка?
Хигинс. Миссис Пирс? Радуется, что с нее свалилось столько забот. Ведь до появления Элизы ей самой приходилось разыскивать мои вещи и напоминать мне о деловых свиданиях. И все-таки Элиза – это ее пунктик. Она без устали мне твердит: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Правда, Пик?
Пикеринг. Да, это ее неизменная формула: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Этими словами кончается каждый разговор об Элизе.
Хигинс. А я ни на секунду не перестаю думать об этой девушке и ее проклятых гласных и согласных. Я измучился, думая о ней, наблюдая за ней, за ее губами, зубами, языком, не говоря уже о ее душе, – а это самое непостижимое.
Миссис Хигинс. Ах, взрослые дети! Вы играете с куклой, но она ведь живая.
Хигинс. Хорошая игра! Поймите же, мама, я еще никогда в жизни не брался за такую трудную работу. Вы даже не представляете себе, как интересно взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи сделать его совершенно иным. Ведь это значит уничтожить пропасть, разделяющую классы и души людей.
Пикеринг (придвигаясь к миссис Хигинс и даже наклоняясь к ней). Да, это поразительно интересно. Уверяю вас, миссис Хигинс, мы относимся к Элизе чрезвычайно серьезно. Каждую неделю – какое там! – почти каждый день в ней происходит новая перемена. (Придвигается еще ближе.) Мы фиксируем каждую стадию… Сотни записей и фотографий…
Хигинс (атакуя с другой стороны). Черт побери, да это самый увлекательный эксперимент, какой мне приходилось ставить. Она заполнила всю нашу жизнь. Правда, Пик?
Пикеринг. Мы постоянно говорим об Элизе.
Хигинс. Учим Элизу.
Пикеринг. Одеваем Элизу.
Миссис Хигинс. Что?
Хигинс. Изобретаем новую Элизу.
Хигинс. Вы знаете, у нее поразительный слух.
Пикеринг. Уверяю вас, дорогая миссис Хигинс, эта девушка…
Хигинс. Настоящий попугай. Я проверил ее на все звуки…
Пикеринг….гениальна. Она уже очень мило играет на рояле.
Хигинс….встречающиеся в человеческой речи…
Пикеринг. Мы водим ее на концерты классической музыки и в мюзик…
Хигинс….в европейских и африканских языках, готтентотских…
Пикеринг….холлы. Представьте себе, вернувшись домой, она подбирает любую…
Хигинс….говорах. Звуки, произносить которые я сам учился годами, она…
Пикеринг….мелодию, будь то…
Хигинс….схватывает на лету, словно…
Пикеринг….Бетховен или Брамс, Легар или Лайонел Монктон…
Хигинс….всю жизнь только этим и занималась.
Пикеринг….хотя прежде никогда не подходила к роялю…
Миссис Хигинс (затыкая уши, так как теперь они оба стараются перекричать друг друга). Ш-ш-ш-ш-ш!
Они замолкают.
Пикеринг. Прошу прощения. (Смущенно отодвигает своей стул.)
Хигинс. Простите. Но когда этот Пикеринг начинает кричать, он слова никому не дает вставить.
Миссис Хигинс. Замолчи, Генри. Полковник Пикеринг, неужели вы не понимаете, что в тот день, когда Элиза переступила порог дома на Уимпол-стрит, с нею вместе вошло еще кое-что.
Пикеринг. Да, приходил ее отец, но Генри быстро выставил его.
Миссис Хигинс. Уместнее было бы, чтобы пришла ее мать. Но дело не в этом. Появилось нечто другое.
Пикеринг. Но что же? Что?
Миссис Хигинс (бессознательно выдавая этим словом свои устаревшие понятия). Проблема!
Пикеринг. Ага, понял! Проблема – как выдать ее за светскую даму.
Хигинс. Я разрешу эту проблему. По существу, она уже наполовину разрешена.
Миссис Хигинс. Как безгранично тупы бывают порой мужчины! Проблема в том – что делать с Элизой после?
Хигинс. Не вижу здесь никакой проблемы. Будет жить как ей вздумается, пользуясь всеми преимуществами, которые я ей дам.
Миссис Хигинс. Да, будет жить, как живет та женщина, которая только что вышла отсюда! Ты дашь ей манеры и привычки светской дамы, которые лишат ее возможности зарабатывать на жизнь, но не дашь ей доходов светской дамы. И это ты называешь преимуществом?
Пикеринг (снисходительно, ему стало скучно). Все как-нибудь уладится, миссис Хигинс. (Встает.)
Хигинс (тоже встает). Мы подыщем ей какую-нибудь легкую работу.
Пикеринг. Она совершенно счастлива. Не беспокойтесь о ней. До свиданья. (Пожимает ей руку с таким видом, словно утешает испуганного ребенка, и направляется к двери.)
Хигинс. Так или иначе, сейчас уже поздно беспокоиться – дело сделано. До свиданья, мама. (Целует ее и следует за Пикерингом.)
Пикеринг (в виде последнего утешения). Существует масса возможностей. Мы сделаем все, что полагается. До свиданья.
Хигинс (Пикерингу, в дверях). Свезем-ка ее на Шекспировскую выставку в Эрлс-корт.
Пикеринг. С удовольствием. Вы представляете себе ее замечания? Вот будет забавно!
Хигинс. А дома она начнет передразнивать публику.
Пикеринг. Великолепно!
Слышно, как оба, смеясь, спускаются по лестнице. Миссис Хигинс порывисто встает и подходит к письменному столу. Отодвигает в сторону разбросанные бумаги, садится и, вытащив из бювара листок чистой бумаги, решительно начинает писать письмо. Но, написав три строчки, бросает перо и сердито отталкивает стол.
Миссис Хигинс. Ах эти мужчины! Мужчины! Мужчины!
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Кабинет Хигинса. Полночь. В комнате никого нет. Часы на камине бьют двенадцать. В камине нет огня. Теплая летняя ночь. На лестнице раздаются голоса Хигинса и Пикеринга.
Хигинс (кричит Пикерингу). Послушайте, Пик, заприте, пожалуйста, входную дверь. Сегодня я больше никуда не пойду.
Пикеринг. Хорошо. А миссис Пирс можно идти спать? Нам больше ничего не понадобится?
Хигинс. Ни черта нам не надо. Пусть ложится.
В освещенном квадрате двери появляется Элиза. Она в роскошном вечернем туалете и бриллиантах. В руках у нее цветы, веер и прочие аксессуары. Она подходит к камину и включает свет. Видно, что она очень устала; темные глаза и волосы подчеркивают ее бледность; выражение лица у нее чуть ли не трагическое. Она сбрасывает накидку, кладет веер и цветы на рояль и опускается на козетку, печальная и притихшая. Входит Хигинс в вечернем костюме, пальто и цилиндре, в руках у него домашняя куртка, которую он захватил внизу. Он бросает цилиндр и пальто на журнальный столик, снимает смокинг и, облачившись в домашнюю куртку, устало разваливается в кресле у камина. Входит Пике ринг, тоже в вечернем костюме. Снимает цилиндр и пальто и уже собирается бросить их на вещи Хигинса, но спохватывается.
Пикеринг. Как бы нам не влетело от миссис Пирс за то, что мы бросили здесь вещи.
Хигинс. Спустите их по перилам в холл. Утром она найдет их и повесит на место. Подумает, что мы вернулись пьяные, и все тут.
Пикеринг. А мы действительно чуточку того. Писем не было?
Хигинс. Я не смотрел.
Пикеринг уносит пальто и шляпы. Хигинс между зевками напевает арию из La Fanciulla del Golden West. Внезапно он обрывает пение.
Хигинс. Куда, к дьяволу, запропастились мои домашние туфли?
Элиза мрачно смотрит на него, внезапно вскакивает и выходит из комнаты. Хигинс зевает и снова начинает напевать свою арию. Возвращается Пикеринг с пачкой писем в руках.
Пикеринг. Одни проспекты и любовное послание с графской короной для вас. (Бросает проспекты в камин и, повернувшись, прислоняется к нему спиной.)
Хигинс (взглянув на письмо). Ростовщик.
Письмо летит вслед за проспектами. Возвращается Элиза, в руках у нее большие стоптанные домашние туфли. Она ставит их на коврик перед Хигинсом и молча садится на прежнее место.
Хигинс (зевая). О Господи! Что за вечер! Что за люди! Что за дурацкий балаган! (Поднимает ногу, чтобы расшнуровать ботинок, и замечает туфли. Оставив в покое ботинок, смотрит на них, будто они появились тут сами собой.) А, вот они, оказывается, где!
Пикеринг (потягиваясь). Признаюсь, я устал. Трудный был день. Прием, званый обед и еще вдобавок опера! Слишком много удовольствий сразу. Но пари вы, Хигинс, выиграли. Элиза справилась с ролью, да еще как!
Хигинс (с жаром). Слава Богу, все позади!
Элизу передергивает, но мужчины ничего не замечают. Она берет себя в руки и снова застывает.
Пикеринг. Вы нервничали на приеме? Я ужасно. А Элиза была совершенно невозмутима.
Хигинс. Она и не думала нервничать. Я вообще нисколько не беспокоился и был уверен, что все пройдет гладко. Просто я переутомился, и напряжение всех этих месяцев наконец сказалось. Вначале, когда мы занимались фонетикой, было довольно интересно, а потом мне смертельно надоело. Если бы не пари, я бы еще два месяца назад послал все к черту. Затея-то в общем глупая – сплошная скука.
Пикеринг. Не скажите! На приеме были захватывающие моменты. У меня даже сердцебиение началось.
Хигинс. Да, первые три минуты. А когда стало ясно, что мы выигрываем без боя, я почувствовал себя как медведь в клетке – слоняйся без дела из угла в угол. А обед и того хуже! Сиди и обжирайся целый час, и поговорить не с кем, кроме какой-то модной дуры. Нет, Пикеринг, с меня довольно. Поддельных герцогинь я больше изготовлять не собираюсь. Вся эта история обернулась настоящей пыткой.
Пикеринг. У вас просто не хватает тренировки для светского образа жизни. (Направляется к роялю.) А я по временам люблю окунуться в эту атмосферу – начинаешь снова чувствовать себя молодым. Как бы там ни было, но это успех, потрясающий успех! Элиза так хорошо себя держала, что раза два мне даже стало страшно. Видите ли, настоящие герцогини часто вовсе не умеют держать себя. Эти дуры воображают, что хорошие манеры свойственны им от природы, и не желают ничему учиться. Когда же человек делает что-то безукоризненно хорошо, в этом всегда чувствуется профессиональная выучка.
Хигинс. Вот это меня и бесит. Эти дураки даже настоящими дураками быть не умеют. (Встает.) Во всяком случае, наше дело сделано и с ним покончено. По крайней мере, можно завалиться спать без боязни за завтрашний день.
Красота Элизы принимает зловещий вид.
Пикеринг. Пожалуй, и я отправлюсь на покой. Что ни говорите, а событие это – ваш полный триумф. Покойной ночи. (Уходит.)
Хигинс (следуя за ним.) Спокойной ночи. (Обернувшись на пороге.) Погасите свет, Элиза, и скажите миссис Пирс, чтобы утром она не варила кофе: я буду пить чай. (Уходит.)
Элиза старается взять себя в руки и остаться равнодушной. Она направляется к выключателю, но, дойдя до камина, уже находится на грани истерики. Она опускается в кресло Хигинса и сидит, крепко вцепившись в ручки. В конце концов силы ей изменяют, и в порыве бессильной злобы она бросается на пол. Хигинс орет за дверью.
Хигинс (появляется в дверях.) Куда опять девались эти проклятые туфли?
Элиза (хватает туфли и одну за другой изо всей силы швыряет ему прямо в лицо). Вот вам ваши туфли! Вот вам! Берите ваши туфли и подавитесь ими!
Хигинс (изумленный). Какого дьявола?.. (Подходит к ней.) Что случилось? Вставайте. (Поднимает ее.) Я спрашиваю вас, что-нибудь стряслось?
Элиза (задыхаясь). Ничего не стряслось – с вами. Ничего! Я выиграла вам пари, не так ли? С вас этого достаточно. А до меня вам и дела нет.
Хигинс. Вы выиграли мне пари! Вы, дрянь вы этакая! Я выиграл его. Почему вы швырнули в меня туфлями?
Элиза. Потому что хотела расквасить вам физиономию. Я готова убить вас, скотина толстокожая! Почему вы не оставили меня там, где нашли, – на панели? Теперь вы благодарите Бога, что все кончено и меня снова можно вышвырнуть на улицу, да? (В отчаянии ломает руки.)
Хигинс (глядя на нее с холодным удивлением). Оказывается, у этого существа все-таки есть нервы. (Элиза со сдавленным воплем ярости бросается на Хигинса, готовая выцарапать ему глаза, но он хватает ее за руки.) Ах, вы царапаться? Прочь когти, кошка! Какое вы имеете право устраивать мне сцены? Садитесь, и чтобы я звука не слышал! (Грубо швыряет ее в кресло.)
Элиза (подавленная его превосходством в силе и весе.) Что со мной будет! Что со мной будет!
Хигинс. За каким чертом мне знать, что с вами будет? Не все ли мне равно, что с вами будет?
Элиза. Да, вам все равно! Я знаю, что вам все равно. Даже если я умру, это вас не тронет. Я для вас ничего не значу – меньше вот этих туфлев.
Хигинс (громовым голосом). Туфель.
Элиза (с горькой покорностью). Туфель. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения.
Пауза. Элиза безнадежно подавлена. Хигинс чувствует себя неловко.
Хигинс (со всем высокомерием, на какое способен). С чего это вы вдруг взорвались? Позвольте узнать, вы недовольны отношением к вам?
Элиза. Нет.
Хигинс. Кто-нибудь плохо обращается с вами? Полковник Пикеринг? Миссис Пирс? Прислуга?
Элиза Нет.
Хигинс. Надеюсь, вы не жалуетесь на то, что я третировал вас?
Элиза. Нет.
Хигинс. Рад слышать. (Смягчаясь.) Вы, вероятно, просто устали после напряженного дня. Хотите бокал шампанского? (Направляется к двери.)
Элиза. Нет. (Вспомнив, как полагается вести себя.) Благодарю вас, нет.
Хигинс (снова придя в добродушное настроение). Это у вас накопилось за последние дни. Совершенно естественно: вы волновались в ожидании приема. Но теперь уже все позади. (Снисходительно треплет ее по плечу. Она съеживается.) Теперь больше не о чем беспокоиться.
Элиза. Да, вам больше не о чем беспокоиться. (Внезапно встает и, отойдя от него, опускается на козетку у рояля, где сидит, закрыв лицо руками.) Боже мой, как мне хочется умереть!
Хигинс (глядя на нее с искренним изумлением). Но почему? Ради всего святого, объясните мне, почему? (Подходя к ней, рассудительно.) Послушайте, Элиза, ваше раздражение носит чисто субъективный характер.
Элиза. Не понимаю. Я слишком невежественна.
Хигинс. Вы все сами выдумали. Плохое настроение, и больше ничего. Никто вас не обижал, никто не собирается обижать. Будьте умницей, ложитесь, выспитесь – и все пройдет. Поплачьте немного, помолитесь – вам сразу станет легче.
Элиза. Вашу молитву я уже слышала: «Слава Богу, все кончилось!»
Хигинс (нетерпеливо). А вы разве не благодарите Бога, что все кончилось? Теперь вы свободны и можете делать, что вам вздумается.
Элиза (через силу, в отчаянии). На что я годна? К чему вы меня подготовили? Куда я пойду? Что будет дальше? Что со мной станет?
Хигинс (он наконец уразумел, в чем дело, но это его нисколько не тревожит). Ах, так вот что вас волнует! (Засовывает руки в карманы и, позвякивая по привычке их содержимым, начинает шагать по комнате. Лишь по доброте душевной он снисходит до такого тривиального разговора.) На вашем месте я бы не беспокоился о будущем. Думаю, что вам будет нетрудно так или иначе устроиться, хотя, откровенно говоря, я еще как-то не представляю себе, что вы уйдете от нас. (Она бросает на него быстрый взгляд, но он ничего не замечает. Он исследует вазу с фруктами, стоящую на рояле, и решает съесть яблоко.) В конце концов, вы можете выйти замуж. (Откусывает большой кусок яблока и шумно жует его.) Знаете, Элиза, далеко не все мужчины такие убежденные старые холостяки, как мы с полковником. Большинство мужчин, увы, принадлежит к тем несчастным, которые женятся. А вы ведь совсем неплохо выглядите… Иногда на вас просто приятно смотреть – не сейчас, конечно: сейчас физиономия у вас зареванная и похожа черт знает на что. Но когда вы спокойны и довольны, я сказал бы даже, что вы привлекательны. То есть, я хочу сказать – привлекательны для мужчин, склонных к браку. Отправляйтесь-ка в постель, отдохните как следует, а утром встаньте, посмотритесь в зеркало, и у вас сразу поднимется настроение. (Элиза, не двигаясь с места, молча пристально смотрит на него, но взгляд ее пропадает даром. Яблоко оказалось вкусным, и Хигинс с довольным видом жует его. Внезапно его осеняет блестящая идея.) Послушайте, мама найдет вам какого-нибудь подходящего парня! Ручаюсь!
Элиза. Как я низко пала после Тотенхэм Корт-роуд.
Хигинс (очнувшись). Что вы имеете в виду?
Элиза. Там я продавала цветы, но не себя. Теперь, когда вы сделали из меня леди, мне не остается ничего другого, как торговать собой. Лучше бы вы оставили меня на улице.
Хигинс (решительно бросает огрызок яблока в камин). Довольно нести вздор, Элиза. Не оскорбляйте человеческие отношения ханжескими рассуждениями о купле и продаже. Никто вас не заставляет выходить за него, если он вам не понравится.
Элиза. А что мне остается делать?
Хигинс. Да все что угодно. Помните, вы мечтали о цветочном магазине? Пикеринг может вам это устроить – у него куча денег. (Хихикает.) Ему еще придется заплатить за тряпки, которые вы сегодня надевали, а если к этому прибавить плату за прокат бриллиантов, то плакали его двести фунтов. Сознайтесь, ведь полгода назад вы и мечтать не смели о таком счастье, как собственный цветочный магазин. Ну, выше нос! Все будет в порядке. А теперь мне пора в постель – чертовски хочется спать. Да, кстати, я ведь за чем-то пришел… Будь я проклят, если помню, за чем…
Элиза. За туфлями.
Хигинс. Совершенно верно, за туфлями. А вы ими запустили в меня. (Подбирает туфли и собирается уходить, но Элиза встает и задерживает его.)
Элиза. Прежде чем вы уйдете, сэр…
Хигинс, услышав это обращение, роняет от неожиданности туфли.
Хигинс. А?
Элиза. Я хочу знать: мои платья принадлежат мне или полковнику Пикерингу?
Хигинс возвращается в комнату с таким видом, словно ему никогда не приходилось слышать более нелепого вопроса.
Хигинс. На кой черт нужны Пикерингу ваши платья?
Элиза. Они могут понадобиться ему для эксперимента над следующей девушкой, которую вы найдете.
Хигинс (уязвленный). Так вот вы какого мнения о нас!
Элиза. Я не желаю больше разговаривать на эту тему. Я желаю лишь знать, что из вещей принадлежит мне. Мои вещи, в которых я пришла сюда, к сожалению, сожжены.
Хигинс. Да не все ли равно? С чего это вы вздумали задавать мне в час ночи дурацкие вопросы?
Элиза. Я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы потом меня обвинили в воровстве.
Хигинс (глубоко оскорбленный). В воровстве! Зачем вы так говорите, Элиза? Не думал я, что вы такая бесчувственная.
Элиза. Прошу прощения, но я простая, невежественная девушка, и в моем положении мне надо быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть никаких чувств. Прошу вас, скажите точно, что здесь принадлежит мне, а что нет.
Хигинс (угрюмо). Выносите хоть весь дом, черт вас дери! Оставьте только бриллианты: они взяты напрокат. Вас это устраивает? (Возмущенный, направляется к двери.)
Элиза упивается его раздражением, как нектаром, и обдумывает, как еще спровоцировать Хигинса, чтобы продлить наслаждение.
Элиза. Погодите! (Снимает с себя драгоценности.) Будьте так любезны, возьмите их и спрячьте у себя. Я не хочу отвечать за них – вдруг что-нибудь пропадет.
Хигинс (взбешенный). Давайте! (Она передает ему драгоценности.) Если бы они принадлежали мне, а не ювелиру, я бы заткнул ими вашу неблагодарную глотку. (Яростно рассовывает украшения по карманам, не замечая, что украсил себя свешивающимися концами ожерелья.)
Элиза (снимая кольцо). Это кольцо не взято напрокат. Вы купили мне его в Брайтоне. Теперь оно мне больше не нужно. (Хигинс швыряет кольцо в камин и оборачивается к ней с таким угрожающим видом, что она прячется за рояль, вскрикивает и закрывает лицо руками.) Не бейте меня!
Хигинс. Бить вас, тварь вы этакая! Как вы смели подумать, что я ударю вас! Это вы ударили меня! Вы ранили меня в самое сердце!
Элиза (трепеща от затаенной радости). Очень рада, что хоть немного поквиталась с вами.
Хигинс (с достоинством, самым изысканным профессиональным тоном). Вы меня вывели из себя, что случается со мной чрезвычайно редко. На этом мы прервем наш разговор – я иду спать.
Элиза (дерзко). Оставьте лучше записку миссис Пирс насчет кофе, я не собираюсь ничего передавать ей.
Хигинс (педантично). К черту миссис Пирс! К черту кофе! К черту вас! К черту мою собственную глупость! Надо же было мне, идиоту, тратить свои упорным трудом приобретенные знания, сокровища своей души, свои чувства на бессердечную уличную девчонку! (Величественно покидает комнату, но портит весь эффект, хлопнув изо всех сил дверью.)
Элиза впервые за весь вечер улыбается и выражает свои чувства бурной пантомимой, то пародируя горделивый уход Хигинса, то упиваясь торжеством победы. В конце концов она опускается на колени перед камином и начинает искать в нем кольцо.
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Гостиная миссис Хигинс. Хозяйка сидит за письменным столом. Входит горничная.
Горничная (в дверях). Мистер Генри, мэм, и с ним полковник Пикеринг.
Миссис Хигинс. Просите.
Горничная. Они говорят по телефону, мэм. По-моему, вызывают полицию.
Миссис Хигинс. Что?
Горничная (подходит ближе и понижает голос). Мистер Генри в расстроенных чувствах, мэм. Я сочла нужным вас предупредить.
Миссис Хигинс. Я удивилась бы гораздо больше, если бы узнала, что мистер Генри не в расстроенных чувствах. Попросите их подняться ко мне, когда они покончат свои дела с полицией. Мистер Генри, наверно, потерял что-нибудь.
Горничная. Слушаю, мэм. (Направляется к двери.)
Миссис Хигинс. Поднимитесь наверх и скажите мисс Дулитл, что мистер Генри и полковник здесь. Передайте, чтобы она не выходила, пока я не пришлю за ней.
Горничная. Слушаю, мэм.
Врывается Хигинс. Он, как правильно заметила горничная, пребывает в расстроенных чувствах.
Хигинс. Послушайте, мама, произошла дьявольская история!
Миссис Хигинс. Доброе утро, мой милый. (Он сдерживает свое нетерпение и целует ее, в то время как горничная покидает комнату.) Что же случилось?
Хигинс. Элиза сбежала.
Миссис Хигинс (спокойно продолжая писать). Вы, наверно, напугали ее.
Хигинс. Как же! Ее напугаешь! Вздор! Вчера вечером она, как обычно, задержалась, чтобы погасить свет и всякое прочее, а потом вместо того, чтобы пойти спать, переоделась и сбежала. Ее постель даже не смята. Сегодня рано утром она приехала на такси за своими вещами, и эта дура миссис Пирс, не сказав мне ни слова, отдала их. Что мне теперь делать?
Миссис Хигинс. Обходиться без нее, Генри. Девушка имела полное право уйти, если ей так хочется.
Хигинс (блуждая по комнате). Но я не могу найти ни одной своей вещи. Я не знаю, с кем и когда у меня назначены встречи. Я…
Входит Пикеринг. Миссис Хигинс кладет перо и отодвигается от письменного стола.
Пикеринг. Доброе утро, миссис Хигинс. Генри уже рассказал вам? (Садится на тахту.)
Хигинс. Ну, что сказал этот осел инспектор? Вы предложили вознаграждение?
Миссис Хигинс (встает в негодовании). Неужели вы серьезно собираетесь разыскивать Элизу через полицию?
Хигинс. Конечно! Для чего еще существует полиция? И что нам оставалось делать? (Садится в елизаветинское кресло.)
Пикеринг. Я с трудом договорился с инспектором. Он, кажется, заподозрил нас в не совсем чистых побуждениях.
Миссис Хигинс. Безусловно. Вообще, какое вы имели право заявлять об этой девушке в полицию, как будто она воровка или потерянный зонтик? Безобразие! (Снова садится, крайне возмущенная.)
Хигинс. Но мы же хотим найти ее.
Пикеринг. Мы не допустим, чтобы она вот так ушла от нас. Что же нам оставалось делать, миссис Хигинс?
Миссис Хигинс. Здравого смысла у вас столько же, сколько у двух младенцев. Почему…
Входит горничная, прервав начатый разговор.
Горничная. Мистер Генри, к вам какой-то джентльмен по срочному делу. Его направили сюда с Уимпол-стрит.
Хигинс. А ну его ко всем чертям! Мне сейчас не до дел. А кто он такой?
Горничная. Некий мистер Дулитл, сэр.
Пикеринг. Дулитл? Так ведь это мусорщик!
Горничная. Мусорщик? Что вы, сэр! Это джентльмен.
Хигинс (возбужденно вскочив с места). Черт побери, Пик! Это, наверно, ее родственник, у которого она скрывается. Кто-нибудь, кого мы еще не знаем. (Горничной.) Тащите его сюда, да поживее.
Горничная. Слушаю, сэр. (Уходит.)
Хигинс (подходит к матери, нетерпеливо). Ну, сейчас мы кое-что услышим. (Садится на чипендейлевский стул.)
Миссис Хигинс. А вы знаете кого-нибудь из ее родных?
Пикеринг. Только отца. Помните, мы вам о нем рассказывали.
Горничная (объявляет). Мистер Дулитл. (Уходит.)
Входит Дулитл. Он великолепно одет: новый, модный сюртук, белый жилет и серые брюки. Цветок в петлице, сверкающий цилиндр и лакированные ботинки завершают картину. Войдя, он не замечает миссис Хигинс, так как целиком поглощен целью своего визита. Он направляется прямо к Хигинсу и обрушивает на него град упреков.
Дулитл (указывая на свой костюм). Смотрите! Видите вы это? Все это вы наделали!
Хигинс. Простите, что «все»?
Дулитл. Вот это все, говорю я вам. Взгляните на меня! Взгляните на эту шляпу! Взгляните на этот костюм!
Пикеринг. Элиза купила вам эти вещи?
Дулитл. Как же, Элиза! Держи карман шире! С какой это стати Элиза будет покупать мне тряпки?
Миссис Хигинс. Доброе утро, мистер Дулитл. Не угодно ли присесть?
Дулитл (смущенный тем, что не заметил хозяйку дома). Прошу прощения, мэм. (Подходит к ней и пожимает протянутую руку.) Благодарю вас. (Усаживается на тахту справа от Пикеринга.) Совсем я убит тем, что со мной приключилось, ни о чем другом думать не могу.
Хигинс. Что же, черт побери, с вами приключилось?
Дулитл. Да если б это со мной просто случилось, ну, что ж, как говорится, ничего не поделаешь, с каждым может случиться, на то и воля Божья. Так ведь нет, не случилось, а вы это сами со мной сделали. Да, да, вы, лично вы, Генри Хигинс.
Хигинс. Вы нашли Элизу? Остальное неважно.
Дулитл. А вы ее потеряли?
Хигинс. Да.
Дулитл. Ваше счастье. Я ее не нашел, но теперь, после того, что вы со мной сделали, она меня сама живо найдет.
Миссис Хигинс. Но что же такое сделал с вами мой сын, мистер Дулитл?
Дулитл. Что он со мной сделал? Сгубил меня. Лишил покоя. Связал меня по рукам и ногам и отдал в лапы буржуазной морали.
Хигинс (встает и с негодующим видом подступает к Дулитлу). Вы бредите. Вы пьяны. Вы с ума сошли. Я дал вам пять фунтов, после чего имел с вами еще две беседы по полкроны в час. Больше я вас в глаза не видел.
Дулитл. Ах, я, значит, пьян? Да? Я с ума, значит, сошел? Да? А скажите-ка, писали вы письмо одному старому душегубу в Америке, который отвалил пять миллионов на то, чтобы по всему свету основать общества моральных реформ, и просил, чтобы вы придумали для него всемирный язык?
Хигинс. Что? Эзра Д. Уонафелер? Да ведь он умер. (Успокоенный, снова усаживается.)
Дулитл. Да, он умер, а я пропал. Писали вы ему или не писали? Нет, вы ответьте, писали вы ему, что, насколько вам известно, самый что ни на есть оригинальный моралист во всей Англии – это Элфрид Дулитл, простой мусорщик?
Хигинс. А ведь верно, после вашего последнего визита я, кажется, написал что-то в этом духе, ради шутки.
Дулитл. Ничего себе шутка! Она меня доконала, ваша шутка! Он ведь только и дожидался случая показать, что американцы нам не чета. Они, мол, признают и уважают человека за его достоинства, а из какого он класса, им начхать, пусть хоть из самых подонков. Вот эти самые слова черным по белому и записаны в его завещании. А по этому завещанию он из-за ваших дурацких шуток, Генри Хигинс, оставил мне пай в своем тресте «Пережеванный сыр» на три тысячи годового дохода при условии, что я буду читать лекции в его уонафелеровской «Всемирной лиге моральных реформ», когда меня пригласят, но не больше шести раз в год.
Хигинс. Черт побери! (Внезапно развеселившись.) Ну и потеха!
Пикеринг. Вам нечего опасаться, Дулитл: второй раз вас уже не пригласят.
Дулитл. Да тут не о лекциях речь. Я и глазом не моргну, а буду себе читать им эти лекции, пока они на стенку не полезут. Я ведь против чего возражаю – против того, что из меня порядочного сделали. Кто его просил делать из меня порядочного? Жил я в свое удовольствие, был свободен как ветер, а когда хотел, мог из любого джентльмена деньжат вытянуть, вроде как из вас вытянул, Генри Хигинс. Теперь я минуты покоя не знаю. Связан по рукам и ногам, и все кому не лень из меня деньги тянут. «Вам повезло», говорит мой адвокат. «Вот как, – говорю я. – Вы, верно, хотите сказать, что это вам повезло». Помню, когда я был бедняком, довелось мне раз иметь дело с адвокатом – оказалась, понимаете, в моем мусорном фургоне детская коляска. Так адвокат этот только и думал, как бы меня поскорее с рук сбыть. И с докторами та же история – я еще на ногах не держусь, а меня уже норовят из больницы вышвырнуть. Так это мне хоть денег не стоило. А теперь доктора находят, что здоровье у меня слабое и я помру, если они ко мне по два раза на дню не будут заглядывать. Дома мне пальцем не дают шевельнуть: все за меня делают другие, а я за это денежки гони. Год назад у меня на всем белом свете было два-три родственника, да и те со мной знаться не хотели. А теперь их объявилось штук пятьдесят, и всем жить не на что. Живи для других, а не для себя – вот она как обернулась, буржуазная-то мораль. Вы говорите, Элиза потерялась? Не беспокойтесь! Бьюсь об заклад, что она уже у моего подъезда торчит. А пока меня почтенным буржуа не сделали, она себе спокойно цветочки продавала и сама кормилась. Подходит день, когда и вы, Генри Хигинс, начнете из меня деньги тянуть. Придется вам меня учить разговаривать по-буржуазному, просто по-человечески мне теперь говорить не положено. Вот тут-то ваш черед и подойдет. Я так думаю, что вы всю эту штуку для того и подстроили.
Миссис Хигинс. Но, милый мистер Дулитл, если вы говорите серьезно, то зачем вам теперь это? Никто не заставляет вас принять наследство. Вы можете отказаться от него. Не так ли, полковник Пикеринг?
Пикеринг. Несомненно.
Дулитл (смягчая тон из уважения к даме). В том-то и трагедия, мэм. Легко сказать – отказаться. А если духа не хватает? Да и у кого хватило бы? Все мы запуганы, мэм, – вот оно что. Ну, допустим, я отказался, а под старость что? Ступай в работный дом? Мне уже сейчас приходится волосы красить, чтобы работу не потерять. А я всего-навсего мусорщик. Будь я достойным бедняком, я бы, конечно, имел кой-какие сбережения и тогда мог бы отказаться. Но опять-таки смысла нету, потому как достойным беднякам живется не лучше, чем миллионерам. Им даже не понять, что значит жить в свое удовольствие. А как я есть бедняк недостойный, то между мной и нищенской робой только и стоят что эти три тысячи в год. Будь они трижды прокляты – простите за выражение, мэм, но и вы на моем месте не удержались бы – они-то меня в буржуазное общество и спихнули. Вот и выходит – куда ни кинь, все клин: выбирать приходится между Скилией работного дома и Харбидией буржуазного класса, а выбрать работный дом рука не поднимается. Запуган я, мэм. Сдаться решил. Меня купили. Счастливцы будут вывозить мой мусор и тянуть из меня на чай, а я буду смотреть на них и завидовать. И все это подстроил мне ваш сынок. (Смолкает от наплыва чувств.)
Миссис Хигинс. Я очень рада, что вы не собираетесь делать глупости. Таким образом, будущее Элизы перестанет быть проблемой. Теперь вы можете обеспечить ее.
Дулитл (с печальной покорностью). Да, мэм. Теперь я должен обеспечивать всех – и все на жалкие три тысячи в год.
Хигинс (вскакивая). Вздор! Он не может обеспечить ее и не будет ее обеспечивать. Она ему не принадлежит: я заплатил за нее пять фунтов. Честный вы человек или мошенник, Дулитл?
Дулитл (кротко). И того и другого есть понемногу. Как каждый из нас, Генри.
Хигинс. Но деньги-то вы за девушку взяли? Значит, не имеете права требовать ее обратно.
Миссис Хигинс. Генри, перестань глупить. Угодно тебе знать, где Элиза? Так вот, она у меня наверху.
Хигинс (пораженный). Наверху? Ну, так я ее живо спущу вниз! (Решительно направляется к двери.)
Миссис Хигинс (следует за ним). Успокойся, Генри. Сядь.
Хигинс. Я…
Миссис Хигинс. Сядь, милый, и выслушай меня.
Хигинс. Ну хорошо, хорошо, пожалуйста! (С размаху бросается на тахту и отворачивается.) Но вы могли все-таки сказать мне об этом еще полчаса назад.
Миссис Хигинс. Элиза пришла ко мне сегодня утром. Уйдя от вас, она в ярости металась по улицам, хотела утопиться, но не нашла в себе сил и остаток ночи провела в отеле «Карлтон». Она рассказала мне, как отвратительно вы поступили с ней.
Хигинс (снова вскочив). Что-о?
Пикеринг (тоже встает). Дорогая миссис Хигинс, поверьте, это сплошные выдумки. Никто с ней дурно не поступал. Мы вообще почти не разговаривали с ней и расстались самыми лучшими друзьями. (Хигинсу.) Хигинс, может быть, вы ее чем-нибудь допекли после моего ухода?
Хигинс. Как раз наоборот. Это она запустила в меня туфлями и вообще вела себя самым непозволительным образом. Я не дал ей ни малейшего повода, и вдруг бац! – не успел я слова сказать, как она влепила мне в физиономию сначала одну туфлю, потом другую. А сколько гадостей наговорила!
Пикеринг (удивленный). Но за что? Что мы ей сделали?
Миссис Хигинс. А я прекрасно понимаю, что вы ей сделали. Девушка, вероятно, от природы очень чувствительна. Не правда ли, мистер Дулитл?
Дулитл. Сердце у нее чистый воск, мэм. В меня пошла.
Миссис Хигинс. Вот видите. Она привязалась к вам обоим. Она так старалась ради тебя, Генри! Ты даже представить себе не можешь, что значит для такой девушки умственная работа. Наконец наступает великий день. Она справляется с труднейшим испытанием без единого промаха, а вы возвращаетесь домой и, даже не замечая ее, начинаете рассказывать, как вам надоела вся эта история и как вы рады, что все наконец кончилось. И ты еще удивляешься, что она запустила в тебя туфлями? Я бы в тебя кочергой запустила!
Хигинс. Мы сказали только, что очень устали и хотим спать, вот и все. Правда, Пик?
Пикеринг (пожимая плечами). Больше мы ничего не говорили.
Миссис Хигинс (с иронией). Вы уверены?
Пикеринг. Абсолютно уверен. Ни слова больше.
Миссис Хигинс. И вы не поблагодарили ее, не сказали ей ласкового слова, не похвалили ее за то, что она так блистательно справилась со своей задачей?
Хигинс (нетерпеливо). Все это ей и без того было известно. Если вы имеете в виду поздравительные речи, то мы их действительно не произносили.
Пикеринг (испытывая угрызения совести). Возможно, мы были недостаточно внимательны. Она очень сердится?
Миссис Хигинс (возвращаясь на свое место за письменным столом). Боюсь, что она не вернется больше на Уимпол-стрит, особенно теперь, когда мистер Дулитл может обеспечить ей то положение, которое вы ей навязали. Однако она говорит, что готова забыть обиды и встретиться с вами по-дружески.
Хигинс (взбешенный). Вот как! Она готова снизойти до нас!
Миссис Хигинс. Если ты обещаешь вести себя прилично, Генри, я попрошу ее спуститься сюда. Если – нет, отправляйся домой: ты и так уже отнял у меня много времени.
Хигинс. Прекрасно! Превосходно! Пик, прошу вас, ведите себя прилично. Облачимся в наши лучшие воскресные манеры ради девчонки, которую мы вытащили из грязи. (Сердито бросается в елизаветинское кресло.)
Дулитл (с укором). Ах, Генри Хигинс, Генри Хигинс, пощадите мои буржуазные чувства.
Миссис Хигинс. Не забывай, Генри: ты обещал. (Нажимает кнопку звонка на письменном столе.) Мистер Дулитл, будьте любезны, пройдите пока на балкон. Я хочу, чтобы Элиза помирилась с этими джентльменами до того, как вы сообщите ей о своем новом положении. Вы не возражаете?
Дулитл. Как вам угодно, мэм. Я готов на все, лишь бы Генри избавил меня от нее. (Скрывается за балконной дверью.)
Появляется горничная. Пикеринг занимает место Дулитла.
Миссис Хигинс. Попросите, пожалуйста, мисс Дулитл.
Горничная. Слушаю, мэм. (Уходит.)
Миссис Хигинс. Смотри, Генри, будь умницей.
Хигинс. По-моему, я веду себя идеально.
Пикеринг. Он старается как может, миссис Хигинс.
Пауза. Хигинс откидывает голову, вытягивает ноги и начинает насвистывать.
Миссис Хигинс. Милый Генри, в этой позе ты выглядишь совсем не лучшим образом.
Хигинс (подбирая ноги). А я и не стремлюсь выглядеть лучшим образом.
Миссис Хигинс. Дело не в этом, милый. Я просто хотела, чтобы ты заговорил.
Хигинс. А почему?
Миссис Хигинс. А потому, что, когда человек разговаривает, он не может свистеть.
Хигинс издает стон. Снова томительная пауза.
Хигинс (потеряв терпение, вскакивает с места). Где же, черт побери, эта девчонка? Целый день нам ее дожидаться, что ли?
Входит невозмутимая, излучающая приветливость Элиза. Она в совершенстве владеет собой и держится с полной непринужденностью. В руках у нее рабочая корзинка. Видно, что она чувствует себя здесь как дома. Пикеринг так поражен, что не в силах двинуться с места.
Элиза. Здравствуйте, профессор Хигинс. Как вы себя чувствуете?
Хигинс (поперхнувшись). Как я… (Продолжать он не в состоянии.)
Элиза. Ну конечно, хорошо – вы ведь никогда не болеете. Как я рада вас видеть, полковник Пикеринг!
Пикеринг поспешно вскакивает и здоровается с ней.
Элиза. Сегодня прохладно, не правда ли? (Садится.)
Пикеринг усаживается рядом с ней.
Хигинс. Со мной вы эти фокусы бросьте! Я сам вас всему научил, меня этим не возьмешь! Хватит дурака валять! Одевайтесь – и домой.
Элиза вынимает из корзинки вышивание и начинает работать, не обращая на Хигинса ни малейшего внимания.
Миссис Хигинс. Право, ты очень мил, Генри! Ни одна женщина не устоит перед таким приглашением.
Хигинс. Оставьте вы ее, мама. Пусть говорит сама за себя. Вы очень скоро убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего слова – всему научил ее я. Повторяю вам, я создал ее из рыночных отбросов, а теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает передо мной знатную леди.
Миссис Хигинс (успокаивающе). Да, да, мой милый, но, может быть, ты все-таки сядешь.
Разъяренный Хигинс садится.
Элиза (продолжая работать и, по-видимому, не замечая его присутствия). Теперь вы меня, наверно, совсем забудете, полковник Пикеринг, – ведь ваш эксперимент окончен.
Пикеринг. Не надо так. Вы не должны об этом думать как об эксперименте. Мне больно это слышать.
Элиза. Правда, я ведь всего лишь гнилая капустная кочерыжка.
Пикеринг (порывисто). Нет!
Элиза (невозмутимо)….но вы для меня столько сделали, что мне было бы очень горько, если бы вы меня забыли.
Пикеринг. Вы очень любезны, мисс Дулитл.
Элиза. Дело не в том, что вы платили за мои туалеты. Я знаю, вы не скупитесь на деньги. Но именно от вас я научилась хорошим манерам, а ведь без них нельзя стать настоящей леди, не правда ли? Знаете, мне было так трудно научиться прилично вести себя, находясь все время в обществе профессора Хигинса. Я с детства привыкла вести себя точно так же, как ведет себя он: не умела сдерживаться, кричала, ругалась по каждому поводу. Я бы так никогда и не узнала, как ведут себя настоящие леди и джентльмены, если бы не вы.
Хигинс. Ну и ну!
Пикеринг. Но ведь у него это получается непроизвольно. Он не хотел вам плохого.
Элиза. Вот и я непроизвольно делала то же самое, когда была цветочницей. Но все-таки делала – вот в чем беда.
Пикеринг. Ваша правда. Тем не менее именно он научил вас правильно говорить; я, знаете, с этим бы не справился.
Элиза (небрежно). Да, конечно, но ведь это его профессия.
Хигинс. Ах, черт!
Элиза (продолжая). Это все равно что научить танцевать модные танцы, не больше. Знаете вы, когда по-настоящему началось мое воспитание?
Пикеринг. Нет…
Элиза (опуская вышивку). В тот день, когда я впервые пришла на Уимпол-стрит и вы назвали меня мисс Дулитл. С этой минуты я начала уважать себя. (Снова берется за вышивание.) Многих мелочей вы даже не замечали, так они были естественны для вас. Вы разговаривали со мной стоя, снимали передо мной шляпу, пропускали меня в дверях…
Пикеринг. Какие пустяки!
Элиза. Да, но эти пустяки говорили о том, что вы обо мне лучшего мнения, чем о какой-нибудь судомойке; хотя и с судомойкой, попади она в гостиную, вы, конечно, были бы так же вежливы. Вы, например, никогда не снимали при мне ботинок в столовой.
Пикеринг. Вы не должны обижаться за это на Хигинса: он снимает их всюду.
Элиза. Знаю. И не виню его. Это у него получается непроизвольно, не правда ли? Но для меня было так важно, что вы этого не делали. Видите ли, разница между леди и цветочницей заключается не только в умении одеваться и правильно говорить – этому можно научить, и даже не в манере вести себя, а в том, как себя ведут с ними окружающие. С профессором Хигинсом я навсегда останусь цветочницей, потому что он вел себя и будет вести себя со мной, как с цветочницей. Но с вами я могу стать леди, потому что вы вели себя и будете вести себя со мной, как с леди.
Миссис Хигинс. Генри, пожалуйста, не скрежещи зубами.
Пикеринг. Право, мне очень приятно это слышать, мисс Дулитл.
Элиза. Если хотите, можете называть меня просто Элизой.
Пикеринг. Благодарю. С наслаждением буду называть вас Элизой.
Элиза. А профессора Хигинса я просила бы называть меня мисс Дулитл.
Хигинс. Раньше подохнете.
Миссис Хигинс. Генри! Генри!
Пикеринг (смеясь). Платите ему той же монетой, Элиза. Не церемоньтесь с ним, ему это на пользу.
Элиза. Не могу. Раньше смогла бы, а теперь не могу. Ночью, когда я бродила по улицам, ко мне обратилась какая-то девушка. Я попробовала заговорить с ней по-старому, но у меня ничего не вышло. Помните, вы мне рассказывали, что, когда ребенок попадает в другую страну, он быстро начинает говорить на чужом языке и забывает свой. Я – такой ребенок в вашей стране. Я забыла свой родной язык и могу говорить только на вашем. Именно теперь, когда я ушла с Уимпол-стрит, я навсегда покончила с Тотенхэм Корт-роуд.
Пикеринг (встревоженно). Но вы же вернетесь на Уимпол-стрит, правда? Вы простите Хигинса?
Хигинс (вскакивая). Черта с два я ей позволю прощать меня. Пускай убирается! Пускай попробует обойтись без нас. Без меня она через три недели скатится обратно на дно.
В комнате появляется Дулитл. Бросив на Хигинса полный достоинства и укоризны взгляд, он тихо подходит к дочери, которая стоит спиной к нему.
Пикеринг. Он неисправим, Элиза. Но вы ведь не скатитесь на дно, правда?
Элиза. Нет, никогда не скачусь. Я хорошо выучила свой урок. Я уже не могу издавать такие звуки, как раньше, даже если бы захотела! (Дулитл сзади кладет ей руку на плечо. От неожиданности она роняет вышивание, оборачивается, и тут, при виде отца в шикарном костюме, ей сразу изменяет выдержка.) А… а… а… у… о… ой!
Хигинс (издав торжествующий вопль). Ага! Правильно! А… а… а… у… у… о… ой! Победа! Победа! (Растягивается на тахте, скрестив руки на груди.)
Дулитл. Ну чего к девушке прицепились? Не смотри на меня так, Элиза. Я тут ни при чем. Просто у меня деньги завелись.
Элиза. Не иначе как тебе миллионер подвернулся?
Дулитл. Верно. Но сегодня я вырядился по особому случаю. Сейчас еду в церковь святого Георгия. Мачеха твоя за меня выходит.
Элиза (сердито). И ты унизишься до брака с этой мерзкой, вульгарной бабой?
Пикеринг (мягко). Это его долг, Элиза. (Дулитлу.) А почему она переменила свои намерения?
Дулитл (грустно). Запугана, хозяин, запугана. Буржуазная мораль требует жертв. Не хочешь ли поглядеть, как меня окрутят, Элиза? Надевай шляпу и поехали.
Элиза. Если полковник считает это нужным, я… я… (Чуть не плачет.) Я поступлюсь своим достоинством. А в награду за это, наверно, наслушаюсь новых оскорблений.
Дулитл. Не бойся, теперь она больше ни с кем не лается. Как стала порядочной, так совсем духом пала.
Пикеринг (слегка сжимая локоть Элизы). Не огорчайте их, Элиза. Сделайте, что в ваших силах.
Элиза (пытается выдавить улыбку, скрыв раздражение). Ну хорошо, я поеду. Пусть видят, что я не злопамятна. Подожди минутку, я сейчас вернусь. (Уходит.)
Дулитл (подсаживаясь к Пикерингу). Как подумаю об этой церемонии, так меня страх и разбирает, полковник. Может, вы тоже поедете, чтобы подбодрить меня?
Пикеринг. У вас ведь уже есть опыт, старина. Вы же были женаты на матери Элизы.
Дулитл. Да кто это вам сказал?
Пикеринг. Мне, собственно, никто не говорил… Но, естественно, я полагал…
Дулитл. Ничего тут нет естественного. Просто у порядочных так принято. А я всегда поступал, как положено непорядочному. Только вы Элизе ничего не говорите.
Пикеринг. И правильно сделали. Если не возражаете, забудем о нашем разговоре.
Дулитл. Ладно. А вы поедете со мной в церковь, полковник, и присмотрите, чтобы меня окрутили по всем правилам?
Пикеринг. С удовольствием. Не знаю только, будет ли от меня, холостяка, польза.
Миссис Хигинс. А меня вы не приглашаете, мистер Дулитл? Я бы тоже с удовольствием побывала на вашей свадьбе.
Дулитл. За большую честь сочту, мэм, если вы снизойдете. А старуха моя, так та на стенку от радости полезет. Очень уж она расстраивается, бедняжка, что кончились наши счастливые денечки.
Миссис Хигинс (вставая). Тогда я велю подать коляску и пойду одеваться.
Мужчины встают, Хигинс не трогается с места.
Миссис Хигинс. Я задержу вас минут на пятнадцать, не больше.
Направляется к двери. Навстречу ей входит Элиза в шляпе и перчатках, которые она застегивает на ходу.
Миссис Хигинс. Элиза, я тоже отравляюсь в церковь на свадьбу вашего отца. Вам удобнее ехать со мной, а полковник Пикеринг может сопровождать жениха.
Миссис Хигинс уходит. Элиза проходит в комнату и останавливается между окном и тахтой. Пикеринг присоединяется к ней.
Дулитл. Жених! Ну и словечко! Скажешь такое, и сразу тебе ясно, на что идешь. (Берет цилиндр и направляется к двери.)
Пикеринг. Элиза, пока я не ушел, обещайте, что простите Хигинса и возвратитесь к нам.
Элиза. Боюсь, что папа не разрешит мне. Правда, папочка?
Дулитл (опечаленный, но готовый проявить великодушие). А ловко эти шутники обвели тебя вокруг пальца, Элиза. Имей ты дело с одним, ты бы уж его из рук не выпустила. Вся беда в том, что их оказалось двое, и один вроде как прикрывал другого. (Пикерингу.) Хитрей не придумаешь, полковник, но я не в претензии – я бы и сам так сделал. Всю жизнь я страдал от женщин; так уж если вам удалось выкрутиться, ваше счастье. Я в ваши дела не полезу. Ну, полковник, пора нам двигаться. До скорого, Генри. Элиза, увидимся в церкви. (Уходит.)
Пикеринг (заискивающе). Оставайтесь с нами, Элиза. (Идет вслед за Дулитлом.)
Элиза хочет выйти на балкон, чтобы не оставаться наедине с Хигинсом. Он следует за ней. Она тут же возвращается в комнату, но он, пробежав вдоль балкона, успевает преградить ей путь.
Хигинс. Ну вот, Элиза, вы и поквитались со мной, по вашему выражению. Довольны вы, или вам еще мало? Может быть, вы хоть теперь образумитесь?
Элиза. Вы хотите, чтобы я вернулась только затем, чтобы подавать вам туфли, терпеть ваши вздорные причуды и быть у вас на побегушках?
Хигинс. Я не сказал, что хочу вашего возвращения.
Элиза. Ах вот как! В таком случае о чем нам вообще говорить?
Хигинс. О вас, не обо мне. Если вы вернетесь, я буду относиться к вам точно так же, как относился до сих пор. Я не могу переделать себя и не собираюсь менять свои манеры. Кстати, веду я себя нисколько не хуже, чем полковник Пикеринг.
Элиза. Неправда. Полковник Пикеринг ведет себя с цветочницей, как с герцогиней.
Хигинс. А я с герцогиней – как с цветочницей.
Элиза. Понятно. (Спокойно садится на тахту лицом к окну, отвернувшись от него.) Со всеми одинаково.
Хигинс. Совершенно верно.
Элиза. Совсем как мой отец.
Хигинс (с усмешкой, но слегка сбавив тон). Я не совсем согласен с вашим сравнением, Элиза. Однако должен признать, что отец ваш не страдает снобизмом и будет чувствовать себя одинаково свободно в любом положении, в каком может очутиться по воле своей капризной судьбы. (Серьезно.) Вы знаете, в чем секрет, Элиза? Не в том, что человек ведет себя плохо или хорошо, или еще как-нибудь, а в том, что он со всеми людьми ведет себя одинаково. Короче говоря, надо вести себя так, словно ты в раю, где нет пассажиров третьего класса и царит всеобщее равенство.
Элиза. Аминь. Вы прирожденный проповедник.
Хигинс (раздраженно). Дело не в том, что я груб с вами, а в том, что я никогда ни с кем и не бываю иным.
Элиза (очень искренне). Мне все равно, как вы со мной обращаетесь. Ругайте меня, бейте, пожалуйста, – я к этому привыкла. Но (встает и смотрит на него в упор) раздавить себя я не позволю.
Хигинс. Так прочь с моего пути. Я не собираюсь останавливаться из-за вас. С какой стати вы говорите обо мне так, словно я автобус?
Элиза. Вы и есть автобус. Завели мотор и поперли, а до других вам и дела нет. Но не думайте, я могу обойтись и без вас.
Хигинс. Знаю. Я сам говорил вам, что можете.
Элиза (уязвленная, переходит к другому концу тахты и поворачивается к камину). Да, говорили, бездушный вы человек. Вы хотели избавиться от меня.
Хигинс. Врете.
Элиза. Спасибо. (С достоинством садится.)
Хигинс. А приходило вам когда-нибудь в голову, что я не могу обойтись без вас?
Элиза, (серьезно). Не пытайтесь снова меня опутать. Вам придется обходиться без меня.
Хигинс (высокомерно). И обойдусь. Мне не нужен никто. У меня есть моя собственная душа, моя собственная искра Божественного огня. (С неожиданным смирением.) Но мне будет недоставать вас, Элиза. (Садится рядом с ней.) Ваши идиотские представления о жизни многому меня научили – признаюсь покорно и с благодарностью. Кроме того, я привык к вашему голосу и к вашему виду, они мне даже нравятся.
Элиза. Ну что ж, у вас есть записи с моим голосом и мои фотографии. Когда вам станет скучно без меня, послушайте запись. У нее, по крайней мере, нет чувств, ей не причинишь боли.
Хигинс. Но я не услышу вашей души. Оставьте мне свою душу, а голос и лицо берите с собой. Они – не вы.
Элиза. О, да вы настоящий дьявол! Вы умеете вывернуть душу, как другие выворачивают руку, чтобы поставить человека на колени. Миссис Пирс предупреждала меня. Сколько раз она собиралась от вас уйти, но в последнюю минуту вам всегда удавалось уломать ее. А ведь она вас нисколько не интересует, так же, как не интересую вас я.
Хигинс. Но меня интересует человеческая природа и жизнь, а вы – частица этой жизни, которая встретилась мне на пути и в которую я вложил свою душу. Чего еще вы хотите?
Элиза. Я хочу быть безразличной к тому, для кого безразлична я.
Хигинс. Это торгашеский принцип, Элиза. Все равно что (профессионально точно воспроизводит ее ковент-гарденскую манеру речи) «фиялочки» продавать.
Элиза. С вашей стороны подло глумиться надо мной.
Хигинс. Я никогда в жизни ни над кем не глумился. Глумление не украшает ни человека, ни его душу. Я лишь выражаю свое справедливое возмущение торгашеским подходом к делу. В вопросах чувства я не признаю сделок. Вы называете меня бездушным, потому что не смогли купить меня тем, что подавали мне туфли и находили очки. Вы были дурой. Женщина, подающая мужчине туфли, – отвратительное зрелище. Разве я когда-нибудь подавал туфли вам? Вы намного выиграли в моих глазах, когда запустили этими самыми туфлями мне в физиономию. Нечего сперва раболепствовать передо мной, а потом возмущаться, почему я не интересуюсь вами. А кто может интересоваться рабом? Если вы хотите вернуться, возвращайтесь ради настоящей дружбы. Другого не ждите. Вы и так получили от меня в тысячу раз больше, чем я от вас. А если вы посмеете сравнивать свои собачьи повадки вроде таскания туфель – с тем, что я создал из вас герцогиню Элизу, то я просто захлопну дверь перед вашим глупым носом.
Элиза. Зачем вы делали из меня герцогиню, если я вас не интересую?
Хигинс (искренне). Так ведь это же моя работа.
Элиза. Вы даже не подумали, сколько беспокойства причините мне этим.
Хигинс. Мир никогда бы не был сотворен, если бы творец его боялся кого-нибудь обеспокоить. Творить жизнь – значит причинять беспокойство. Есть один только путь избежать беспокойства: убийство. Вы заметили, трусы всегда требуют, чтобы беспокойных людей убивали.
Элиза. Я не проповедник, чтобы обращать внимание на такие вещи. Я обращаю внимание только на то, что вы не обращаете внимания на меня.
Хигинс (разозлившись, вскакивает и начинает ходить по комнате). Элиза, вы идиотка! Я зря трачу сокровища своего мильтоновского ума, выкладывая их перед вами. Поймите раз и навсегда – я иду своим путем и делаю свое дело. А на то, что может случиться с любым из нас, мне решительно наплевать. Я не запуган, как ваш отец и ваша мачеха. Выбирайте сами – либо возвращайтесь, либо идите ко всем чертям.
Элиза. Зачем мне возвращаться?
Хигинс (встав коленями на тахту, наклоняется к Элизе). Только ради собственного удовольствия. Из-за этого я и взял вас к себе.
Элиза (отвернувшись). А завтра, если я не стану выполнять все ваши желания, вы вышвырнете меня обратно на улицу?
Хигинс. Да. Но вы тоже можете встать и уйти, если я не буду исполнять все ваши желания.
Элиза. Уйти и жить с мачехой?
Хигинс. Да. Или продавать цветы.
Элиза. Ах, если бы я могла опять вернуться к моей корзине с цветами! Я бы не зависела ни от вас, ни от отца, ни от кого на свете! Зачем вы отняли у меня мою независимость? Зачем я пошла на это! А теперь я просто жалкая раба, несмотря на все свои красивые платья.
Хигинс. Ничего подобного. Если хотите, я могу удочерить вас и положить на ваше имя деньги. А может быть, вы предпочитаете выйти замуж за Пикеринга?
Элиза (свирепо). Я не вышла бы даже за вас, если бы вы меня попросили. А по возрасту вы мне больше подходите, чем они.
Хигинс (мягко). Чем он, а не «чем они».
Элиза (выйдя из себя, вскакивает). Буду говорить, как хочу. Вы мне больше не учитель.
Хигинс (в раздумье). Нет, Пикеринг едва ли пойдет на это. Он такой же убежденный холостяк, как я.
Элиза. Я и не собираюсь замуж, не воображайте. У меня всегда хватало охотников жениться на мне. Вон Фредди Эйнсфорд Хилл пишет мне три раза в день, и не письма – целые простыни.
Хигинс (неприятно пораженный). Черт знает что за нахал! (Откидывается назад и оказывается сидящим на корточках.)
Элиза. Он имеет право писать мне, раз ему так нравится. Бедный мальчик любит меня.
Хигинс (слезая с тахты). Но вы не имеете права поощрять его.
Элиза. Каждая девушка имеет право на любовь.
Хигинс. На чью любовь? Вот таких идиотов?
Элиза. Фредди не идиот. А если он бедный и слабенький и я нужна ему, то, может быть, я буду с ним счастливее, чем с человеком, который стоит выше меня и которому я не нужна.
Хигинс. Весь вопрос в том, сможет ли он что-нибудь сделать из вас?
Элиза. А может быть, я сама могу что-нибудь сделать из него. Но я вообще никогда не задумывалась над тем, кто из кого будет что-то делать, а вы только об этом и думаете. Я хочу остаться такой, как я есть.
Хигинс. Короче говоря, вы хотите, чтобы я вздыхал по вас так же, как Фредди? Да?
Элиза. Нет, не хочу. Мне от вас нужно совсем другое чувство. Напрасно вы так уж уверены насчет меня или себя. Я могла бы стать скверной девушкой, если б хотела. Я в жизни такое видела, что вам и не снилось, несмотря на всю вашу ученость. Вы думаете, такой девушке, как я, трудно завлечь джентльмена? Только от этой любви назавтра в петлю полезешь.
Хигинс. Это верно. Так из-за чего же, черт побери, мы спорим?
Элиза (с глубоким волнением). Мне хочется чуточку внимания, ласкового слова. Я знаю, я простая, темная, а вы большой ученый и джентльмен. Но ведь и я человек, а не ком грязи у вас под ногами. Если я чего и делала (поспешно поправляется), если я что-нибудь и делала, то не ради платьев и такси. Я делала это потому, что нам было хорошо вместе, и я начала… я начала привязываться к вам… не в смысле любви или потому что забыла разницу между нами, а так просто, по-дружески.
Хигинс. Вот-вот! То же самое чувствуем и мы с Пикерингом. Элиза, вы дура.
Элиза. Это не ответ. (Опускается в кресло у письменного стола, на глазах ее слезы.)
Хигинс. Другого не ждите, пока не перестанете вести себя как круглая дура. Желаете стать леди, так нечего хныкать, что знакомые с вами мужчины не проводят половину своего времени, вздыхая у ваших ног, а вторую половину – разукрашивая вас синяками. Если вам не под силу та напряженная, но чуждая страстей жизнь, которую веду я, – возвращайтесь обратно на дно. Гните спину до потери человеческого облика, потом, переругавшись со всеми, заползайте в угол и тяните виски, пока не заснете. Ах, хороша жизнь в канаве! Вот это настоящая жизнь, жаркая, неистовая – прошибет самую толстую шкуру. Чтобы вкусить и познать ее, не нужно ни учиться, ни работать. Это вам не наука и литература, классическая музыка и философия или искусство. Вы находите, что я – бесчувственный эгоист, человек с рыбьей кровью, так ведь? Вот и прекрасно. Отправляйтесь к тем, кто вам по душе. Выходите замуж за какого-нибудь сентиментального борова с набитым кошельком. Пусть он целует вас толстыми губами и пинает толстыми подошвами. Не способны ценить, что имеете, так получайте то, что способны ценить.
Элиза (в отчаянии). Вы злой, вы тиран, вы деспот! Я не могу с вами говорить – вы все обращаете против меня, и выходит, что я же во всем виновата. Но в душе-то вы понимаете, что вы просто мучитель, и больше ничего. Вам отлично известно, что я не могу уже вернуться на дно, как вы говорите, и что на всем белом свете у меня нет настоящих друзей, кроме вас и полковника. Вы великолепно знаете, что после вас я буду не в состоянии жить с простым грубым человеком. Зачем же оскорблять меня, предлагая мне выйти за такого? Вы считаете, что мне придется вернуться на Уимпол-стрит, так как к отцу я не пойду, а больше мне некуда деться. Но не воображайте, что уже наступили мне на горло, что надо мной теперь можно издеваться. Я выйду замуж за Фредди, вот увидите, как только он сможет содержать меня.
Хигинс (садится рядом с ней). Вздор! Вы выйдете замуж за посла, за генерал-губернатора Индии, за наместника Ирландии, за любого короля! Я не потерплю, чтобы мой шедевр достался Фредди!
Элиза. Вы думаете доставить мне удовольствие, но я не забыла, что вы говорили минуту назад. Сладкими словами вы от меня ничего не добьетесь. Я не ребенок и не дурочка. Раз уж я не получу любви, то по крайней мере сохраню независимость.
Хигинс. Независимость! Это кощунственная мелкобуржуазная выдумка. Все мы, живые люди, зависим друг от друга.
Элиза (решительно встает). А вот вы увидите, завишу я от вас или нет. Если вы способны проповедовать, то я способна преподавать. Я стану учительницей.
Хигинс. Хотел бы я знать, чему это вы собираетесь учить?
Элиза. Тому, чему учили меня вы, – фонетике.
Хигинс. Ха-ха-ха!
Элиза. Я пойду к профессору Непину и предложу ему свои услуги в качестве ассистентки.
Хигинс (яростно вскакивая). Что! К этому мошеннику, к этому невежде, к этой старой каракатице! Раскрыть ему мои методы! Выдать мои открытия! Да я вам раньше шею сверну! (Хватает ее за плечи.) Слышите, вы?
Элиза (не делая ни малейшей попытки сопротивляться). Сворачивайте! Мне все равно. Я знала, что когда-нибудь вы меня ударите. (Он выпускает ее, взбешенный тем, что забылся, и отшатывается так резко, что падает на тахту на свое прежнее место.) Ага! Теперь я знаю, чем вас пронять. Боже, какая я была дура, что не догадалась раньше! Вам уже не отнять у меня моих знаний. А слух у меня тоньше, чем у вас, – вы это сами говорили. Кроме того, я умею вежливо и любезно разговаривать с людьми, а вы нет. Что? Пробрало вас наконец, Генри Хигинс! Теперь мне наплевать и на вашу ругань, и на все ваши высокопарные слова. (Прищелкивает пальцами.) Я дам объявление в газете, что ваша герцогиня – простая цветочница, которую обучили вы, и что я берусь сделать то же самое из любой уличной девчонки – срок полгода, плата тысяча фунтов. Боже, когда вспоминаю, что пресмыкалась перед вами, что вы издевались надо мной, насмехались и мучили меня, а мне достаточно было пальцем шевельнуть, чтобы поставить вас на место, – я просто убить себя готова!
Хигинс (пораженный, смотрит на нее). Ах вы наглая, бессовестная девчонка! Но все равно, это лучше, чем ныть, лучше, чем подавать туфли и находить очки, правда? (Встает.) Черт побери, Элиза, я сказал, что сделаю из вас настоящую женщину, – и сделал. Такая вы мне нравитесь.
Элиза. Да, теперь вы будете хитрить и заискивать. Поняли наконец, что я не боюсь вас и могу без вас обойтись.
Хигинс. Конечно, понял, дурочка! Пять минут тому назад вы висели у меня на шее, как жернов. Теперь вы – крепостная башня, боевой корабль! Вы, я и Пикеринг – мы теперь не просто двое мужчин и одна глупая девочка, а три убежденных холостяка.
Возвращается миссис Хигинс, уже успевшая переодеться. Элиза тотчас же принимает спокойный, непринужденный вид.
Миссис Хигинс. Элиза, экипаж ждет. Вы готовы?
Элиза. Да, вполне. А профессор не едет?
Миссис Хигинс. Ну конечно, нет. Он не умеет вести себя в церкви. Он постоянно отпускает во всеуслышание критические замечания по поводу произношения священника.
Элиза. Значит, мы больше не увидимся, профессор. Всего хорошего. (Направляется к двери.)
Миссис Хигинс (подходя к Хигинсу). До свиданья, милый.
Хигинс. До свиданья, мама. (Хочет поцеловать ее, но спохватывается и говорит вдогонку Элизе.) Да, кстати, Элиза, закажите по дороге копченый окорок и головку стилтоновского сыра. И купите мне, пожалуйста, у «Ила и Бинмена» пару замшевых перчаток номер восемь и галстук к новому костюму расцветка на ваше усмотрение. (Его небрежный, веселый тон свидетельствует о том, что он неисправим.)
Элиза (презрительно). Купите сами. (Выплывает из комнаты.)
Миссис Хигинс. Боюсь, вы слишком избаловали девушку, Генри. Но ты не волнуйся, милый: я сама куплю тебе галстук и перчатки.
Хигинс (сияя). Нет, мама, можете быть спокойны: она купит все, что я просил. До свиданья. (Целует мать.)
Миссис Хигинс выходит. Хигинс, вполне довольный собой, с лукавой усмешкой позванивает в кармане мелочью.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дальнейшие события показывать на сцене незачем, да, по правде говоря, незачем было бы и рассказывать о них, если бы не разленилось наше воображение; оно слишком привыкло полагаться на шаблоны и заготовки из лавки старьевщика, где Романтика держит про запас счастливые развязки, чтобы кстати и некстати приставлять их ко всем произведениям подряд. Итак, история Элизы Дулитл, хотя и названа романом из-за того, что описываемое преображение кажется со стороны невероятным и неправдоподобным, на самом деле достаточно распространена. Такие преображения происходят с сотнями целеустремленных честолюбивых молодых женщин с тех пор, как Нелл Гвин показала им пример, играя королев и очаровывая королей в том самом театре, где сперва продавала апельсины. Тем не менее самые разные люди полагают, что раз Элиза героиня романа – изволь выходить замуж за героя. Это невыносимо. Прежде всего, ее скромная драма будет испорчена, если играть пьесу, исходя из столь несообразного предположения, а кроме того, реальное продолжение очевидно всякому, кто хоть немного разбирается в человеческой природе вообще и в природе женской интуиции в частности.
Элиза, объявляя Хигинсу, что не пошла бы за него замуж, если б даже он ее просил, отнюдь не кокетничала, она сообщала ему глубоко продуманное решение. Когда холостяк интересует незамужнюю девицу, оказывает на нее влияние, обучает ее и становится необходимым ей, как Хигинс Элизе, то она, если только у нее хватает характера, всерьез задумается: а стоит ли еще делаться женой этого холостяка, тем более что любая решительно настроенная и увлеченная идеей брака женщина может его заарканить – так мало он думает о браке. Тут решение будет в значительной степени зависеть от того, насколько она свободна в своем выборе. А это, в свою очередь, будет зависеть от ее возраста и дохода. Если она не столь уж юна и не обеспечена средствами к существованию, то она выйдет за него замуж, так как вынуждена согласиться на любого, кто ее обеспечит. Но красивая девушка в возрасте Элизы не испытывает такой безотлагательности; она свободна в своем выборе и может проявлять разборчивость. И тут она руководствуется интуицией. Интуиция ей подсказывает не выходить за Хигинса. Но она не велит ей отказаться от него совсем. Нет никаких сомнений: на всю жизнь он останется одним из сильнейших ее увлечений. Чувство это жестоко пострадало бы, если бы другая женщина заняла ее место. Но поскольку в этом отношении она в нем уверена, то и не сомневается в правильности избранной ею линии поведения и не сомневалась бы, даже если бы между ними не было разницы в двадцать лет, – разницы, которая так велика с точки зрения юности.
Коль скоро ее решение к нашей интуиции не взывает, давайте попробуем обосновать его с точки зрения разума. Когда Хигинс объясняет свое равнодушие к молодым женщинам тем, что они имеют сильнейшую соперницу в лице его матери, он дает ключ к своей холостяцкой закоренелости. Случай этот можно считать редким только в том смысле, что замечательные матери попадаются редко. Если у впечатлительного мальчика мать достаточно богата, наделена умом, изящной внешностью, строгим, но не суровым характером, тонким вкусом и умением из современного искусства извлечь лучшее, то он возьмет ее за образец, с которым мало кто из женщин сможет потягаться; к тому же она освобождает его привязанности, чувство красоты и идеализм от специфических сексуальных импульсов. Все это делает его ходячей загадкой для большинства людей с неразвитым вкусом, которых растили в безвкусных домах заурядные или несимпатичные родители и для которых поэтому литература, скульптура, музыка и нежные отношения нужны лишь как форма секса, если вообще нужны. Слово «страсть» означает для них только секс, и мысль, что Хигинс испытывает страсть к фонетике и идеализирует мать, а не Элизу, кажется им нелепой и неестественной. И однако, посмотрев окрест себя, мы убедимся, что нет такого уродливого и несимпатичного человеческого существа, которое при желании не нашло бы себе жену или мужа, тогда как многие старые девы и холостяки возвышаются над средним уровнем благодаря своим высоким нравственным качествам и культуре. В результате этого нам трудно не заподозрить, что отделение секса от других человеческих связей, достигаемое людьми талантливыми путем чисто интеллектуального анализа, иногда осуществляется под воздействием родительского обаяния или же стимулируется им.
Так вот, хотя Элиза и не могла таким образом объяснить себе хигинсовские могучие силы противостояния ее чарам, которые повергли Фредди ниц с первого взгляда, она инстинктивно почувствовала, что никогда ей не завладеть Хигинсом целиком, не встать между ним и его матерью (первое, что должна сделать замужняя женщина). Короче говоря, она догадалась, что по какой-то необъяснимой причине он не подходит для роли мужа, то есть мужчины, для которого, соответственно ее представлению о муже, она стала бы объектом ближайшего, нежнейшего и самого горячего интереса. Даже при отсутствии соперницы-матери Элиза все равно не пожелала бы удовольствоваться таким интересом к себе, который стоял бы на втором месте после философских интересов. Даже если бы миссис Хигинс умерла, остался бы Мильтон и Универсальный алфавит. Высказывание Лэндора в том смысле, что любовь для тех, кто наделен сильнейшей способностью любить, играет второстепенную роль, не расположило бы к нему Элизу. Добавьте сюда возмущение, с каким она относилась к высокомерному деспотизму Хигинса, и как не доверяла его хитрой вкрадчивости, когда он старался обвести ее вокруг пальца и избежать ее гнева в тех случаях, когда обращался с нею чересчур запальчиво и грубо, – и вы увидите, что чутье Элизы с полным основанием предостерегало ее от брака с Пигмалионом.
Но тогда за кого же вышла Элиза? Ибо если Хигинсу на роду было написано оставаться холостяком, то Элиза вовсе не была создана для того, чтобы оставаться старой девой. Хорошо, коротко расскажем это для тех, кто сам не догадается, несмотря на некоторые намеки Элизы.
Почти сразу вслед за тем, как уязвленная Элиза провозглашает свое обдуманное решение не выходить за Хигинса, она упоминает, что молодой мистер Фредерик Эйнсфорд Хилл ежедневно объясняется ей в любви по почте. Что ж, Фредди молод, фактически на двадцать лет моложе Хигинса; он джентльмен (или же, говоря языком прежней Элизы, «барчук») и изъясняется как джентльмен. Полковник обращается с ним как с равным; Фредди непритворно любит Элизу и не командует ею и вряд ли будет командовать, несмотря на свое социальное превосходство. Элиза не признает дурацкого романтического традиционного представления о том, что всем женщинам нравится, чтобы ими повелевали, а то и в буквальном смысле силой принуждали к подчинению и били.
«Идешь к женщине – бери с собой плетку», – говорит Ницше. Здравомыслящие деспоты никогда не прилагали этот совет к женщинам: они брали с собой плетку, когда имели дело с мужчинами, и мужчины, над чьей головой она свистела, рабски их боготворили, в гораздо большей степени, чем женщины. Бесспорно, бывают не только мужчины, но и женщины, любящие покоряться; они, как и мужчины, восхищаются теми, кто сильнее их. Но восхищаться сильной личностью – одно, а жить у него или у нее под пятой совсем другое. Слабые личности, быть может, и не вызывают восхищения и желания поклоняться, но зато они не вызывают и неприязни, от них не шарахаются, и они без малейших затруднений вступают в брак с теми, кто для них слишком хорош. Они могут подвести в минуту крайности, но поскольку жизнь не есть одна сплошная минута крайности, а представляет собою главным образом цепь ситуаций, не требующих никакой особенной силы, то справиться с ними могут даже сравнительно слабые люди, имея в помощь более сильного партнера. Равным образом все вокруг свидетельствует о том, что люди сильные (неважно, мужского или женского пола) не только не вступают в брак с еще более сильными, но даже не отдают им предпочтения, когда подбирают себе друзей. Когда один лев встречает другого, у которого еще более громкий рык, он относит его к разряду зануд. Мужчина или женщина, которые чувствуют в себе силы на двоих, ищут в партнере чего угодно, только не силы. Обратное положение вещей тоже верно. Люди слабые любят вступать в брак с сильными, лишь бы те не очень их пугали, и, таким образом, часто совершают ошибку, которую метафорически мы определяем как «орешек не по зубам». Они хотят слишком многого в обмен на слишком малое, и когда сделка становится неравноценной до бессмысленности, союз распадается: слабейшего партнера либо отвергают, либо волочат за собой как тяжелый крест, что еще хуже. В таких нелегких обстоятельствах обычно оказываются люди не просто слабые, но к тому же еще глупые или тупые.
Ну, а раз с человеческими отношениями дело обстоит таким образом, как же поступит Элиза, очутившись между Фредди и Хигинсом? Изберет ли себе уделом всю жизнь подавать домашние туфли Хигинсу или предпочтет, чтобы всю жизнь ей подавал туфли Фредди? Ответ не вызывает сомнений. Если только Фредди физически не отталкивает ее, а Хигинс не привлекает настолько, что чувство это пересилит все другие, то, если она за кого-нибудь из них и выйдет, это будет Фредди.
Именно так и поступила Элиза.
Последовали осложнения. Но экономического, а не романтического характера. У Фредди не было ни денег, ни профессии. Вдовья часть, последняя реликвия, оставшаяся от былого великолепия Толсталеди-парк, позволила его матери переносить превратности жизни в Эрлскорте с жантильным видом, но не позволила дать детям сколько-нибудь серьезного среднего образования, а тем более профессию сыну. Служить клерком за тридцать шиллингов в неделю было ниже его достоинства, и вообще непереносимо. Его виды на будущее заключались в надежде на то, что, если соблюдать видимость благополучия, кто-нибудь что-нибудь для него сделает. «Что-нибудь» смутно рисовалось его воображению как частное секретарство или некая синекура. Матери это «что-то», вероятно, представлялось женитьбой на светской девушке со средствами, не устоявшей перед обаянием ее мальчика. Вообразите же чувства матери, когда Фредди женился на цветочнице, покинувшей свой класс при совершенно экстраординарных обстоятельствах, которые уже приобрели широкую известность.
Нельзя, правда, назвать положение Элизы полностью незавидным. Отец ее, в прошлом мусорщик, совершил фантастический прыжок из одной общественной категории в другую и стал необычайно популярен в фешенебельном обществе благодаря своему демагогическому таланту, восторжествовавшему над всеми предрассудками и всеми невыгодами его положения. Отвергнутый ненавистным ему классом буржуа, он в один миг угодил в высшие слои за счет своей смекалки, профессии мусорщика (которую он выставлял, как знамя) и ницшеанской позиции вне добра и зла. На званых герцогских обедах для узкого круга он помещался по правую руку от герцогини, а в загородных домах если не сидел за обеденным столом и не давал советы членам кабинета министров, то курил в буфетной и ему прислуживал дворецкий. Но оказалось, что ему так же трудно заниматься всем этим на четыре тысячи в год, как миссис Эйнсфорд Хилл существовать в Эрлскорте на ничтожно малый доход доход настолько меньше дулитловского, что у меня духу не хватает предать гласности точную цифру. И он наотрез отказался добавить к своему бремени последнюю крупицу: взять на себя заботу о содержании Элизы.
Таким-то образом Фредди и Элиза, отныне мистер и миссис Эйнсфорд Хилл, провели бы медовый месяц без гроша в кармане, если бы полковник не преподнес Элизе в качестве свадебного подарка пятьсот фунтов. Их хватило надолго, так как Фредди, денег никогда не имевший, тратить их не умел, а Элиза, получившая светское воспитание из рук двух застарелых холостяков, носила платья, пока они совсем не изнашивались, но все равно была хороша собой, и ее нисколько не беспокоило, что они давно вышли из моды. Однако на всю жизнь пятисот фунтов молодой паре хватить не могло, и оба знали, а Элиза еще и инстинктивно чувствовала, что нужно наконец обходиться без посторонней помощи. Она могла бы поселиться на Уимпол-стрит, так как там, по существу, был теперь ее дом. Но она вполне отдавала себе отчет в том, что Фредди селить там не следует, потому что для его характера это будет вредно.
Надо сказать, уимпол-стритовские холостяки не возражали против вселения молодой четы. Когда Элиза попросила у них совета, Хигинс просто отказался обсуждать жилищный вопрос, не видя тут проблемы, – желание Элизы иметь в доме подле себя Фредди, с его точки зрения, заслуживало не более пристального внимания, чем, скажем, желание купить еще один предмет мебели для спальни. Соображения относительно характера Фредди и его морального долга самостоятельно зарабатывать на жизнь не произвели на Хигинса никакого впечатления. Он заявил, что характер у Фредди отсутствует и что, если он возьмется за полезную деятельность, какому-то компетентному лицу придется все исправлять, а такая процедура доставит чистый убыток обществу и огорчения самому Фредди, которого природа явно создала для легкой работы, а именно – развлекать Элизу, и это, по уверению Хигинса, куда полезнее и почетнее, чем служить в Сити.
Когда Элиза снова вернулась к своему прожекту обучать фонетике, Хигинс ни на йоту не умерил яростного сопротивления. Он утверждал, что ее по меньшей мере еще десять лет нельзя подпускать к преподаванию его любимой науки, и поскольку полковник, судя по всему, взял его сторону, Элиза поняла, что не сможет пойти против них в таком важном деле и что без согласия Хигинса она не имеет права использовать полученные от него знания (не будучи коммунисткой, она считала знания такой же личной собственностью, как, например, часы). Ко всему прочему она до фанатизма предана им обоим, и после замужества еще безраздельнее и откровеннее, чем прежде.
В конце концов разрешил проблему полковник, но стоило это ему многих мучительных сомнений. Как-то раз он довольно нерешительно спросил Элизу, отказалась ли она совсем от идеи поступить в цветочный магазин. Она ответила, что если раньше и думала об этом, то выбросила эту мысль из головы с того дня, как полковник объявил у миссис Хигинс, что это никуда не годится. Полковник сознался, что тогда он говорил под свежим впечатлением блистательного триумфа накануне. В тот же вечер они открыли свои замыслы Хигинсу. Единственное замечание, какое он соизволил отпустить по этому поводу, чуть было всерьез не рассорило их с Элизой. Сводилось оно к тому, что из Фредди получится идеальный мальчик на побегушках.
Разузнали мнение Фредди. Как оказалось, Фредди и сам подумывал о магазине, но ему, привычному к нужде, магазин представлялся тесной лавчонкой, где на одном прилавке Элиза продает табак, а на противоположном – он торгует газетами. Но он с готовностью согласился на цветочный магазин, сказав, что забавно будет ходить ранним утром вместе с Элизой на Ковент-гарденский рынок[4] и покупать цветы на том месте, где они впервые встретились. За столь трогательные чувства он был вознагражден женой множеством поцелуев. Фредди добавил, что всегда боялся высказать вслух такое предположение из-за Клары – она закатила бы скандал, обвинив его в том, что он губит ее шансы на замужество, да и мать вряд ли одобрила бы такой шаг, раз столько лет она цеплялась за ту ступень общественной лестницы, на которой розничная торговля недопустима.
Это препятствие было устранено благодаря одному совершенно непредвиденному событию, которого мать Фредди никак не могла ожидать. Клара во время своих вторжений в наиболее высокие из доступных ей артистических кругов обнаружила, что в разговорную подготовку входит знание романов мистера Г. Д. Уэллса. Она принялась отовсюду брать их взаймы, и так энергично, что за два месяца проглотила все до единого. Результатом явилось обращение, в наше время весьма распространенное. Современные деяния Апостолов составили бы целых пятьдесят Библий, найдись кто-нибудь, кто сумел бы их написать.
Бедная Клара, казавшаяся Хигинсу и его матери неприятной и нелепой особой, а собственной матери неудачницей, необъяснимым образом провалившейся в свете, не воспринимала сама себя ни той, ни другой, потому что, хотя над ней подтрунивали и ее передразнивали, как, впрочем, было вообще принято в Западном Кенсингтоне[5], ее тем не менее считали разумным и нормальным (или, так сказать, неизбежным?) человеческим существом. В худшем случае ее называли пробивной, но ни им, ни ей в голову не приходило, что пробивается она сквозь пустоту, и притом не в ту сторону. Однако счастливой она себя не чувствовала. Более того, она уже начинала приходить в отчаяние. Единственное ее достояние, а именно тот факт, что ее мать походила, по выражению зеленщика в Эпсоме, на «даму с выездом», очевидно, не имело ходовой ценности. Оно помешало ей получить образование, потому что рассчитывать Клара могла только на те знания, которые ей причиталось получать вместе с дочерью эрлс-кортского зеленщика. Поневоле ей пришлось искать общества людей того круга, откуда происходила ее мать. Но те попросту не хотели ее, так как она была гораздо беднее зеленщика и не могла себе позволить держать не то что собственную горничную, но даже прислугу в доме и вынуждена была обходиться приходящей прислугой, согласной на скупое жалованье. При таких условиях ничто не могло придать ей вид подлинного продукта Толсталеди-парка. И тем не менее его традиции обязывали ее взирать на брак с кем-то в пределах ее досягаемости как на нестерпимое унижение. Дельцы и разного рода «люди со специальностью» мелкого пошиба были для нее неприемлемы. Она гонялась за художниками и романистами, но сама для них предмета очарования не составляла, ее манера подхватывать и смело пускать в ход словечки из мира художников и литераторов раздражала их. Короче говоря, она во всех отношениях была неудачницей – невежественная, ничего не умеющая, претенциозная, никому не нужная, отличающаяся снобизмом никчемная бесприданница. И хотя сама она ни в коей мере не допускала наличия у себя этих недостатков (ни один человек не желает признавать неприятных истин в приложении к себе, пока ему не забрезжит свет другого способа существования), она ощущала их воздействие на свою жизнь слишком остро, чтобы быть удовлетворенной положением вещей.
Сильнейшую встряску, открывшую ей глаза, Клара испытала, когда встретила девушку одного с ней возраста. Та произвела на нее ошеломляющее впечатление, пробудила ее, вызвала неудержимое желание взять ее себе за образец, завоевать ее дружбу. Но потом вдруг обнаружилось, что это утонченное создание вышло из трущоб и стало тем, чем оно стало, всего лишь в течение нескольких месяцев. Потрясение оказалось настолько сильным, что, когда мистер Г.Д. Уэллс приподнял ее на кончике своего могучего пера и с новой точки зрения показал ей в истинном свете жизнь, которую она вела, и общество, к которому льнула, показал, какое отношение они имеют к подлинным нуждам человечества и достойной социальной структуре, он добился такого разительного преображения и сознания греховности, что подвиг его можно сравнить лишь с самыми сенсационными подвигами генерала Бута и Джипси Смит. Кларин снобизм как рукой сняло. Жизнь ее внезапно пришла в движение. Сама не зная как и почему, она начала приобретать друзей и врагов. Одни знакомые, для которых прежде она была скучной, или безразличной, или нелепой неизбежностью, бросили ее совсем; другие стали радушны. К своему изумлению, она обнаружила, что некоторые «очень порядочные» люди насквозь пропитаны уэллсовскими идеями, и в том, что они доступны новым идеям, и кроется секрет их порядочности. Люди, которых она считала глубоко религиозными и из подражания которым также пыталась встать на этот путь (причем с катастрофическими результатами), неожиданно заинтересовались ею, и она открыла в них враждебное отношение к общепринятой религии, свойственное, как она раньше полагала, только отпетым личностям. Ее заставили прочесть Голсуорси, и тот обнажил перед нею всю тщеславность Толсталеди-парка и тем доконал ее. Ей невыносима стала мысль, что темница, где она изнывала долгие несчастливые годы, все это время была незаперта и что порывы, с которыми она так старательно боролась и которые подавляла для того, чтобы подлаживаться к обществу, одни только и могли помочь ей завязать настоящие человеческие отношения. В слепящем блеске этих открытий и сутолоке нахлынувших чувств она не раз ставила себя в глупое положение так же непосредственно и явно, как и в тот раз, в гостиной у миссис Хигинс, когда столь опрометчиво подхватила бранные слова Элизы. Это и понятно: новорожденной уэллсовке приходилось в поисках пути тыкаться во все стороны с детской бестолковостью. Но ведь младенец не вызывает неприязни своей бестолковостью, и к нему не относятся хуже из-за того, что он попытался съесть спички. Потому и Клара не растеряла друзей из-за своих глупых выходок. На сей раз над нею смеялись открыто, так что она могла защищаться и что есть сил стоять на своем.
Когда Фредди явился в Эрлс-корт (что он делал, только если нельзя было этого избежать) с сокрушительным известием, что они с Элизой намереваются бросить тень на фамильный герб Толсталеди, открыв цветочный магазин, он нашел обитателей дома в состоянии лихорадки: Клара опередила его, она тоже собиралась работать – в лавке подержанной мебели на Доувер-стрит, принадлежавшей ее сестре по духу, тоже поклонявшейся Уэллсу. Этой службой Клара в конечном счете была обязана своим прежним пробивным способностям. Она давно уже забрала себе в голову во что бы то ни стало увидеть мистера Уэллса вживе и добилась своего на одном приеме в саду. Ей повезло больше, чем того заслуживала ее вздорная затея. Мистер Уэллс вполне оправдал ее ожидания. С годами он не увял, и его бесконечное разнообразие не могло приесться за полчаса. Его подкупающая опрятность и собранность, маленькие руки и ноги, богатый, щедрый ум, непритворная простота и какая-то тонкая понятливость, свидетельствовавшая о его способности воспринимать и чувствовать всем организмом – от любого волоска на макушке до кончиков ногтей на ногах, – были неотразимы.
Клара несколько недель подряд только о нем и говорила. И так как случайно она заговорила о нем с хозяйкой мебельной лавки, а та тоже больше всего на свете хотела познакомиться с мистером Уэллсом и продать ему что-нибудь красивое, то она и предложила Кларе место у себя в лавке, рассчитывая через нее осуществить свою мечту.
Вот так и получилось, что удача продолжала сопутствовать Элизе, предполагаемое противодействие отпало. Магазин помещается в галерее вокзала неподалеку от музея Виктории и Альберта, и если вы живете в этом районе, вы в любой день можете зайти и купить у Элизы бутоньерку.
И вот тут-то остается последний шанс для романтической версии. Разве не хотелось бы вам удостовериться, что магазин процветал благодаря обаянию Элизы и ее былому опыту в цветочном деле с ковент-гарденских времен? Увы! правды не утаить: магазин долгое время не приносил дохода просто-напросто потому, что ни Элиза, ни Фредди не умели вести дела. Хорошо еще, что Элизе не надо было начинать все сначала, – все-таки она знала названия простых и более дешевых цветов. И радости ее не было границ, когда выяснилось, что Фредди, как и все молодые люди, учившиеся в дешевых, претенциозных и ровно ничего не дающих школах, чуть-чуть знает латынь. Малость, но вполне достаточно, чтобы он казался ей Порсоном или Бентли и без труда освоил ботаническую номенклатуру. К сожалению, больше он ничего не знал, а Элиза, хоть и умела сосчитать приблизительно до восемнадцати шиллингов и приобрела некоторое знакомство с языком Мильтона за время своих трудов во славу Хигинса, стараясь выиграть для него пари, не могла выписать счета, не скомпрометировав своего заведения. Умение Фредди сказать на латыни, что Бальб возвел стену, а Галлия делилась на три части, не означало еще умения вести бухгалтерские книги и вообще дела, так что пришлось полковнику Пикерингу объяснять ему, что такое чековая книжка и банковский счет. Притом парочка наша не так-то легко поддавалась обучению. Фредди поддерживал Элизу в ее упрямом нежелании нанять бухгалтера, который бы имел понятие о цветочных магазинах, и, так же как она, не верил, что это сэкономит им деньги. Каким образом, протестовали они, можно сэкономить деньги, пойдя на дополнительные расходы, когда и так не свести концы с концами? Но тут полковник, неоднократно сводивший для них концы с концами, мягко настоял на своем, и присмиревшая Элиза, стыдясь, что так часто вынуждена прибегать к его помощи, уязвленная бесцеремонными насмешками Хигинса, для которого образ преуспевающего Фредди был мишенью непрекращающихся шуток, постигла наконец следующую истину: профессии, как и фонетике, надо учиться.
Не стану останавливаться на жалостном зрелище, которое являла собой эта парочка, проводившая все вечера на курсах стенографии и в политехнических классах, обучаясь бухгалтерии и машинописи вместе с начинающими младшими клерками и секретаршами, пришедшими из начальных школ. Не обошлось даже без занятий в лондонской экономической школе, где они смиренно обратились с личной просьбой к директору – рекомендовать им курс, имеющий отношение к цветочному делу. Директор, будучи шутником, рассказал им о методе, которым пользовался один джентльмен в знаменитом диккенсовском очерке о китайской метафизике: он сперва читал статью про Китай, потом статью про метафизику и сведения затем объединял. Директор предложил им соединить лондонскую экономическую школу с Кью Гарденс[6]. Элиза, которой способ диккенсовского джентльмена показался совершенно правильным (а так оно и было) и нисколько не смешным (и тут уж виновато было ее невежество), восприняла совет с полнейшей серьезностью. Наибольшие унижения ей доставила просьба, с которой она обратилась к Хигинсу. Следующей после стихов Мильтона вдохновенной страстью у него была каллиграфия, и сам он писал красивейшим почерком. Она попросила научить ее писать. Он объявил, что она от рождения неспособна изобразить хотя бы одну букву, достойную занять место в самом незначительном слове мильтоновского словаря. Но она настаивала, пока он опять не принялся со свойственным ему пылом обучать ее, проявляя при этом сочетание бурного натиска, сосредоточенного терпения и отдельных взрывов увлекательных рассуждений о красоте и благородстве, великой миссии и предназначении человеческого почерка. В конце концов Элиза приобрела крайне неделовую манеру писать, носившую отпечаток ее личной красоты, и стала тратить на бумагу втрое больше денег, чем другие. Она даже не соглашалась надписать конверт общепринятым способом, так как в этом случае поля выглядели как-то некрасиво.
Дни обучения коммерции явились для молодой пары периодом позора и разочарования: знаний о цветочных магазинах ничуть не прибавлялось. Наконец, отчаявшись, они бросили всякие попытки чему-то научиться и навсегда отряхнули прах стенографических курсов, политехнических классов и лондонской экономической школы со своих ног. А кроме того, их цветочная торговля каким-то непостижимым образом вдруг пошла сама собой. Они и не заметили, что позабыли о своем нежелании нанимать чужих людей. И пришли к выводу, что их путь – самый верный и что они обладают замечательными деловыми качествами. Полковник, который несколько лет принужден был держать на своем текущем счету в банке порядочную сумму, чтобы покрывать их убытки, вдруг обнаружил, что запас этот больше не нужен, – молодые люди преуспевают. Говоря по совести, игра была не совсем честной, – они находились в более выгодном положении, чем их конкуренты по ремеслу: загородные уик-энды им ничего не стоили и сберегали средства на воскресные обеды благодаря тому, что автомобиль принадлежал полковнику и полковник с Хигинсом оплачивали еще и гостиничные счета. Манеры мистера Ф. Хилла, торговца цветами и зеленью (очень скоро молодые сделали открытие, что спаржа хорошо идет, а от спаржи перешли к другим видам овощей), придавали заведению шик, а в частной жизни он как-никак был Фредерик Эйнсфорд Хилл, эсквайр. Но Фредди никогда не зазнавался, и одна Элиза знала, что при рождении его нарекли Фредерик Чэлонер. Элиза-то как раз зазнавалась почем зря.
Вот, собственно, и все. Так обернулась эта история. Просто удивительно, до какой степени Элиза ухитряется по-прежнему вмешиваться в домашнее хозяйство на Уимпол-стрит, несмотря на магазин и свою семью. И можно заметить, что мужа она никогда не шпыняет, к полковнику привязана искренне, как любимая дочь, но так и не избавилась от привычки шпынять Хигинса, как повелось с того рокового вечера, когда она выиграла для него пари. Она откусывает ему нос по малейшему поводу и без оного. Он больше не смеет дразнить ее, утверждая, что Фредди находится на несравненно более низком уровне умственного развития, чем он. Он беснуется, угрожает, издевается, однако она всегда дает ему такой безжалостный отпор, что полковник подчас не выдерживает и просит быть подобрее к Хигинсу, и это единственная из его просьб, вызывающая на ее лице выражение ослиного упрямства. И ничто не изменит этого положения, кроме чрезвычайных обстоятельств или катастрофы такой силы (избави их Бог от подобного испытания!), чтобы сломить симпатии и антипатии и воззвать к их общему человеколюбию. Она знает, что Хигинс не нуждается в ней, так же как не нуждался в ней ее отец. Именно та добросовестность, с какой он сообщил ей в тот день, что привык к ее присутствию, что он полагается на нее в разного рода мелочах и ему будет не хватать ее (Фредди или полковнику в голову бы не пришло говорить такие вещи), укрепляет ее уверенность в том, что она для него «ничто, хуже вот этих туфлей». И в то же время есть у нее ощущение, что безразличие его стоит большего, чем страстная влюбленность иных заурядных натур. Она безмерно заинтересована им. Бывает даже, у нее мелькает злорадное желание заполучить его когда-нибудь одного, на необитаемом острове, вдали от всяких уз, где ни с кем не надо считаться, и тогда стащить его с пьедестала и посмотреть, как он влюбится – как самый обыкновенный человек. Всех нас посещают сокровенные мечты такого рода. Но когда доходит до дела, до реальной жизни в отличие от жизни воображаемой, то Элизе по душе Фредди и полковник и не по душе Хигинс и мистер Дулитл. Все-таки Галатее не до конца нравится Пигмалион: уж слишком богоподобную роль он играет в ее жизни, а это не очень-то приятно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Комедия была создана в 1912 г.; Бернард Шоу написал роль Элизы Дулитл специально для мисс Патрик Кэмпбел, своей любовницы, в разгар их бурного романа. Пьеса впервые прошла в Вене (премьера состоялась 16 октября) и Берлине (1 ноября), на английской сцене была поставлена 11 апреля 1914 г., – главную женскую роль сыграла Патрик Кэмпбел.
Впоследствии пьеса была с успехом экранизирована (1938). По мотивам «Пигмалиона» в 1956 г. Фредерик Лоу создал популярный мюзикл «Моя прекрасная леди».
Являясь одной из наиболее удачных пьес Шоу, она в течение следующих десятилетий многократно ставилась в различных театрах мира. Пользовалась комедия большим успехом также и в России; на русской сцене впервые поставлена в петроградском Михайловском театре (апрель 1915).