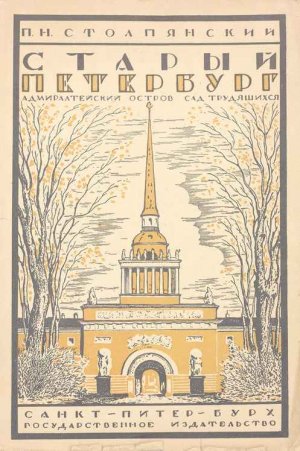
Предмет предлагаемой вниманию читателя книги. — Топография Адмиралтейской площади. — Заложение Адмиралтейства. — Петровские торжества. — План постройки первоначального Адмиралтейства. — Шведские нападения на Петербург. — Изменение плана постройки Адмиралтейства. — Адмиралтейство. — Крепость. — Пожарные предосторожности. — Устройство башни и шпиля. — Работы в 1716 году. — Устройство и дальнейшая судьба Адмиралтейских каналов. — Адмиралтейская Коллегия. — Петровские фряжские погреба. — Екатерининский сервиз. — Адмиралтейские мосты. — Устройство застенка. — Описание Адмиралтейства. — Перестройка Адмиралтейства Коробовым. — Первоначальная церковь в Адмиралтействе. — Пожар 1783 года. — Проект переноса Адмиралтейства в Кронштадт. — Захаров и его перестройка Адмиралтейства. — Как можно говорить архитектурными формами. — Детали постройки Адмиралтейства. — Скульпторные украшения. — Главная лестница. — Зал Адмиралтейств-совета. — Адмиралтейская площадь. — Как она возникла. — Заботы об ее урегулировании. — Большая Луговая улица. — Обсадка площади изгородом. — Пастьба царских коров. — Балаганы на Адмиралтейской площади. — Пожар балагана Лемана. — Появление и значение Адмиралтейского бульвара. — Памятник Петру Великому. — История его постройки. — Легенда, связанная с памятником. — Восстание декабристов. — Устройство сада на Адмиралтейской площади. — Адмиралтейская набережная. — Проект Росси. — Устройство набережной в 1873 году. — Выкопировка из исторического плана Петербурга. — Река Мойка. — Начало построек на Мойке. — Полицейский мост. — Невский проспект — улица Веротерпимости. — Зарождение Невского проспекта. — Легенда о Невском проспекте. — Проект 1739 года. — Заботы о Невском проспекте Елизаветы Петровны. — Бульвары Невского проспекта. — Мостовая и освещение Невского проспекта. — Описание Невского проспекта. — Первый кабак. — Описание продажи пива. — Морской рынок. — Мытный двор или первый Гостиный двор. — Пожар 1736 года. — Деревянный Зимний дворец. — Банкетные столы. — Уничтожение деревянного дворца. — Дом Чичерина. — Переход его Куракину и Коссиковскому. — Модель С.-Петербурга Росси. — Вольная типография. — Книжные магазины. — Плюшар. — Ротган. — Смирдин сын. — Музыкальный клуб. — Танцовальное собрание. — Первые маскарады. — Зал Лихтенталя. — Цыгане. — Общество любителей стрельбы. — Оптические панорамы. — Кукольный театр Старого Петербурга. — Магазины дома Чичерина. — Аптека Имзена. — Дом Неймана. — Первый музеи восковых фигур. — Изделия из серпантинова камня. — Муфта из человеческих волос. — Торговля вином. — Зубной врач Д. Валленштейн. — Справка о зубных врачах Петербурга. — Кондитерские Петербурга. — Направление Малой Миллионной улицы. — Дом Овцына. — Другие дома замечательного перекрестка: Невский проспект — Проспект 25 Октября. — Нынешняя улица Герцена, былая Морская. — Трактир Лондон. — Трактиры и рестораны Невского проспекта. — Первое помещение для художественных выставок. — Дом Чаплина. — Морская улица. — Остатки Елизаветинского дворца. — Панорама Парижа. — Дом Руадзе. — Воскресные школы и профессор Павлов. — Театр деревянного Зимнего дворца. — Дом Мааса. — Положение первого немецкого театра и дом Елагина. — Как найти владельцев былых домов. — Квартира Герцена и петрашевца Ахшарумова. — Мариинская площадь и памятник Николаю I. — Дом Вольно-экономического Общества. — Лекции и заботы о сельском хозяйстве. — Дома графа Смайлова и барона Кутайсова. — Дом Лобанова-Ростовского. — Первые литографии. — Исаакиевский собор. — Заключение.
Эта книжка — третья из первой серии моих работ но Старому Петербургу. Первая серия должна носить общее название: Старый Петербург. Адмиралтейский остров и состоит из четырех книжек: 1) Площадь жертв революции, 2) Дворец Искусств 3) Сад Трудящихся и 4) Дворец Труда. — Случайные обстоятельства заставили начать выпуск в свет с конца серии: «Дворец Труда» уже вышел, «Сад Трудящихся» только что появляется, остальные книжки уже сданы в печать. Таким образом, центральная часть Петербурга имеет достаточное количество материалов для своей истории.
И при составлении этой книжки я преследовал те же две цели, о которых я говорил уже: именно — дать строго проверенные материалы в легкой доступной большинству форме. 538 ссылок на материалы в этой книжке говорят сами за себя.
П. Столпянский.
Предметом нашего обследования будет, как видно и из приложенного при сем плана, незначительный, можно сказать, даже миниатюрный уголок Петербурга, уголок, на котором возвышается столь прославленная Пушкиным «адмиралтейская игла» и разбит былой Александровский сад, получивший в настоящее время новое название — «Сад Трудящихся». Но, несмотря на свою миниатюрность, этот уголок Петербурга заслуживает большого внимания, и его история заключает в себе не одну страницу, полную захватывающего интереса, и современный петроградец, проходя по этой местности, даже не подозревает о тех переменах, которые она испытала за прошедшие 200 с небольшим лет...
На шведских картах XVII века на месте нынешнего Адмиралтейства показана какая-то деревушка; эта деревушка значится также без названия и в той перешитой окладной книге, которая сохранилась от старого Новгорода и от 1500 года дошла до нашего времени. Приведя «Великий Новгород во всю волю свою», Иоанн III, московский царь, потребовал в январе 1498 года от новгородцев дани. Для определения размера этой дани необходимо было сделать «перепись», определить количество земли и населения, которое нужно было обложить данью. На наше счастье сохранилась от 1500 года такая вторая по времени (первая перепись была в 7004 году от сотворения мира, т.-е. в 1496 году) переписная окладная книга, которая была издана Московским Обществом Истории и Древностей Российских и переиздана Археографическою комиссиею. И вот в этой-то переписной книге мы отыскиваем, что на месте нынешнего Адмиралтейства была довольно большая безыменная деревня, в ней заключалось «пять дворов и семь душ мужского пола, сена косили 90 копен, а хлеба сеяли 18 коробей». Домики деревни ютились по берегу Невы, где пролегала проезжая тропа, ведущая от дельты Невы на старую новгородскую дорогу; вокруг этой деревушки, конечно, был уже вырублен лес, распахано поле, словом, местность не была обычным болотом, а являла некоторые следы культуры. На таком месте было более легко возводить солидную постройку. Это обстоятельство, видимо, привлекла внимание Петра Великого, когда он подыскивал на нынешнем Адмиралтейском острове подходящее место для будущего Адмиралтейства[1]. Вообще нужно помнить, что большая часть значительных петровских сооружений закладывалась на тех местах, где при шведском владычестве были какие-нибудь постройки, усадьбы, деревни и т. п.; места эти, как до известной степени обработанные, считались более пригодными для поселения. И, выбирая место для устройства Адмиралтейства, Петр Великий даже не сделал промера в реке: у Адмиралтейства тянется узкой полосой отмель, над которой глубина воды не превышает 3 футов; эта отмель, конечно, делала большие затруднения при спуске судов, но все же это затруднение игнорировали во имя тех удобств, которые были от нахождения здесь деревушки.
И вот 5 ноября 1704 года[2] «заложили Адмиралтейство и были в Остерии (астерия, трактир) и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен»—такую пометку мы находим в журнале Петра Великого. Как веселились, к сожалению, журнал Петра Великого по указывает, но у нас имеются известия о других петровских веселиях, причем тот же журнал с точностью отмечает, что обыкновенно на другой день после веселия и сам Петр и его министры «принимали рвотное»[3], а Берхгольц в своем дневнике пребывания в Петербурге дополняет это чисто-медицинское сообщение картонкою следующего рода[4]:
«В продолжение обеда, хотя и пили только из рюмок, однакож, гости под конец до того опьянели, что большею частью и не помнили, как убрались с корабля. И немудрено: они сидели за столом с 4-х часов пополудни до 2-х часов утра и все это время беспрерывно пили, так что, наконец, даже сам император едва мог стоять на ногах. Он, впрочем, объявил наперед, что в этот день намерен хорошенько напиться. Его королевское высочество (герцог голштинский, отец Петра III) должен был отвечать на все тосты крепким венгерским вином, а потом не только сам за себя, но из дружбы к старшему Гессенскому, выпил еще несколько стаканов, кроме того, часто получал штрафные стаканы от императора, которому непременно хотелось напоить его и довести, как он говорил, до состояния пьяного немца. Вследствие этого его высочество так сильно опьянел, как ему никогда еще в жизни не случалось. Мы принуждены были под конец носить его, потому что он не мог более держаться на ногах, причем у него, как и у многих других, несколько раз начиналась рвота».
Дополнением к этому описанию может служить еще следующий счет с резолюцией Петра. Счет был подан 25 августа 1720 года за разбитою при спуске галер «Виктория» и «Констанция» посуду. Оказалось, что пьяными гостями было разбито: 78 бутылок, 7 рюмок больших хрустальных, 47 рюмок средних, 7 рюмок маленьких и 8 дюжин трубок. Резолюция — «записать в расход». Кроме того, пропало 5 шандалов и салфетки; стоимость этих вещей предписано было «взять с тех, кто у надсмотра вещей были»[5].
Надо полагать, что и при заложении Адмиралтейства веселие было в том же роде, — но веселие оказалось преждевременным, обстоятельства сложились так, что пришлось изменить и весь первоначальный план постройки Адмиралтейства. Этот первоначальный план был выполнен самим Петром, и под ним была следующая характерная падпись[6]:
«Сей верф делать государственными работниками или подрядом, как лучше, и строить по сему: жилья делать мазанками без кирпича; кузницы обе каменные в 1/2 кирпича; амбары и сараи делать основу из брусья и амбары доделать мазанками, а сараи обить досками, только как мельницы ветряные обиты, доска в доску, и у каждой доски нижний край обдорожить и потом писать красною краскою. От реки бить поженными сваями».
В этом петровском распоряжении особенно заслуживают внимания два обстоятельства — Петр Великий не настаивает на исполнении работ посылаемыми по наряду рабочими — «делать государственными работниками или подрядом» как лучше — таким образом, в самом начале постройки Петербурга принцип обязательности работы не особенно защищается Петром, а затем, хотя сараи Адмиралтейства и будут деревянными, но их нужно выкрасить красною краскою, под кирпич, т.-е. произвести тот же маскарад, который был допущен и с домиком Петра Великого на Петербургской стороне — деревянная постройка раскрашивалась под камень.
Первоначальное Адмиралтейство по плану Петра Великого должно было представлять из себя следующее: оно занимало участок земли тот же, что и теперь, длиною 200 сажен, шириною 100 сажен. Этот участок с трех сторон (кроме той стороны, которая прилегала к Неве) предполагалось окружить одноэтажным мазанковым зданием, передний фас которого имел бы в ширину 23 фута, а боковые 30 ф. Передний фас предполагался для разных мастерских; в боковом фасе (против нынешнего Зимнего дворца) думали устроить сарай в 350 футов длины для спуска канатов и такелажа и для помещения канатного и смоляного мастеров; в другом боковом фасе (против бывших сената и синода) проектировались амбары для мастеров мачтового, блокового, парусного и других. Наружные стены этих строений не должны были иметь никаких проемов, а все окна и двери выходили внутрь адмиралтейского двора, причем в 15 футовом от зданий расстоянии проектировалось вырыть канал, длина которого по длинному фасу равнялась бы 45 футам, а по двум коротким по 25 футов. Пространство внутри этого канала, длиною в 100, шириною в 49 сажен, составляло собственно верфь, где и надлежало устроить 13 эллингов для сооружения кораблей, три сарая для постройки более мелких судов и две кузницы.
Но этот первоначальный план так и остался в проекте; военные действия шведов заставили вместо простой верфи устроить верфь-крепость.
Шведы начали беспокоить вновь созидаемый Петербург чуть ли не с первого дня его основания. В дальнейшем изложении мы приведем вкратце сведения только о сухопутных походах шведов, оставляя без внимания их действия на возникающий Кронштадт.
В то время, как «на одном из островков (Енисари) Невского устья», — по словам С. М. Соловьева[7], — «стучал топор; рубили деревянный городок; этот городок был Петербурх» — недалеко от него, на реке Сестре, стоял шведский генерал Крониорт с сильным отрядом в 12.000 человек. Такое близкое соседство неприятеля на могло не тревожить Петра Великого, и последний 7 июля 1703 года двинулся на реку Сестру с 4 драгунскими и двумя пехотными — Преображенским и Семеновским — полками под начальством Чамберса. Несмотря на то, что шведы занимали сильную позицию, полковник Рен — первый петербургский обер-комендант — со своими драгунами овладел мостом и переправою; за Реном переправились и прочие полки, неприятель был опрокинут прежде, чем подоспели гвардейские полки, и, потеряв убитыми до 1000 человек, бежал к Выборгу[8].
Таким образом, на первых порах Петру Великому удалось обеспечить существование вновь воздвигаемой Петропавловской крепости. Но шведы не хотели без дальнейшей борьбы уступить Петру Великому устье Невы и сделали ряд попыток нападений на Петербург в 1704 —1705 г.г.[9].
12 июля 1704 г. произошел сильный артиллерийский бой под Петербургом. Утром 12 июля на нынешней Выборгской стороне появился генерал Майдель с отрядом до 8000 ч. и, установив орудия против позиций Брюса, коменданта Петербурга, открыл артиллерийский бой. Генерал Брюс ожидал этого нападения, успел на берегу нынешней Петербургской стороны устроить линию обороны с батареями, на которых «довольное число пушек поставил». Четыре часа продолжалась перестрелка и привела Майделя к убеждению, что не так-то легко сбить русских с занимаемых ими позиций и что будет благоразумнее убраться пз сферы поражаемости наших пушек. Майдель отступил от Петербурга, по ненадолго. 5 августа он снова подошел к Петербургу, несколько ниже Ниеншанца (нынешняя Охта) и послал к Брюсу барабанщика с письмом, в котором требовал немедленной сдачи Петропавловской крепости.
«Не угодно ли господину генерал-порутчику удалиться в свою землю, а меня таким писанием пощадить», — так характерно отвечал Брюс и выступил с частью своего гарнизона и пушками к Ниеншанцу. Сражения, однако, не произошло, и генерал Майдель 9 августа вторично отступил от Петербурга.
Еще раз тот же самый генерал показался у Петербурга 4 июня 1705 года и сжег три деревни на Каменном острове. По шведской диспозиции, в этот день шведский флот, взяв Кроншлот, разбив русский флот, должен был войти в Неву и начать бомбардировку Петербургской крепости. Однако, шведскому флоту не удалось выполнить этих предначертаний. У Кронштадта ожидал его только что зародившийся русский флот со старым испытанным морским вице-адмиралом Крейсом. И Майдель, видя, что шведский флот потерпел неудачу, отступил от Петербурга лишь для того, чтобы через три недели — 23 июня 1705 года — возобновить снова свою попытку. В этот день шведы переправились через Большую Невку на Каменный остров, а ночью подошли к Малой Невке с целью переправиться на Аптекарский. Но на последнем уже были русские окопы, и «через многую нашу стрельбу», на утренней заре сбили неприятеля с Каменного острова, и он «с великим поспешанием» ушел на Выборгскую дорогу.
Майдель сделал еще попытку — переправился через Неву, как бы желая двинуться в глубь Ингерманландии. Но ингерманландские драгуны, низовая конница Дмитрия Бахметева, казаки Михаила Зажорского, три полка пехоты и отряд Брюса принудили шведа спешно переправиться обратно за реку. Генерал Майдель сознал наконец таки невозможность нападения на Петербург с сухого пути с теми силами, которые были в его распоряжении.
Таким образом, хотя и вышеописанные шведские нападения, как и еще две попытки в 1707 и 1708 году, были неудачны, но они доставили много огорчений и хлопот первым аборигенам Петербурга, что ясно видно из немногих уцелевших до нашего времени писем.
«Чиню милости вашей ведомо, — писал Крейс К. А. Нарышкину от 28 января 1707 года[10], — что мы здесь при Санктпетербурге живем, аки слепые люди, потому что ничем не уведомлены; ныне прошу вашего благочестия, позволь нам уведомить о состоянии бытности вашей, також уведомить, что чинится в управлении против неприятеля».
А вот и еще характерные добавления к вырвавшемуся из глубины души воплю со стороны первоначальных строителей Петербурга. «Шведские полки подошли и стоят ниже Канец (т.-е. Охты), от нас неподалеку, стрельба от них из пушек по вся дни» (письмо Степанова Яковлеву от 28 нюня 1705 года[11]; «шведские полки перешли через Неву (пишет тот же Степанов от 3 июля 1705 года)[12], и на порогах кирпичные заводы и, что было строения, все пожгли и уже пыне лесов ничего пет и в строении остановка» и, наконец, последняя выписка[13]: «Ныне у нас в работах чинится остановка: Майдель по ведомостям в 8 тысячах войск от пас близко и шведские полки разъезжают но берегу реки Невы, по все дни против домов, на котором острове мы живем, также де в лесах работных люден от работы разгонивают, приезжают человек по 20 — 30 с ружьем неведома какие люди, и оттого многие разбегались, а иные от страху на делах быть опасны».
Вышеупомянутые нападения шведов имели первым последствием полное изменение плана постройки Адмиралтейства. Вместо обыкновенной верфи решили строить крепость, в которой уже учредить верфь. Первое указание на изменение этого плана мы встречаем в письме Меншикова Яковлеву (последний надзирал за постройками в Адмиралтействе) от 24 июня 1705 года[14]:
«Которое вновь строение заложено от Адмиралтейства в 60 саженях, то все вели отнесть и впредь, что надлежит строение от Адмиралтейского двора в 150 саженях, для того, чтобы от пожару Адмиралтейскому двору было безопасно, а ныне для прихода неприятеля велено сделать около Адмиралтейского двора палисад, вал земляной против образца, каков послан по нынешней почте к Роману Брюсу».
Роман Вильямович Брюс был первый обер-комендант С.-Петербурга. В приведенном письме Меншикова, кроме распоряжения об устройстве крепости, есть еще и другое очень ценное указание — на образование гласиса крепости — постройка от Адмиралтейства разрешена лишь в 150 саженях, — из этого гласиса впоследствии появилась Адмиралтейская площадь. Распоряжение Меншикова пришло в разгар работ в Адмиралтействе, в котором первою постройкою был амбар для съестных припасов, заложенный 26 января 1705 года[15]. К концу мая месяца того же года этот «анбар на припасы, на погребах, на длиннике 14 сажень» был готов. Кроме того, была готова часть светлиц для адмиралтейских рабочих, и «в 50 саженях от Адмиралтейства» ставились избы для жилья мастеровых. Эти избы нужно было теперь перенести на другое место, бросить другие начатые работы и приняться за устройство крепости.
Меншиков писал, что план Адмиралтейской крепости был послан «по нынешней почте». Однако, этого плана в Петербурге долго не получали, и только 17 сентября Р. В. Брюс послал Меншикову такое письмо[16]:
«Сего сентября в 17 депь от Вашего Превосходительства чертеж привезен, как строить крепость около двора адмиралтейского, которое дело зачато сентября 20-го и для поспешения из фашин строить станем, а дерном невозможно поспешить за опозданием времени. Против чертежа вышеупомянутого двора вымеряли и по размеру два бастиона далеко в реке будут, где 31/2 сажени глубины, которые нынешним поздним временем и за великими погодами (т.-е. дождями, бурями, наводнениями, поясним от себя) строить дало трудно и поспешить невозможно, а как скоро замерзнет река, то зачнем немедленно строить, а до того времени как те два бастиона строить станем, будут сделаны два маленькие бастиона, как на чертеже показано».
Работы велись действительно «с великим поспешанием»: уже 12 октября, т.-е. менее чем через месяц по получении плана, Яковлев доносил Меншикову—«крепость около двора сделана и полисад во рву поставлен», а через пять дней, т.-е. 17 октября, тот же Яковлев просил вице-адмирала Крейса, тогда начальника нарождавшейся балтийской эскадры: «около адмиралтейского двора на новопостроенной крепости и по больверкам для караула надлежит поставить пушек многое число, а ныне на адмиралтейском дворе пушек нет. Прошу, мой государь, прикажи, с кораблей и галер 6-фунтовые пушки собрав, для вышеописанных караулов прислать на время на адмиралтейский двор, а когда время их будет, возвратить попрежнему на корабли и они всегда готовы».
Очевидно, Крейс исполнил просьбу Яковлева, и последний, наконец таки, 15 ноября того же 1705 года писал с облегченным сердцем Меншикову[17]: «При Санкт-Питер-бурхе на Адмиралтейском дворе милостию вашею все хранимо и кроме того двора крепость строением совсем совершилась и ворота подъемные и шпиц и по бастионам по всем пушки поставлены и рогатками обнесены».
Итак, после месяца упорной работы крепость была готова, но оказалось, что, собственно говоря, она не нужна. Непосредственных нападений на Петербург шведы уже на делали, а тут подошел 1709 год с «Полтавскою викториею», позволившей Петру написать следующие строки: «Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питер-бурха положен с помощью божией» — таким образом следовало бы заняться переустройством крепости по прежнему плану в обыкновенную верфь, но Петру, видимо, так поправилась эта крепость, что он все свое царствование не переставал о ней заботиться, заменяя временные, наскоро построенные укрепления прочными, фундаментальными, которые и просуществовали целое столетие: 25 мая 1806 года приступили к срытию валов[18].
Как видно из вышеприведенного письма Яковлева, одновременно с устройством крепости велись и другие работы, причем в одно время с крепостью был закончен и «па ворота шпиц». Таким образом уже при первом появлении Адмиралтейства обозначился тот его план, который остался без перемены при всех последующих изменениях крепости и даже при уничтожении валов, при полной перестройке Адмиралтейства Захаровым, основная идея постройки — Форма здания «покоем, обращенным к Неве, с башнею со шпицем на главных воротах» не была нарушена.
Первое время, до 1710 — 1711 годов, заботы Петра Великого были направлены главным образом на обеспечение Адмиралтейства от пожаров. Безусловно, вследствие постоянных указаний Петра — вице-адмирал Крейс писал 30 декабря 1708 года графу Апраксину, «великому адмиралтейцу», чтоб последний распорядился, «дабы хоромные строения, амбары, лавки 200 сажень отступить от берегу, понеже, — добавлял Крейс, — в пожарное время, от чего Бог спаси, флот великий страх имеет, о сем по вся годы я писал».
Еще раньше, 29 октября 1707 года, сам Петр осмотрел в гавани, где стоят корабли, по берегу реки Невы, хоромное строение, близ дока и на докладе об этом осмотре, против многих построек, своим характерным почерком написал: «Сломать». Большинство этих построек — «бани солдатские, избы караульные, избы солдатские», в которых «печи» или «обвалились» или «вовсе нет» — были сломаны, по одна постройка, как увидит читатель из дальнейшего изложения, уцелела, несмотря на категорическое распоряжение Петра — «сломать».
Все эти распоряжения завершились следующим собственноручным указом Петра от 5 февраля 1709 года[19]: «Великий, государь указал сим объявить, как и прежде сего объявлено было, чтоб около кораблей и прочих судов, также у галер в гавани, при Санкт-питер-бурхе, никакого огня не держать, также и табаку не курить, а с теми, кто в оном окажется виновен, будет бит: по первому приводу наказан 10 ударами у мачты, а с теми кто приведен будет в другой раз, оной будет под низ корабельный подпущен и у мачты будет бит 150 ударами, а потом вечно на каторгу сослан».
В этом указе современного читателя не может не поразить жестокость наказания: за второй привод, т.-е. за поимку во второй раз в курении в Адмиралтействе, кроме вечной каторги, виновный наказывался 150 ударами, а перед этим на веревке протаскивался в воде, под килем корабля (едва ли, испытав такое наказание, виновный оставался живым и мог быть сослан на каторгу). И этому наказанию подвергался всякий, кого заметили, что он во время работы в Адмиралтействе закурил во второй раз.
Установить так подробно, чуть ли не день за днем, как это мы делаем до сих пор, дальнейшие этапы постройки Адмиралтейства нам не удалось, так как мы не нашли необходимых данных в наших архивах, — быть может, всеуничтожающее время истребило эти указы, а, быть может, они хранятся в тайниках наших архивов, недоступные пока для исследователя. Но если невозможно детально-точное (подчеркиваем это слово) восстановление, то в общих чертах нарисовать картину, как строилось Адмиралтейство в Петровское время, конечно, возможно, причем придется исправить некоторые недомолвки предшествующих исследований.
У Богданова[20] встречается указание, что в 1711 году была перестроена средняя часть Адмиралтейства и выстроена «каменная над воротами Адмиралтейская коллегия, а над нею мазанковая башня». Рубан при этом указывает, что в это же время на башне были устроены часы. Не знаем, насколько справедливо последнее указание на часы, но во всяком случае они были поставлены до 1721 года, потому что в этом году появилось распоряжение[21] «о сделании на адмиралтейских часах часового круга больше». Очевидно, первоначальный круг часов и часовые стрелки были малы, так что трудно было различать время, — а ведь Петр устраивал на своих «шпицах» часы с исключительною целью приучить своих подданных проверять свои часы не по солнцу, а по городским часам. Далее, нужно безусловно ввести некоторые поправки и к вышеприведенной дате Богданова о башне. Если в 1711 году и была готова башня, то или ее шпиц был недостаточно высок или он не понравился Петру, но распоряжение о постройке шпиля было дано в 1716 году, постройка шпиля продолжалась и в следующем 1717 году[22] К постройке шпиля был привлечен подполковник Аничков[23], который, видимо, считался в Петровское время одним из лучших строителей — им, между прочим, построен и первый мост в Петербурге, сохранивший и поднесь в своем названии память о своем строителе, мы подразумеваем Аничков мост. Шпиль вполне был готов к 1720 году[24], когда приступили к его украшению. Заботы об этом украшении безусловно заслуживают внимания. 16 мая 1719 Адмиралтейств-коллегия докладывала, что «спицного дела мастер Герман Болес обещает шпиц достроить всякою столярною и плотничною работою своими мастеровыми людьми, а именно укрепить спиц, поставить на нем яблоко, корабль, отделать внутри и с лица того спица окошки, двери, кзымы, балясы, лестницы со всем как надлежит, кроме того спиц железом обить, на кровле того спица сделать два фонаря столярною и прочею работою как надлежит». За все это мастер хотел получить 350 р., из них 200 рублей задатком. 20 мая просимый задаток был дан, и мастер начал работу. Видимо, к осени он закончил устройство шпица, и тогда принялись его украшать — 30 сентября 1719 года[25] постановили: «Сделать в Адмиралтейство к шпилю резные 4 орла, 8 кронштейнов, да 12 капителей». Работа была сдана «резному мастеру Никласу Кнааку да подмастерью Ивану Сухому», причем, конечно, они обещались сделать «к объявленному сроку самым добрым мастерством»: ценилась их работа довольно таки дешево: орлы и кронштейны по 5 рублей, капители по 1 р. В 1720 году был выработан церемониал — «об украшении адмиралтейского шпица днем имеющимися старыми флагами, а ночью фонарями, когда имеет быть о полученной на море виктории по 3 дня иллюминации»[26]. Считаем более удобным дать здесь же общую справку об адмиралтейском шпиле, чтобы потом не возвращаться к нему, хотя этой справкою мы несколько нарушаем принятый нами способ изложения — хронологический. Шпицом занялись при первой перестройке Адмиралтейства в 1736—40 году[27]. 3 марта 1737 году вызывались подрядчики, желавшие взять на себя подряд «на обивку адмиралтейского шпица золотить медные листы»[28], во сколько обошлась эта работа, к сожалению, неизвестно, но при следующей переделке Адмиралтейства Захаровым на позолоту шпица требовалось 15 т. р.[29]. Этот новый шпиц стал тускнеть к 1845 году, и 23 октября 1846 года были сняты леса, и адмиралтейская игла снова засияла во всем своем блеске[30], и, наконец, последний ремонт она испытала в 1886 году[31] — таким образом позолота держится в петербургском климате приблизительно около 40 лет (с 1810 по 1846 г. и с последнего по 1886 г.).
Сохранилось очень подробное описание работ около Адмиралтейства и в нем самом, датированное 25 сентября 1716 года. Оказывается, что к этому числу в Адмиралтейской крепости было сделано следующее[32]: «Щиты с обоих концов от реки Невы запущены к сваям для заплаты в два ряда, между которыми сыпана земля, мерою в обоих концах 1100 сажен. Под каменными больверками подбито свай в 4 ряда, а именно по 648 свай под больверком, итого под оба больверка 1296 сваи, на которые кладены брусья в длину во все сваи, а на брусья помещены мосты. Два каменные больверка, мерою по 80 сажен, больверк вышиною 8 футов, толщиною 5 футов, покрыты лещадью. От тех больверков биты сваи в одни ряд кругом всей фортификации, а именно числом 920 свай. От воды с обоих концов у бодекктвега побиты во рвы тесаных по 110 свай. От каменных же больверков выкладено дерном от верхнего больверка куртина и большая половина наугольного больверка, вышиною в 8 футов, а длиною по каналу и с наугольного больверка 122 сажени. От нижнего каменного больверка выкладена дерном куртина и половина наугольного больверка, вышиною в 8 фут., длиною с наугольным больверком 73 сажени. На каменном нижнем больверке выкладено дерном во весь больверк вышиною 4 фута».
Как видим, в 1716 году постройка каменных стен около Адмиралтейства была почти закопчена. Нельзя не обратить внимания на колоссальность, если так можно выразиться, этих работ. Под каменные больверки было подбито 1516 свай, а общее количество свай, вбитых у Адмиралтейства, достигало 2436 штук — болота, трясины, на которых строился Петербург, требовали сначала своего укрепления, и в почву вбивалось бесконечное количество свай, чтобы на этом деревянном фундаменте возможно было возводить дальнейшую постройку. Понятно, что при таких условиях постройки велись значительный промежуток времени, но было и еще одно обстоятельство, замедлявшее ход построек, — недостаток в рабочих. Конечно, когда строилась временная Адмиралтейская крепость под угрозою шведского нападения, рабочих сгоняли много, хотя первоначальные строители чуть ли не в каждом своем рапорте жалуются на недостаток рабочих сил: «Ныне у нас работных людей новгородцев самое малое число и теми людьми управлять нечем; буде новых работников к нам в присылке не будет, тем припасам учинится остановка», — писал, например, один из строителей князь Мещерский 24 мая 1705 года[33], но как только опасность миновала, как начались работы по улучшению крепости, число рабочих сокращалось до минимума. В этом нас подтверждает и одна из сохранившихся ведомостей о числе рабочих при Адмиралтействе; из этой ведомости видно, что «у строения пристани адмиралтейской и сараев было 80 человек, а на адмиралтейском дворе, у строения каменных магазинов каторжан 88 человек»[34]. Весьма понятно, что с таким количеством рабочих, да к тому же каторжников, вести работы было мудрено. Работы замедлялись. Так, окончательная обкладка адмиралтейских валов дерном продолжалась еще в 1723 году[35].
В выше цитированном донесении есть указание, как велись и другие работы в Адмиралтействе: «При Адмиралтействе строение построено: магазины каменные длины на 441/2 саженях, поперек на 6 саженях с аршином; в построенных двух больших палатах на столбах своды сведены и одьи с фундамента вверх взнесены и верхние все палаты в длиннике и поперечнике выкладены кирпичом до матиц и на боковых потолочить начали и стропилы поднимают, а столбы каменные под галлереи с фундаментом выкладены к отделке. По обе стороны магазинов каменных магазины-мазанки изрешетили и поставили и каждая половина мазанки длины на 120 саженях, поперек на 6 саженях с полуаршином и одна половина мазанок вся кирпичом выложена, только не подмазана, у другой половины три доли фундамента бутом выбучены и кирпичом подведено и стропила на обоих половинах поставлены и крыть зачинать изготовились. У аптеки лаборатория срублена; мазанки на место поставлены с стропилами и фундамент бутом набучен и кирпичом подведен и сверх фундамента лаборатория мазанка и погреб половина кирпичем выкладен же и крыть изготовились».
Не знаем, остался ли Петр недоволен постройкою или были какие-нибудь другие причины, но через два года эти постройки начинают переделывать, причем был заключен контракт с железным и канатным мастером Фонарлиусом, который, «буде великий государь укажет, в Адмиралтейской крепости вновь палатное строение построит» за 15118 р., а одну кузницу за 1974 р. Контракт был заключен 15 января 1718 года[36].
Приведенный факт — вторичная постройка или перестройка всего построенного — не является чем-либо исключительным в строительной деятельности Петра. Последний обыкновенно, начиная постройку, не имел определенного плана, и если даже и был изготовлен чертеж, то последний во время постройки так изменялся, что по этому чертежу (если только он сохранился) совершенно невозможно составить представление о бывшей когда-то постройке. В самом деле — те же палатные строения, о которых речь была выше, подверглись еще перемене[37]: «10 апреля 1719 года Царское Величество, будучи в Адмиралтейской крепости, указал по именному указу своему в Адмиралтейской крепости мастерские палаты поднять в вышину на 4 кирпича». Конечно, для этого нового распоряжения чертеж не составляли. И вот, если бы был найден чертеж этих палат, подписанный архитектором и аппробованный Петром, то, как значится из только что приведенной архивной справки, на основании этого проекта нельзя было бы описывать этих мастерских палат, они увеличились в высоту на 4 кирпича. А мы, найдя подписанный проект, очень часто спешим, не делаем необходимых справок в делах, тем более, что делать эти справки тяжело, прямо заключать по проектному чертежу, какова была постройка. А между тем таковой она никогда не была, а только предполагалась. Вообще к графике XVIII века надо относиться с большим скептицизмом; это замечание вполне относится и к сохранившимся до нас двум рисункам Петровского Адмиралтейства. Было ли таково Адмиралтейство, мы не знаем, но что Петр хотел, чтобы Адмиралтейство было таковым, в этом нет сомнения.
Кроме внутренних построек, в Петровское время обращали особенное внимание на устройство каналов. По первоначальному проекту предполагался только один внутренний канал, он должен был проходить около магазинов, цель его — доставить удобства в выгрузке в магазины привозимых припасов. Но с устройством крепости около валов ее был проведен еще другой канал, который имел от себя отросток, шедший через площадь, по нынешнему Бульвару Профессиональных союзов и впадавший в существующий Крюков канал. Протянув Адмиралтейский канал, Петр Великий преследовал две цели — осушить ту местность, через которую проводился капал, а во-вторых, дать этой местности проводкою канала особое устройство, как это ясно видно из нашего очерка «Дворец Труда».
И в устройстве этих каналов мы встречаемся с только что нами отмеченными противоречиями: так, 13 ноября 1718 года дается распоряжение — «внутренний адмиралтейский канал прибавить в ширину и чтоб со дна вести каменную стену такую, на которой можно было бы впредь делать амбары, а стену от каналу у нижних амбаров с перемычками»[38], не проходит месяца это распоряжение отменяется, именно 5 декабря[39] говорится: «Внутреннего адмиралтейского канала не переделывать, как было прежде определено, токмо прибавить в ширину в тех местах, где строятся корабли»; положим, в конце концов в 1723 году[40] первоначально проектируемое расширение канала было сделано. Работа по устройству каналов началась с 30 сентября 1715 года[41], когда появился собственноручный указ об ограждении рвов адмиралтейской крепости паженными сваями для удобной выгрузки леса — таким образом первое время Петр полагал, что будет возможно пользоваться тем рвом, которым были обведены воздвигнутые валы Адмиралтейства, но, очевидно, помощью рвов не было удобно спускать пригоняемый по Неве к Адмиралтейству лес, и осенью того же 1715 года стали переделывать рвы в каналы[42], план которым был специально выработан[43], работа велась около двух лег, и в конце августа 1717 года «впустили воду в канал кругом фортеции»[44]. Затем дальнейшие заботы о каналах велись в двух направлениях — видимо, начальство очень желало вымостить дно канала и откосы камнем, чтобы каналы не так загрязнялись, но это желание так и осталось желанием, выполнить его не хватало денег; прибегали к паллиативам—мостили дно канала «днищами» барок[45], но такое мощение, пожалуй, только ухудшало дело, выбирали части каналов, на которых особенно происходила работа, и здесь устраивали каменные стенки[46], словом, ходили кругом да около, положение не улучшалось, загрязнение каналов происходило все сильнее и сильнее, и приходилось приступать к чистке канала — прежде всего нужно было вылить воду из канала, призывались подрядчики, которые брали за это дело в 50-х годах ХVШ века около 1500 р.[47]. После выливания воды приступали к вычерпыванию земли — эта вычерпнутая земля долгое время лежала тут же на площади, на берегу каналов и, конечно, производила не малое зловоние. Нужно было озаботиться и об уборке этой земли, и 21 августа 1752 года[48] появляется такого сорта объявление: «Вынутую при чищении имеющуюся кругом Адмиралтейского канала и накладенную около дворца в немалом числе землю на плац, что против луга и Исаакиевской церкви, желающих свозить, явиться в Адмиралтейской подрядной конторе, также желающих брать оттуда землю явиться к морской гауптвахте» — земля валялась против дворца, зловоние, видимо, доходило до императорских покоев, поэтому и решились на такую большую меру, как свозить этот ил, эту землю на возвышение Исаакиевского плаца, причем вначале это было только мероприятие адмиралтейского начальства, которое очень скоро обратилось и в законодательный акт. 14 октября 1752 года[49] появился указ о рассыпке и разрывании вынимаемой из канала вкруг Адмиралтейства земли на лугу против Зимнего дворца и Адмиралтейства согласно указаниям графа Растрелли, таким образом в устройстве Адмиралтейской площади принимал участие и граф Растрелли. Но такие общие мероприятия принимались очень редко, только тогда, когда, подчеркиваем опять, зловоние начинало беспокоить высочайших особ, а обыкновенно довольствовались такою мерою[50]: «При Адмиралтейском канале желающим брать лежащую землю в домы свои на какие употребления, являться у караульного на морской гауптвахте офицера» — земля давалась бесплатно. Нужно было только ее увозить.
Петровский канал просуществовал 150 лет — 24 июня 1804 года[51] был сделан следующий вызов: «Желающие устроить над продольным каналом между монументом Петра Великого и церковью св. Исаакия кирпичный свод длиною 52, шириною 6 сажен, пожалуют в Адмиралтейскую коллегию» — скрылся таким образом канал на Адмиралтейской площади, а через несколько лет, в 1812 году[52] началось дело «о засыпке части каналов против Адмиралтейства», а в 1817 году и весь Адмиралтейский канал, окружавший былую фортецию, был засыпан[53].
Повторилась одна из обычных историй в жизни Петербурга — начинание, сделанное одним из монархов, начинание, на которое было затрачено много и человеческих сил и денежных знаков, уничтожается волею одного из его наследников, причем логические причины для этого уничтожения трудно найти. Конечно, об утрате Адмиралтейских каналов особенно жалеть не приходится, принимая во внимание, как у нас вообще содержатся каналы, которые мы умели из водохранилищ превращать в источники миазм заразы, но если вообразить нынешнее Адмиралтейство, окруженное этими каналами, с бастионами, с красивейшей железною решеткою, как мечтал в своем проекте переустройства Адмиралтейства Захаров, то нельзя не сознаться, что исчез обворожительный поэтический уголок Петербурга, восстановить который, конечно, нет никакой возможности.
Валы, каналы — такие черты Адмиралтейства, которые резко бросаются в глаза, но в Петровском Адмиралтействе был еще ряд учреждений, на которые тоже обращалось не малое внимание. Так, с 1720 года начались заботы об Адмиралтейств-совете, о той зале, где должна была заседать Адмиралтейская коллегия — «При Адмиралтейств-Коллегии среднюю палату для приходящих штаб и обер-офицеров и других знатных персон убрать и стол и лавки накрыть зеленым сукном и поставить 12 стульев»[54], но очень скоро «зеленое» сукно на удовлетворило требований, и «для чести Его Величества и для приходящих из чужестранных государств знатных и прочих персон» по требованию заморянина т.-е. купца, торгующего заморским товаром, Крамева, велено было купить «на балдахин на подзоры и на кресла позументу широкого 70, узкого 50 аршин, тафты на окошки и на подзор 130 аршин, на обивку стен обою 235 аршин, — зала коллегии обклеилась обоями, появился трон под балдахином — можно было не только торжественно заседать в Адмиралтейств-совете, но и устраивать, не ударив лицом в грязь, богатейшие праздники для приезжающих иностранцев — при этом маленькая, но характерная для Петровской эпохи подробность. «Флотским погребам (в которых хранилось столовое белье, посуда и вино для спуска кораблей и других торжественных банкетов) — распорядился 24 августа 1723 года[55] сам Петр — при Адмиралтействе быть не велено, а питья продать, а когда будут кораблям и другим судам спуски, тогда все заготовлять заблаговременно при адмиралтейской провиантской конторе» — несмотря на присутствие значительных погребов, несмотря на большие суммы денег, которые тратились на содержание этих погребов — в нужную минуту в них никогда не было достаточного запаса вина, воровство было колоссальное, и другого средства прекратить это воровство, как уничтожить погреба, не было. При Екатерине II это петровское учреждение — «фряжские» погреба, если не целиком, то частично восстановлены, именно 25 августа 1763 года[56] последовало высочайшее согласие на ассигнование 50 т. р. для изготовления при Адмиралтействе серебряного сервиза, этот сервиз употреблялся при торжественных обедах.
Желание «блеснуть» обнаружилось и при устройстве мостов через адмиралтейские каналы — «при постройке двух подъемных мостов через адмиралтейский канал», нужно было озаботиться «постановкою на них пушек с завоеванных шведских судов»[57]. Главный мост и главные ворота долгое время были против Зимнего дворца, правда, они почти всегда были закрыты, но торжественные высочайшие входы в Адмиралтейство происходили именно через эти ворота, и этот мост и эти ворота чуть ли не ежегодно исправлялись, ремонт их, видимо, был, как говорилось в то время, «не без выгоды»[58]. При Павле Петровиче был поднят вопрос, в какую краску окрасить эти мосты, вопрос долго дебатировался в разных учреждениях и окончательное разрешение получил по силе высочайшего повеления от 9 ноября 1797 года[59].
31 января 1720 года последовало высочайшее повеление[60] — «для розыска во всяких делах застенок сделать в Адмиралтейской крепости в бастионе, который идучи в крепость на левой руке в углу» — появился застенок, т.-е. такой каземат, в котором можно было со всеми удобствами производить допрос «с пристрастием» и «без оного», где можно было медленно поднимать на дыбу, полосовать спину преступника, привязанного к деревянной кобыле, словом, можно было творить суд с соблюдением всех тонкостей юриспруденции того времени...
Был устроен застенок в углу в бастионе; над воротами, под шпилем был украшен средний покой, в ней находился трон с балдахином, стены покоя обклеены обоями, а на окнах навешена тафта; магазины большей частью мазанковые, но выкрашены под кирпич, подъемные мосты украшены трофеями побед над шведами, в элингах день и ночь копошатся плотники и мастеровые люди, одетые в немецкую одежду — 18 января 1715 года последовало распоряжение[61]: «Санктпетербургского Адмиралтейства мастеровым людям носить немецкое платье и чтоб оное было сделано всеконечно сего января к 23 числу, а ежели кто учинится преслушен (т.-е. не послушается) и таким учинено будет наказание: битье кнутом и из дач их годового и кормового жалования вычтено за полгода у каждого человека» — словом, Петровское. Адмиралтейство этим устройством застенка получило полную законченность, был сделан тот последний удар кисти, поставлена та последняя точка, которая дает весь смысл, полноту выражения картине...
Прежде чем перейти к восстановлению дальнейшей истории Адмиралтейства, остановимся на тех, к сожалению, немногочисленных описаниях Адмиралтейства, описаниях, оставленных нам иноземцами, бывшими в Петербурге в царствование Петра. Обойти молчанием эти свидетельства, весьма понятно, невозможно, а так как они сравнительно невелики, то можно их использовать не в пересказе или извлечениях, а целиком. Пересказ, извлечение далеко не соответствует цели, они слишком искажают впечатление.
Первое описание относится к 1710—1711 году, оно сравнительно очень кратко[62]: «Морской арсенал или адмиралтейство, обширное четырехугольное здание, окруженное рвом и валом, вооруженное пушками большого калибра, четверо (здесь описка, ворот было трое, ибо четвертая сторона направлялась на Неву и на ней ворот не было) крестообразно расположенных ворот (главный вход, ворота к дворцу и к бывшему сенату) ведут в это здание. Здесь строятся и оснащиваются все большие суда и припасены в значительном количестве нужные для этого материалы».
Второе описание отделено целым десятилетием, оно принадлежит перу неизвестного поляка, бывшего в Петербурге в 1720 году[63]: «Царь пригласил нас в Адмиралтейство...
Пройдя мост на канале и ворота, мы вошли через сени в громадное помещение, где строятся корабли.... Отправились мы в кузницу, выстроенную в углу. В этой кузнице было 15 горнов, и при каждом работало 15 кузнецов с мастером. Оттуда мы прошли через другой канал к большому трехъэтажному дому (он виден на сохранившейся гравюре Петровского времени, влево, недалеко от дворца), выстроенного в виде треугольника на прусский манер. Царь ходил с нами по разным магазинам, находящимся в этом здании.... В третьем этаже было приготовленона80 т. р. парусов..... Затем мы отправились в галлерею, находящуюся в среднем этаже, где адмирал Апраксин нас подчивал.... На башне в это время играла музыка... Посидев немного, мы отправились в коллегию, где было много молодежи.... Отсюда мы сошли к каналу, в котором находилось несколько судов с насосами.... В одной комнате находится библиотека.... Затем мы пошли через канал в другое здание, которое было так же длинно, как и первое, но только в один этаж. Здесь живут одни ремесленники, которые выделывают корабельные снасти.... Во втором углу столько же кузниц и кузнецов; эти здания совершенно равны, как по числу людей, так и по месту, ими занимаемому. Было там здание большое и широкое, на сваях, в 2 этажа; здесь приготовляют модели кораблей».
Берхгольц, дневник которого является бесценным документом для Петровского Петербурга, говорил об Адмиралтействе несколько раз. В первый раз 23 июня 1721 года он уделяет Адмиралтейству всего-навсего несколько строчек, но все же отмечает характерную особенность Адмиралтейства — шпиль[64]: «На Адмиралтействе, красивом и огромном здании, устроен прекрасный и довольно высокий шпиц, который восходит прямо против проспекта» — вот и все; через месяц — 24 июля того же года[65] — Берхгольцу удалось осмотреть Адмиралтейство, и он становится довольно красноречивым: «Осмотрели несколько и самое Адмиралтейство. Оно имеет внутри большое, почти совсем четыреугольное место, которое с трех сторон застроено, а с четвертой открыто на Неву, где корабли строятся, а потом спускаются в воду. Против открытой стороны находится большой въезд или главные ворота, над ними устроены комнаты для заседания Адмиралтейств-коллегии, и поднимается довольно высокая башня, выходящая, как я уже говорил прежде, прямо против аллеи, называемой проспектом, через который въезжают в Петербург и который в средине вымощен камнем, а по бокам имеет красивые рощицы и лужайки. Обе стороны Адмиралтейства,идущие флигелем к воде и окаймляющие вышеупомянутую четыреугольную площадь, наполнены огромным количеством корабельных снарядов. Там же живут и работают все принадлежащие Адмиралтейству мастеровые. Подле здания стоят большие кузницы. В одном из флигелей устроена обширная зала, где рисуют и, если нужно, перерисовывают мелом вид и устройство всех кораблей, назначенных к постройке. Вне и внутри Адмиралтейского здания наложено множество корабельного леса всякого рода, но еще большее его количество лежит в ближайших каналах, откуда его берут по мере надобности. Все это огромное Адмиралтейство обведено снаружи валом с бастионами со стороны реки, которые окружены довольно широким и глубоким каналом,, а с внутренней стороны обрыто небольшим рвом». Наконец, Берхгольц сообщает и следующую подробность[66]: «Прошли потом в флаговой зал,, где приготовлена была закуска. В этом зале развешаны под потолком все флаги, знамена и штандарты, отнятые в продолжение последней войны у шведов».
Вот и все описания, сохранившиеся нам от Петровского времени. Из них можно вывести заключение, что Петровское Адмиралтейство бесспорно поражало иностранцев своею громадностью, обширностью и колоссальностью заготовленных материалов. Конечно, Адмиралтейство показывалось иностранцам не с будничной стороны, а прикрашенное, приправленное, но все же мы не можем отказать, что при Петре I адмиралтейские запасы были громадны, а деятельность Адмиралтейства все расширялась и расширялась.
Затем в описаниях Адмиралтейства наступает большой пропуск, и мы можем процитировать только описание Богданова, датированное 1751 годом[67]: «Внутри Адмиралтейства строения следующие: 1. каменные магазины; 2. внутри по каналу построены каменные мастеровые покои (1719 года); 3. чертежные амбары, деревянные два, по обеим сторонам построены, в которых чертят корабельные чертежи; 4. доков, в которых корабли строят, 10, один мокрой; 5. ворот в крепости трое: 1) от лугу, 2) от дворца, 3) от Исаакия или по нынешнему от Сената.
6. мостов подъемных через ров и канал у всяких ворот по 2 моста, итого 6; 7. при всех воротах каменные караульни, одна гауптвахта».
Богданов слишком лаконичен в своем описании, и, сравнивая это описание с описанием Петровского Адмиралтейства, можно даже подумать, что после Петра Великого всякая строительная деятельность прекратилась и Адмиралтейство только поддерживалось. Но это впечатление тотчас изменится, когда мы узнаем, какое громадное количество дел по перестройке Адмиралтейства — они нами приведены в примечании[68] — сохранилось до нашего времени; большая строительная работа продолжалась все время царствования Анны Иоанновны, это была первая серьезная перестройка, которая вызывалась не только требованиями морского ведомства, по и требованиями эстетики — хотели облагородить, дать более изящный вид мазанковой башне и мазанковым строениям.
В 1727 году[69] мазанковые строения в Адмиралтействе заменились каменными, только башня со второго этажа осталась мазанковою. Впрочем, довольно скоро и эту башню разобрали и на ее месте поставили новую, каменную, купол и шпиц были обиты медными позолоченными листами. Главный въезд и башня, построенные в 1734 — 1738 годах, по проекту русского архитектора Ивана Коробова, обнаруживали — как говорит Н.Е. Лансере в своей монографии об Адмиралтействе — первоклассного зодчего и художника. Это была красивая постройка. Первые два этажа главного выступа, служащего как бы основанием для самой башни, под один корпус со всем зданием, обработаны просто и сильно — только рустированными широкими лопатками, причем под самой башнею более крупными и массивными камнями. Выше начиналась собственно башня, и третий ярус ее с пятью окнами в два света по фасаду расчленялся дорическими пилястрами. Над этим ярусом была открытая терраса. Следующая часть башни, сильно суженная, с тремя окнами, разделенными ионическими пилястрами, перекрывалась характерно изогнутым куполом с часами, служившим переходом к восьмигранному открытому, но впоследствии застекленному фонарю, обработанному по углам пилястрами коринфского ордена. Выше уже подымался шпиль, увенчанный яблоком, короной и трехмачтовым кораблем. Вся высота шпиля от земли 34 сажени.
В таком виде, только с необходимым ремонтом, эта часть Адмиралтейства сохранилась вплоть до своей окончательной перестройки Захаровым. Но если внешний вид Адмиралтейской башни не изменялся, то совершенно переменился характер внутренних помещений: при Петре и Анне в башне над входом помещалась Адмиралтейств-коллегия, но 23 декабря 1747 года было издано высочайшее повеление о постройке церкви в Адмиралтействе[70]; церковь строил Чевакинский, причем постройка церкви, как и вообще большинство Елизаветинских построек, сильно затянулась[71], и церковь была освящена 10 мая 1755 года, далеко не законченной. Потолок ее был подбит досками и сверх них холстиной, из опасения обвала от сырости; карнизы столярные, стены и потолки были раскрашены по рисунку другого русского архитектора Башмакова. Иконостас, тоже по его проекту, был деревянный, окрашенный светлолазуревой краской, пилястры же, рамки и вся резьба позолочены. Иконы писал значительный русский художник того времени Мина Колокольников[72].
В дальнейшей жизни Адмиралтейства большое значение имел 1783 год: одно событие этого года чуть-чуть вполне коренным образом не изменило судьбу Адмиралтейства. Событие это — столь обыкновенный в петербургской жизни пожар. О нем так картинно всеподданнейше доносила Екатерине II Адмиралтейств-коллегия[73]: «После бывшего сего 13 мая в полдень жестокого ветра и вихря через полчаса стоящий часовой на покрытом пути к Исаакиевской церкви усмотрел дым над адмиралтейскими магазинами с W сторону от угла под крышею с наружной стороны и тотчас закричал, что в Адмиралтействе пожар, что наконец и другими с таковым же криком подтверждено было». — Как видим, способы извещения о пожаре были очень примитивны — «таковым же криком подтверждено было». Далее, коллегия продолжала: «Почему в то самое время помощию находящимися и против самого того места заливными трубами действовать и оный тушить старались; а через 1/4 часа от начала оного съехались и все члены коллегии и увидели, что горят под крышею стропила и решетки, но уже по обеим сторонам угла по три магазина. И хотя все возможное употреблено было к погашению, но как ветер не токмо не уменьшался, но и усиливался, да и потому, что оное строение на углу прикрыто адмиралтейским валом, то беспрестанный был вихрь: то и не оставалось другого способа, как употребить всевозможное к пресечению пожара сломанием железных крышек, что однакож три раза огонь делать воспрепятствовал. Но наконец то сделать удалось и закласть одну дверь, которая в брангмаурах была, и тем его остановить. В то же самое время, когда свирепствовал над магазинами, перекинуло огонь и внутрь Адмиралтейства, где строют корабли, в мастерские покои, не более 81/2 сажен, через канал от горящих магазинов отдаленные и так же как и первые железом крытые. В сем случае, почти оставя сие не важное и малозначущее строение, все силы употреблены были для сохранения близ самого его лежащий для отстроения кораблей приуготовленный лес, в чем и предуспели, который если бы не спасли, то не токмо сгорело бы все Адмиралтейство, но и строющиеся военные 100 и 74-пушечные корабли, которые совершенно безвредно остались, так как и еще заложенный 100-пушечной. Где же и какое строение сгорело, а в том числе сколько и с чем магазинов было, на умедлит адмиралтейская коллегия, по сочинению первому плана, а второму по собрании обстоятельных ведомостей Вашему Императорскому Величеству донести. А теперь может токмо донести, что денежная сумма не токмо та, что в ведении казначейской экспедиции, но и та, что по разным другим департаментам, вся в целости без наималейшей траты, которой по всем местам российской 361.430 руб. да иностранной золотой и серебряной до 27.310 р. Также спасены и все счетные книги о деньгах и по экипажеским магазинам, о чем и формальные рапорты коллегия уже имеет. Что же до прочих вещей касается, сколько чего сгорело, или так испортилось, что к употреблению негодны, о том адмиралтейская коллегия не преминет вашему императорскому величеству всеподданнейше донести, как скоро оные вещи разобраны будут, к чему уже и приступили.
«О причине от чего сие злосчастное для адмиралтейской коллегии приключение последовало, донести за верное ничего не может, хотя и употребляла всевозможное старание, чтобы исследовав узнать; но более ничего не открылось и донести не может, как только то, что по собрании обстоятельств за вероподобнейше почитает. Загорелся деревянный карниз, который круг всех магазинов с начала строения сделанной, следственно самый сухой лес, каковы и стропила под железною крышею, к которому думать надо силою вихря пристали искры с огнем из кузниц, из коих одна в адмиралтействе внутри бастиона против остного угла, а другая деревянная на Исаакиевской площади.
«Правда, в первой из сих на тот раз менее обыкновенной работа была, ибо починивали одни токмо инструменты, но сила жестокого вихря может то и произвела. Подкрепляется сие ее мнение и тем, что загорелось над таковым магазином в 3 этаже, который был совсем пуст. Под оным во 2 этаже были одни железные вещи, по большей части проволока, а в 1-м под оным же или самом нижнем сортовое железо. Лестницы ближе к оному месту не было с одной и другой стороны 35 сажень и то до второго этажа, которые заперты были, так как и люки между второго и третьего этажа, а ходили до начатия пожара в магазины самого нижнего этажа и то только считая от угла, где в 3-ем этаже оказался огонь, с одной стороны в пятый и шестой, а с другой в 8-ой магазин. В средних же, т.-е. во втором, с 10 числа мая, а в верхний или третий с половины апреля месяца никто не ходил. Почему не токмо находящиеся в оных этажах магазины, но и входы между оными заперты.
«Не оставила коллегия рассмотреть имеющуюся на вахте шнуровую журнальную книгу, в которую записывают все то, что из Адмиралтейства выносится, и судя по тому, что было выношено и знав, в которых магазинах что лежит, удостоверено, что с 10 числа во втором этаже никто не был, а в третьем еще и долее».
Через 8 дней, т.-е. 22 мая, коллегия представила дополнительный рапорт со следующими любопытными подробностями: «Адмиралтейская коллегия приложить честь имеет обстоятельный план и фасад всему Адмиралтейству, означе на оном, сколько сгорело и что осталось; а к пополнению того донести честь имеет, что всего строения погорело по Фасаду 260 сажень, в сем числе в три апортамента, имея нижней 10 сводами 54 сажени; да таких же в трех апортаментах, но токмо нижней без сводов, 67 сажень; чертежная и такелажная в два апортамента 511/2 сажень, мастерских в один апортамент 88 сажень, над оными поместил в два апортамента 9 сажень.
«Ежели бы оные так точно отделать, как оное было, и как теперь оставшее строение, то по смете архитекторской надобно на оное 75.626 р. 35 к.
«Но как известно, что всему безъизятия предприемлемому основание есть польза и прочность, что и в строениях наблюдать указывать изволите, то адмиралтейская коллегия, следуя сему, заранее уже и сделала чрез своего архитектора смету, во что стать может, ежели бы угодно было повелеть сделать не токмо во всем нижнем апортаменте погоревшей части своды, т.-е. в 12 магазинах, но для совершенной безопасности и над всем третьим апортаментом таковые же, а сверх того стропила и крышу железные.
«Осмелилась бы адмиралтейская коллегия всеподданнейше представить, чтоб и над мастерскими, кои внутри Адмиралтейства, также сделать своды, но не столь тверды стены, чтоб снести то могли, почему и полагает для избежания опасности от огня, в которых с помощью огня работу производить должно, как-то: котельную, слесарную, фонарную и купорную и построить оные по конец канатного острова, где у нее инструментальная кузница. И для наивящей безопасности сверх железной стропил и железной же крыши, каковую на оных иметь представляет, думает еще услать и обить потолки железными листами, оставшимися от пожара, которые на то будут годны, а сверх их войлоком с замазкою черепицею, сделав внутри оных полы кирпичные или плитки.
«Желала бы адмиралтейская коллегия также вывести извне Адмиралтейства имеющую кузницу, но того по всегдашней в оной близ строения кораблей необходимой надобности сделать совершенно неудобно, к тому же когда весь верхний апортамент магазинов будет со сводами под железной крышею и тако же металла стропила, то оная вреда никакого сделать не может.
«На первое из сих строение, т.-е. магазины, денег 64.427 р. 66 к. надобно, а на второе, т.-е. мастерские, 49.134 р. 95 коп., на постройку упомянутых некоторых мастерских вновь на назначенном месте 19.186 р. 67 к., а на все сие строение 132.749 р. 27 к. надобно, о которых всеподданнейше просит, чтоб отпустить приказано было хотя помесячно, месяц в два или три, дабы все то еще в нынешнем лете, если возможность будет, окончить было можно»[74].
Из второго рапорта ясно, «что сие злосчастное для адмиралтейской коллегии приключение» было уже вовсе не так злосчастно, как хотела представить в своем первом рапорте, адмиралтейская коллегия за неделю успокоилась совершенно, составляла сметы иа перестройку, и надо думать, что многие уже мечтали о тех безгрешных доходах, которые неразрывно были связаны с ремонтами, перестройками и вообще со строительными работами, как вдруг будто удар грома поразил адмиралтейскую коллегию следующий высочайший указ от 28 мая того же года[75]:
«Признав удобным и с успехом в работах сходственным вывесть Адмиралтейство наше из столицы в Кронштадт, повелеваем адмиралтейской коллегии приступить к надлежащим о том распоряжениям и вследствие того:
1) начать с интендантской экспедиции, учредя строение мастерских и магазинов, для сего департамента потребных, а потом таким же образом поступить и с экспедициями артиллерийскою, коммисариатскою и прочими департаментами, стараяся переводить оные, как скоро для них строение поспеть может;
2) в Петербурге оставить только то, что необходимо нужно для галерного флота;
3) позволяем, по рассмотрению коллегии, построить в Ораниенбауме в местах способных и безопасных, некоторые магазины, принадлежащие до коммисариатской экспедиции, как-то: амбары для соления и хранения мяса, также печи и амбары для печения и хранения сухарей и тому подобное;
4) если занятый ныне дом под морской кадетский корпус по его положению найдется негоднее и нужнее для другого употребления, в таком случае, назнача удобное в Кронштадтском же острове место, построить для кадетского корпуса другой дом;
5) дабы прядильный двор немедленно в Кронштадт выведен быть мог, выбрать место и поспешить сочинением ему плана со сметою;
6) все сие распоряжение коллегии сделать, приглася главного командира Кронштадтского порта, и нам оные представить для утверждения и назначения сумм на таковой вывод адмиралтейства надобных;
7) а поелику строение, занимаемое ныне Адмиралтейством в столице нашей, Мы предполагаем за выводом и самой коллегии обратить на иное употребление, для того починки в оном произвесть только необходимо нужные на краткое время, и именно: покрыть железом, сделать необходимые полы в тех покоях, где разные канцелярские служителя находиться должны, над припасными магазинами сделать железные крышки и над сводами обыкновенный пол, оставить третий этаж без пола и заклав кирпичей окна; мастерские покрыть железною крышкою, над трубами везде сделать железные колпаки; вновь же прядильного двора и мачтового сарая не строить, ибо все то в Кронштадте сделано быть может. Сколько на сии починки потребно будет денег, коллегия долженствует представить Нам немедленно».
Екатерина II очень сильно перепугалась пожара, она вспоминала виденный ею пожар 1761 года, когда горели «переведенские слободки», до нее доходили рассказы еще живших очевидцев пожаров 1736 и 1737 годов, она рисовала себе картину возможности повторения пожара в Адмиралтействе с тою только разницею, что ветер будет дуть на дворец, который и может загореться; словом, Екатерина II рисовала себе разные ужасы, которые подкреплялись и жалобами приближенных лиц — у герцогини Кингстон, только что прибывшей в Петербург, сгорел стоявший в Адмиралтействе корабль с ее коллекциями... словом, Екатерина II хотела себя обеспечить от возможности повторения «злосчастного приключения». Но адмиралтейская коллегия думала совершенно иначе. Покидать Петербург, переезжать на постоянное местожительство в Кронштадт, который представлял из себя в то время невероятное захолустие, — всего этого коллегия вовсе не хотела допустить. А разве было что-либо невозможное для российского чиновничества? И началась волокита, царица требовала вывода некоторых частей Адмиралтейства чуть ли не на другой день после появления ее указа, а адмиралтейская коллегия собралась на первое заседание по вопросу о переводе Адмиралтейства в Кронштадт только 18 июня. Правда, в своем журнале коллегия описывает это заседание чем-то вроде «долгого» парламента, именно[76] — «в присутствие прибыли по утру в 9 часов и имели заседание до 3-х пополудни, потом прибыли в 6, вышли в 10 час. пополудни» — и несмотря на такое длительное заседание «единомыслия» не было достигнуто, адмиралтейств-коллегия с самого первого заседания встала в явную оппозицию адмиралу Грейгу, бывшему главным командором Кронштадта и искренно желавшему перевода Адмиралтейства в Кронштадт. И только ровно через год, 26 мая 1784 года, адмиралтейская коллегия представила Екатерине II проект перевода Адмиралтейства в Кронштадт.
Прошел год после пожара, непосредственное впечатление от пожара улеглось, страх рассеялся или казался, быть может, смешным, а ко всему этому адмиралтейств-коллегия подсчитала и сумму, нужную для перевода; сумма вышла совсем не маленькая — 8.624.208 руб. 50 коп., правда, адмиралтейская коллегия, прибавила[77]: «и хотя оная, конечно, велика, но, Всемилостивейшая Государыня, коллегия в расположении своем имела в виду и полагала сделать Адмиралтейство города Кронштадта совершенно достаточное с надежнейшею прочностию и достойное славы Воссоздательницы сего знаменитого места и величества Империи».
Конечно, быть «Воссоздательницею знаменитого места» — лестно, но откуда взять 9 миллионов, когда 1 Февраля того же года[78] — «на перенесение в Кронштадт Адмиралтейства повелели мы отпустить 200.000 руб. из С.-Петербургского для остаточных сумм казначейства в феврале, июне и октябре месяце нонешнего года по ровным частям в каждом» — и 200 т. р. с трудом нашлись, и их можно получить не единовременно, а в три срока по частям... Ясно, что при таком положении вещей думать о переносе Адмиралтейства в Кронштадт и о постройке на месте Адмиралтейства Сената,—значит попросту «мечтать», но не больше. И Екатерина II, несмотря на категорический тон своего первого указа, очень скоро примирилась с действительностью, и Адмиралтейство осталось на своем месте, отпущенные на перенос его в Кронштадт 200.000 рублей пошли на нужный для Адмиралтейства ремонт.
При Павле I был произведен значительный ремонт Адмиралтейства, обсыпавшиеся валы были возвышены, каналы вычищены, все Адмиралтейство было окружено палисадом, гласис засеяли мелким дерном, на угловых к площадям бастионах поставили новые срубы с флагштоками для подъема флагов Мальтийского ордена, наконец, как мы уже и упоминали, выкрасили в военную краску ворота — казалось, адмиралтейская крепость все еще долговечна. Но через очень небольшой промежуток времени, всего через 7 лет после последнего ремонта, 23 мая 1806 года, Александр I утверждает проект архитектора Захарова перестройки Адмиралтейства.
При проекте было приложено следующее его описание, составленное самим же Захаровым[78]:
«Составляя сей проект, — писал Захаров, — первым правилом поставлял соблюсти сколь возможно выгоды казны, что и побудило меня старые стены и фундамент не расстраивать ломкою, почему и прибавлено голых стен весьма мало, как ясно видно из сего описания:
1-ое. Ворота под спицею подняты выше, для укрепления стен оных прибавлен фундамент, дабы укрепление под спицею было тверже, чрез соединение новых стен со старыми. Спиц самый, не расстраивая нимало его связи, удержит настоящую свою фигуру, но фонарь, равно, как и все прочее строение, находящееся ниже спица, получит совсем другой вид. Церковь остается на прежнем своем месте;
2-ое. По обеим сторонам сих главных ворот под спицею сделаны большие лестницы, ведущие в общий внутренний коридор, в арсеналы для хранения адмиралтейских сокровищ, моделей и редкостей. За сими лестницами по сторонам помещены две гауптвахты, одна с арестантской для караула общего, а другая для артиллерийского, при которой находится большая кладовая для денежной казны;
3-ье. По концам главного фасада к императорскому дворцу и монументу Петра I сделаны большие выступы в три этажа с подъездами и большими парадными лестницами, в средний этаж ведущими. Первой корпус, что к императорскому дворцу, определяется для присутствия адмирал департамент с его библиотекою, музеумом и прочими к нему принадлежностями, второй, что к монументу Петра I, для присутствия адмиралтейств-коллегии с прочими ее отделениями;
4-ое. На Неву реку по обеим сего здания концам шлюпочные сараи соединены с наружными флигелями чрез продолжение оных до берега в один корпус, в средине коего сделаны над внутренним каналом большие ворота для впуску к магазинам барок. Над сими воротами поставлены павильоны вместо тех, кои ныне находятся на бастионах;
5-ое. Весь нижний этаж под всем зданием и в некоторых местах в среднем этаже займутся кладовыми, в нижнем же этаже корпуса к монументу подле павильона сделана большая кузница. Все сии комнаты, магазины и кладовые для безопасности от огня будут со сводами».
Мы текстуально переписали пояснительную записку Захарова, и современный читатель едва ли сможет из этого пояснения составить себе должное представление о проекте Захарова. А этот проект является, если не лучшим, то одним из лучших памятников раннего Empirе’а, того Empire’ когда он не потерял всей своей древней красоты линии и вдумчивости, порожденной требованием эпохи.
Расшифруем записку архитектора, объясним ее словами и покажем на этом проекте, на этом здании, что архитектор может вполне ясно и чересчур убедительно говорить не человеческими словами, а архитектурными формами, и этот своеобразный язык архитектурных форм не менее понятен, не менее ясен, чем обыкновенная человеческая речь; разница только в одном — человеческая речь скоро смолкает и забывается, речь архитектурными формами чересчур монументальна и способна пережить века...
Было ли приказано, или это произошло по инициативе художника, в сущности, почти безразлично, важны лишь конечные результаты, но в новом Адмиралтействе сохранен петровский план — построение Адмиралтейства покоем, — но старое содержание влито в новые формы, в формы архитектуры, как будто совсем не подходящей ко времени Петра, в формы архитектуры Empire, и в результате появилось нечто и грандиозное и монументальное.
Бесконечно длинные степы всегда являются при постройке покоем; стены эти при Петре, в Петровском Адмиралтействе, были без проемов, окна и двери выходили на внутренний двор — для стиля Empire оставить пустые стены невозможно, правда, окна будут изящны и просты, они не будут кричать, не будут назойливо выделяться из фасада, своими «empir’ истыми», если так можно выразиться, формами, они сохранят прежнее впечатление однообразной стены. Украшением будут те большие порталы, которые увенчают конечные выступы на углах площади и рассекут боковые фасады: они придадут однообразной длинноте стены законченность, взгляд на них успокоится, и мощные колонны порталов создадут впечатление вполне законченного. И этим устройством, бесконечно простым устройством, Захаров достиг того, что уничтожил впечатление от однообразности длинной стены.
Затем Захаров обратил усиленное внимание на центральную часть Адмиралтейства, на петровский спиц. И здесь заговорили Захаровские камни.
Адмиралтейство — центр морской жизни, это то учреждение, которое дает смысл существования всем морякам. Безусловно оно должно иметь чисто морской характер, специфически морской, так сказать. Но разберемте характер моряка и не забудемте, что дело идет о начале XIX века, когда царило только парусное судно, когда пароходов не было, когда о сверхдредноутах мечтать было невозможно и когда борьба между судами на море происходила на «абордаж»...
Как характеризовать моряка? Пожалуй, лучшую ему характеристику дал Купер в своих романах, назвав своих настоящих моряков — «морским волком».
Да, морской волк. Грубая наружность, присутствие большой физической силы, заметная коренастость, какая-то как будто неуверенная или растерянная походка на земле, сильное расставление ног, чтобы соблюсти больше равновесия, обильная растительность на лице, придающая лицу какой-то особый жестокий вид, отрывистый, лаконический язык (ведь в бурю, в грозу не много поговоришь на море,—приходится коротко кричать), частые жесты — вот характерные черты «морского волка».
Но наружность обманчива. Под этой жестокой, неуклюжей оболочкой бьется нежное, сочувствующее сердце, всегда велика потребность творить добро и вполне осознаны и свой долг и свои права... И слово моряка твердо так же, как те скалы морского берега, которые в бесконечной ярости в течение тысячелетий хочет сокрушить морской буран, но терпит фиаско в своих попытках и разбивает о скалы свои могучие волны в легкую зыбь... Затем у моряка — не забудем, мы опять подчеркиваем, что речь идет не о современном моряке, который только в микроскопической дозе сохранил черты былого «морского волка», речь идет о моряке XVIII века, о моряке паруса — бесконечно сильно развито стремление итти вперед. Покинув берег, отдав себя в распоряжение коварной стихии, моряк — истинный моряк, повторяю, моряк—идеал, если так можно выразиться — стремится ехать все вперед и вперед в бесконечно туманную даль, открывать новые земли, неведомые острова, находить ту таинственную птичку, которой шкурки под названием «райской птицы» доставляли в Европу голландцы, но шкурка постоянно была без ножек, и выросло убеждение, что бог не даровал райской птичке ног, что она на может присесть на землю, а живет свой короткий век в воздухе, в вечном порхании, в вечной игре переливов своего радужного наряда; находить тех «дивих людей», о которых сохранились такие причудливые рассказы... И зыбь спокойного моря надоедает моряку; попутный ветер иногда делается скучным, и моряк — вспомним нашего поэта Лермонтова с его дивным восьмистишием, в котором как в зеркале отразилась психология моряка:
Вот тот портрет моряка, который рисовался нашим предкам, который идеализировался писателями того времени, после того как Христофор Колумб открыл Америку, после того, как стали открываться — иногда ценою жизни — новые и новые острова, после того как отважный Беринг погиб в своем стремлении из Азии перейти в Америку...
Но если можно достаточно ярко характеризовать психологию моряка словами, если выдающиеся поэты умели дивными созвучьями своих стихов рисовать нам психологию моряка, то как должен поступить архитектор, имея в руках грубый вещественный материал...
Идите к Адмиралтейской башне, встаньте перед ней и постарайтесь проникнуть в замысел большого мастера.
«Моряк по внешности груб», «моряк обладает физической силой», «моряк способен бороться с ураганами, бурею» —и вот, как выражение этой физической силы, этой мощи — перед вами возвышается дорический сплошной монолит с грубыми, громадными воротами. Да, этот монолит может быть основанием, он много может снести, на нем можно смело возводить постройку— и появляется второй этаж башни. Дорический стиль здесь заменен ионическим; мощность, фундаментальность уступают место изяществу, грации, красиво белеет эта колоннада ионических колонн на дорическом фундаменте, и глубоким по замыслу является дополнение к этим колоннам в виде ряда статуй. Здесь уже говорится о человеческом созидающем духе... Но эта вторая часть башни должна быть только переходом к самой существенной, самой выразительной части постройки — к Адмиралтейскому «спицу», как писал сам творец, к той «Адмиралтейской игле», которую так поэтически воспел Пушкин. И — посмотрите еще раз на рисунок, на фотографию, хотя не забудьте, что никакой рисунок, а тем паче фотография, не смогут передать всей прелести воздушной перспективы, — и вы увидите, что трудно найти более подходящий рисунок линий, рисунок перехода одних частей в другие, купола в лантернер (в фонарик), а последнего в сверкающий золотой шпиц, как это удалось Захарову: стремление к бесконечному, стремление все вперед и вперед рельефно отражается на этом удивительном шпице...
И идея моряка, морская идея нашла полное отражение в Адмиралтейской башне...
Может быть, наше объяснение слишком субъективно, но нельзя никогда забывать, что все произведения искусства субъективны, что впечатление от того или другого произведения искусства на человека зависит от массы превходящих причин, и выразить это впечатление какой-либо сухой, математической формулой невозможно... Здесь именно возможен ответ: все это так, все ваши возражения вполне правильны и законны, но... но я так чувствую... И с чувством этого вашего «я» не может бороться никакая логика, и самое логическое объяснение должно уступить место творческому навеванию... Повторяем, таково наше впечатление от Захаровской постройки, и нам хочется верить, что в своем проекте Захаров хотел именно выразить эту идею...
И с какими трудностями приходилось бороться художнику. Царь «аппробывал» проект, аппробывал, т.-е. утвердил, конечно, не понимая, не разумея, а лишь потому, что он, будучи русским царем, должен был все знать, все понимать, все уметь ценить. Началась работа — воздвигается сторона Адмиралтейства против дворца, архитектор, кажется, днем и ночью на работе, он отдает себя всего этому делу, эта постройка становится целью, смыслом его существования; и постройка почти готова, нужно снять только леса — и на сцену опять появляется царская воля, ах, эта царская воля! Александр I нашел, что этот боковой флигель слишком далеко выступает к берегу Невы и тем закрывает вид из «собственных» комнат на Галерную Гавань и устье Невы. Царь недоволен, он, в редкие мгновения своего пребывания в Петербурге, вдруг захочет полюбоваться из окошка видом Невы, и, оказывается, этот вид сокрыт Адмиралтейством. Но ведь проект Адмиралтейства был утвержден царем, ведь царь, утверждая проект, если бы он хоть сколько-нибудь смыслил в архитектуре, должен был понять, что здание закроет вид... Но сознаться в своем невежестве не входило в обязанность российских царей, и... и после того, как здание почти готово, следует приказание: «отступить строением в такой пропорции, чтобы оное не отнимало упомянутых видов».
«Отступить», уменьшить длину, по ведь этим отступлением нарушается вся пропорция частей, нужно опять таки отыскивать эту раз найденную гармонию, нужно проделать всю эту бесконечно тяжелую работу, воплощение геометрических отношений в впечатление изящного; а затем — постройка почти готова, и ее перестраивают, кто виноват? Вот будет всеобщий вопрос, и виноватым, конечно, окажется художник... А как оправдаться?.. Правда, Захаров в своем рапорте о перестройке части здания просил «оправдать его в виду могущего возникнуть в публике противного мнения, что государь или недоволен прежним утвержденным проектом или же строение в прочности его подало какое-либо сомнение». Но, конечно, эта просьба Захарова так и осталась на бумаге, пока ее через сто лет после создания Адмиралтейства не раскопал в архиве трудолюбивый историк[79]... И надо думать, сколько таких же открытий будет сделано впереди, сколько еще раз мы столкнемся с таким тлетворным влиянием Романовых на творчество...
«Ценители искусства», «знатоки его», «объективные историки» могут обвинить меня за эти строчки, они — эти строчки — этими ценителями и знатоками будут признаны несоответственными общему характеру «историко-художественного очерка», как названа мною моя работа. Пожалуй, и так! Но... но я человек, но я испытал на своей собственной шкуре владычество Романовых, — и быть «спокойно-объективным» не могу...
Но, кроме царя, архитектору пришлось иметь дело с бесконечным чиновничеством, заседавшим в адмиралтейств-коллегии и смотревшим на жизнь с исключительной точки зрения входящих и исходящих нумеров. Малообразованные, а в вопросах искусства прямо безграмотные, они, конечно, также считали, что все знают, все понимают, и стремились с своей стороны, как можно сильнее урезать самостоятельность архитектора, и чуть архитектор хотел проявить свою самостоятельность, даже в мелочах, сейчас же российский чиновник вытягивался во весь рост, вспоминая российское: «не пущать», и архитектору делалось внушение... Пусть он «всероссийский» гений, но рапорт надо писать с соблюдением всех правил субординации... А затем—тоже специфическая черта российской действительности — недостаток денег: или забыли выписать ассигновку или средства истрачены на более серьезный расход или... словом, находилось тысячи тысяч причин, чтобы так или иначе, а задержать уплату...
И вот в такой-то обстановке должен был жить и творить художник! Должен был стремиться к осуществлению своего проекта... И, видимо, сердце художника не выдержало. 27 августа 1811 года он умер, биограф его не указывает на причину смерти.
Создание Захарова — Адмиралтейство оставалось далеко не оконченным и вследствие ряда политических причин: наступил 1812 год с его нашествием Наполеона, потянулись бесконечные войны за освобождение Европы, понятно, что трудно было найти деньги на строительство, и только в 1823 году было признано, что постройка Адмиралтейства закончена, и был подбит итог расходам: за 17 лет постройки было израсходовано 21/2 миллиона рублей...
Главные даты постройки Адмиралтейства следующие: 23 мая 1806 года утверждение проекта Адмиралтейства, а 25 мая того же года приступлено к срытию части валов против Зимнего дворца, 3 июня 1808 года Захаровым был представлен проект перестройки уже выстроенного фаса против Зимнего дворца; в 1808 году работы велись на обоих боковых фасах, а в 1809 году приступили к работам по главному фасаду, выходящему на Невский проспект, в следующем 1810 году, между прочим, решался вопрос о художественных работах внутри здания: после временного затишья в 1812—1813 годах работы возобновились, в 1814 году: павильон на углу к Сенату и на заворот по реке до среднего выступа был окончен кирпичной кладкой вчерне, к исходу 1815 года главные строительные работы кончились, оставались только отделка и скульптурные работы, которые были произведены далеко не в том размере, как проектировал Захаров.
С этими скульптурными украшениями уже почти в наши дни совершилась очень характерная история: конечно, скульптурные украшения в большинстве случаев были мифологические — тут должно было быть — положение стран света или четыре главных ветра: восток, север, запад, юг, затем изида, египетская богиня, разумнейшая и храбрая героиня, выдумавшая строение кораблей; Урания, муза и богиня астрономии, затем Европа, Африка, Азия, Америка, Волга, Дон, Нева, Днепр, фигуры летних месяцев и т. д. Один из таких барельефов колоритно описывал Свиньин в своих «Отечественных Записках»: «Вы видите Нептуна, вручающего Петру Великому трезубец в знак владычества его над морями; подле основателя Российской Империи стоит Минерва и смотрит на берег Невы, где в отдалении Тритоны производят различные корабельные работы; на самой середине барельефа возвышается скала, на которой под тенью лаврового дерева сидит Россия в виде женщины, украшенной венцом; в правой руке ее палица Геркулесова, признак силы, в левой рог изобилия, к коему Меркурий прикасается своим жезлом, изъявляя тем, что избыток естественных произведений только посредством торговли получает высшую ценность; с другой стороны Вулкан повергает к ногам России перуны и оружие в ознаменование всех оборонительных средств, устроенных Петром Великим, например, пушечного лития и т. п. Лицо России с любовью обращено к сему Отцу Отечества. Минерва, близ него стоящая, имеет при себе истукана Победы в знак того, что успех всякой битвы принадлежит уму, и что Петр I собственному гению обязан всеми счастливыми следствиями своих предприятий. Летящая Слава несет флаг Российской в даль океана, на котором уже виден новый флот, окруженный великим хороводом вымышленных морских божеств»[80].
Эти статуи, эти барельефы делались выдающимися скульпторами того времени: Щедриным, Пименовым, Теребеневым, Демут-Малиновским, которые считаются бесспорно лучшим украшением русского искусства. И вот в то время, как постройка Адмиралтейства была закончена, приступили к перестройке Исаакиевского собора; богослужение в нем прекратилось надолго, оно продолжалось в особо устроенной пристройке, но и там было признано неудобным. Духовенство перестраивающегося Исаакиевского собора, конечно, не желало лишиться всех доходов, связанных с церковными службами, и пыталось обосноваться в церкви Сената, но духовенству этой последней церкви было вовсе не по нутру такое совместительство и конкуренция, и сенатское начальство воспротивилось служению Исаакиевского причта. Тогда было решено отправлять временное богослужение в здании Адмиралтейства, где и устроили церковь[81]. И в левом углу главного фасада была устроена церковь, строилась она поспешно, и главный алтарь во имя святого Спиридона Тримифунтского, память его падала на день рождения императора, была освящена 12 декабря 1821 года. Вплоть до освящения Исаакиевского собора, до 30 мая 1858 года, причт этого собора служил в этой адмиралтейской церкви[82], которая затем была поставлена во главу образованного специально для этой церкви прихода морских чинов в С.-Петербурге[83]. Когда церковь только что устроилась, поднялся вопрос, как же быть с мифологическими статуями — ведь они оскорбляют православную церковь. Адмиралтейский архитектор того времени, Гомзин, предложил вместо статуй Марта, Апреля и Мая поставить Веру (с крестом по средине фронтона), Надежду и Любовь; вместо мужской и женской статуй рек — святого Иону и Марию Магдалину, вместо барельефа во фронтоне — сюжет из священной истории или всевидящее око — но, к счастью, этот проект не удостоился утверждения, и статуи месяцев продолжали украшать христианскую церковь. Прошло 37 лет, церковь из временно заменяющей Исаакиевский собор превратилась в постоянную церковь морского прихода, а языческие статуи, полинявшие, оббитые от времени, непогоды, все еще стояли на фронтоне, и главный морской священник Василий Кутневич вошел со всеподданнейшим ходатайством об уничтожении соблазна для православных христиан. Царь согласился на это ходатайство, и соответствующее морское начальство утвердило расход в 45 р. 30 к. на снятие 12 статуй месяцев над четырьмя фронтонами, 6 у подъездов и 4 у павильонов со стороны Невы. Статуи сняли, разбили, и «оставшийся от статуй материал — железные скобы, пироны, пудожский камень — продали за 24р. 35 коп. Таким образом, собственно говоря, на снятие статуй истратили всего-навсего 20 р. 95 коп, Конечно, это было экономнее, чем затрата в 12.000 р. — такую сумму пришлось бы употребить, если бы вздумали ремонтировать эти 22 статуи; ну, а то, что исчезли шедевры русского искусства, то стоило ли об этом думать, особливо когда дело шло «о благолепии церкви»... Эти ревнители благолепия покушались на большую порчу Адмиралтейства, в 1894 году предполагалось соорудить металлический купол над церковью, — к счастью, все-таки нашлось столько здравого смысла, чтобы в здание чистого Empire не внести луковицу будто бы «русско-византийского» стиля... Но если на такой вандализм en gros не решались, то в мелочах испорчено много: кроме уничтожения статуй, надо отметить позолоту украшений на гранитных наличниках при входе в церковь — золотить гранит, до этого действительно нужно додуматься!..
Мы уже указали на главные особенности адмиралтейского здания, на его центральную часть, на умение сохранить план покоем и изящно разработать стены, но в самом Адмиралтействе, внутри его, является такая масса деталей, что для изучения их нужна не одна особенная монография. Считаем уместным здесь обратить внимание на главную лестницу Адмиралтейства с колоссальнейшими статуями при входе: Афины-Паллады и Геркулеса — впечатление, которое производит эта лестница, более чем колоссальное — масса света, широта входа, легкий подъем вполне соответствует парадному входу в Адмиралтейскую залу, в которой должен был заседать высший морской орган. Точно так же хороша и красива и эта зала Адмиралтейского совета: ее устройство, украшения, колонны, плафон, барельефы, все, конечно, в стиле Empire, но когда вы не рассматриваете каждую деталь отдельно, когда вы не обращаете внимания, что капитель колонны коринфского ордена, что украшение на де сю де портах вполне Александровскою времени, так вот, когда вы просто входите в эту торжественную, роскошную залу, то вполне способны пережить те моменты, когда в Адмиралтейском совете председательствовал сам Петр, а рядом с ним сидел «великий адмиралтеец» граф Апраксин. И зала эта, несмотря на стиль совсем иной эпохи, сохраняет впечатление Петровской эпохи.
Из других деталей обратить внимание нужно на распланировку и украшение окон — это пример типического, строго продуманного окна стиля Empire: выделение окон второго этажа, устройство у них довольно большого наличника и балюстрады и совершенно простые окна первого этажа, украшением их служат лишь головки в замке и несколько более широкие, чем высокие, обведенные особой рамкою окна третьего этажа. Нельзя найти лучшего примера образца, как устроить окна в стиле Empire.
Если от здания, от его внешнего вида, от его архитектуры мы перешли или, вернее, пожелали бы перейти к истории учреждения, обитавшего в этом здании, то мы сейчас не смогли бы удовлетворить любопытство, ответить на ряд вопросов, естественно возникающих в уме. Невозможность ответа вполне понятна: ведь до сих пор вся наша история и в частности история наших учреждений рассматривалась лишь с одной точки зрения, — с точки зрения, которой наиболее приличествует наименование «патриотической». Все у нас обстояло великолепно и чем дальше, тем это великолепие увеличивалось и увеличивалось. Темные стороны нашей действительности скрывались, критика не разрешалась, и в результате мы не обращали внимания на нашу «патриотическую» историю и пробавлялись рядом более или менее пикантных анекдотов. Теперь только наступает пора разработки архивов, является возможность высказываться свободно, не эзоповским языком, отбросить анекдоты и перейти к фактам...
А этих фактов в прошлом нашего Адмиралтейства, нашего управления флотом будет безусловно гораздо больше мрачных, чем светлых[84].
Положим, в Адмиралтействе помещается одно из таких учреждений, к которому, по его просветительному значению, могло бы не касаться только что приведенное замечание — мы подразумеваем «Морской музей»[85], — но и он не мог избегнуть общего влияния, он точно так же рисовал картину нашего благополучия, он старался выставить на первый план все яркое, все блестящее... Но, конечно, коллекции, собранные этим учреждением, имеют громадное значение и должны изучаться каждым, кто интересуется морским делом России.
Выше мы уже указали на причины возникновения Адмиралтейской площади — это был гласис устроенной Адмиралтейской крепости, но гласис крепостей по инженерным законам простирался на 300 сажен, на это расстояние около крепости не разрешалось возводить построек; гласис Адмиралтейской крепости разрешили несколько меньше, он равнялся всего-навсего 80 саженям, в чем можно легко убедиться, смерив расстояние от Адмиралтейства до линии домов по современному плану. Уменьшение расстояния гласиса понятно: на серьезное стратегическое значение Адмиралтейской крепости не обращали внимания даже в первые дни ее существования, в этой крепости все видели одну только декорацию, и понятно поэтому, что не слишком строго придерживались требований военных законов. Обыватель, как и должно было ожидать, делал попытки захватить себе местечко и построиться, но крутые меры, предпринятые Петром Великим с самого начала, удержали обывателя от построек, и Адмиралтейская площадь сохраняла свой вид громадной обширной площади. Конечно, она была не мощена, и весною и осенью это было непролазное болото, зимой никто на пей не чистил снега, проезд был тяжел от сугробов, а летом эта площадь кое-где зарастала травою, но на большей части своего пространства представляла, как любил выражаться петербуржец, «Петербургскую Сахару», по которой порывы ветра поднимали целые облака пыли. К 16 апреля 1721 года относится первое мероприятие по урегулированию площади, состоялось повеление «рассадить деревья по большой перспективной дороге, идущей от Адмиралтейства»[86]. Большая перспективная дорога это — современный Невский проспект, который вовсе не был все время главной улицею столицы, а просто-напросто дорогой, соединяющей Адмиралтейство со старою Новгородской дорогой, чтобы было удобнее перевозить доставляемые к Адмиралтейству грузы из центра России. Так вот в 1721 году определилось современное положение Невского проспекта, но это была не улица, обстроенная домами, а дорога, обсаженная березами. Ниже мы скажем более подробно о метаморфозе, происшедшей с перспективной дорогой, превратившей ее в лучшую улицу, и приведем план того времени, пока удовлетворимся указанием, что в 1721 году Адмиралтейская площадь разделилась на две неравные величины. Эго проведение аллеи послужило к очередному очищению Адмиралтейской площади от строений, обыватель снова застроился, и 24 октября 1721 года[87] последовало повеление «о очистке луга около Адмиралтейства от всякого строения». Затем последовало еще одно новое распоряжение, которое, как нам кажется, никогда не было приведено в исполнение, оставалось только в виде сенатского указа[88]: «объявленное генерал-полицмейстером Девиером высочайшее повеление о вырытии пруда на Адмиралтейском острове на лугу»; пруд этот хотели выкопать для пожарных предосторожностей, во время пожара должно было брать из него воду, но об этом пруде в дальнейшем нет никаких указаний, и он не сохранился ни на одном из планов Петербурга. Затем, наконец, была узаконена и самая граница площади: 3 августа 1726 года последовало опять таки сообщение из кабинета Иваном Черкесовым генерал-полицмейстеру Девиеру «высочайшаго повеления о дозволении строить каменные дома на Адмиралтейском острову кругом луга и площади»[89]. Конечно, не нужно думать, что постройка домов около площади началась после 3 августа 1726 года, конечно, нет, обыватель начал строиться гораздо раньше, и высочайшим повелением было узаконено только то, что существовало de facto. Эта линия домов долгое время носила название Большой Луговой улицы. Она начиналась там, где Миллионная улица выходила на нынешнюю Дворцовую площадь, т.-е. там, где теперь здание архива бывшего Государственного Совета, и шла вдоль берега Мойки к нынешней арке Главного Штаба, приблизительно по левой стороне домов нынешней улицы Герцена в части между аркою и Невским проспектом, правой стороны Морской улицы, не существовало в то время, она застроилась позднее, не было и левой, солнечной, стороны Невского проспекта, существовала только правая сторона, которая и звалась Большой Луговой, она и обходила Адмиралтейскую площадь вплоть до нынешней Вознесенской улицы.
Прошло десять лет, и в 1736 году снова обратили внимание на Адмиралтейский луг. Комиссия от петербургского строения, в числе первых полученных ею задач, должна была заняться и вопросом о Адмиралтейском луге. Обсуждение и выработка проекта заняли три года, и 30 января 1739 года появилось на столбцах «С.-Петербургских Ведомостей» следующее извещение[90]: «По именному ее императорского величества указу от 20 Апреля прошлого 1738 года (здесь указом был назван «доклад комиссии от строения об устройстве Адмиралтейского острова»). Велено Адмиралтейской луг обсадить из мелких дерев бруствером или живым плетнем, и на том же лугу, против второй и третьей перспективы, посадить деревья, таким образом, как первая перспектива обсажена, а по представлению архитекторскому на живые плетни потребно к будущей весне липовых деревьев, толщиною в диаметре в 1 и в 11/2 дюйма 1.600 дерев, и с тем, кто желает оные липовые деревья ставить, те-б для договору являлись в главную полициимейстерскую канцелярию заблаговременно». Но являвшиеся в полицмейстерскую канцелярию садовники узнавали, что хотя подряды нужно заключать, но что денег у полицмейстерской канцелярии не имеется. Однако, Адмиралтейский луг был очень на виду, Императрица из окон своего дворца могла наблюдать за обсаживанием луга и, видимо, этим делом интересовалась, в результате чего 1 сентября 1740 года последовал новый указ[91]: «Об отпуске 2 т. р. на покупку липового леса для засаживания Адмиралтейского луга и Большой Луговой улицы, идущей от Вознесенской перспективы». Но, деньги так и не были отпущены, и обсадка аллей через луг по направлению 2-й перспективы, т.-е. Гороховой улицы и 3-й перспективы, т.-е. Вознесенского проспекта так и осталась в проекте,— бруствер кругом всей площади, как кажется, был насажен, по крайней мере мы спустя значительный промежуток времени, а именно 24 марта 1750 года, встречаемся с распоряжением, в котором название «бруствер» заменено более русским «палисадом», а именно[92]: «ее императорское величество соизволила указать около палисада к Адмиралтейству никого ходить и лежать на глассис не пускать», таким образом палисад существовал, он к тому же довольно явственно виден и на гравюрах Махаева того времени. Был ли этот палисад из живой изгороди или из тумбочек и жердочек, трудно сказать. В первые годы своего царствования Елизавета Петровна решила утилизировать Адмиралтейский луг для чисто-хозяйственных целей — «об отводе места для пастбища придворных коров на Адмиралтейском лугу[93]», таким образом коровы, изображенные на одной из гравюр Махаева «Зимний Дворец», явились не плодом фантазии художника, а соответствовали реальной действительности. Такая коровья идиллия продолжалась до начала 50-х годов, когда приступили к замощению Адмиралтейского луга. Трудно допустить, что мостили весь луг целиком, более вероятно, что первое время мостили по направлению вышеуказанных перспектив, затем вкруг всего луга на некоторое расстояние, замостить последнюю дорогу нужно было хотя бы для проезда к Дворцовому мосту, на Английскую набережную, а через мост и на Васильевский остров, ведь проезда по набережной около Адмиралтейства, не существовало, там на линии проезда далеко входили в Неву два грозные бастиона, но обе стороны Адмиралтейства. К концу царствования Екатерины II Адмиралтейская площадь хотя скверно, но замостилась.
К сожалению, мы не могли пока определить, когда же Адмиралтейская площадь приняла свой специфический характер и стала тою площадью Петербурга, на которой два раза в году на масленице и на Пасхальной неделе воздвигались балаганы и устраивалось специальное народное гулянье. Надо думать, что оно узаконилось со времени Александра I, когда об этом гулянии мы читаем следующие строчки[94]:
«Первою отличительностью нынешнего гулянья под качелями была необыкновенно теплая погода, светлые дни, продолжавшиеся постоянно во всю Светлую неделю, что некоторым образом вознаградило худую масленицу, недопустившую народ воспользоваться тогда и обыкновенною даже национальною забавою — катанием с гор. Зато ныне он мог предаться всем удовольствиям, всем веселиям и тем более еще, что никогда не было такого множества комедий, такого разнообразия качелей, каруселей и т. п., кои были несравненно лучше прежнего устроены, а многие из первых столь занимательны, что привлекали всеобщее любопытство. Поутру лубочные (так Свиньин почему-то называл балаганы) посещаемы были высшим классом людей, и скажу признательно, что не без приятности мы заметили сие сближение состояний, сей пример простому народу — веселиться невинным образом. Некоторые из лубочных достали в продолжение недели более 10.000 р. и не одна менее 5.000 р. Каждая качель вырабатывала 100 и более рублей в день. Императорская фамилия удостоила в последний день своим воззрением сие национальное гуляние. День сей украшался также особым великим множеством экипажей (до 2.500) разнообразных упряжью, превосходящих один другого красотою лошадей и фасоном карет, колясок, кабриолетов и т. п. С удовольствием заметим также отличное устройство и красоту придворных экипажей, в коих катались воспитанницы училища ордена Св. Екатерины и Общества благородных девиц, что при Смольном монастыре, а многие рассказывали о вежливости (galanterie), сделанной им при сем г. шталмейстером кн. Долгоруким. В каретах нашли девицы сумки, полные конфект — первых угощала таким образом княгиня, как бывшая воспитанница Екатерининского института, вторых — князь».
Вот одно из первых описании тех гулянии, которые устраивались на Адмиралтейской площади. Как видим, посещение этих гуляний, назначенных для простого народа, людьми высших классов было для этих последних своего рода обязанностью; посещая эти гуляния, российские бары считали, что они сближаются с народом, — это раз, а во-вторых, дают народу благой пример, как веселиться народу «невинным образом», без неудержимого пьянства. Вот почему и царская фамилия считала своим долгом показаться и удостоить своим воззрением «национальное гуляние». И почти все Николаевское время мы встречаемся с заметками вроде следующей[95]: «Неоднократно имели мы счастие посреди веселящегося народа видеть императорскую фамилию, государя, государыню, великих княжен. В субботу ездил на гулянии верхом великий князь наследник престола в красивом казачьем мундире и приветливо кланялся ликующему народу».
Как видим, способ сближения с пародом был очень прост. Покажись на балаганах — и вкусишь русского духа. С течением времени стало признаком хорошего тона принять то или иное участие в масленичном гулянии, и публицист Николаевской эпохи с большим удовольствием печатал у себя в газете следующие строчки[96]:
«Если гречневые блины с уральскою икрою вас еще не пресытили, если утренние и вечерние спектакли оставили вам на этой педеле время вздохнуть и перевести дух; если балы, вечера и маскарады не совсем вскружили вам голову и позволяют просыпаться к часу прогулки, — вспомните, что Адмиралтейская площадь застроена горами, качелями, балаганами, что там со всех сторон раздается шумная музыка, слышится говор, смех, пение, визг, хохот, и что, предпочтительнее перед всеми другими гульбищами, ныне только там, в нарядных санях, тянущихся длинными рядами, можно видеть черные глазки и румяные щечки петербургских красавиц. Зато вся молодежь наша с непременными лорнетами: у кого просто в правой руке, у кого висящий под бровью без всякой подпорки — толпится около экипажей до самых сумерок, пользуясь прекрасною теплою погодою, редкою гостью нашею под 60° северной широты.
«Скажите, пожалуйста, почему подрядчики, принимающие на себя постройку балаганов, строят их так же, как бобры, всегда в одном и том же виде, по тем же планам и по прежним фасадам? Правда, если после вкусных блинов, поливаемых благотворным бургонским вином, кто-нибудь заснул в последнее воскресенье сырной недели прошлого года, таким крепким сном, что мог бы проспать целый год и, проснувшись, в первое воскресенье нынешней масленицы отправился на Адмиралтейскую площадь, тому непременно показалось, что он проспал лишь одну ночь и еще накануне гулял перед теми же самыми балаганами. К этому должно еще прибавить, что репертуар балаганов почти без изменений каждый год один и тот же. Кто должен знать эту горькую истину лучше нас, обязанных ежегодно два раза прогуливаться с пером в руках, проталкиваясь между самою тесною толпою!
«В нынешнем году находим мы попрежнему Легата в самом большом балагане, 2 или даже 3 общества волтижеров, Раббо, Клейнштейн и Бомбов, отличавшийся проявлением народности в вольтижировании, космораму Лексы, зверинец, кукольный театр, несколько геркулесов и т. п. Интересны на площади фокусник Мегкольд с своею корсиканскою лошадкою. Мы ее не видели с прошлого года и ныне нашли в ней успехи, изумляющие в ее понятливости. Так, например, при новом курсе денег ей гораздо труднее прежнего означать цену серебряной монеты, но несмотря на то, она не хуже денежных сидельцев и таблиц, знает весь нынешний лаж». (Поясним: в это время с ассигнаций перешли на серебро, и для перевода одной системы в другую требовались довольно замысловатые исчисления).
После такой вступительной статьи на первой неделе поста считали нужным поместить небольшую заметку такого содержания[97]: «Всех более посетителей было у Легата в 45 представлениях 26.182, менее всего в космораме Берга — 1.080, с гор скатывалось до 9.700, на качелях и каруселях было 4.745 человек, публики было 133.550 человек, пьяных 45».
Последняя цифра, колеблясь в пределах от одного десятка до пяти десятков, но никогда не достигая даже 100, приводила в восторг охранителей того времени, захлебываясь, с диким восторгом восклицали они: Европейцы, берите с нас пример! На 133.550 человек гуляющих всего - навсего пьяных 45 человек! Конечно, каждый знал, что это дутые цифры, что на масленице весь Петербург опивался, что пьяных было без конца, но официальная статистика давала цифру 45, и официальные, правительственные писатели ничтоже сумняшеся восхищались этой статистикой!
В цитируемой нами статье Федор Кони совершенно правильно подметил одно свойство этих народных гуляний: одни и те же программы, один и тот же внешний вид. И это обстоятельство наблюдалось не только в Николаевское время, оно было и в наши дни, вплоть до того момента, когда, боясь конкуренции балаганов, учрежденному для отвлечения от пьянства простого народа Народному Дому, запретили балаганы.
Новинки на балаганах были очень редки. Так, в 1842 году[98] отмечали, что «появилась карусель, устроенная в виде цепи экипажей железной дороги; в красивом возвышенном павильоне видите вы дымящийся паровоз с кондуктором и за ним обычную цепь красивых и пестрых вагонов, наполненных не только детьми, но и их маменьками и тетушками» или иногда погода издевалась над петербуржцами, и фельетонист мог написать[99]: «Знаете ли, что у нас будет под качелями на Светлый праздник ? Ледяные горы! Извольте посмотреть и полюбоваться. Но сегодня видеть еще нельзя; тайна, т.-е. лед прикрыт простынею. На улицах, не взирая на сильную очистку их, неизвестно, что такое : ни снег, ни грязь, ни лед, а все вместе — ездить нельзя решительно ни на чем, так станем кататься с гор по льду! Этого мы еще не видывали в Светлый праздник!»
Один раз в Николаевскую эпоху, и два раза в последующее время балаганы были омрачены пожарами. Два раза балаганы горели или ночью, когда представлений не было, или в промежуток времени между масленицею и Святою неделею, когда дума была настолько любезна, что разрешала балаганщикам не ломать их балаганов, ведь последние обыкновенно строились на педелю, в чистый понедельник подрядчики должны были очистить площадь, приведя ее в первоначальный вид. Жертв этих двух пожаров не было. Но пожар балагана Лемана в 1836 году сопровождался громадным количеством жертв. «2 февраля, — так сообщала «Северная Пчела»[100], — начались народные увеселения на Адмиралтейской площади по случаю наступления сырной педели. Но этот первый день празднеств ознаменовался большим, большим несчастием: сгорел большой балаган Лемана, и при сем случае погибло значительное число людей. Для прекращения ложных толков и предупреждения преувеличенных, опишем дело, как оно происходило, во всей точности, по сообщенным нам официальным сведениям. Это было в начале 5 пополудни. В балагане Лемана начиналось представление. Вдруг действующие в пантомине актеры, одеваясь в отдельной каморке, увидели, что от одной лампы, слишком высоко подвешенной, загорелись стропила. Желая заблаговременно предостеречь публику, подняли занавес, чтобы показать ей приближающуюся опасность; в то же время было открыто настежь. 8 широких дверей, и все зрители, находившиеся в креслах, 1 и 2 местах, выбрались заблаговременно. И остальные могли бы выйти без вреда, если бы при этом не случилось неизбежной в таких случаях суматохи. Пламя появилось с правой стороны балагана, если смотреть от здания присутственных мест, и на этой же стороне находились широкие выходы, но зрители, наполнявшие амфитеатр, все бросились влево, по узким лестницам, к тесным дверям. Шедшие впереди были сбиты с ног задними, эти были опрокидываемы в свою очередь. Таким образом дверь вскоре загромоздилась, и нельзя было найти выход. Упавшие задыхались от напора других. Между тем пламя обхватило весь балаган, крыша обрушилась и покрыла толпу горящими головнями. Из 460 слишком человек, наполнявших балаган, лишилось жизни 121 мужчина и 5 женщин, 10 тяжело ушиблено, но подают надежду на выздоровление».
Нельзя не доверять этим цифрам, тем более, что был напечатан полный список погибших с указанием их семейного положения и количества назначенного от казны пособия. При этом нельзя не отметить очень характерного обстоятельства: сгоряча, под впечатлением слухов о массовом несчастий, была открыта общественная подписка в помощь семей погоревших. Эта подписка была немедленно прекращена императором Николаем I, заявившим, что у государства достаточно средств, и оно не нуждается в общественной поддержке, инициаторам подписки, кажется, был большой нагоняй. Проявление общественности в какой-либо форме считалось преступным посягательством на прерогативы самодержавия...
Таким образом начавшись гласисом карточной крепости, перейдя стадию развития в виде пастбища для царских коров, Адмиралтейская площадь долгое время была местом народных гуляний, развлечения для черни, но в обычное время, не в масленичную и Святую недели, Адмиралтейская площадь производила жуткое впечатление. Вот одно из характерных, сохранившихся до нашего времени описаний[101]: «Адмиралтейская площадь, пространство ее в большую часть дня бывает весьма пусто, почему один из современных фельетонистов удачно назвал ее адмиралтейскою степью, походит на вырезок, сделанный внутри столицы и наполненный историческими памятниками, не столь оживленной, каким должен быть центр первоклассной столицы. Для петербуржца это не так заметно, как для приезжего, который, удовольствовавшись великолепною обстановкою петербургского форума, наконец, спрашивает: где же люди? Небольшая и часто перемежающаяся толпа у здания присутственных мест (затем дом градоначальника), незначительные группы на крыльцах Сената и Синода, кое-где экипажи, кое-где пешеходы — это не удовлетворяет любопытство, ожидавшее видеть самую пеструю картину в санктпетербургском центре».
Перестройка Адмиралтейства оказала некоторое влияние и на Адмиралтейскую площадь: взамен когда-то бывшего бруствера или палисада появился бульвар или, как звали наши предки «булевар», помните
Сперва маленькая историческая справка общего характера[102], затем к ней сделаем соответствующие дополнения: «Адмиралтейство, в виде крепости, существовало ровно 100 лет. В 1805 году снесен был гласис, и на нем построен бульвар, но не на месте нынешнего (писалось в 1857 году), а гораздо ближе к линии домов Адмиралтейской и других площадей. Этот открытый, просторный бульвар сделался любимым гульбищем публики. Каждый день в хорошую погоду толпились на нем тысячи гуляющих. Это продолжалось до 1817 года: тогда засыпан был широкий ров Адмиралтейства, снесены валы и бульвар придвинут к самому зданию Адмиралтейства, потерявшего от того последний признак укрепленного места. Эта перемена послужила к большому украшению города: площади Петровская, Адмиралтейская и Дворцовая слились в одну, единственную в своем роде. Но бульвар, потеряв свое прежнее положение, уменьшась длиною и шириною, отодвинувшись от линии домов, утратил значение оживленного всенародного гульбища: теперь видим на нем только прохожих и нянек с детьми; прежняя публика исчезла. Впрочем, и это было не без пользы. Адмиралтейский бульвар был центром, из которого распространялись по городу вести и слухи, и чем невероятнее и нелепее был слух, тем скорее. Спросишь бывало: «Где вы это слышали?» — «На бульваре», — торжественно отвечает вестовщик, — и все сомнения исчезали. Это предвкушение электрических телеграфов господствовало особенно во время войны 1813 и 1814 годов».
Центральным же местом бульвара была кондитерская «Бурдерон и Комп.». «Кондитера, устроив на Адмиралтейском булеваре, где прежде была палатка, новый кофейный дом по утвержденному плану (эта фраза обозначала, что план кофейного дома подносился на высочайшее утверждение), имеют честь уведомить почтенную публику, что оное заведение открыто 10 августа. В оном будут лучшие разного рода прохладительные напитки, конфекты, а равно и готовые завтраки и отборные вина. Они уведомляют также, что сей дом построен весьма покойным и приятным образом, как для зимы, так и для других времен года. В оном находиться будут как журналы, в столицах находящиеся, так и иностранные газеты, сколько обстоятельства дозволят держать оные[103]» — это известие относится именно к вышеуказанному 1813 году.
Первоначально бульвар был устроен Захаровым для того, чтобы замаскировать до некоторой степени перестраивающееся Адмиралтейство, но, когда заметили, что бульвар привился к Петербургу, что петербуржцы попривыкли к нему, решили перенести бульвар поближе к Адмиралтейству — теперь на месте бульвара крайняя аллея к Адмиралтейству, на которой стоят мраморные статуи Геркулеса и Флоры — они поставлены на эти места в 1833 году[104].
Но еще раньше, чем бульвар, на Адмиралтейской площади или вернее на той ее части, которая прилегала к Сенату и потому звалась Сенатской площадью, появилось украшение, которым безусловно может и должен гордиться Петербург. Мы подразумеваем памятник Петру Великому.
12 сентября 1766 года уже знаменитый французский скульптор Фальконет[105], подписав условие с представителем России князем Голицыным, покинул Париж и отправился в Петербург, взяв с собою, кроме двух помощников и одного мастера для гипсовых работ, также и свою ученицу девицу Колло, впоследствии вышедшую замуж за сына. У Фальконета был, кроме того, значительный багаж — 25 ящиков, наполненных рисунками, гравюрами, книгами, инструментами, необходимыми для работы, и пр.
Условия были следующие: «Фальконет приглашался выполнить статую Петра Великого, плата за исполнение проекта была определена в 200,000 франков. Фальконет обязывался приехать в Россию, чтобы делать памятник здесь на месте и для этой цели должен был привезти двух помощников скульпторов, из которых старший должен был получать 6,000 ливр., а младший 5.000 ливр. жалованья в год. Кроме того, Фальконет обязывался привезти одного опытного литейщика, которому было обещано жалованье в 4,000 ливров. На путешествие Фальконета из Парижа в Петербург выдавалось 12,000 ливров и карета; такая же сумма назначалась и на обратное путешествие. Кроме того, Фальконету была обещана обширная мастерская, в которой он мог бы заниматься, а также чистая и удобная квартира поблизости мастерской, экипаж, скромный и здоровый стол с правом приглашать к нему нескольких знакомых. Обещанную сумму 200.000 фр. предполагалось выдавать Фальконету частями по 25.000 фр. в течение 8 лет с тем, что если работа будет окончена в более краткий, чем 8 лет, срок, то все-таки вся сумма должна быть выплачена сполна».
Пока Фальконет ехал из далекой Франции в Петербург, в последнем шли приготовления к его встрече. Фальконету отвели квартиру в оставшейся от разломки части Елизаветинского дворца — об нем речь будет ниже. В этой квартире Фальконет прожил все время своего пребывания в Петербурге. 27 июня 1778 года[106] появилось следующее объявление: «Потребен с хорошими свидетельствами один слуга и одна служанка, разумеющие французский и немецкий языки и желающие ехать во Францию. Охотники могут являться к госпоже Фальконет, на углу большой Морской, против дома прусского посланника», а 24 августа того же года в известиях об отъезжающих можно было прочесть следующие строчки: «профессор Фальконет с своею невесткою и с дочерью, при нем служители Анна Шиберт и Иоганн Розенграм едет заграницу и живет против двора прусского посланника в казенных палатах»[107].
В этом же доме Фальконета была устроена мастерская, посреди которой возвышалась довольно значительная горка, на которую ежедневно, по несколько часов, на двух лучших придворных скакунах «Бриллиант» и «Каприз», вскакивали придворные же берейтора, удерживая лошадь на дыбах, а Фальконет, стоя внизу, по целым часам изучал все движения и напряжения мускулов скачущей лошади, зарисовывая их в свои альбомы. Тут же, около мастерской Фальконета, в 1770 году был построен большой деревянный сарай, в котором[108] «с 19 мая 1771 года поутру с 1 до 2 часов, а после обеда от 6 до 8 часов впредь две недели, показываема будет публике модель монумента блаженный и вечныя славы достойныя памяти государя императора Петра Великого». Наконец, в том же здании, кроме Фальконета, жили и другие выписанные рабочие иностранцы; так, в 1774 году 5 августа показаны в числе отъезжающих[109]: «Бенса Артимент, Ежьен Форестьер, Гло Арнад, Жан Баптист Миль с женою, живут при литье большой статуи Петра Великого».
Чуть ли не тотчас по вступлении на престол императрица Екатерина II замыслила про памятник Петру I — для императрицы постановка этого памятника не была простою прихотью, нет, здесь Екатерина II преследовала вполне определенную политическую цель — императрица хотела как бы подчеркнуть, что на всероссийском престоле сидит не ничтожная немецкая принцесса, а истинная, по духу, продолжательница начинаний великого Петра. Осмотрев памятник Растрелли, Екатерина не удовлетворилась им по двум причинам: первая и главная — памятник был отлит Елизаветою Петровною, вспоминать последнюю было вовсе не в целях императрицы, а во-вторых, академичность памятника Растрелли, его подражание известному памятнику Марка Аврелия не могли нравиться императрице. Ей нужен был такой памятник, которому не было похожего в свете, который отличался бы особой оригинальностью, о котором бы не только заговорили, но и закричали бы заграницею. Отсюда понятно, почему императрица с таким жаром ухватилась за идею Фальконета, решившего изобразить Петра Великого скачущим на коне на громадную скалу, достигнув вершины которой, царь-всадник своею мощною рукою сдерживал лошадь. Положение, данное Фальконетом лошади, было необыкновенно трудное, — конь, на скаку, взвившийся на дыбы и стоявший лишь на задних ногах, являлся чем-то совершенно новым в области конных статуй и требовал особенных усилий и таланта для выполнения. Потом, надо помнить, что скульптура прямо противоположна движению, скульптуре свойственна неподвижность, а в памятнике Петру Фальконет стремился именно выразить движение, и это стремление ему вполне удалось — мы видим не памятник, не статую, а, действительно, коня, взлетевшего на обрыв скалы, увидевшего перед собою пропасть и вставшего на дыбы. Перед этим воплощением движения отходят на задний план и знаменитые лошади барона Клодта на Аничковом мосту.
С самого начала работа по памятнику Петра I разбивалась на две части: 1) отыскание и подготовление пьедестала и 2) изготовление и отлитие самой статуи.
Для пьедестала сначала думали удовлетвориться составною скалою, по крайней мере 6 июля 1768 года[110] появилось следующее объявление: «Желающим для постановления блаженной и вечной славы достойныя памяти государя императора Петра Великого монумента в гору выломать и привезти сюда в С.-Петербург 6 полевых диких камней разной величины». Из этих шести камней и предполагалось составить грандиозную скалу. Но в том же году И. И. Бецкий, принимавший по воле императрицы непосредственное участие во всех распоряжениях о памятнике, представил проект с.-петербургского обер-полициймейстера графа Карбури[111] о необходимости иметь основание для памятника из одного камня. В этом направлении и началась работа. Академия художеств поместила публикацию[112], в которой была описана потребная величина камня и предлагалось крупное вознаграждение тому, кто найдет и укажет такой камень. Вследствие этой публикации в Академию явился крестьянин деревни Лахта, лежащей в 8 верстах от Петербурга, на берегу Финского залива, Семен Вишняков, и заявил, что вблизи деревни, в болотистой местности, есть огромный камень, величиною даже больше требуемой, представляющий из себя целую скалу и носящий название «камень-гром». По преданию, это была та самая скала, на которую часто входил Петр для обозрения окрестностей. Название же «камень-гром» было дано камню потому, что несколько лет перед тем в него ударила молния и произвела глубокую трещину. Осмотреть этот камень отправилась особая комиссия, он оказался, действительно, громадных размеров: длиною 44 ф., шириною 22 и вышиною 27 ф., в земле он лежал на 15 ф. и зарос со всех сторон деревьями. Камень имел пепельный цвет и чрезвычайную крепость. По исследовании оказалось, что он состоит из полевого шпата и кварца, по приблизительному исчислению камень должен был весить никак не меньше 100,000 пудов.
Безусловно, лучшего камня для подножия нельзя было отыскать, что и выразила императрица, осмотрев 12 апреля 1768 г. этот камень[113]. Но появился новый вопрос — как же доставить этот камень в Петербург. Доставка, очевидно, должна разделиться на две части — передвинуть его по сухому пути до Финского залива, свалить на особое судно и перевезти по Финскому заливу и Неве — этот перевоз по воде был второю частью предполагаемой доставки, и эту задачу с самого начала поручили адмиралтейств-коллегии[114]; заведывал этою перевозкою капитан Мордвинов[115], было построено особое судно, выбрана особая команда. За удачное выполнение этой части перевозки все участвовавшие в ней были щедро награждены[116].
Решение первой половины задачи — перевозка камня по сухому пути — по преданию принадлежала простому русскому кузнецу, но его идеею будто бы воспользовался вышеупомянутый петербургский обер-полициймейстер Лоскари Карбури[117]. Его проект (теперь он употребляется в шариках велосипеда) заключался в следующем: вырытый из земли камень был разбит на две части, приподнят посредством 12 ворот и 12 рычагов и опрокинут на громадную платформу, сделанную из толстейших бревен, положенных в несколько рядов и обитых толстыми медными листами. Внизу платформы вложены были 30 медных шаров по 5 дюймов каждый в диаметре, дававших платформе возможность катиться по медным желобчатым рельсам.
Проект Лоскари был одобрен, и приступили к его выполнению — в марте 1769 года камень уже лежал на платформе[118]. Дорога, по которой должно было везти эту громадную скалу от Лахты до берега Финского залива, была тщательно исправлена и укреплена. На каждых 50 саженях были вбиты столбы из корабельного леса, к которым натягивались канаты от 4 ворот, находившихся на платформе, двигавшейся усилиями 400 рабочих. Наверху камня стояли 2 барабанщика, дававшие посредством барабана знаки рабочим, чтобы они или разом начинали работу или прекращали ее. За удачное выполнение работы эти рабочие получили в награду 500 р.[119]. Во время движения 40 каменщиков находились на камне, обсекая острые углы, на одном же крае камня была устроена особая кузница. Перевозка скалы шла чрезвычайно медленно — камень подвигался в день не более, как на 200 сажен. 30 января 1770 года[120] перевозку камня посетила императрица, а 22 сентября 1771 года[121] скала для подножия памятнику Петру I прибыла в С.-Петербург.
Первая половина задания была исполнена. Она тогда же была увековечена в изданных в 1779 году гравюрах под заглавием «Виды камня, называемого Гром, назначенного к подножью монумента Петру I. С.-Петербург. 1770 г.»[122].
Та же удача была и в выполнении самого памятника: лошадь и статуя Петра Великого были быстро вылеплены Фальконетом, не удавалась ему только голова великого монарха — три раза переделывал ее Фальконет, но никак не мог достигнуть желанного совершенства: выражение лица царя нс нравилось ни ему самому, ни государыне. Об этой неудаче Фальконета узнала его ученица Мария Анна Колло и испросила позволение испытать свои силы в этой задаче. И уже на другой день, проработав всю ночь, молодая художница представила своему учителю бюст из воска, заслуживший одобрение и государыни и Фальконета[123].
Таким образом в памятнике Петру I, кроме Фальконета, участвовала и девица Колло, принимал участие, правда, незначительное и русский скульптор Гордеев, который отлил для памятника знаменитую змею-зависть, аллегорию будто бы на шведов, которых победил Петр Великий. Эта змея между тем имеет историю, которая вносит некоторые черточки в отношения Екатерины II, Бецкого и Фальконета. Фальконет, как будет видно ниже, не дождался открытия памятника и уехал на родину. Тогда Бецкий убедил Екатерину II, что положение лошади, приданное статуе, рискованно, и равновесие может быть легко нарушено; чтобы укрепить это равновесие, нужно дополнить памятник, поместив в ногах лошади змею. Таким образом и появилась знаменитая змея, но эта история мало кому известна, и большинство вовсе не полагает, что змея появилась гораздо позже самого памятника.
24 августа 1775 года[124] была произведена отливка статуи. Сарай для отливки был сделан на берегу Невы, недалеко от того места, где лежала уже скала-гром:
Так выразил настроение и пафос современников пиит того времени — Василий Рубан. Стихи эти были напечатаны на особых листочках и раздавались в значительном количестве.
При отливке чуть-чуть не случилось большого несчастия, которое было описано следующим образом в современных известиях :
«Минувшего августа 24 дня г. Фальконет вылил здесь напоследок статую Петра Великого на коне. Литье, как ныне по снятой форме видно, удалось во всем по желанию, кроме местах в двух фута на два вверху. Сия сожалительная неудача произошла через такой случай, коего предвидеть, а, следовательно, ни какою предосторожностью предотвратить возможности вовсе не было, но в рассуждении вылития всего литья, содержащего до 30 футов и самое сие приключение не важно и столь легко и столь же скоро поправлено быть может.
В протчем литие сие можно почесть в числе наилучших, которые только по сие время в статуях происходили, ибо ни на самом портрете (т.-е. статуе, поясним, в скобках), ниже на коне не видно никакой скважины или ноздри ж, но по всей окружности все вышло там чисто и гладко, как бы на воску. Вышеупомянутой же случай столь казался страшен, что опасались дабы все здание, где сие происходило, не занялось пожаром, а, следовательно, и все бы дело не провалилось. В таком страхе все работники с помощниками, оставя свои места, разбежались, один только российский плавильщик Кайлов, сей усердный человек, который управлял плавильнею, остался неподвижен на своем месте и проводил расплавленный металл в форму даже до последних каплей, не теряя ни мало бодрости своей при представляющейся ему опасности жизни. Такою смелостью и усердным поступком сего плавильщика столь был тронут г. Фальконет, что, по окончании дела, бросившись к нему, изо всего сердца его поцеловал, а потом, не предупреждая тем иной милости двора, в знак чувствительной благодарности дарил от себя деньгами».
Хотя, по словам «С.-Петербургских Ведомостей», отливка вполне удалась, Фальконет остался ею недоволен, он спилил верхнюю часть от колен всадника и груди лошади до их головы и снова перелил, теперь уже с успехом в ноябре 1777 года. Таким образом, статуя Петра Великого составная из двух частей, что, впрочем, на памятнике вовсе незаметно. После этого оставалось окончательно отделать статую и отполировать ее. Работа эта была за 20 т. р. поручена часовому мастеру Сандоцу и исполнена в течение 2-х лет.
Фальконет закончил свое задание — больше он не был нужен Екатерине II, и та трогательная дружба, которая будто бы существовала между великою Семирамидою севера и великим художником резко оборвалась, настолько резко, что обиженный художник решил не дожидаться открытия памятника и уехать на родину. «Абшид» — как тогда звали отставку — был дан без затруднения. И здесь характер императрицы Екатерины II проявился полностью: использовав человека, она переставала обращать на него внимание, в ее личных сношениях с людьми никогда не было искренности, правдивости, чувства — Екатерина II постоянно оставалась блестящей актрисою.
«Третьего дня, т.-е. 7 августа 1782 года[125], — читаем мы на страницах «С.-Петербургских Ведомостей», — открыт торжественно на Петровской площади монумент государю Петру великому в высочайшем присутствии ее Императорского Величества славноцарствующей великой нашей государыни Екатерины Вторыя, коею сия достовечность воздвигнута сему герою преобразователю России и основателю сей столицы, толико славною преемницею престола и дел его на удивление света ныне процветающих».
Открытие памятника состоялось при громадном стечении народа и в присутствии огромного числа войск. Императрица Екатерина в короне и порфире находилась на балконе сената, который помещался на том же месте, но не в нынешнем здании постройки Росси, а в старинном, трехъэтажном с башнею доме, бывшем Бестужева-Рюмина. Когда по данному императрицею знаку полотняная ограда в виде декораций, изображавших горы и скалы, закрывавшие памятник, упала, государыня, по словам современников, «прослезилась и преклонила голову перед изображением своего великого предшественника».
По случаю открытия памятника императрицею был издан манифест, которым были объявлены разные милости: приговоренные к смертной казни и телесному наказанию избавлены от них, прекращены все изыскания по уголовным делам, продолжавшимся более 10 лет, освобождены все содержавшиеся более пяти лет под стражею за казенные и частные долги, и т. п. Между прочим, был выпущен из долговой тюрьмы известный откупщик Голиков, который тогда же дал себе обещание написать или, вернее, собрать материал для истории Петра Великого — в результате появились известные «Деяния Петра Великого».
Согласно исчислению сената, представленному императрице Екатерине II, Фальконетовский памятник обошелся в 424.610 р., из которых выдано Фальконету всего 81.500 р., трем его подмастерьям 27.824 р., литейному мастеру Хайлову 2.500 р., на отливку пошло 11.001 пуд. меди.
Памятник производил громадное впечатление и на современников; об этом впечатлении мы находим очень интересные, своеобразно выраженные отзывы князя Трубецкого в письмах к дочери. Первое письмо датируется 15 декабря 1782 года[126]:
«Монумент Петр Великий украшение городу великое сделал, и я уже третий раз, как объезжаю его и не могу еще наудовольствоваться. Ездил нарочно на Васильевский остров смотреть оттудова — совершенно хорошо».
Через 11 дней — 26 декабря[127] — князь снова возвращается к памятнику: «статую же Петра Великого, как ни выйду со двора, все объезжаю и её я любуюсь: великое украшение сделано городу и по самой истине можно сказать достаточно её видеть такую пречудесную вещь».
В 1812 году, во время нашествия Наполеона на Россию, когда опасность вторжения врагов грозила и Петербургу, император Александр I предположил увезти статую Петра Великого на север, вполне справедливо боясь, что Наполеон захочет украсить Фальконетовским произведением свой излюбленный Париж. На перевозку статуи статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч рублей, и уже были сделаны приготовления по устройству специальной баржи, на которой предполагалось увезти монумент.
И в это время с ближайшим другом и доверенным лицом императора Александра с князем А. Н. Голицыным добивается свидания какой-то житель Петербурга майор Батурин и рассказывает, что его, майора, уже несколько ночей подряд преследует один и тот же сон: майор видит себя на Сенатской площади, Петр Великий съезжает со скалы и мчится чрез Исаакиевский мост на Васильевский остров, затем на Петербургскую сторону и въезжает на двор Каменностровского дворца. Гулко звучат медные копыта на пустом дворе. На этот шум выходит император, и происходит следующий диалог между прапрадедом и внуком:
«— Молодой человек, до чего ты довел мою Россию?— спрашивает будто статуя Петра Александра I, — но зачем же ты тревожишь меня... Знай, пока я стою на своей скале, Петербург неприступен.
Сказав эти слова, всадник поворачивает и уезжает на свою скалу...»
Князь А. Н. Голицын сообщил об этом случае императору, и будто бы последовало распоряжение оставить статую в Петербурге.
Конечно, это анекдот, но очень характерный для Петербурга — статуя Фальконета является чем-то вроде ангела хранителя для Северной Пальмиры.
Около памятника был учрежден особый воинский пост, нечто вроде того, как у памятника Александровской колонны, но у последней дежурили дворцовые гренадеры, у Петра I простые солдаты; этот пост продержался до 1866 года, когда его по каким-то причинам «упразднили» — памятник из военного ведомства перешел к городскому самоуправлению[128], а в 1874 году уже не военное начальство обидело памятник, а сама дума—она распорядилась, в виду того, что памятник был заключен в Александровский сад, перенести окружавшие памятник четыре канделябра на Казанскую площадь[129].
С памятником Петра Великого неразрывными цепями связано событие 14 (27) декабря 1825 года.
Около «медного Петра»—вспоминаем эпитет, данный памятнику Некрасовым — ранним морозным утром собрался с распущенными знаменами в полном составе Московский полк, он встал тылом к памятнику, на левом фланге полка поместилось несколько рот лейб-гвардии гренадеров, на правом фланге, опять таки в полном составе, гвардейский экипаж... На Сенатской площади, у медного Петра, собрались те части петербургского гарнизона, которые, поддавшись увещеваниям декабристов, отказались от присяги вступавшему тогда на престол Николаю I. А против них, на той же самой площади, в течение целого дня стягивался «верноподданнический» гарнизон...
Стало темнеть, когда раздалось первое царское слово, первая его речь к своим верноподданным... Это слово, как вообще все царские слова, было жестокое, злое слово. Царь скомандовал своим частям, своей артиллерии: «Пли!!»
И на расстоянии не более 50 шагов в небольшую кучку людей понеслась картечь. ...Вынести такой убийственный огонь не было никакой возможности, восставшие бросились врассыпную... «Бунт декабристов» — бунт, как приказано было звать это первое вооруженное восстание — был подавлен.
И русский царь, подозвав к себе петербургского полицмейстера, вторично в тот день, в кровавое 27-е (14) декабря, отдал свое второе царское приказание.
— Убрать эту нечисть, — распорядился царь, указывая на кругом валявшиеся трупы, на бьющихся в судорогах раненых, на потоки пролившейся, еще дымящейся, теплой крови...
Полиция распорядилась...
По Неве, против Академии Наук, были пробиты во льду лунки такой величины, что в них с трудом можно было протолкнуть тело... и к этим лункам подвозились и подносились лежавшие на площадях, набережных, улицах; полиция не обращала внимания — ранен или убит: сдирала одежду, обшаривала карманы и протискивала в лунку... К утру все было убрано, привезли свежего снега, закидали следы крови...
И засверкала своим белоснежным покровом Сенатская (пли Петровская — по другому наименованию) площадь вокруг медного Петра... а когда весною ледоколы стали на этом месте выбирать лед, то вместе с кабанами льда они вытаскивали примерзшие руки, ноги, а иногда и целый труп — полиции пришлось отвести другое место для выборки льда.
И Сенатская, и Петровская, и Исаакиевская, и Адмиралтейская площади исчезли в начале 70-х годов, а произошло это исчезновение следующим образом:
В конце июня, начале июля 1872 г. в петербургских газетах появилась заметка подобного содержания[130]: «Вскоре будет приступлено к устройству сквера на Петровской площади. Сквер будет занимать все пространство в четвероугольнике, примыкающем к Неве и упирающемся противоположною стороною в Исаакиевский собор. Памятник Петра Великого таким образом окажется в средине сквера».
Такая небольшая, чисто хроникерская заметка сменилась довольно подробным разъяснением, напечатанным в специальном журнале «Зодчий»[131].
«Одной из крупных петербургских новостей по строительской части составляет устройство сада на Адмиралтейской и Петровской площадях. Нет сомнения, что сад послужит важным украшением столицы, а главное — доставит жителям удобное место для прогулок и в санитарном отношении принесет немалую пользу. В настоящее время устройство сада составляет уже предмет решенный, и это подтверждается тем, что наднях приступлено к ограждению того пространства, которое занимается садом, — следовательно, в весьма недалеком времени петербургским жителям предстоит случай воспользоваться этим садом. Проект устройства этого сада высочайше одобрен в общих чертах. Нам случилось видеть этот проект, и при беглом рассмотрении его мы заметили, что сад разбивается весьма изящно, причем обращено внимание и на удобства гуляющих. Сад будет украшен павильонами и фонтанами с большими бассейнами и займет пространство, составляющее площадь до 17,000 кв. сажен; он сольется с аллеями Адмиралтейского бульвара, идущими по Адмиралтейской и Петровской площадям. Со стороны Дворцовой площади границу сада составит продолжение линии наружного барьера бульвара от Дворцового моста к домам. Затем от Невского проспекта, вдоль домов, выходящих на Адмиралтейскую площадь, вдоль зданий Синода и Сената до Английской набережной — предположены проезды в 16 сажень ширины, а от Английской набережной перед монументом Петра I для соединения с предполагаемою набережною позади здания Адмиралтейства, шириною в 12 саж. Среднюю, широкую аллею бульвара к стороне Сената предполагается обратить в шоссейную дорогу и устроить шоссированный переезд через бульвар от угла Дворцовой площади к углу здания Адмиралтейства, а среднюю аллею того же бульвара вдоль главного фасада здания Адмиралтейства и против Зимнего дворца приспособить для верховой езды. Сад будет перерезан водосточными трубами и освещен газом, а у памятника Петру I будут поставлены изящные газовые канделябры. Проект сада составлен императорским российским обществом садоводства, которое примет участие в исполнении работ по устройству сада, главное же заведывание садом останется на городской строительной комиссии, так как устройство сада будет исполнено на городские суммы. Нужно надеяться, что общество садоводства, в среде которого так много опытных специалистов, поможет городскому управлению в изящном и практическом устройстве сада».
Мысль об устройстве сада появилась в связи с торжеством двухсотлетия со дня рождения Петра Великого, в честь этого двухсотлетия и было решено превратить площадь в сад[132]. Работы начались 3 июля 1872 года[133], а торжественное открытие сада в высочайшем присутствии было 8 июля 1874 года[134], т.-е. устройство сада затянулось на целые два года. Считаем уместным привести текстуально описание открытия сада, и в этом описании выясняются некоторые черточки церемониала «старого доброго времени», как любили прежде выражаться. Царя притягивали и к таким мелочным явлениям, как открытие сада, и здесь он должен был фигурировать как действующее лицо, — так думали популяризировать идею самодержавия. Вот это описание, как оно было помещено на столбцах официоза того времени:
«8 июля 1874 года последовало в С.-Петербурге торжественное открытие сада на Адмиралтейской площади. В 10 час. утра был отслужен духовенством Адмиралтейской домовой церкви молебен с водоосвящением. С 11 часов участвовавшие в устройстве сада с их семействами, некоторые члены городской управы и немногочисленная публика, допущенная за решетку сада но особым билетам, а также громадное количество публики, окружившей сад, с нетерпением стали ожидать прибытия государя императора. В 111/2 часов к воротам сада, что против Гороховой и главных ворот Адмиралтейства, изволил подъехать его величество. Его величество с его императорским высочеством генерал-адмиралом изволил пройти до газона, находящегося против северного портала Исаакиевского собора, где были приготовлены для посадки молодые дубки. Здесь государь император собственноручно изволил посадить одно дубовое деревцо, другое было посажено великим князем Константином Николаевичем. Затем его величество изволил подняться на холм, насыпанный близ набережной Невы, между Адмиралтейством и памятником Петру Великому, откуда бросил взгляд на общий вид нового сада и, пройдя потом к воротам сада, находящимся против сената, изволил сесть в коляску и отправиться к пристани императорских яхт у Николаевского моста для следования в Кронштадт. Вслед за отъездом августейших особ генерал-адъютант Грейг объявил присутствующим, что государь император, снисходя на ходатайство императорского российского общества садоводства, всемилостивейше соизволил назвать вновь устроенный сад августейшим именем своим. Поэтому сад будет называться «Александровским». Работы по устройству Александровского сада начались в июле 1872 года, и ровно в два года пустынная площадь превратилась в зеленеющий и цветущий сад под просвещенным руководством президента российского общества садоводства генерал-адъютанта Грейга, любителем и знатоком ботаники; работы были производимы главным ботаником императорского ботанического сада, действительным статским советником Регелем, служащим при том же саде г. Бергманом и садоводом Гедевигом (русский сад в русской столице разводили Грейг, Регель, Бергман, Гедевиг — четыре немца). Работы по устройству сада, как-то: снятие мостовой, насыпка земли, которой употреблено до 3,600 кубов, посадка деревьев, кустарников и пр., всего до 4,000 растений, устройство газонов, дорожек, решетки — все эти работы стоили всего около 90.000 р. В саду, впоследствие устроены будут два фонтана, один близ главного входа (этот устроили в 1876 году) и другой близ памятника Петру Великому (только предполагался и не был устроен). Во вновь открытом Александровском саду сделано весьма удачное нововведение. Большинство растений снабжено табличками с названиями растений на русском и латинском языках. Это нововведение будет иметь образовательное значение. До сих пор оно не применялось еще к общественным садам, непредназначенным для научной цели. Кроме того, на холме, близ памятника Петру I, собрана весьма интересная коллекция альпийских (горных) растений, снабженных тоже надписями. Вид сада чрезвычайно изящен; газоны и клумбы разбиты с большим вкусом, дорожки прорезаны очень красиво, решетка легка и при всей своей простоте имеет прекрасный вид».
Так официально сообщалось об открытии сада. Особенно интересно место, где говорится, что Александр 11 «соизволил» назвать вновь устроенный сад своим именем — никакой ложной скромности не проявил самодержец России, он только «снизошел» до этого поступка. Конечно, официальные похвалы саду были только официальны, на самом деле сад, когда он разросся, скрыл совсем фасад Адмиралтейства, затем он съел, если так можно выразиться, Сенатскую площадь, грандиозное впечатление от домов Сената и Синода с аркою на Галерную улицу сразу уменьшилось, эти здания, как и само Адмиралтейство, очень проиграли от деревьев, другое дело, если бы был разбит газон с низко растущими кустарниками. «Образовательного значения» — от снабжения деревьев и растений ярлыками с российским и латинским названием — сад тоже не имел: ярлыки очень скоро позатерялись и не возобновлялись, хотя кое-где они, кажется, уцелели и до нашего времени, горка с ее альпийскими растениями, конечно, была только пародией на альпийскую флору, ибо во всей горке было всего-на всего едва ли 10 сажен высоты. В 1883 году был поднят вопрос об украшении Александровского сада бюстами писателей[136], и вот около фонтана и в некоторых других местах сада были воздвигнуты миниатюрные бюсты: Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Глинки, а затем воздвигли памятник путешественнику Пржевальскому, причем допустили вопиющую скульптурную безграмотность — соединение в одном памятнике различных масштабов: бюст путешественника в увеличенном масштабе, верблюд в несколько уменьшенном и винтовка в натуральном масштабе и в результате, конечно, появился не памятник, а какая-то «какофония», которой, как и должно было ожидать, восторгались в былое время. Бюсты же писателей слишком микроскопичны, и почему нужно было окружить ими Фонтан, конечно, никто не может объяснить, самое подходящее объяснение будет российское словечко: «так». Следует обратить внимание на сравнительно большой павильон между бывшим бульваром и памятником Петру. Павильон этот устроен в русском стиле на относительно значительной площадке и должен был служить «детским уголком». Тут предполагалось устроить что-то вроде детского сада, но, как и должно ожидать, дальше предположений и проектов дело не пошло.
Александровский сад — ныне «сад Трудящихся» — окончательно изменил Адмиралтейскую площадь, а следовательно, и вид на Адмиралтейство. Но это было не последнее изменение в этой местности, здесь было сделано еще другое — устройство Адмиралтейской набережной.
С перестройкою Петровского Адмиралтейства внутренний канал, бывший в Адмиралтействе, не засыпали, а потому перерыв на Невской набережной оставался, от дворца нужно было огибать Адмиралтейство по площади и только у здания Сената снова попадать на продолжение Невской набережной. С устройством же Александровского сада объезд вокруг Адмиралтейства слишком удлинялся, и, само собою, естественно возник снова вопрос об Адмиралтейской набережной.
Надо вспомнить, что об Адмиралтейской набережной заговорил впервые Росси, выступивший с грандиознейшим проектом. Вот как писал сам Росси о своем проекте[137]: «Размер предлагаемого мною проекта превосходит те, которые римляне считают достаточными для своих памятников. Неужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в ненарушимости. Этот памятник должен стать вечным». Новая набережная должна иметь 300 сажен длины, причем ее прорезывали 10 огромных арок в 12 сажен ширины. Вышина их была достаточна для того, чтобы под ними свободно могли проходить по каналам суда в Адмиралтейство. Все это Росси предполагал вывести из гранита. На набережной он ставил три огромные ростральные колонны на могучих массивах, из которых одну имел посвятить Петру Великому, основателю Адмиралтейства, другая должна была «венчать победы русского флота», а третья ставилась в воспоминание закладки всего сооружения — «ибо сооружение этой набережной должно произвести эпоху, должно доказать, что мы постигли систему древних, и предприятие это своим величием должно оставить далеко позади себя все, что создали европейцы нашей эпохи».
Но, понятно, что проект Росси именно по своей грандиозности должен был остаться проектом, затратить такие громадные суммы, которые нужны были для осуществления проекта, правительство не могло. Позабавившись проектом Росси, позволив этому гениальному художнику помечтать о новом памятнике своей архитектурной славы, правительство сдало этот проект в архив. Но вид Адмиралтейской набережной — собственно говоря задворок Адмиралтейства — всегда шокировал наш двор, тем более, что набережная начиналась сейчас же перед дворцом, поэтому постоянно возникали проекты и слухи о превращении этих грязных адмиралтейских задворок в нечто более достойное по местности или в крайнем случае принятия тех или иных мер, чтобы как-нибудь скрыть беспорядок, поставить какую-нибудь декорацию, закрывающую беспорядки... И вот в 1841 году «пронеслись слухи, будто на Адмиралтейской набережной предполагается поставить аллегорические изображения рек «Невы» и «Волги»[138] но и этот слух, как и ряд других, не воплощался в действительность. 6 октября 1865 года[139] — т.-е. дореформенная дума ассигновала суммы на устройство набережной вдоль здания Адмиралтейства». Суммы эти были вычислены в 296.138 р.[140], и работу предполагалось окончить в течение 5-ти лет. Для приведения проекта в исполнение городское общество предложило: 1) выдвинуть набережную более в Неву, в одну линию с дворцовою для выигрывания места, 2) внутри здания Адмиралтейства отделить 3.990 кв. сажен под застройку этого места обывательскими домами и 3) вырученные от этой продажи деньги обратить ва устройство набережной. Эти предположения, однако, не удостоились утверждения, равно как и предложенные впоследствии обмены местностями, в устье Фонтанки и других местах. Имея в виду трудность по недостатку средств приведение проекта в исполнение, предполагалось даже сделать эту набережную деревянною, таким образом, чтобы нижние шпунтовые ряды могли быть употреблены впоследствии основанием для набережной гранитной. Но и этот проект, дополненный и исправленный, вместе со сметою в сумме 111.715 р. оставался без приведения его в исполнение. Но наконец в 1871 году для окончательной разработки этого вопроса была образована по Высочайшему повелению комиссия при министерстве внутренних дел под председательством г. товарища министра внутренних дел князя Лобанова-Ростовского, из членов: директора хозяйственного департамента министерства внутренних дел Шумахера, председателя технического строительного комитета министерства внутренних дел Марченко? исполняющего должность с.-петербургского губернатора тайного советника Лутковского, председателя городской хозяйственно-строительной комиссии генерал-майора Жербина и инженер-генерал-майора Домонтовича. Комиссия эта выработала следующие интересные положения:
1. Так называемый Адмиралтейский канал, огибающий здания старого Адмиралтейства, уничтожить и засыпать его землею.
2. Все строения внутри двора уничтожить и перестроить выступающие части ретирады, галлерей и проч. с приданием зданию более благообразного вида. На эти работы морское министерство исчислило сумму до 195.000 р.
3. Образующийся внутри Адмиралтейства участок земли разделить таким образом, чтобы одна часть отошла под дворы здания Адмиралтейства, а другая была отдана городу для застройки их обывательскими домами. Участок этот будет заключать в себе
3.024 кв. саж. и разобьется в свою очередь на 7 отдельных участков.
4. Для оживления местности этой, кроме гранитной набережной с бульваром, открыть проезд в главные ворота Адмиралтейства и, кроме того, устроить сзади улицу с выездами из нее на набережную. Работы эти исчисляются на сумму около 300.000 р.
5. Участки эти передать городу для продажи обывателям с тем, что если за покрытием всех работ останется излишек, то обратить его на устройство скверов на Адмиралтейской и Петровских площадях, на которое думою уже ассигновано 40.000 р.
«Нельзя не порадоваться, — говорила редакция специального архитектурного (подчеркиваем это обстоятельство) журнала,—прекрасным результатам, выработанным комиссиею, тем более, что в самом непродолжительном времени эти предположения могут осуществиться, и проект, наконец, перейдет в действительность. Мы слышали, что к работам набережной предполагают приступить непременно в нынешнем еще году. Устройство набережной крайне необходимо для удобства сообщения, место застроится, вероятно, прекрасными домами взамен ныне существующих безобразных сараев, и Петербург, с прекрасною Невою, значительно выиграет в отношении красоты».
Итак, мы видим, что в то время, когда устраивалась Адмиралтейская набережная, никто даже среди архитекторов не протестовал против застройки ее частными домами — за несколько последних лет взгляд изменился, застройка признается одним из самых ярких проявлений нашего архитектурного вандализма, один момент в начале революции, когда мы были слишком идеалистичны, был проект уничтожить эти постройки, разбив вместо них газон и освободив таким образом задний фас Адмиралтейства, конечно, несколько упорядочив его... Как видим, за 50 лет взгляд на архитектурный вандализм резко изменился.
7 февраля 1873 года состоялось в городской думе состязание на сооружение гранитной набережной в доме главного Адмиралтейства. Сооружение это сдано за 365 т. р. русскому строительному обществу, оно должно быть окончено к 1 ноября 1874 года; 14 августа 1873 года была произведена после подготовительных работ торжественная закладка набережной, а 21 ноября 1874 года произошло и само открытие Адмиралтейской набережной[142].
Между тем были разбиты участки, назначались торги, но продажа шла туго, и только в 1880 году стал застраиваться один из участков, принадлежащий маркизу Паулучи, впоследствии дворец великого князя Михаила Михаиловича. Проект этого дома, в виду важности этого места, был представлен на высочайшее благоусмотрение, проект был составлен в модном тогда стиле рококо, вернее сказать, не в стиле, а в бесстилье — трудно себе представить большее безвкусие, аляповатость и мещанство, чем этот дом, но император Александр II соизволил, как тогда говорилось, собственноручно начертать[143]: «Согласен и могу указать, как на пример хорошего вкуса». Отсутствие художественного чутья — эта специфическая черта всех Романовых, начиная с Александра I, проявилась и в этом отзыве.
Понятно, что после такого благосклонного царского позволения, Адмиралтейская набережная быстро застроилась подобными же безвкусными строениями, которые можно видеть и по сей день, но верх безобразия был допущен постройкою театра Панаева, о которой писали в марте 1887 года[144]: «Постройка Панаевского театра на Ново-Адмиралтейской набережной почти окончена, и весною будет приступлено к внутренней отделке», и, конечно, хотя пожар и бедствие, но иногда можно поблагодарить и за посетившее нас бедствие: пожар во время последней войны истребил этот памятник отсутствия какого-либо признака архитектуры.
С открытием Александровского сада и Адмиралтейской набережной местность около Адмиралтейства приняла современный вид — этот вид, как можно заключить из выше приведенных хронологических дат, эта часть Петербурга сохраняет уже полвека.
Теперь перейдем к выяснению, как появилась и как видоизменилась граница этой площади, в настоящее время известной под наименованием проспект Рошаля, а в былые дни, как мы уже указали вскользь, имевшая довольно длинное название Большая Луговая улица. Для выяснения этого вопроса нам придется подвергнуть довольно подробному анализу выкопировку из составленного нами же исторического плана С.-Петербурга—этот план заключает в себе данные с 1703 года по 1725 год, т.-е. по год смерти Петра Великого. Прежде всего разъясним нумерацию этого плана:
1. 1. 1. — валы главного Адмиралтейства;
2 — канатный сарай;
3 — участок графа Апраксина;
4 — участок Кикина;
5 — Петровское кружало — первый кабак;
6.6 — дровяные и сенные ряды;
7.7 — морской рынок;
8.8 — частные домовые участки;
9 — Чернышев переулок, приблизительно на месте нынешнего проезда к Певческому мосту;
10 — дом Неймана;
11 — большая першпектива, нынешний проспект 25 Октября;
12 — Мытный двор;
13 и 14 — участки домовые по правой стороне нынешнего
Кирпичного переулка;
15 — нынешняя улица Герцена, бывшая Большая Морская;
16 — мясной ряд;
17 — рыбный ряд;
18 — нынешний Кирпичный переулок;
19 — нынешний Народный, а раньше Полицейский, и еще ранее Зеленый мост.
Если обратиться к коренному петроградцу с вопросом, знает ли он перекресток былых Невского проспекта и Большой Морской, то петроградец обидится — как ему не знать тот перекресток, на котором он бывает чуть ли не каждый день! Но уже одна только что представленная выкопировка из исторического плана говорит ясно петербуржцу, что ему незачем обижаться, что этот замечательный перекресток Петербурга с его интереснейшею историею неизвестен большинству петроградцев. Мы и позволяем себе восстановить историю этого места чуть ли не с самых первых дней его существования.
Река Мойка у финнов звалась речкою Мьею. Таких речек в старой Ингерманландии очень много, так как слово «мья»—обычное местное названые небольших речек. Русский человек, услыхав чуждое себе название «Мья», неизменно переделывал его в Мойку— очевидно, здесь играл роль закон ассимиляции. Правда, делались попытки объяснить происхождение этого названия и иным образом,
но эти попытки приходится прознать неудачными. Так говорили, что Мья была небольшим, болотным ручейком, с грязною, вонючею водою, когда же в 1711 году произошло соединение Мьи с Фонтанкою, то вода в Мье прочистилась, можно было этою водою уже мыться — отсюда и новое название реки — Мойка[145]. Но на проверку выходит, что название «Мойка» появилось задолго до 1711 года, когда произошло соединение Мойки с Фонтанкою. Затем указывали, будто бы Петром Великим были построены где-то на берегу Мьи общественные бани с воспрещением обывателям строить бани у себя на дворах[146] — таким образом приходилось ходить мыться в бани на Мью, которая и превратилась в Мойку. И здесь правда смешана с небылицею. Запрещение устраивать бани при домах было, действительно, сделано Петром Великим, но гораздо позже, а первые бани в Петербурге на Адмиралтейской стороне были заложены вовсе не у Мойки, а недалеко от Адмиралтейства, около нынешнего Крюкова канала. Таким образом приходится принять единственно возможное объяснение происхождения этого названия звуковым сходством.
Начало застроения берегов реки Мойки произошло совершенно случайно, как случайно происходила вообще и вся первоначальная застройка Петербурга. С заложением Адмиралтейства необходимо было построить помещения для морских офицеров и для мастеровых. И вот Яковлев, один из наблюдателей за постройками в Петербурге, доносит Меньшикову от 26 августа 1705 года[147], что «г. вице-адмиралу (т.-е. Крейсу) дом по его чертежу достраивают, также мастерам и прочим ремесленным людям избы и канатный двор и прочие нужнейшие хоромы строятся и у вице-адмирала заложено 25 избы» (курсив наш). Весьма понятно, что вице-адмирал Крейс или, по написанию того времени, Крюйс обиделся, что заняли отведенный ему участок другими постройками и так как Крюйс отличался упорным и настойчивым характером, то он добился переноса этих 23 офицерских изб с своего двора. При переносе этих изб прежде всего надо было отыскать для них место как можно ближе к первоначальному — такое место и представляли берега маленького болотного ручейка Мойки, и 5 июля 1706 года тот же самый Яковлев издает распоряжение: «морского Флота офицерам дома переносить к маленькой речке и ставить в линию»[148].
Таким образом получилась линия набережных домов по Мойке, левая сторона нами уже упоминаемой Большой Луговой улицы, теперь это дома бывшего государственного архива, дом, бывший Аракчеева, генерального штаба, министерства иностранных дел и ряд частных домов на Мойке от последнего здания, т.-е. министерства иностранных дел до Невского проспекта. Эта линия таким образом стала образовываться с 1706 года. Заботы же об устройстве набережной Мойки начались лишь с 1715 года, и здесь проявилась обычная сторона петровских распоряжений: 20 мая 1715 года[149] было дано Петром приказание бить в берега речки Мьи или «маленькой» сваи, а 12 октября того же года[150] следует новое распоряжение Петра: «по малой речке погодить в берега бить сваи». Ждали до 11 ноября 1717 года[151], когда появилось одно из интереснейших гуманных распоряжений Петра по постройке Петербурга. Известно, что в своих распоряжениях по устройству «парадиза» Петр вовсе не считался ни с правами ни с удобствами отдельных обывателей — все и всё должны были быть принесены в жертву основной идее постройки столицы. И вдруг мы наталкиваемся на такую меру: издавая приказание о битье свай по берегу Мьи, Петр Великий в собственноручной резолюции писал: «А так как бедные люди не могут от себя бить свай, то учинить особый сбор с жителей (кроме бедных) внутри Адмиралтейского острова по препорции поперешника дворов их и на тот сбор побить сваи перед бедными людьми наемными работниками». Если бедным и делались послабления при постройках в Петербурге, то эти послабления заключались лишь в том, что бедные обязаны были строить дома попроще, вместо черепиц могли крыть дерном и т. п., но все это они должны были делать сами, без государственной помощи, единственный (как нам кажется) пример которой мы нашли в вышеприведенном распоряжении. Устройство первоначальной набережной длилось в течение 1717 —1718 годов[152], и сейчас же после этого устройства, 8 января 1719 года[153], велено было строить по берегам реки Мьи «деревянное строение по показанным вехам», но едва ли приступили к перестройке уже выстроенных домов,— дело, видимо, было проще: вехи поставили, указ написали, а на самом деле все оставалось так, как и было.
Петровская набережная реки Мьи просуществовала до 1736 года, когда 18 сентября[154] появился указ императрицы Анны Иоанновны «об образовании набережной реки Мойки», и, как говорит первый историк Петербурга, Богданов — «оная река вся вычищена до настоящей глубины и сваями обита наподобие канала, в которой ныне вода течение свое имеет преизрядное, видом ясная и чистая, по вкушению преизрядная так, как настоящая невская вода, глубиною довольная, так что ныне по ней всякие суда с великим грузом ходят свободно и сию речку более может ныне всяк почесть за нарочно сделанный канал»[155].
Первый мост на Мье или Мойке, ныне известный под именем Народного, появился в 1720 году и строился, как подъемный мост[156]. Императрице Анне Иоанновне, как мы уже указали, принадлежала забота о реке Мойке, эта же императрица обратила внимание и на Полицейский мост. Недалеко от него, приблизительно на нынешнем перекрестке Невского проспекта и Морской улицы, были воздвигнуты торжественные, триумфальные ворота для въезда императрицы в С.-Петербург (первые такие ворота стояли у Аничкова моста). Чтобы попасть ко вторым воротам, нужно было переехать через старый Петровский подъемный мост— впечатление от торжественных триумфальных ворот умалялось, и 13 марта 1735 года[157] последовал указ «о перестройке Зеленого моста через реку Мью у каменного мытного двора». Мост велено было выкрасить зеленым цветом, поставить на нем какие-то аллегорические фигуры и фигуры эти вызолотить. От своей окраски мост и получил название Зеленый. В 1777 году[158] мы впервые сталкиваемся с названием этого моста — «Полицейский»; это второе название моста произошло, по всей вероятности, от того, что около этого времени на месте бывшего дома купца Елисеева был выстроен дом обер-полицмейстером Н. И. Чичериным. Но возможно, что на это второе название повлияла и близость к этому мосту «главной полицмейстерской канцелярии», которая помещалась за зданием голландской церкви по берегу Мойки в направлении к Конюшенному мосту. Однако, первое объяснение нам кажется более правдоподобным и вот почему. Полицмейстерская канцелярия была устроена на указанном месте чуть ли не с первого дня своего существования, между тем мост звался по своему цвету Зеленым, но как только появился дом обер-полицмейстера, мост начинают звать «Полицейским». Это второе название обыкновенно пояснялось старым, т.-е. говорили и писали «у Полицейского или Зеленого моста». В течение XVIII века этот мост неоднократно перестраивался[159], ремонтировался, пока наконец в 1865 году[160] не был заменен чугунным мостом. Проект этого чугунного моста был составлен архитектором Гесте, и постройка обошлась в 46.538 р. 27 к., причем все части моста были сделаны на российских заводах. В 1842 году[161] в Полицейском мосту было сделано некоторое изменение: «забором обнесли проход для пешеходов по левой стороне Полицейского моста, — читаем мы в современных известиях, — здесь устраивают вдоль всего мосту род балконов, отчего расширится панель для пешеходов, которые должны были с широкого тротуара Невского проспекта подниматься на мост по узкому проходу, стесненному с обеих сторон перилами. Теперь пространство между перилами будет так же широко, как новый тротуар, и зимнее гулянье продолжится за Полицейский мост до угла Адмиралтейской площади». Через два года, в 1844 году, Полицейский мост избрали местом пробного мощения улиц асфальтом, и Фаддей Булгарин в своей «Северной Пчеле» восклицал[162]: «Каждый день я восхищаюсь пробным мощением асфальтом на гребне Полицейского моста. Асфальт, вылитый в кубические формы, выдерживает самую жестокую пробу, потому что едва ли бывает где более езды, как по Полицейскому мосту».
Этот мост был свидетелем большой катастрофы, происшедшей 8 сентября 1859 года[163]. По случаю приезда принцессы Дагмары, невесты наследника престола, будущего императора Александра III, была устроена иллюминация, и весь Петербург высыпал на Невский. Особенно стечение народа было на Полицейском мосту, и решетка не выдержала, обрушилась, и масса народа полетела в Мойку; кажется, почти всех удалось вытащить, по крайней мере в официальных известиях подтверждалось, что все обстояло благополучно. Наконец отметим, как курьез, что в 1870 году в городской думе рассматривался проект купца Германа Молво[164]. Этот русский иностранец предлагал за свой счет перестроить и расширить Полицейский мост с устройством по обе стороны моста теплых павильонов для торговых помещений и теплых ватерклозетов. Конечно, дума не согласилась на такую утилизацию Полицейского моста.
Полицейский мост был устроен через Мойку по направлению Невского проспекта — этой улицы Веротерпимости, главной артерии столицы. О Невском проспекте до сих пор в широкой публике существуют самые превратные понятия, и поэтому мы считаем вполне уместным дать здесь справку о Невском проспекте, предупреждая, что это будет простая справка, конечно, нисколько не похожая на тот «Невский проспект», который был издан к 200-летию Петербурга.
Если Дюма, увидав на Невском проспекте, который в его время был, действительно, главной улицею столицы, подряд четыре иноверческие церкви: голландскую, лютеранскую, католическую и армянскую и вспомнив, что в его прекрасной Франции, даже в свободолюбивом Париже, чуть ли не до самого последнего времени для инославных церквей место отводили на задворках, мог изумиться «веротерпимости» русских и назвать Невский улицею Веротерпимости — ошибка француза, приехавшего на короткий срок в чуждый ему город, понятна. Конечно, места для инославных церквей отводились на Невском проспекте вовсе не потому, что русские были веротерпимы, а только потому, что Невский проспект даже не считался улицею, он был всего-навсего проезжей дорогой. Адмиралтейская сторона, местность, расположенная у Адмиралтейства, в настоящее время считается центром города. Но ведь при Петре центр города сперва был на Петербургской стороне, на Троицкой площади, а потом должен был строиться на Васильевском острове, который предполагался для города. У Адмиралтейства должны были быть одни морские слободки, чтобы в них селились люди, так или иначе привязанные к Адмиралтейству. И Невская перспектива была всего-навсего большая дорога, соедняющая Адмиралтейство со старой Новгородской дорогой.
Надо помнить, что старая дорога из Новгорода в Ниеншанц (нынешняя Охта) — единственный путь сообщения через эту болотистую местность возникающего Петербурга с отходящей на второй план Москвою — шла по краю Московской и Литейной частей, приблизительно там, где теперь упразднен сравнительно недавно устроенный бульвар над заключенным в трубу Лиговским каналом. Эта старая тропа, в нынешней Кирочной улице, делилась на три тропы: крайняя шла к Спасскому посаду, помещавшемуся приблизительно у Смольного монастыря; здесь и был перевоз через Неву в Ниеншанц; вторая — средняя — направлялась к небольшой финской деревушке Северина мыза, располагавшейся на месте въезда на нынешний Литейный мост; последняя тропа — западная — вела к Фонтанке, на место нынешнего Инженерного замка, здесь была мыза шведского помещика майора Конау[165].
Эти дороги, или, вернее, тропы, в наиболее топких местах замощенные бревнами из срубленных здесь же сосен или елей, вполне удовлетворяли немногочисленных обывателей данной местности. Но с началом постройки Адмиралтейства пользование западной тропою стало затруднительным для перевозки больших грузов, большого количества материала, потребного для Адмиралтейства — уж слишком велик был круг: от мызы Конау (нынешний Инженерный замок) приходилось подниматься к Неве и здесь берегом тащиться до Адмиралтейства.
Конечно, стали искать более короткого прямого пути. А так как надо было переправляться через Фонтанку, тогда безыменный Ерик, то прежде всего нужно было найти удобное место переезда: довольно широкая Фонтанка не только заметно суживалась на месте пересечения с нынешним Невским проспектом, но от правого берега ее выходила далеко в ширину реки значительная отмель, которая в виде длинной косы простиралась приблизительно до нынешнего Чернышева переулка. Было еще более узкое место приблизительно там, где теперь Обуховский мост, но, во-первых, это место было дальше от старой Новгородской дороги, а, во-вторых, между безыменным Ериком и речкою Кривуши шли еще незасыпанные болота; в первом же месте, там, где теперь Аничков мост, этих болот не приходилось переходить, так как они не доходили до этого моста.
Таким образом вполне ясно, что направление Невского проспекта от Адмиралтейства до Знаменской площади вполне объяснимо местными топографическими условиями. И этот проспект или эта «большая першпективная дорога» была выполнена руками шведов в 1710 году[166], как на это указывают два современника в своих записках. Бассевич писал: «Великолепное предместье Петербурга, названное проспектом, было все вымощено их (шведами) руками, и они до самого нейштадтского мира подвергались унизительной обязанности чистить его каждую субботу». К этому добавим указание Берхгольца[167]: «Она (Невская перспектива) проложена только за несколько лет (писано 23 июня 1721 года) и исключительно руками пленных шведов».
Незадолго до войны мы проявляли большой «патриотизм» во всех подходящих и неподходящих местах; конечно, этот патриотизм приходилось ставить в кавычки. И вот профессор духовной академии С. Г. Рункевич поместил статью «Двухстолетний юбилей Невского проспекта 1712—1912 г.г.»[168]. В этой статье, пользуясь архивными данными Александро-Невской лавры, С. Г. Рункевич решил опровергнуть общераспространенное мнение о постройке Невского проспекта руками шведов и указать, что «подлинные исторические данные оказываются более благоприятными для национального чувства». По мнению г. Рункевича, Невский проспект — работа русских людей, монахов Александро-«Невского монастыря». В своей работе г. патриот доказывал, что «прямой, решительный и невыносивший медлительности характер первого Александро-Невского архимандрита и вызвал при самом начале строения монастыря проложение прямой дороги в город вместо бывшей на берегу Невы». Таким образом, г. Рункевич полагал, что Невский проспект был проложен для соединения монастыря кратчайшею дорогою с городом. Но, как мы выше показали, что центр города был вовсе не у Адмиралтейства и, соединяя Александро-Невский монастырь с Адмиралтейством, архимандрит монастыря вовсе не прокладывал кратчайшей дороги в город — ближайшей дорогою была дорога по нынешней Шпалерной к Гагаринскому перевозу. И, действительно, в XVII в. была перспектива от конца нынешней Шпалерной к Александро-Невскому монастырю. Эта перспектива видна, например, на плане 1738 года; она исчезла, когда в царствование Екатерины II стали планировать Рождественские слободки, нынешние Пески.
Вот первая и главная ошибка г-на Рункевича. Затем г-н Рункевич не обратил внимания и на то обстоятельство, что Невский проспект в своем направлении от монастыря к Адмиралтейству вовсе не является прямою линиею, а, наоборот, около нынешней Знаменской площади (Площадь Восстания) делает значительный угол; этот угол дает объяснение многому, перепутанному г. Рункевичем.
Мы показали, что по данным современников Невский проспект в своей части от Знаменской площади до Адмиралтейства появился в 1715 году, а через два года, с тою же Новгородской дорогой, с которой шведы соединили Адмиралтейство, стали соединяться и монахи Александро-Невской лавры; им тоже нужна была удобная дорога, так как в Новгороде жил тогда глава русской церкви. Монахи повели свою дорогу — старый Невский проспект — и вышли под углом к проведенной шведскими руками перспективе.
Но как же быть с указом 2 октября 1718 года, с указом, в котором, по словам г. Рункевича, «имеется категорическое утверждение, что дорога проложена монастырским трудом и иждивением»! К сожалению, приходится дать очень простой совет: при ссылке на документы надо последние внимательно читать. Если бы это было сделано, то г. Рункевич обратил бы внимание и на следующую фразу: «Понеже для прошествия царского величества и его государевой высокой фамилии, так же и для богомольцев и бедных прохожих к монастырю и ради монастырской повседневной потребы по непроходимому на шестьсот сажень болоту (курсив везде, где не оговорено, — наш) проложена и управлена дорога, не занимая большой по берегу реки Невы дороги». Здесь точно указана длина этой дороги — 600 сажен. Если теперь взять циркуль и смерить расстояние от Знаменской площади до Александро-Невской лавры, то окажется, что оно и равно 600 саженям, весь же Невский, как известно, имеет расстояние в 3 версты 50 сажен, т.-е. 1,550 сажен, — треть этой дороги, так называемый старый Невский, и сделали монахи.
Таким образом, не задаваясь «патриотизмом» в кавычках, можно дать вполне понятное и обоснованное разъяснение вопроса о происхождении Невского проспекта.
Затем в своей статье г. Рункевич говорит о юбилее «Невского проспекта». Опять неточность: Невский проспект не носил этого названия со дня своего приложения, он получил это наименование 20 апреля 1738 г. по докладу комиссии от петербургского строения, а до этого времени это была «большая перспективная» или просто «перспективная» дорога. Дорога, подчеркиваем, но не улица, потому что она шла в предместье, или на окраине, а вовсе не в центре города, как теперь.
Вообще на основании немногих сохранившихся данных мы можем нарисовать следующую картину Невского проспекта в эпоху Петра и его ближайших преемников вплоть до Анны Иоанновны. Узенький, небольшой подъемный мост через Фонтанку, направо от него, между нынешними набережной Фонтанки и Караванной улицей, мазанковый или деревянный караульный домик, широкая прямая аллея, обсаженная с двух сторон плохо принявшимися небольшими березками, а за ней параллельно ей тянется, извиваясь по сторонам, проезжая тропа — за проезд по перспективной дороге брался особый сбор, охотников его платить находилось мало, и большинство ездило рядом с этой аллеею; аллея эта почти совершенно не застроена: все пространства между нынешними Фонтанкою и Екатерининским каналом — широкие болота, кое-где даже не расчищенные от леса, а кое-где с маленькими рощицами, главным образом из березы, тщательна оберегаемыми от порубок... Тщетно мы будем искать даже намек на то, что здесь будет когда-нибудь наиболее оживленная часть столицы.
12 декабря 1739 года[169] был сделан всеподданнейший доклад под заглавием: «Об устройстве мест между реками Фонтанкою и Мойкою до Невской перспективы по плану». Из этого доклада в особенности и ряда ему аналогичных мы прежде всего можем познакомиться с теми проектами, которыми хотели урегулировать изучаемую нами местность, а затем, тщательно анализируя эти проекты, сопоставляя их с планами более позднейших годов и с тем, что мы видим в паши дни, мы можем нарисовать до известной степени картину того, что было в действительности в этой местности.
Комиссия петербургского строения прежде всего обратила внимание на местность Фонтанки, где был Аничков мост, и проект комиссии был на только любопытен, но и грандиозен.
«По Невской же перспективе, — писала комиссия, — подле моста, который сделан против оной через Фонтанную речку, едучи к Невскому монастырю, в левой стороне, близ берега той речки Фонтанной, для удовольствия Адмиралтейской, Литейной и Московской, итого трех частей, построить главный Мытный двор».
Обращаем внимание на это милое, старинное выражение: «для удовольствия Адмиралтейской, Литейной и Московской, итого трех частей» — удовольствие здесь понимается в смысле удовлетворения потребностей. Рынки в указанных частях города были на окраине их, обывателям приходилось тратить много времени на покупку провизии, и вот «для удовольствия обывателей» там, где теперь между набережной Фонтанки и Караванной улицей высятся большие дома, — комиссия полагала устроить «главный» (подчеркиваем это слово) Мытный двор. Устройство этого двора описано очень подробно. Главный Мытный двор предполагалось построить «каменной», в котором амбары и лавки сделать со сводами, а гзымзы (карниз) каменные и у тех амбаров и лавок двери и у окои ставни железные и перед лавками галлерею же каменную, которую мостить камнем или же на ребро кирпичом, а кровлю крыть на деревянных стропилах черепицею или железом». К сожалению, не сохранилось рисунка проекта этого каменного Мытного двора, но если вспомнить уже уничтоженный Гостиный двор на Васильевском острове, существующий еще Мытный двор на Песках, припомнить характерную деталь аннинских построек — рустик — то, обладая некоторым воображением, можно представить себе, что изображала бы из себя местность Невского проспекта у Аничкова моста.
Аннинская комиссия построения Петербурга, обладая безусловно большим творческим размахом, в то же время отличалась изумительною любовью к деталям: кажется, ничего не пропускала эта комиссия, она учитывала самое незначительное местное явление, она принимала во внимание всякую особенность и, кроме того, проявляла заботу не только о сегодняшнем дне, нет, ее проекты таковы, что должны были удовлетворить потребности обывателей на много, много лет вперед. Быть может, это происходило от того, что в комиссии вместе с рассудительным немцем фон-Зиггеймом заседали рядом два славянина: архитектор Еропкин, побывавший в Италии и прочувствовавший красоту итальянского гения, и русский самородок Земцов, ездивший только в Стокгольм, чтобы вывезти оттуда мастеровых людей и нашедший в самом себе и в условиях своей родины достаточно материала для творческой деятельности. Все эти особенности Аннинской комиссии ярко отразились в разбираемом нами проекте Мытного двора: «И понеже то место, — писала комиссия, — где этот Мытный двор построить рассуждено, весьма низкое (вот и еще любопытная деталь топографии изучаемой нами местности), а для большой воды надлежит в лавках и амбарах делать полы выше той воды на 2 или 3 фута и для того под теми лавками каменный фундамент будет не малою вышиною; того ради, дабы тот фундамент втуне не остался (какую предусмотрительность высказывает комиссия, как заботится она о казенных суммах!) под те лавки и амбары сделать для поклажи масла и соли и тому подобных товаров погреба со сводами же, с которых равно как и с лавок будет казенный сбор». Но этот проект, по своей грандиозности, особенно принимая во внимание, что он составлялся 180 лет тому назад, не удовлетворил комиссию, и она вносит в него последний штрих, дающий картине и смысл и жизнь.
«А напротив того Мытного двора от Фонтанной речки и для удобного приставания судов сделать гавань, длиннику по речке 60, а поперечнику 30 сажен (т.-е. квадратной площадью, поясним от себя, в 3/4 десятины) и от той гавани вверху по оной фонтанной речке до моста, что против церкви святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, ту речку вычистить и вынятою землею около того Мытного двора низшие места повысить, а у объявленной гавани, тако ж и берега в тех местах, где означенная выметка будет, укрепить таким образом, как в Мойке речке берега ж укрепить велено».
По Ладожской системе хлеб, припасы, товары на барках спустятся по Неве до Фонтанки, но которой пройдут к новоустроенной гавани, пристанут вплотную к Мытному двору, куда их и выгрузят без особого труда, а в то же время обыватель на шлюпках и баркасах, по той же самой Фонтанке, из Литейной и Московской части, въедет в ту же гавань, закупит нужный себе провиант, сложит его в свои лодки и так же легко и удобно доставит домой.
Что за идиллия рисовалась нашим предкам! Как им хотелось все же осуществить неосуществленный проект Петра Великого об устройстве из Петербурга, если не Венеции, то Амстердама с их каналами! Правда, при этом не принималось во внимание маленькое обстоятельство: продолжительная зима, не позволявшая обывателям чуть ли не 2/з года пользоваться водным сообщением, но стоит ли обращать внимание на такую мелочь — проект так красив по своему замыслу!
Наконец, комиссия петербургского строения предлагала: «Близ того Мытного двора с двух сторон пустить площадь и от оной площади до моста, который у выше описанной церкви (т.-е. до нынешнего Симеоновского моста) сделать дорогу по берегу реки Фонтанки шириною на 7 сажен и ту площадь и объявленную дорогу вымостить камнем». Анна Иоанновна, аппробовав устройство главного Мытого двора, к постройке которого, впрочем, не приступили, изменила вполне дальнейшие предначертания комиссии, причем с своей стороны предложила к выполнению проект едва ли не еще более грандиозный. Устроив Мытный двор и площадь, комиссия предполагала следующим образом урегулировать левую сторону Невского проспекта от Аничкова моста до нынешнего Екатерининского канала: «Место вдоль по Невской проспективной улице между оною и вашего императорского величества садом, порожние все места раздать под строение обывательских домов, на которых можно быть двум линиям и из оных построить в первой линии, что на проспективой, подземные каменные без погребов (подземные здесь употребляется, конечно, не в смысле «под землею», а указывается лишь на то, что первый этаж начинается сразу над фундаментом) и крыть черепицею, а внутри тех дворов службы, отступя от каменных палат 5 сажен деревянные; а ежели в тех местах, кто пожелает строить в одно или в два жилья (т.-е. двухъэтажные) на погребах и на дворах делать службы каменные ж и в том позволить, точию (только) принуждения к тому не чинить, а между теми дворами к улице делать ограды, також у ворот вереи каменные ж, а ежели кто желает, вместо каменной ограды делать железную решетку и в том же дать позволение; а позади тех каменных домов с другой линии, лицом к саду вашего императорского величества строить дере вянные дома и перед теми домами пустить улицу ж шириною 8 сажень, которую вымостить камнем же, а под те каменные и деревянные дома отвести места длиннику по 40 сажень, поперечнику по 15 сажень и оные раздать под строение всякого чина желающим людям».
Из этого проекта комиссии петербургского строения видно, что до 1739 года если и существовала застройка Невского проспекта, то в самом начатке, а нынешней Итальянской улицы до 1739 года не существовало, и ее только проектировала провести эта комиссия. Но Анна Иоанновна не удовлетворилась таким проектом комиссии. «Позади нашего третьего огорода (остатки его — нынешний сад музея русского искусства), — гласила собственноручная резолюция императрицы, — к проспектпве, которая идет от погребов, подле слонового двора (нынешняя Караванная улица) на порожнем месте сделать ягд-гартен, для гоньбы и стреляния оленей, кабанов и зайцев, и для того оное место изравнять и насадить деревьев, оставя проспективы так, как на плане изображено, и в середине сделать галлерею деревянную на каменном фундаменте, а против дорог каменные стенки, а в место того под огородные овощи для поварни нашей учредить гряды в том огороде, который за улицею против Итальянского дома и сверьх того выбрать и определить еще пристойных довольных мест для кореньев и трав, потребных в нашей поварне, дабы впредь оная удовольствована могла быть из наших огородов всем тем, чем возможно обойтись без купли и продажи».
Чтобы понять это странное на наш современный взгляд желание Анны Иоанновны сделать около своего Летнего дворца (ныне Инженерный замок) зверинец для охот, достаточно вспомнить хотя бы записки Манштейна[170]. Этот последний в своих записках пишет: «Получила Анна Иоанновна охоту к стрелянию из ружей и толикое искусство приобрела в оном, что не токмо метко попадала в цель, но наравне с лучшими стрелками убивала птиц на лету. Сею забавою вовсе не приличною женскому полу дольше и почти до кончины своей занималась. Во дворце, находившемся на берегу Невы, всегда в комнатах ее стояли заряженные ружья, из коих стреляла она из окна в мимо летающих птиц». Весьма понятно, что при такой страсти к охоте и стрельбе императрица могла пожелать устроить поближе к дворцу и «ягд-гартен».
Далее Анна Иоанновна внесла и следующую любопытную деталь в вышеприведенный проект комиссии петербургского строения: «Кругом слонового двора и оранжереи також и между оранжерей и погребов мелкое строение урегулировать, а на Фонтанке берег укрепить и обделать сваями и насыпать землею, а против моста, который сделан из старого, в третий огород у погребов под воротами перемычку для проспекта сиять и оные погреба и между ними пруд обделать пристойным украшением, а на конце проспективой, которая идет сквозь оные погреба, сделать ворота с галлереею и с прочим украшением, дабы от хором чрез сады мог виден проспект быти. Назначенные по плану под строение места и улицы аппробуются, также в первой колонне на Невской проспективой места под каменные дома отдавать желающим, а оставшие затем места, кои добровольно застроены не будут, раздавать и тем, которым надлежит каменные дома строить с числа душ, а понеже некоторое каменное строение, по обеим сторонам той проспективой уже застроено на погребах, того ради и все по сей проспективой домы строить на погребах же в один, а кто пожелает и в два апартамента (т.-е. в 2 этажа)».
Соединим проект комиссии и пожелание Анны Иоанновны, предполагая их осуществленными.
На Невском проспекте близ Аничкова моста на высоком фундаменте, с крытою каменной галлерею Мытный двор, пред которым обширная гавань с заездом из Фонтанки. За этим Мытным двором вдоль Невского проспекта вытянулись небольшие двухъэтажные на погребах дома, разделенные друг от друга или каменными заборами, или железными решетками, за которыми зеленеют сады «регулярные». Итальянская улица или вторая «Невская колонна», шириною в 8 сажен, тянется от Кривушей к перспективной дороге, которая идет от Летнего дворца к Невскому проспекту по направлению нынешней Караванной улицы, по одной, правой стороне этой второй Невской колонны деревянные домишки прихотливо выглядывают из-за зеленых деревьев, а по левой стороне тянется высокая каменная стена, за которой вплоть до Мойки разбит ягд-гартеи, где резвятся красивые с многоветвистыми рогами олени и откуда изредка доносится злобное хрюкание диких свиней-кабанов, на особых подводах, по почтовому тракту перевезенных издалека во вновь учрежденный ягд-гартен...
Так рисовалось воображению. А на самом деле картина была несколько иная: с Аничкова моста спускались в низкое, топкое место. Невская перспектива представляла из себя нечто вроде сохранившихся кое-где в центральной России так называемых «Екатерининских больших дорог»; по бокам, то приближаясь к ней, то убегая в отдаление (как будет видно дальше), стояли небольшие каменные домики; их было немного менее десяти. За этими домами шло полуосушенное, полувырубленное от леса болото, на котором местами, как бы оазисами, «сплетено было строение одно подле другого», «дома были узки и кривы с деревянным и опасным для жилья строением».
Действительность, как это, положим, и всегда бывает, резко не соответствовала проектам и предположениям, и эти проекты и предположения так и не вошли в жизнь: для осуществления их требовалось много и много денег, а обилием денежной казны никогда не могло похвастаться правительство Анны Иоанновны: в это время нередко жалование придворным чинам выдавалось «сибирскою рухлядью», а почтенные немцы, заседавшие в «Сиянс Академии», получали вместо ассигнаций отпечатанные ими же в академической типографии книги...
Если случайное обстоятельство — пожары 1736 и 1737 годов — дали толчок к первому желанию урегулировать и устроить описываемую нами местность, то не менее случайное обстоятельство заставило от желании перейти к осуществлению их.
«И понеже на оной же Невской проcпективе, — читаем мы в докладе комиссии, — в правой стороне Фонтанной речки имеется двор купца Дмитрия Лукьянова, а под тем двором с порожним местом, что за оными к Гостиному двору будет длиннику около двух сот сажен, на котором месте, впредь для лучшего регулярства и вида потребно к оной же проспективной (когда построены будут Гостиный и Мытный двор, каменные, також на погорелых и прочих местах, меж Невы и Мойки и на оной же проспективной назначенные по плану места все застроены будут обывательским каменным строением) построить против вышеписанного, каменные ж домы и для постройки тех каменных домов оному Лукьянову то свое дворовое место тогда желающим людям по оценке отдавать или оные места застроить ему Лукьянову самому».
Так рассуждала комиссия петербургского строения. На дворе Лукьянова ближе к Фонтанке, как видно из плана 1738 года, помещался полковой Преображенского полка двор и квартировала гренадерская рота. Наступила ночь на 25 ноября 1741 года. Принцесса Елизавета Петровна в сопровождении Шварца, Воронцова и Лестока, с 7-ью гренадерами, в час пополуночи, села в сани и из своего дома, находившегося на Красном канале (бывший служебный дом дворца принца Ольденбургского на Царицыном лугу в линии с Павловскими казармами), отправилась на полковой Преображенский двор.
Произошел еще очередной государственный переворот — Анна Леопольдовна с своим супругом и детьми отправилась в Холмогоры, куда был отвезен и самодержавный российский император Иоанн Антонович, впоследствии попавший в Шлиссельбург, а на престол взошла желанная Елизавета Петровна, законная дочь Великого Петра. В память о тревожной ночи 25 ноября 1741 года императрица Елизавета Петровна решилась на месте бывшего полкового двора Преображенского полка выстроить новый дворец, который получил наименование Аничков дворец. Хотя официально дворец этот строился для императрицы, но ни для кого нс было секретом, что в нем будет жить царский любимец тайный супруг императрицы, недавно еще бывший певчий, а теперь граф Римския и Российский Империи обер-егермейстер Алексей Григорьевич Разумовский. Почти одновременно, но скорее граф Растрелли на месте нынешнего Инженерного замка воздвиг роскошный Летний дворец. Эти две громадные постройки, весьма понятно, придавали совсем иной характер той местности, которая всего два-три года тому назад представляла собою «место низкое и топкое» и где мечтали разбить «ягд-гартен». Оставить эту местность в ее первоначальном виде, конечно, нельзя было, и начинается целый ряд указов императрицы Елизаветы Петровны об урегулировании Невского проспекта. Очевидно, в один из своих проездов на постройку Аничкова дворца, а, может быть, даже идя пешком из Летнего сада — Елизавета Петровна, очень часто ходила пешком — императрица поразилась странным видом березок, рассаженных по Невскому проспекту: березки эти были разукрашены различными хозяйственными принадлежностями соседних домохозяев: сушилось белье, висела зимняя одежда, проветриваясь и приготовляясь к укладке в сундуки впредь до морозов, а кое-где на ветвях была натыкана и посуда: горшки да кувшины для молока. И появился грозный указ императрицы «о запрещении с.-петербургским жителям развешивать что-либо па березках на Невской перспективе»[171]. Выше мы указывали, что немногочисленные постройки Невского проспекта ютились в беспорядке по сторонам его. Действительно, начиная с 10 мая 1745 года[172] появляется ряд указов, стремившихся урегулировать эти постройки, вытянуть их в линию но Невской перспективе. Эти указы завершаются повелением «о постройке и переносе до 1 мая 1747 года в С.-Петербурге но Невской перспективе всех обывательских домов, выстроенных не по утвержденным планам поблизости к улице». 1 мая 1747 года должно было быть последним сроком переноски домов. Трудно думать, что действительно к этому времени совершилась переноска, можно полагать, что линия нынешних домов на Невском проспекте определилась приблизительно к началу 50-х годов. Читателю, по всей вероятности знакома картина художника Владимирова «Невский проспект времен Петра Великого», считаем нужным оговориться, что костюмы на рисунке, действительно, Петровской эпохи, вся же обстановка картины гораздо более поздних времен, как это и можно заключить, сравнивая картину с нашим описанием. Но во всяком случае в картине верно передано общее настроение Невского проспекта XVIII века, вовсе не похожего на Невский проспект более поздних лет...
Уже этими первыми распоряжениями на Невском проспекте воспрещались деревянные постройки, но они, конечно, строились, и понадобилось еще одно воспрещение 23 июня 1765 года[174], которое, положим, также не остановило деревянных построек — они были на Невском проспекте за Аничковым мостом и в Николаевские дни. При императоре Павле Невский проспект подвергся коренной реформе. Вот как о ней сообщал один из современников[175]: «Император Павел Петрович в 1799 году повелел провести по Невскому проспекту большие аллеи: от Полицейского моста до Казанского березовые, а оттуда до Аничкова моста липовые. Это было бы истинным благодеянием городу, но исполнители высочайшей воли слишком поспешили делом: садили деревья зимою в мерзлую почву мерзлыми корнями. Изменницы березки весною зазеленели было, но потом засохли. Липы не давали листу вовсе. В 1802 году эти боковые дорожки были уничтожены, и вместо них проведена широкая липовая аллея среди улицы. Она шла от Полицейского моста до угла Малой Конюшенной улицы, а потом от Казанского до Аничкова моста но возвышенной насыпи. Аллея просторная, обсаженная густыми деревьями, со скамьями по бокам, но промежуток ее у Казанского моста был слишком велик: оттого состояла она из двух отдельных частей неравной длины и не могла сделаться всенародным гульбищем». Затем в тридцатых годах этот бульвар, построенный посреди улицы, был уничтожен и вновь посажены липы по бокам улицы только в один ряд, на краю тротуара, но и эти аллеи существовали недолго. От езды экипажей земля дрожит беспрерывно и не позволяет корням приниматься (так рассуждали в то время). Редкая липа уцелела. Наконец, принужденными нашлись снять их, а на Невском проспекте остался прекрасный, широкий, ровный тротуар, служащий и без зелени приятным гульбищем, особенно в начале весны, когда зелени нет еще нигде».
К этим воспоминаниям современника, как вообще ко всем подобным воспоминаниям, необходимо ввести ряд поправок, ряд коррективов. Память современника—очень ненадежный исторический документ: события принимают слишком субъективный характер.
19 февраля 1800 года[176] (таким образом видим, что первая поправка относится уже к первым строчкам воспоминания — не в 1799 году, а в 1800 году) состоялось высочайшее повеление о насаждении по Невскому проспекту березок: «Великий Петр обсадил свою Невскую перспективу березами, Великий Павел восстановил Петровское величие Невского проспекта» — так комментировалось Павловское распоряжение. 2 февраля 1800 года[177] были спешные торги на посадку, — вызывались «желающие Невскую перспективу от Полицейского моста до Лиговского канала по обеим сторонам обсадить в два ряда березками, кои были бы не тонее в окружности 6 вершков, а притом и около них сделать балюстрады», и 2 марта того же года[178] обсадка началась, причем руководить ею должен был наследник престола. Были морозы, и на тех местах, где нужно было копать ямы для деревьев, предварительно разводили костры, чтоб земля оттаяла, но несмотря на все, аллея была устроена и так как Екатерингоф, где происходила обычная встреча петербуржцами «светлого мая», был пожалован указом от 18 апреля 1800 года княгине Гагариной[179], то праздновали 1 мая[180] на вновь устроенной Невской аллее. Весьма естественно, что посаженные при таких условиях березки не принялись, и их 26 июня 1800 года[181] заменили липами. Аллея шла по средине Невского проспекта, и ее переделывали в 1819 году; комитет городских строений вызывал желающих: «на устроение по Невскому проспекту нового из гранитного камня тротуару, переноску и пересадку деревьев к боковым тротуарам, с устроением при сих тротуарах между деревьями плитных площадок и сходов, на сделание чугунных для фонарей канделябров, на замощение вновь и перемостку старой при оных и при среднем тротуарах мостовой». Об этой последней реформе 1819 года довольно подробно повествовал в 1820 году Свиньин в своих «Отечественных Записках»[183]: «В прошедшем мае месяце Невский проспект, как некоим очарованием, принял новый, несравненно лучший вид, явился прекраснейшею в свете улицею, в коей единственно нуждалась великолепная столица для торжественных случаев и выездов». Начало статьи, как видим, весьма торжественное! «Как будто по мановению волшебного жезла исчез высокий бульвар, разделявший его на две ровные половины, уже на месте сем разъезжают экипажи по гладкой мостовой. Справедливость требует однако ж заметить, что если бульвар сей стеснял лучшую в столице улицу, то заключал для пешеходцев и некоторые выгоды, коих не представляют тротуары, сделанные ныне по обеим сторонам улицы. Во-первых, «пешеходец», идя по нем, не был обеспокоиваем встречею с экипажем, коих теперь он должен беречься при всяком переходе мимо ворот под домами, во-вторых, взор его любовался ровно обеими сторонами улицы и наконец с бульваром исчезает любопытная отличительность сей улицы, нередко случавшаяся весною, т.-е., что на одной стороне катались еще в санях, а по другой неслась пыль столбом от карет и дрожек! Но главная цель, для коей, вероятно, он был устроен, чтоб пешеходец во всякое время мог найти здесь приятное и покойное гулянье, оставалась невыполненною: ни весною, ни осенью, когда всего более нужно удобство уклониться от грязи, нельзя было почти ходить по бульвару. В сем отношении нынешние тротуары несравненно превосходнее — быв вымощены плитами, они всегда сухи, далее после самого сильного дождя. Невский проспект имеет в ширину 24 сажени. Длина его от Адмиралтейства до Аничкова моста 1 верста 435 сажей, от Адмиралтейства до Знаменья 2 версты 405 сажен; до Невского монастыря 4 версты 185 сажень, следовательно, он превосходит длиною величайшие лондонские улицы — Оксфордскую и Портландскую, из коих первая около 21/4 верст длиною, а другая с небольшим 21/2 версты. Сверьх того Невский проспект не имеет единообразия сих улиц, утомительного для глаз при самой огромности и великолепии зданий, кои быв почти все одной высоты и одинакового кирпичного цвета, представляют бесконечные казармы. Напротив того, у нас, кроме разнообразия архитектуры и цвета домов, перед многими зданиями на сей улице находятся площадки и уступы, как-то: перед Казанским собором, Католическою церковью, Гостиным двором и дворцом великого князя Николая Павловича. Зелень дерев, коими усажено пространство между Полицейским и Аничковым мостами по обеим сторонам улицы у тротуаров (числом около 500 лип), придает не мало красот сей единственной улице. Сверх того они не будут допускать пыль проникать в дома. 50 фонарей с реверберами (рефлекторами), привешенных на чугунных столбах изящной фигуры — вылитых на заводе г. Кларка, по рисункам инженер-генерал-майора Базен — будут разливать яркий свет на сем пространстве улицы. Каждый из сих столбов имеет 3 сажени в вышину и поставлен на гранитовом пьедестале вышиною около 71/2 аршин. Улица сия украсится еще более, когда на Казанской площади поставится предположенный монумент князю Кутузову Смоленскому и Аничков мост переделается во всю ширину улицы подобно Полицейскому. Желательно также, чтобы г.г. хозяева домов взяли пример с г. Данилова, устроившего дождевые трубки своего дома, что на Садовой улице и на Фонтанке, таким образом, что вода с крышек стекает под тротуары и не обеспокоит нимало гуляющих по ним».
Таким образом посаженные деревья у тротуаров просуществовали до 1841 года, когда они были вырыты и тротуары расширены. Об этой новой реформе Невского проспекта писали такие строчки[184]: «Мы уже говорили, что деревья на Невском проспекте выкопаны. Некоторые бульварные романтики сожалели об этих деревьях, от которых никто между прочим не видел ни тени, ни зелени, потому что они постоянно были покрыты пылью, а теперь, как увидели, для чего сняты эти тощие деревья, все обрадовались. Места, где были деревья, заняты теперь тротуарами, такими широкими, как парижские бульвары. 9 человек могут свободно прогуливаться рядом. Невский проспект чрезвычайно много выиграл от этого»; и далее[185]: «теперь, когда тротуар Невского проспекта сделался вдвое шире, все удивляются, как могло быть здесь прежде зимнее гульбище, когда и ныне бывает иногда тесно от множества гуляющих».
На мостовую Невского проспекта впервые более серьезное внимание было обращено в 1759 году, но «истинные», если так можно выразиться, заботы о мостовой Невского проспекта начались с 1825 года[186]. В этом году среди мостовой Невского проспекта стали прокладывать деревянные колеи так, чтобы колеса экипажей могли по ним катиться, а в 1832 году на Невском появилась и сплошная торцовая мостовая. Когда приступали к этой работе, то писали[187]: «Большим подспорьем для живущих и проезжающих по Невскому проспекту (а кто там на ездит?) будет устроение по оному деревянной мостовой из поставленных торчмя (торцовых) шестиугольников»; а по окончании работ восклицали[188]: «несказанное удобство и для проезжающих и для живущих в этой части города. Желательно, чтобы и другие большие улицы города были вымощены таким образом».
9 декабря 1843 года[189] по Невскому проспекту был пущен первый омнибус, и в этом же году Невский осветился газом[190], который в 1884 году сменился электричеством. Первое распоряжение о постановке фонарей на Невском проспекте относится к 1745 году[191], но число фонарей было очень ограничено, и только 7 июля 1800 года[192] велено было расставить фонари по обеим сторонам улицы.
В 1862 году[193] возник очень интересный проект коллежского регистратора Петра Ивановича Евреинова о разрешении поставить в С.-Петербурге по Невскому проспекту за определенную в пользу города плату «кресла для отдохновения проходящих, по примеру других столиц Европы», но очень скоро полиция изгнала эти кресла, так как находила, что сидящие на Невском проспекте мешают движению публики; а в 1873 году[194] появился другой, тоже неосуществленный проект: «устройство воздушных мостов на Невском проспекте с целью облегчить пешеходам, в особенности в оживленных местах, переход с одной стороны на другую».
В 1832 году Н. В. Гоголь издал свою повесть «Невский проспект», где дал дивное описание этого проспекта. Хороший пример заразителен, и, начиная с этого времени, появляется ряд описаний и в прозе и в стихах. Думаем, что небезынтересно будет привести наиболее характерные из них.
Профессор С.-Петербургского университета Бутырский воспел Невский проспект в 1837 году в таком сонете[195]:
Николаевский классицизм вдохновения заменился в наши дни такими виршами[196]:
В 1838 году[197] Невский проспект сравнивали с форумом: «Где в мире есть другой Невский проспект? Я даже не смею его назвать улицею. Нет, это не улица, а площадь, наш форум, где мы живем и отдыхаем, где обдумываем наши дела, — и отдыхаем от безделья. Это наш портик — левая насолнечная сторона Невского проспекта. Наш городской праздник — зима, а зимою собирается на насолнечной стороне Невского проспекта, как под портиком римляне и афиняне — лучшее общество северной столицы». В 1843 году В. Даль[198] назвал одну из своих повестей «Жизнь человека или прогулка по Невскому проспекту», в 1847 году восклицали[199]: «Теперь наш Невский проспект соединяет все удобства Европы — газовое освещение, усовершенствованные омнибусы, в конце проспекта железная дорога и деревянная мостовая», и как бы в дополнение к этому в 1862 году было написано[200]: «Невский проспект — обширнейшее поле для наблюдений, это постоянная выставка всего, что есть хорошего и дурного в Санкт-Петербурге. Невский проспект сам джентльмен, а потому радушно принимает только джентльменов».
После этой справки, выясняющей историю появления и развития Невского проспекта, можно продолжить наше изучение перекрестка Невский проспект, Мойка и Морская улица.
«И те мастеровые люди, кои ныне приехали, живут у Адмиралтейского двора, скучают, чтоб на сей стороне быть продаже съестным припасом и питье вина и пива, для того, что им па другую сторону переезжать с трудом и от дела не надлежит»[201] — такие бесхитростные строчки написал 26 августа 1705 года, т.-е. на второй год существования нынешнего Петрограда, наблюдавший за работами в Адмиралтействе Яковлев губернатору Меншикову. Смысл этих строчек, таких наивных и трогательных, очень простой: на Адмиралтейском острове, что ныне первая Адмиралтейская часть, нет ни рынка ни кабака; переезжать за съестными припасами и за питьем на другую сторону Невы на нынешнюю Петроградскую сторону, где был и первый рынок и первый кабак — «от дел не надлежит», т.-е. не следует разрешать, так как эти отлучки отзываются на работах, а с этими последними и по царскому приказу и по распоряжениям губернатора Меншикова следует, как можно спешить. Но нет «вина и пива», и «те мастеровые люди скучают» — Яковлев извещает о таком обстоятельстве всесильного и всемогущего Меншикова, который и не замедлил ответом[202]; 22 сентября того же года он приказал: «А на своей стороне вели построить для питейной продажи избу, в которую питье будет отпущаться с кружечного двора».
Таким образом вполне точно устанавливается дата появления первого официального кабака на Адмиралтейском острове. Очевидно, что Яковлев, получив вышеприведенное распоряжение Меншикова, не стал мешкать, тем более, что готовые срубы имелись при Адмиралтействе. Через несколько дней после 22 сентября 1705 года появилась готовая изба, в нее перевезли достаточный запас вина и пива с «кружечного двора», посадили целовальника — и знаменитое «Петровское кружало», выражаясь словами того времени, открыло свои двери для скучающих рабочих людей, для морских служителей и вообще для всякого люда и пригнанного и пришедшего по своей воле в град Петра. Нам удалось установить и точное местоположение этого кружала, которое обозначено на прилагаемом плане под № 5. Установив точно местоположение первого кабака, мы не можем сделать то же самое относительно внешнего вида, так как не сохранилось ни изображения его, ни описания. Мы не знаем, был ли на коньке его крыши прикреплен государственный орел или просто-напросто ветвь елки, была ли на этом кабаке какая-либо вывеска, — вернее всего никаких отличительных внешних признаков не было; это была самая обыкновенная простая изба, крытая, может быть, дранкою или тесом, а не соломою или дерном, чем покрывались, первоначальные дома Санкт-питер-бурха, да стояла эта изба, как говорилось, на яру, т.-е. на открытом месте, чтобы ее издали можно было приметить и направить к ней стопы.
А что кабак был на яру, свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что кабак был замечен и первым автором описания С.-Петербурга и Кронштадта, изданного в 1710—1711 годах. Говоря об Адмиралтействе, этот автор счел нужным подчеркнуть[203]: «а возле — кабак» (кабаками называются царские питейные дома — сделано в скобках пояснение для иностранцев). Как производилась торговля в кабаке, как пили в прежнее время, мы можем судить по сохранившемуся описанию министра-резидента Вебера. Это описание более позднего времени, оно датировано 1716 годом[204] и безусловно несколько утрировано, но за неимением других данных приходится довольствоваться и этим описанием:
«Лето этого года было, — по словам Вебера, — слишком жарким, и очень плохо приходилось от недостатка в напитках, потому что пиво, продающееся в царских пивных лавках, по крепости своей не утоляло жажды, да иностранец не решался брать пиво из этих простонародных кабаков, где стоило только взглянуть на продажу оного, чтоб потерять к нему всякой аппетит. Пиво это стоит там обыкновенно в огромных открытых кадках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом, а чтобы ни проливать ничего даром, выпивает пиво над кадкою, в которую стекает таким образом по бороде то, что не попало в рот. Притом, если у пришедшего выпить не окажется денег, то он оставляет в заклад свои старый тулуп, рубаху, онучи или что другое, без чего может обойтись до вечера, когда получит поденную плату свою и заплатит за свой заклад, и он вешает такой заклад свой тут же, на кадку, которая часто кругом бывает обвешана этими грязными закладами, и никто не брезгает этим, хотя не редко то или другое из этого добра сваливается от тесноты людской в самую кадку и преспокойно плавает там в пиве по несколько часов».
29 октября 1707 года[205] Петр Великий осматривал местность вокруг Адмиралтейства для указания, какие постройки «страха пожарного для», как говорилось в старину, или для предосторожности от пожаров, как выражаются ныне, — нужно сломать; сломать приказано было и кабак, но царское повеление так и осталось неисполненным, и только пожар способствовал его выполнению спустя много лет после смерти великого царя.
По всей вероятности, одновременно с кабаком возник на том месте, где ныне расположен квартал зданий между Морскою улицею, Невским проспектом и дворцовою площадью и первый рынок, названный Морским вследствие своей близости к Адмиралтейству. В 1710 году об этом рынке говорит автор уже не раз упоминаемого нами первого описания Петербурга[206]: «тут же для русских устроен и особый рынок» (на нашем плане №№ 6, 6... и 7. 7). Понятие о том, что представлял этот первый рынок Адмиралтейского острова, можно было получить несколько лет тому назад, если пойти на одну из тех площадей для торговли, которые существовали, например, у Обухова моста: это было собрание шалашей, ларей, раскинутых в беспорядке по грязной, немощенной площади. Весьма понятно, что торговцы однородными предметами группировались и для своего и для покупателей удобства, и это соединение нескольких ларей и шалашей получало гордое название «ряд», появлялись таким образом «мясной ряд», «калашный ряд», «лоскутный», где торговали старою одеждою. Ближе к Адмиралтейству устанавливались возы с сеном и дровами—здесь были сенной и дровяной ряды (№№ 6, 6 на нашем плане). Конечно, место для этого рынка не было отведено — торговцы его захватили самовольно, руководствуясь теми соображениями, что оно, во-первых, лежало около проезжей дороги, а во-вторых, недалеко и от первоначального жилья, расположенного по берегу Мойки. Была сделана еще при Петре Великом попытка урегулировать этот рынок. Именно, 15 ноября 1718 года был издан указ о назначении рынков в С.-Петербурге, наблюдении чистоты торгующими съестными припасами, о ношении торговцами белых мундиров[207], — конечно, этот указ на выполнялся — торговцы не шили себе белые мундиры. Но прямым следствием этого указа было приказание, данное в следующем году архитектору Гербелю[208], — произвести распланирование Морских слободок, большой и малой, и построить по проекту Маторнова Мытный двор на Невском проспекте на углу нынешней улицы Герцена (№ 12 на нашем плане). Сохранилось следующее описание этого Мытного двора[209]; «Гостиный двор каменной, прежде именованный Мытный, на Адмиралтейской стороне, на самом том месте близ Зеленого моста на Мойке, где ныне дом генерал-полицмейстера и кавалера Николая Ивановича Чичерина, наименован Мытным потому, что оный построен был только для продажи съестных припасов, но между тем несколько лавок занято было и с разными товарами, и потом отчасти более стало умножаться в нем купечество с хорошими и богатыми товарами, оный более стал наименовываться Гостиным двором, а не Мытным». Есть и еще одно описание этого Гостиного двора[210]: «В 1719 году близ Зеленого моста на набережной Мойки построены были новые деревянные лавки; строение было довольно обширное, двухъэтажное, в нижнем помещались лавки, а в верхнем жилые покои. Товары складывались без всякой системы».
Первое разноречие этих двух описаний — у Богданова Гостиный двор назван каменным, а во втором описании — деревянным, смягчается тем указанием, что постройка была и не каменная и не деревянная, а мазанковая. Из сохранившегося плана видно, что этот Мытный или Гостиный двор представлял четыреугольное или пятиугольное здание, так как передний фас, обращенный к Мойке, не был параллелен заднему. На переднем фасе, в середине его, было нечто походящее на башню и выступающее за линию фасада; по всей вероятности, эта срединная часть здания предназначалась Петром Великим для помещения магистрата и была украшена или было только намерение и ее украсить любимым Петром Великим «шпицом с часами». Внутри здания был обширный двор. Главная цель этой постройки очевидна: уничтожить Морской рынок и перевести всех торговцев этого последнего в построенный Мытный двор. Но это предположение так и осталось предположением; может быть, торговцы Морского рынка не могли по дороговизне занять новые помещения, а может быть, торговцы галантерейным и другим «хорошим и богатым» товаром, как указывает Богданов, составили торговцам съестными припасами такую конкуренцию, что последние должны были остаться на прежнем месте. По крайней мере в 1734 году[211]«Морской ряд, который был на лугу, против зпмнего дому, был переведен в рощу, на месте нынешнего Государственного Банка, то-есть, где ныне имеется». В следующем 1735 году было дано поручение[212] «главной полицмейстерской канцелярии приискать место для перевода в С.-Петербурге мясного и рыбного ряда с Адмиралтейской стороны за переведенские слободки». Мясной ряд (на плане № 16) существовал приблизительно с 1713 года; по крайней мере 18 сентября этого года[213] «разных городов мясники Максим Евстифеев, Борис Григорьев, Федор Иванов с товарищами били челом великому государю, что они живут в С.-Петербурге и на Адмиралтейской стороне промышшляют — торгуют мясным промыслом, а ныне по его императорского великого государя указу им скотины бить и продавать не велено, а они до того указу купили скотины многое число, одолжаясь великими долгами, которая по покупке и пригнана в Санкт-Петербург из дальних городов и что покупная скотина добрая. здоровая и падежу в той скотине нет и просят, чтоб им поволено было скотину бить и продавать всяких чинов людям попрежнему, дабы им оттого в конец не разориться и государевых податей не отбыть и ту скотину их для верности свидетельствовать, кому великий государь укажет». На это жалобное прошение мясников последовало согласие. Вышеуказанный перевод мясных и рыбных рядов (№ 17 нашего плана) не состоялся, так как они сгорели в пожаре 1735 года; после пожара не последовало разрешения на восстановление этих рядов, затем они были открыты на Сенной. Но торговля рыбою с барок в этой местности продолжалась еще долгое время. Одна из таких барок стояла у Полицмейстерского моста, и в ней продавались в 1788 году живые стерляди, цена которых была следующая[214]: за 8-вершковую стерлядь платили 60 к., 9-вершковую — 90 к., 10-вершковую — 2 рубля, 11-вершковую — 3 рубля, 111/2-вершковую — 4 рубля, 12-вершковую — 7 рублей, 13-вершковую — 10 рублей и аршинную — 35 рублей. Рыбные садки были выведены с Мойки вследствие постановления городской думы от 12 ноября 1865 года[215].
Петр Великий, построив Гостиный двор, перестал обращать на него внимание, но императрица Екатерина I почему-то очень заботилась и о Гостином дворе и о Морском рынке: 4 мая 1725 года[216] поручено было составить сметы на мощеные у Морского рынка на Адмиралтейской стороне, а через неделю. 8 мая, было объявлено полицмейстером Петербурга Девьером высочайшее повеление о мощении местности у рынка на Адмиралтейской стороне между Морскими на Невском проспекте, с назначением в работу каторжных[217]. В конце же 1725 года, 23 октября[218], было отдано приказание об устройстве на Морском рынке двух столбов для публичного наказания, и здесь же был казнен малолетний солдатский сын Аристов за произведенный им поджог.
«Сей Гостиный или Мытный двор, — пишет Богданов[219], — в 1736 году, загоревшись внутри, весь сгорел и от оного пожара развалился, понеже оной строен был весьма стенами тонко, потолки, двери и затворы были деревянные и, не стерпя сильного огня, распался, а напоследки и остатки разобрали».
Место пожарища оставалось незастроенным в течение 19 лет, вплоть до 1755 года, когда здесь, точно волшебством, появился деревянный дворец Елизаветы Петровны. Если бы у нас не сохранилось вполне документальных данных о постройке на Мойке у нынешнего Полицейского моста, на месте пожарища, деревянного зимнего дворца Елизаветы Петровны и об этой постройке свидетельствовали только рассказы современников, то можно было бы усомниться в достоверности этих рассказов, — так постройка была быстра, феерична и неправдоподобна.
В самом деле, 3 февраля 1755 года[220] читаем следующее объявление: «К строению новобудущего на каменном фундаменте деревянного зимнего ее императорского величества дому желающим поставить бревен и досок разных мер, гвоздей железных разных сортов, кирпича, извести, глины, песку, дикого и пудожского камня, тосенской и путиловской плиты и мраморных белых и черных плиток и плиток же арменских, белил, мелу, стекол бемских и зеленых в ящиках, масла постного, замков медных и железных, алебастра белого и серого, ушатов, ведер, шаек, канату и клею не малое число, явиться в канцелярию от строений немедленно».
Из этого объявления ясно, что до 3 февраля 1755 года к работам не приступали, материал еще не был заготовлен, и шла лишь разработка проектов. Очевидно, что после помещения этого объявления должно было пройти несколько дней, пока поставщики явились в контору строений, пока с ними сторговались, пока они начали доставлять материал, следовательно, к самой постройке приступили не ранее средины февраля. Дальнейший ход постройки был следующий: 24 февраля[221] вызывались «в новобудущем деревянном зимнем ее императорского
величества дворце желающим исправить по чертежам столярною работою двери, окна, панели и карнизы, явиться немедленно»; через месяц — 28 марта[222] уже требовалось «поставка холста и хрящу для подбивки потолков в количестве до 30 т. аршин и по цене ниже 19 рублей за тысячу аршин»; 5 мая[223] уже начали «крыть железом кровлю»; 20 июня[224] приступили к устройству иконостасов в церквах дворца, а 5 августа того же года[225] подвозили для штукатурки дворца до 50 тысяч пудов серого рижского алебастра[226] и наконец 5 ноября 1755 года[227] «прошедшего воскресения в 7-ом часу пополудни изволили ее императорское величество всемилостивейшая наша государыня из Летнего дворца перейти в новопостроенный на Невской перспективе деревянной зимний дворец, которой не токмо по внутреннему украшению и числу покоев и зал, коих находится более ста, но и особливо потому достоин удивления, что с начала нынешней весны и так не более, как в б месяцев с фундаментом построен и отделан». Прилагаемый план этого дворца, найденный нами в архиве бывшего министерства двора[227], ясно свидетельствует, что в описании современников не было преувеличения. Дворец, действительно, производил грандиозное впечатление: он тянулся главным своим фасадом по Мойке, занимая все пространство от Невского проспекта до Кирпичного переулка. Главный подъезд дворца выходил на угол Невского проспекта и Мойки. По широкой лестнице поднимались в длинную, состоящую из четырех соединенных зал, «новую галлерею», где происходили приемы, балы и разные дворцовые торжества. Недалеко от входа из второго зала галлереи был вход в тронный зал (на нашем чертеже NB .2 NB), в котором на противоположном входу конце, на особом возвышении, помещался трон. За тронным залом были каменные пристройки (на плане № 3), громадная кухня с многочисленными очагами (на чертеже обозначены буквою а, а). За недолгие 6 лет существования описываемого нами дворца тронный зал подвергался неоднократным исправлениям и улучшениям. Особенно значительный ремонт был сделан в 1757 году, когда в этом зале начались совещания союзников Семилетней войны. На одну позолоту зал по проекту Растрелли было истрачено 3.340 рублей[228]. С левой стороны зала был вход в церковь (на плане № 4), в церковь можно было войти и со двора. Кроме этой церкви, предназначавшейся для официальных богослужений, была еще и другая во внутренних покоях императрицы (№ 5 нашего плана). Эти внутренние покои тянулись но нынешнему Кирпичному переулку, переходя через современную улицу Герцена, которая таким образом не выходила к Невскому, а оканчивалась тупиком. Внутренние покои наследника Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны помещались по правую сторону тронного зала, выходя на современный Невский проспект. От тронного зала эти покои отделялось внутренним двором (на плане буква В), на котором был разбит сад. При покоях императрицы были два таких внутренних дворика (на плане буквы С, С), точно так же превращенные в садики. Наконец, между флигелем с тронной залой и внутренними покоями царицы было вытянуто еще одно здание (на плане В), которое, надо полагать, предназначалось для фрейлин и вообще служебного персонала. К сожалению, не сохранилось данных о внутреннем расположении и убранстве нового деревянного дворца, который современники находили «великолепным», «богатейшим» и т. д. Конечно, эти эпитеты весьма относительные, и то, что казалось великолепным 150 лет тому назад, в настоящее время производит весьма мизерное впечатление. Некоторое представление дают банкетные столы, изображение их осталось до нашего времени. Характерная надпись на одном из этих рисунков — «R» — доказывает, что творцом их был сам знаменитый Растрелли. Эти рисунки, вызывающие в настоящее время недоумение, являются проектами так называемых «фигурных» или «банкетных» столов. Уже по одному тому, что проекты этих столов составлял сам Растрелли, можно видеть, какую важность придавали им в то отдаленное время. «Банкетные» или «фигурные» столы являлись понятием собирательным и представляли нз себя совокупность столов, расставленных в дворцовых залах в торжественные дни, когда ко двору призывалось все высшее общество, все иностранные министры. Столы эти нельзя было расставить просто и так, чтобы за ними было удобно сидеть — об удобствах в то время мало думали, — нет, нужно было выдумать такое расположение столов, которое или являлось известным символом, подчеркивая тем самым значение празднуемого торжества, или же вообще изумляло своею замысловатою фигурою, странностью и изысканностью своих линий. Далее, не надо забывать, что вторая половина XVIII века должна быть названа веком символа, эмблемы. Существовала даже особая наука, которая поясняла и разъясняла эти символы; почти каждая книга сопровождалась особыми «иконологическими» рисунками, причем для среднего, рядового читателя делалось под рисунком соответственное разъяснение — без этих разъяснений многие рисунки были бы для нас совершенно непонятны. Затем, каждая публичная церемония должна была иметь сокровенный смысл: праздновали не только, например, день восшествия на престол той или иной царицы, нет, это событие связывалось с каким-либо другим, в первые года царствования Елизаветы Петровны, например, — с освобождением россиян от немецкого гнета. Это объяснение празднуемого торжества делалось в очень оригинальной — на наш современный взгляд — форме: помощью «иллуминаций» и фейерверков. Иллюминация и фейерверки были вовсе не простою огненною потехою, которая должна была забавить и увеселить взоры зрителей игрой разноцветных огней, блеском разрывающихся ракет, шутих и т. д. Нет, каждая иллюминация и фейерверк составлялись по особому плану, к разработке которого призывались не только лучшие художники и поэты того времени, но и выдающиеся государственные люди, и сожжение фейерверка сопровождалось созданием плана, поясняющего фейерверк. Это отношение отразилось и на банкетных столах. К сожалению, сохранилось очень небольшое число описаний этих столов, — мы и приведем большинство этих описаний. Самое раннее относится к 1736 году: «в виду ее императорского величества по обеим сторонам в длину салы накрыты были для нескольких сот персон наподобие сада сделанные и везде малыми оранжереями украшенные столы. На столбах между окон и на стенах в сале стояли в больших сосудах посаженные померанцевые деревья, от которых вся палата подобно была прекраснейшему померанцовому саду». Первое описание слишком просто — столы были «наподобие сада сделаны», очевидно, в изобилии убраны цветами и деревьями, но в день коронации, 28 апреля того же года, устроители банкетных столов постарались[230] и — «в длину и ширину оной салы накрыт был для министров стол и для прочих знатных персон особливой стол наподобие короны и в круг убран фестонами из померанцевых дерев. На углах и на столбах салы поставлены были в великих порцеленовых сосудах цветущие померанцевые деревья». Через два года, в день рождения царицы, 28 января, та же идея банкетного стола вылилась в несколько иную форму[231]: «в средине сего зала, за большим наподобие двоеглавого орла, сделанным столом, трактовано великое множество дам и кавалеров». Фантазия устроителей достигла апогея в 1738 году[232], когда в день коронации «с конфектами поставленный стол представлял императорский дворец в Петергофе с садом и обретающимся в нем гротом, по обеим сторонам в помянутом зале сидели дамы и кавалеры за поставленным особливой фигурою столом, который наилучшими померанцевыми деревьями так тщательно изукрашен, что совершенной галлереею приятнейшего сада уподоблялся». В 1744 году[233]: «весь корпус императорской кавалергардии и лейб-компании, состоящие из 362 человек, имел честь трактован быть за столом, наподобие Вавилона устроенного». К сожалению, описатель ограничился только одним указанием, что стол был устроен «наподобие Вавилона», не объяснив, как можно было достигнуть такого устройства. На сохранившихся рисунках одному банкетному столу дан какой-то сложный орнамент, на другом же рисунке банкетные столы изображают две буквы Е — т.-е. Елизавету Петровну.
Так убиралась в торжественные дни тронная зала или, по написанию того времени, — «сала». Наконец, позднее был пристроен к деревянному дворцу и каменный театр (на плане буква Е). Точное время пристройки, а также имя архитектора, строившего этот театр, неизвестны. Мы имеем лишь указание, что 27 декабря 1757 года[233] состоялось распоряжение «о назначении на это число представления русской трагедии в новопостроенном оперном доме около нового зимнего деревянного дворца». Определение театра, как новопостроенного, до известной степени позволяет заключить, что театр построен летом 1757 года.
В камер-фурьерском журнале под 25 декабря 1761 года записано: «25-го числа во вторник, т.-е. в день Рождества Христова, их императорские высочества изводили слушать обедню в малой комнатной церкви, а пополудни в 4 часу ее императорское величество по воле всемилостивейшего бога переселилась в вечное блаженство». За таким печальным известием в камер-фурьерском журнале следом же было записано распоряжение о присяге новому императору Петру III, причем «генералитету, знатному шляхетству, дамам первых четырех классов иметь приезд ко двору его императорского величества всем в цветных платьях, дамам быть в робронах», а дальше следовало и описание первого вечера: «в 7-м часу его императорское величество и ее императорское величество изволили шествовать в большую придворную церковь... кушать вечернее кушанье в числе 33 кавалеров и 44 дамских персон, оной стол кончился во 2-ом часу пополуночи».
При первой возможности Петр III переехал в недостроенный зимний каменный дворец. В недолгие дни своего царствования Петр III не успел отдать каких-либо распоряжений относительно деревянного дворца Елисаветы Петровны — дело его разрушения всецело принадлежит императрице Екатерине II, которая вообще очень ревниво относилась к памяти своей тетки Елисаветы Петровны, искренно желая, чтобы эта память поскорее исчезла. Весьма понятно, что существование дворца на видном месте Петербурга не могло способствовать искоренению памяти, наоборот, этот дворец ясно говорил о тех днях, когда на Российском престоле царила не немецкая принцесса, а законная дочь Петра Великого.
14 января 1765 года[234] был сделан вызов желающих разобрать один из флигелей зимнего деревянного дворца и перевезти его в село Красное. На нашем плане части дворца, подлежавшие перевозке в село Красное, зачеркнуты пунктирными линиями. Может быть, одновременно с этою перевозкою, а может быть, и несколько позднее была разобрана и деревянная галлерея Зимнего дворца; эта галлерея была перевезена в канцелярию от строений. Таким образом оставались нетронутыми тронный зал, кухня и театр. Неприветливым, даже безобразным казался тогда перекресток Морской и Невского. Пепелище пожара 1737 года заменилось картиною разрушения дворца. А между тем, близость этого участка к зимнему дворцу и все возраставшее значение Невского проспекта, как главной улицы столицы, говорили о необходимости регулировать и этот участок. На него и обратило внимание то лицо, которое должно было вообще следить за порядком в Петербурге — с.-петербургский генерал-полицмейстер Н. И. Чичерин. По всем вероятиям, он убедил императрицу Екатерину II в необходимости проложить бывшую Большую Морскую улицу до Невского проспекта. Этою прокладкою улицы бывший участок Елисаветинского дома разбился на два: первый между Невским проспектом и Кирпичным переулком, с одной стороны, и Мойкою и Морской — с другой стороны и второй между Невским проспектом и Кирпичным переулком и Большой л Малой Морскими. Второй участок, на котором еще возвышался бывший театр деревянного зимнего дворца, оставался в ведении дворцового ведомства, а первый был разбит на два участка, из коих угловой участок к Невскому проспекту и был пожалован императрицею Екатериною II в 1767 году «его высокопревосходительству г. сенатору и генерал-полицмейстеру Николаю Ивановичу Чичерину», который не замедлил приступить к постройке здесь дома.
«К строению дома его высокопревосходительства сенатора и генерал-полицмейстера Николая Ивановича Чичерина желающим, подрядиться вырывать рвы под фундамент для поклажи лежнев и фундамента, — читаем мы объявление от 7 июля 1768 года, — у Полицейского моста против Строганова двора явиться для подряду в провиантских запасных полицейских магазинов конторе, что на Крюковом канале[236]». Таким образом постройка части доныне существующего дома, выходящей на угол Невского проспекта, Морской улицы и набережной Мойки, началась летом 1768 года. Мы можем вполне подробно проследить весь ход постройки этого дома и думаем, что это будет небезынтересно, так как до известной степени выяснит условия домостроительства в Екатерининское время.
Летом 1768 года вырыли только рвы под фундамент и устроили последний, а в мае следующего 1769 года было предложено[237] «к строению дома г. генерал-полицмейстера и кавалера Николая Ивановича Чичерина желающим поставить каменщиков до 150 человек явиться в конторе запасных полицейских магазинов». Еще через год читаем: «Желающие сделать в доме его превосходительства генерал-полицмейстера и кавалера Николая Ивановича Чичерина деревянные полы и лестницы и поставить под крышу стропила, явиться могут в конторе запасных полицейских магазинов, состоящих на Крюковом канале»[238]; в июле того же 1770 года[239]: «желающие подрядиться подмазать и штукатурною работою исправить дом его превосходительства генерал-полицмейстера и кавалера Николая Ивановича Чичерина, что на Мойке у Полицейского моста, явиться у него самого», и наконец, 25 декабря 1771 года[240] «у его превосходительства г. генерал-полицмейстера в новом доме, что на Невском проспекте желающим нанять несколько покоев, о цене спросить в помянутом доме у дворецкого Ивана Ильина».
Таким образом дом строился четыре строительные сезона: сперва устроили фундамент и дали ему вполне основательно отстояться в течение целой зимы, затем возвели стены, которые также простояли зиму, и только через год приступили к постановке стропил и устройству крыши; наконец, после оштукатурки дома он еще целое лето отделывался внутри.
После постройки дома Чичерина вид описываемого нами перекрестка был следующий: на обширной площади возвышался полукругом дом с колоннами, на Мойку за этим домом тянулся низенький забор; забором же был огорожен участок между Большою и Малою Морского, Кирпичным переулком и Невским проспектом.
7 декабря 1777 года генерал-полицмейстер Н. И. Чичерин был уволен в отставку, а в 1782—83 годах он умер[241], и дом перешел к его старшему сыну «государя наследника его высочества кирасирского полка вице-полковнику Александру Николаевичу Чичерину», который, провладев домом до 1792 года, продал его князю Куракину. К некоторым странностям князя Алексея Борисовича Куракина принадлежала какая-то страсть к приобретению и продаже домов в С.-Петербурге. Список домов, которыми владел князь в столице, был значителен, но обыкновенно, приобретя дом, князь продавал его через несколько лег и, видимо, всегда с убытком. То же самое произошло и с домом Чичерина. Купив этот последний, князь А. Куракин тотчас приступил к устройству флигеля по Мойке; флигель этот был построен в 1794 году[242] и был в три этажа (ныне существующий 4-й этаж был возведен впоследствии), а в 1799 году мы уже читаем такое объявление[243]: «в 1-ой Адмиралтейской части дом № 81 Алексея Борисовича князя Куракина, каменный о 4 этажах дом со всеми принадлежащими строениями, с особняком по Мойке о 3 этажах домом продается. Оный по выгодному своему местоположению приносит знатный с наймами доход, который еще может быть приумножен, а к лучшей выгоде покупщика деньги, следующие за него, приняты будут переводом долгу хозяина оного». Дом был приобретен банкиром Абрамом Перетцом, который, провладев им до 1806 года, перепродал его именитому мещанину Андрею Ивановичу Косиковскому. От последнего в 50—60-х годах дом перешел к петербургским купцам братьям Елисеевым.
Косиковский в 20-х годах прошлого столетия пристроил к двум существующим домам еще третий — по Большой Морской улице. Таким образом нынешний дом заключает в себе три постройки: основную генерала Чичерина 1769—1771 г.г., боковую по Мойке князя Куракина 1792—1794 г.г. с позднейшею надстройкою четвертого этажа и боковую по Морской улице Косиковского в 20-х годах XIX столетия.
Хроника дома Чичерина — Куракина — Косиковского — Елисеева представляет замечательно интересную страничку из жизни Петербурга.
4 июня 1824[244] года статс-секретарь тайный советник сенатор Кикин известил министра внутренних дел, что государь император Александр I дал свое высочайшее согласие на просьбу венецианского дворянина Антона де-Росси, который хотел устроить модель царствующего града С.-Петербурга и просил выдать ему на устройство модели десятилетнюю привилегию и не брать с него пошлинных денег. Министр внутренних дел, имея в виду высочайшее согласие, доносил Государственному Совету на предмет опубликования этой привилегии. Государственный Совет в заседании 7 сентября 1824 года рассмотрел рапорт министра внутренних дел и просьбу Росси и, найдя, что его модель, хотя и не представляет чего-либо им изобретенного (не забудем, что по российским законам привилегии давались лишь за вновь изобретенное), тем не менее требует для выполнения много труда и умения, полагал выдать привилегию, которая и была распубликована 28 января 1826 года. Свою модель Росси составил следующим образом. Ему был выдан из главного штаба точный план С.-Петербурга, который он значительно увеличил: 1 аршин составленного Росси плана равнялся 240 аршинам натуры. Этот план наносился на доски, представлявшие таким образом фундамент будущей модели. Каждая доска была не более 2-х квадратных аршин, чтобы их было легко переносить. Все строения в городе делались с натуры, как с лицевой, так и с надворной стороны улиц, со всеми принадлежащими нм украшениями и колоннами. Дома делались из картона, крыши из свинца, мосты и колонны из дерева, Нева и каналы из белой жести, статуи из алебастра.
Антон де-Росси официально звался итальянцем, родом из Венеции, был дворянином. Но в это же время в Петербурге был архитектор Карл Иванович Росси, тоже итальянец и родом также из Венеции. Очевидно, что Антон Росси был родственником Карла Ивановича Росси, который, войдя в Петербурге в значение и силу, не позабыл своих итальянских родственников и оказывал им содействие. По всей вероятности, К. И. Росси помогал Антону де-Росси в деле устройства его модели, над изготовлением которой работали архитектор Кавос и Буя (заметим, что барон Н. Врангель в своем предисловии к описанию музея императора Александра III неверно приписывает модель Петербурга Карлу Ивановичу Росси).
Пресса того времени довольно тщательно следила за работою Антона де-Росси.
«Читатели наши[245], — писала «Северная Пчела», — конечно, не забыли привилегии, данной прошедшего года венецианскому дворянину Антону де-Росси за построение модели города Санкт-Петербурга. Смелое сие предприятие, для приведения которого в действие г. де-Росси выписал из Италии и Франции отличных артистов, исполняется с удивительною деятельностью под надзором г. Кавоса и г. Буя, архитектора-инженера Падуанского университета. Большая часть сей модели уже совершенно окончена и она есть самая любопытнейшая и заключает в себе Императорский Зимний дворец... Невозможно описать, с каким совершенством исполнены все малейшие подробности архитектурной части, все отделано с наивозможною точностью, колонны, капители, фронтон, балконы железные, решетки, статуи, барельефы и даже цвет краски домов до того сходствует, что каждый житель С.-Петербурга немедленно распознает не только наружный фасад дома своего, но и внутренние надворные строения, все скопировано, вымерено со строгою точностью. Наконец, дабы дать лучшее понятие о сем удивительном произведении, довольно, если скажем, что их Императорские Величества и вся Высочайшая фамилия удостоили г. Росси отличными отзывами при обозрении вышеупомянутой модели в одном из зал Зимнего дворца. Модель целого города 55 аршин длины, умноженная на 32 аршина ширины. 55 человек трудятся беспрерывно над сей моделью, которая, повидимому, приняв окончание через 2 годичный срок, принесет не малую честь, как исполнителям работы, так и тому сообразительному уму, который подал о том идею».
После такого анонса следовало и объявление самого Росси[246]: «Венецианский дворянин Антон Росси, занимающийся с Высочайшего соизволения деланием модели С.-Петербурга, окончив некоторые отделения, состоящие в 1-ой Адмиралтейской части, которые он имел счастие представить его императорскому величеству государю императору, с дозволения Правительства будет иметь честь показывать оное публике в доме купца Козулина в большой Морской ежедневно с 10 часов дня до 6 часов вечера. Цена за вход с персоны 5 рублей, с малолетних 2 р. 50 коп.
В июне того же 1825 года «Антон де-Росси честь имеет известить[247] почтенную публику, что по желанию любителей художеств будет прибавлено к выставленной уже части модели города С.-Петербурга несколько достопримечательных зданий, между прочим весь главный штаб с частью даже еще неоконченной в настоящем виде аркою. Зало дома Козулина было слишком мало, а потому избрано ныне нарочно зало дома Коссиковского».
Судя по описанию того времени модель была, действительно, художественным произведением, но охотников посмотреть на нее в Петербурге нашлось немного: Росси выбрал неудачное время — шел процесс декабристов, ожидались похороны Александра I, не до моделей было тогда петербуржцу. Точно так же не находилось и покупателей на эту модель, хотя Росси выражал сильное желание продать ее — и 18 сентября 1826 года петербуржец читал уже следующую заметку:[248] «Превосходный план — модель С.-Петербурга вывезен уже из сего города. Трудящийся над оным г. Росси сопровождает свое произведение; он намерен посетить главнейшие столицы Европы, преимущественно Париж и Лондон, и теперь направляет путь свой к столице Франции. Можно предсказать ему наверное, что он соберет там обильную жатву похвал за неустанные свои старания и весьма значительные издержки и будет щедро за оные вознагражден, еще другим способом, более вещественным. Труд его весьма то заслуживает». Высказав такое предположение, «Северная Пчела» продолжала очень внимательно следить за путешествием модели. 22 января 1827 года[249] мы читаем, что «Модель С.-Петербурга выставлена ныне в Берлине, но, к сожалению, не в одной зале, а по частям в 7 комнатах, так что любопытные зрители не могут обозреть нашей прекрасной столицы в целом. Модель заслужила усердную хвалу Берлинской публики». В августе того же года Росси перекочевал в Гамбург,[250] а в ноябре в Париж, где он выставил свою модель в улице Риволи[251].
Дальнейших следов путешествия модели мы не нашли, но кажется, что модель попала в конце концов в Британский Музей.
В 1774 году в доме Чичерина была заведена[252] «вольная типография», в которой продавались «немецкие и голландские конессементы, а немецкие, голландские и Французские ведомости за настоящую цену», в конце того же года «прежде бывшая здесь у морского рынка в доме купца Шарова императорского московского университета лавка книжная переведена в дом его превосходительства г. генерала-полицмейстера Чичерина у самого Зеленого мосту, где продаваемым книгам реестры (т.-е. каталоги) безденежно отпускаются»[253].
И с этого времени оба эти просветительные начинания — и типография, и книжный магазин — почти не выезжали из описывав мого дома, а иногда они привлекали к себе и всеобщее внимание. Так в 30-ых годах прошлого столетия в доме Коссиковского или как его тогда звали «дом с колоннами» была торговля книгоиздателя Адольфа Александровича Плюшара[254]. Сын выходца из Брауншвейга типографщика Александра Плюшара[255] выписанного русским правительством в 1806 году для организации в Петербурге специальной французской типографии[256], Адольф Александрович Плюшар не только продолжал и после смерти отца[257] сперва вместе с матерью, а потом и один, его деятельность, но развил ее до небывалых еще в Петербурге размеров. Сначала Плюшар занимался библиотекою и типографиею. Библиотека вдовы Плюшар[258] не отличалась чем-либо особенным от других библиотек того времени и держалась им лишь по инерции и уже в 1833—34 годах была продана некоему Лури. Большее внимание Плюшар обращал на полученную им в наследство типографию, которую он, действительно, улучшил настолько, что в 30-ых годах прошлого столетия она считалась безусловно лучшей типографией и на петербургской мануфактурной выставке 1832 года была удостоена награды серебряной медали[259]. О словолитне Плюшара мы можем привести следующие современные известия. «По части промышленной, — говорил обозреватель «Северной Пчелы»[260], — должен упомянуть о прекрасной словолитне, устроенной А. А. Плюшаром, он привез с собою искусных мастеров, все инструменты и снадобия и, перелив все буквы собственной типографии, теперь работает на других». В следующем 1833 году Н. Греч, отвечая на запрос одного из подписчиков по поводу «Северной Пчелы», писал[261]. «Вы изъявляете опасение, что печать «Северной Пчелы» будет мельче, т.-е. еще труднее прежнего для чтения. Теперь разуверьтесь, буквы гораздо крупнее прежних, но лист расположен так, что вмещает в себе 1/4 долю больше прежнего. Сим я обязан А. А. Плюшару, который отлил шрифт для «Северной Пчелы» в превосходной своей словолитне». Расхваливая словолитню, Н. Греч между прочим упоминает и об отливаемых у Плюшара металлических буквах для надписей на досках и вывесках. Безусловно, к похвалам Н. Греча и Ф. Булгарина надо относиться несколько критически — они хвалили главным образом тогда, когда похвала приносила им выгоды. Но в этом случае похвала соответствовала действительности, и словолитня и типография Плюшара были поставлены на надлежащую высоту, что видно хотя бы из того обстоятельства, что Плюшар смог одновременно печатать и журнал «Библиотека для Чтения», и свой «Энциклопедический Лексикон»[262], не говоря уже о ряде других, большею частью иллюстрированных книг — для этого нужно было иметь большие типографские средства. Но понятно, что не при помощи своей библиотеки или типографии А. А. Плюшар сохранил свое имя в потомстве. Его заслуга и, надо сознаться, заслуга очень значительная, как вообще издателя, а в частности издателя первого по времени в России «Энциклопедического Лексикона». С этим изданием А. А. Плюшар выступил в 1834 году, и в то время это предприятие называлось, как свидетельствует один из участников его В. В. Григорьев, «левиафановским»[263]. В самом деле, Плюшар захотел не перевести какой-либо заграничный энциклопедический словарь, а составить при помощи русских ученых самостоятельный энциклопедический словарь: все издание должно было заключать в себе 40 томов, быть издано в течение 6 лет и стоить по тому времени очень недорого: 180 рублей. Дело на первых порах пошло как будто хорошо: уже в начале 1835 года Плюшар извещал, что имеется 6.335 подписчиков[264]. «Все литераторы и книгопродавцы,— восклицала с пафосом спустя несколько лет «Северная Пчела»[265], — до сих пор не могут опомниться от неслыханного у нас успеха «Энциклопедического Лексикона», имевшего более семи тысяч подписчиков. Это дело небывалое, неслыханное на Руси».
В конце 1835 года вышел первый том словаря с буквою А. Предприятие как будто было хорошо поставлено: главным редактором был Н. И. Греч, издатель «Северной Пчелы», человек, как говорится, съевший на издательстве зубы, приглашены были к участию все более или менее выдающиеся ученые, труд оплачивался по тому времени более чем роскошно, за лист оригинальной статьи платился гонорар 400 р., реклама была принята широкая, но... но дело повелось так, что в 1839 году издание приостановилось за несостоятельностью издателя, а в 1841 году и окончательно прекратилось после выпуска уже администрацией над издателем XVIII тома.
В этой неудаче сыграли роль много причин. Виноват безусловно и сам Плюшар своим нехозяйственным, если так можно выразиться, ведением дела. П. С. Савельев, бывший в последние года главным редактором издания, сообщает между прочим следующий факт[266]: «О добросовестности Менцлова, одного из главных сотрудников словаря, можно судить по одному образчику: в XV томе «Энциклопедического Словаря» есть статья Д'Аламбер, произведение оригинальное, в 400 рублей за лист, с полною подписью имена автора Н. М. — Но что же? мало того, что эта статья не только переводная, она просто переписана с русского же почти буквально и откуда же? Из первого же тома того же «Энциклопедического Лексикона». — Этот факт — печатание дважды одной и той же статьи, под несколько измененным заглавием — показывает ясно, как легко относились к издательским деньгам сотрудники. Положим, и сам издатель не считал своих денег — повел широкую жизнь далеко не по средствам. Затем появились раздоры между главными редакторами словаря Н. И. Гречем и Сенковским — это столкновение довольно подробно описано самим же Гречем[267], но главною причиною была, конечно, неразвитость нашего общества, которое еще не нуждалось в таком начинании, как «Энциклопедический Лексикон». Но едва ли справедливо мнение, которое поддерживается и в наше время, что будто бы неудача первого «Энциклопедического Лексикона» произошла от того, «что во главе его встали такие не либеральные (с нашей точки зрения) деятели, как Греч, Сенковcкий, что лексикон рекламировал Булгарин и «Северная Пчела». И Греч и Сенковcкий, наоборот, пользовались в свое время успехом именно потому, что они отвечали требованию громадного большинства того времени. Это большинство было далеко от всяких новшеств, от всяких просветительных начинаний — и в этом была главная причина неудачи Плюшара.
Но дом с колоннами был свидетелем не одной Плюшаровской неудачи. В 1835 году в нем открылся еще один книжный магазин под интересной вывеской «Магазин новостей Русской Словесности Ф. Ротгана». Ф. Ротган до 1834 года торговал только иностранными книгами, а с этого времени решил открыть торговлю и русскими книгами. Подтолкнуло Ф. Ротгана на это дело следующее соображение[268]: «Распространяющееся в отечестве нашем просвещение и умножившееся ныне в России издание книг соделывают необходимым учреждение на прочных основаниях такого книжного магазина, который, служа прямым посредником между авторами и публикою, способствовал вместе с тем и изданию самих книг». — Ф. Ротган хотел избавить авторов от эксплоатации книгопродавцев. Он писал в своем широковещательном объявлении: «Ныне авторы находятся в необходимости платить книгопродавцам за комиссию редко 10%, но почти всегда 15%, или 20%, а иногда и более из выручаемой от продажи книг суммы; выдача же денег сих часто производится, как известно, многим авторам, по прошествии полугода, года и далее. Находя должным и справедливым не допускать столь невыгодных для авторов действий, я принял за правило, ведя в величайшей точности счет на книги магазина, иметь всегда в наличности все следуемые авторам суммы, выдавать оные по первому востребованию, хотя бы то было ежедневно, или отсылать суммы те по определенным срокам в назначенные места. Притом магазин сей предоставляет себе за комиссию с какой бы то ни было книги по 10%, с газет и журналов по 5%, а с книг, имеющих предметом цель благотворительную, ничего не будет положено за комиссию».
Объявление Ротгана интересно для нас указанием на те условия, которые ставились книжными магазинами авторам книг.
Мы видим, что комиссионный процент за продажу книг был 20%, и с расчетом книгопродавцы, видимо, не стеснялись, автору приходилось подолгу ждать следуемых денег.
Наконец в 50-ых годах в доме Коссиковского пытался возобновить торговлю своего отца Смирдин сын, но дело тоже не пошло, и магазин вскоре закрылся.
Не малую роль играл означенный дом и в деле развития музыкальных вкусов петербуржцев. В нем долгое время помещался Музыкальный клуб. О нем мы находим следующие данные в «Описании С.-Петербурга Георги»[269]. «Музыкальный клуб учредился соединением из некоторых охотников музыки. Плата была назначена 10 рублей, и за сей приход наняты были комнаты, также управляющий музыкою и несколько аккомпанирующих и духовых музыкантов из придворной капеллии. Были ведомости, журналы, стол и прочее, такожде определено было давать ежемесячно один бал или маскарад. Число членов достигло до 300, оркестр был составлен из придворных музыкантов, такожде нанимались виртуозы и придворные певчие. Тогда начал клуб блистать, но великие издержки, несоблюдение экономии и ссоры причинили, что оный в 1777 году рушился. Из рассыпанного общества составилось в 1778 новое, с платою 15 рублей, которое вторично погибло в начале 1793 года. Из дебрей сего наипреимущественно клуба составился попечением барона Демидова, статского советника Стинселя, купера (т.-е., виноторговца) Бландо и некоторых других ревностных охотников до музыка еще до исхода 1792 года новый музыкальный клуб под названием «Музыкальное общество».
К этим сведениям Георги относительно первого периода существования общества, т.-е. 1772—1778 г.г., мы можем прибавить очень немногое[270] — общество занимало помещение в бывшей Малой Морской, ныне улица Гоголя в доме Кизеля. Зато нам посчастливилось отыскать подробные сведения о втором периоде существования общества опять таки в момент его распадения и о первых годах третьего периода. Прежде всего Георги ошибся в дате: вторично Музыкальное общество погибло не в начале 1793 года, а в начале 1792 года, так как уже 25 и 26 марта этого года[271] «пополудни в 4 часа продаваться будут в прежде Чичериновом, ныне Куракиновом доме оставшиеся от музыкального клуба вещи: музыкальные инструменты, столовая и поваренная посуда, серебро и мебель». Причина вторичного крушения общества довольно подробно указывается самим же обществом: «избранный музыкальным клубом комитет, — читаем мы 16 февраля 1792 года[272], — объявляя господам членам, что как ныне для заплаты прежних долгов потребны деньги, а из господ членов многие должны за биллиард, карты, также и эконому, поставляет себя долгом известить, чтоб господа члены постарались долги свои заплатить к 25-му числу сего месяца. Деньги поручено принимать эконому и давать в получении оных расписки, в противном случае комитет принужденным себе найдет впредь пропечатать в ведомостях именно тех, кто должны». Прошло 25 февраля, пролетела масленица, наступил великий пост, и появляется вторичное извещение от Комитета Музыкального Общества вместо обещанного им пропечатания фамилий неисправных должников. В этом извещении комитет указывал, что[273] «небольшое число старых сочленов обещали учинить клубу вспомоществование, другие же на то согласия своего не объявили, а между тем время бездействия проходит и долг на клуб вседневно возрастает, почему подтверждается сим прежнее извещение, что за неимением в клубе наличных денег, оставшиеся вещи употреблены будут на удовольствие долговых требований». — Как изысканно изъяснялись 150 лет тому назад — вместо продажи через судебного пристава, например, говорили: «на удовольствие долговых требований».
Из текста приведенных извещений видно, что общество погибло от долгов его членов и что общество называлось музыкальным больше для проформы — на самом деле это был клуб, в котором процветали биллиард, карты, угощение и выпивка, а музыка была добавочным развлечением. Правда, каждою осенью делалось извещение, подобное следующему[274]: «старшины музыкального общества уведомляют сим почтенных членов оного, что обыкновенные концерты и маскарады имеют ныне вновь начаться, а именно 1-ый концерт 6 сентября, а первый маскарад 10 сентября, концерты имеют продолжаться по одному в неделю, а маскарады однажды в месяц», но на самом деле маскарады и балы происходили гораздо чаще, а о концертах делалось нередко извещение, что с субботы этот концерт переносился на пятницу, или просто по независящим от клуба обстоятельствам не мог состояться. — Балы и маскарады общества усердно посещались, по при этом приходило много и не членов общества, которые входили под видом таковых, не заплатя членского взноса. Как бороться с таким злоупотреблением? В настоящее время этот вопрос может показаться наивным — поставить у входа контроль и поверять билеты. Но в то доброе, старое время спросить билет у какого-нибудь сановника, идущего на маскарад бесплатно, было рискованно, сановник мог обидеться, и в результате вышла бы тяжелая по своим последствиям история. И заправилы Музыкального общества прибегают к такой хитрости. Они объявляют[275]: «но как швейцар, по недавнему его в должность вступлению, не имеет чести знать лично всех г.г. членов, то старшины просят, чтоб они при входе благоволили предъявлять ему свои билеты, потому что ему приказано таких, коих он не знает, без билетов не пускать.
Буде же коим членом общества билет случайно утрачен, то он, объявляя о сем заблаговременно в конторе, может получить другой». Так было поступлено для начала, а затем мало-по-малу контроль вошел в употребление, и его перестали считать за личное оскорбление. Во втором периоде своего существования Музыкальное общество имело ограниченное число членов, именно оно объявляло[276], что, с 1-го сентября открыт прием вместо отбылых, т.-е., вышедших из общества, вновь желающих вступить сочленами, причем знать дается, что токма столько принято будет, сколько на годовое содержание нужно будет».
6 марта 1792 года[277] на развалинах второго Музыкального общества, помещавшегося в «бывшем Чичерина, ныне Куракина доме» состоялось учредительное собрание вновь образованного общества; 1 ноября того же года были произведены выборы старшин, утвержден вступительный взнос в 50 рублен, наем помещения[278] и «старшины Музыкального общества имеют честь уведомить г.г. членов, что первый концерт имеет быть в субботу, т.-е. 20 числа сего месяца (ноября). Начнется он большой симфонией г. Гайдена, после которой славный г. Гезелер будет играть концерт на фортепиано, потом будут петь несколько арий, и после оных кончится концерт торжественною музыкою, сочинения г. Сарти с роговою музыкою и хорами. Дамские и гостинные (т.-е. розовые для входа на концерт) билеты выдаваемы будут членам в пятницу и субботу до полудня».
Как видим, открылось Музыкальное общество вполне торжественно, и первый концерт был достоин наименования общества — музыкальное: в нем игрались классические произведения — европейской знаменитости Гайдена и любимца двора петербургского светила итальянца Сарти. Звучало на этом концерте и фортепиано под руками «славного Гезелера», гремел и придворный роговой оркестр, тот оркестр, который приводил в изумление всех знатоков музыки и который исчез безвозвратно с XIX века. На осень 1793 года общество пригласило на свои концерты «первую певицу итальянской труппы госпожу Галлети и господина Бениния, тенора, которые обещались в течение настоящего года быть на 13 концертах[279]. Но такое «музыкальное» направление общества продолжалось неделю; концерты снова отходят на второй план, и «с дозволения правительства Музыкальное Общество имеет честь известить подписавшихся на маскарад оного общества, даваемого в доме княгини Лобановой-Ростовской (общество уже переехало из дома бывшего Чичерина, но и этот другой дом находился в изучаемой нами местности, это дом бывший военного министерства против Исаакиевского собора, дом со львами), что за билетами для гостей на сей маскарад, имеющий быть в субботу 26 ноября после театра, присылать можно во оный дом с 9 часов утра и до вечера. Для лучшего украшения сего маскарада покорнейше просить приезжать на оный в характерных костюмах или по крайней мере в венецианах. При входе в маскарад можно получать разное маскарадное, характерное платье и карикатурные костюмы, восковые маски, полумаски, венецианы и «шапо ба» — что за «низкая шляпа» была в то время модою, мы не знаем[280].
Балы, маскарады Музыкального собрания, действительно, гремели — «в начале царствования Императора Александра I, — читаем мы такие строчки[281], — в доме Коссиковского находилось Музыкальное собрание, род клуба, в коем были членами все знатнейшее сословие Дворянства. Блестящие балы, посещаемые Августейшею Императорскою Фамилиею, служили средоточием удовольствий лучшего общества и разливали веселость на всю столицу».
Когда Музыкальное общество выехало из дома «с колоннами», дома Чичерина — Куракина — Коссиковского, на его месте водворилось Танцевальное собрание, впоследствии переменившее название на «Благородное собрание». Это танцевальное собрание устраивало между прочим и маскарады, между ними заслуживал внимания маскарад 30 ноября 1817 года[282] в пользу инвалидов. Афиша или извещение о маскараде была составлена очень подробно и заключала в себе небезынтересные для нашего времени подробности. Прежде всего «для маскарада сего присоединяются все комнаты бывшего музеума, предоставленные на сей раз хозяином дома первостатейным купцом Андреем Ивановичем Коссиковским, по уважению благонамеренного сего предприятия без всякой платы, а потому приезд в маскарад назначается к 2-м подъездам, к обыкновенному в собрание с Невского проспекта и к бывшему музеуму с большой Морской». Таким образом, первостатейный купец А. И. Коссиковский вложил свою лепту в пользу инвалидов. Устроители маскарада хотели привлечь как можно более посетителей, поэтому плата была назначена сравнительно небольшая — 5 рублей с персоны и, кроме того, были введены две льготы: первая из них покажется нам немного странною — «гостям не воспрещается на сей раз вход в сапогах». Не надо забывать, что в то время посетители балов должны были быть в башмаках и длинных чулках — разрешением входа в сапогах безусловно увеличивался контингент тех, которые могли пойти на этот маскарад. — Вторая льгота касалась маскарадных костюмов, а именно: «предоставляется на волю каждого маскироваться, кто как заблагорассудит, с соблюдением однакож в костюмах и нарядах должной благопристойности, в шубах, шинелях, сертуках и шлафроках и прочем сему подобном никто впущен не будет». — Первое время на петербургских маскарадах был допускаем только один костюм — домино, и об этом публика извещалась; на маскараде же в пользу инвалидов было разрешено вообще маскарадное платье.
Самый маскарад должен был пройти следующим образом:
«Маскарад начнется в 9 часов вечера и продолжится до 5 часов утра, а в 12 часов по сделанному сигналу известятся о начале бала в большой музыкальной зале, почему желающие заниматься танцами снимают маски (таким образом танцовать в масках не разрешалось), не имеющие расположения к танцам и замаскированные, дабы не стеснять танцующих, выходят из сей залы за колонны и проводят время в прочих покоях, где пожелают. Танцующие длинный польский могут из сей залы проходить чрез все комнаты собрания и бывший музеум и оттуда обратно, для чего в разных местах будет поставлена музыка»: В заключение афиша указывала, что, кроме платы за вход, «с благодарностью принимались пожертвования». Устроители собрания высказывали уверенность, что «старшины сего собрания употребят всевозможное старание, дабы г.г. члены посетители имели полное и беспрепятственное в сем увеселении удовольствие, надеясь, что и они с своей стороны соблюдением порядка и приличия равномерно к сему содействовать будут».
Мы так подробно остановились на этом маскараде главным образом потому, что им было положено начало ежегодных представлений и развлечений в пользу инвалидов, и в этом маскараде должна была проявиться общественная инициатива, — и не забудем, что в тот же год (1817 г.) директор военной полиции де Санглен писал: «Здесь учредились, учреждаются и впредь учреждаться будут общества под видами патриотическими... Я готов согласиться, что мнение антрепренеров может быть хорошо, как и их побуждения: но должно ли в монархических правлениях то позволять — это другой вопрос. В республиках это необходимо; по в монархическом правлении все противно сему. Здесь Государь есть Отечество. Они — нераздельны, от Него (соблюдаем орфографию того времени) нисходит все и в Нем, как в единице, все и соединяется. Счастие и несчастие ниспадает из рук Его, как из урны провидения. Инвалидов кормить есть дело Его. Он — Отечество и никто из частных людей в сие дело вмешиваться бы не долженствовал»[283].
Как видим, директор военной полиции полагал, что частная благотворительность, частная инициатива возможна лишь в республике, в монархическом государстве она неуместна, так как подрывает самый принцип монархизма, и, вспомнив эти взгляды военной полиции, мы должны на устройство маскарада посмотреть совсем с иной точки зрения, чем в настоящее время, — устройство маскарада, очевидно, было большим, требующим многих забот делом».
В 1851 — 1853 годах появилась снова попытка эксплоатировать для музыкальных целей рассматриваемое нами помещение. «Всем известный здесь фортепианный фабрикант Лихтенталь— читаем мы такие строчки в 1851 году[284], — нанял для своего магазина великолепное помещение в доме Коссиковского, в котором был клуб или малое мещанское общество, возобновил эти прекрасные комнаты, устроил в них свои магазин, а залу оставил для концертов. В зале могут помещаться более 600 особ, эту залу Лихтенталь намерен отдавать для концертов только известным у нас артистам, одобряемым высшим обществом». Но несмотря на усиленную рекламу, которая делалась о зале Лихтенталя, несмотря на то, что Лихтенталем приглашались, действительно, выдающиеся артисты — публика плохо посещала концерты Лихтенталя. Эта неудача объяснялась тем обстоятельством, что в этом доме долгое время был знаменитый бюргер-клуб или мещанское общество, и представители нашего beau-mond'a считали ниже своего достоинства ходить в эту залу. Но крайней мере так объяснял неудачу затеи Лихтенталя Булгарин. Указав, что во времена Александра I здесь были «блистательные концерты Музыкального общества (о них мы говорили выше), на которые собиралось все высшее общество столицы», Булгарин писал дальше[285]: «Не знаю, какими судьбами в этих самых комнатах помещался малый бюргер-клуб, но с тех пор, кажется, забыли, что зала построена именно для музыки и имеет большие акустические достоинства. А. Лихтенталь, переехав в эти комнаты, посвятил залу для концертов. Он совершенно возобновил не только залу, но даже и лестницу, и теперь это едва ли не лучшее концертное место. Конечно, несколько тысяч не войдут в залу, но 300 человек удобно в ней могут поместиться. У Лихтенталя давали концерты знаменитый Серве, Лист, Мауер, Рубинштейн, и после этого, кажется, не стыдно ни одному артисту играть в зале Лихтенталя. Малейшие признаки бывшего здесь клуба исчезли»...
Но повторяем, попытка Лихтенталя потерпела фиаско.
«Цыгане будут петь в центре г. Петербурга у Полицейского моста, в зале танцовального общества, в доме Коссиковского с 5 до 7 часов вечера» — такой анонс появился в «Северной Пчеле» в конце 30-ых годов, и с этого времени вплоть до конца царствования императора Николая I, вплоть до печальных дней севастопольской эпопеи, цыгане стали необходимой принадлежностью петербургских развлечений. Первые годы они приезжали из Москвы на масленице: «На-днях прибыл сюда из Москвы хор цыган Ивана Васильева, с певицами Грушею и Любашею. Извещая о том всех любителей этого рода увеселений, сожалеем, что нам остается едва одна неделя для наслаждения этим оригинальным полудиким и народным пением»[286]. Но приехав к масленице, цыгане гостили обыкновенно весь пост. Давали они свои концерты во всех имевшихся в то время залах — в описываемом нами доме Коссиковского, в зале дома Энгельгардта (напротив Казанского собора, бывший дом учетного банка), дом Татищева (у Симеоновского моста), в доме графа Орлова (бывший дом департамента уделов на Литейном). Время концертов назначалось таким образом, что «к началу спектакля, т.-е. к 7 часам вечера, концерт будет кончен»[287]. Плата за вход бралась 11/2 рубля и 1 р. серебром. Осталось очень характерное описание пения цыган: «Вошел хор цыган. Женщины сели полукругом, мужчины стали позади стульев, а в средине полукруга стал хоревод (курсив наш, «Северная Пчела» хотела ввести русское слово вместо иностранного — «регент») Илья Осипыч! Запели сперва заунывную песнь. Соловьиный голосок прославленной покойным Пушкиным Тани разнесся по зале и зашевелил сердца слушателей, потом пошли разные песни: заунывные и плясовые, и каждый раз раздавались громкие рукоплескания и восклицания «браво, брависиммо»; несколько песень слушатели заставили повторить. Можно смело сказать, что все присутствовавшие приведены были в восторг».[288] Другой отзыв в том же духе: «Все были чрезвычайно довольны плясками и пением цыганского хора. Илья, хоревод, был бесподобен... Знаменитый Илья весь пламя, молния, а не человек. Он запевает, аккомпанирует на гитаре, бьет такт ногами, приплясывает, дрожит, восклицает, воспламеняет, жжет словами и припевами. В нем демон, в нем беснующаяся мелодия. Смотря на него и слушая его, вы чувствуете, что все нервы в вас трепещут, а в сердце кипит что-то невыразимое»[289].
Успеху цыган содействовала и знаменитая Тальони, которая в этот год танцовала на петербургской сцене. «При входе в залу к цыганам, Тальони была встречена хором музыкантов, игравших качучу. Потом пошли пляски и песни цыган. Г-н и г-жа Тальони в восторге от виденного и слышанного ими! Никогда не воображали они, чтобы в этом неученом хоре было столько души, огня, изящества. Добрый Тальони сказал нам, — писала «Северная Пчела»[290], — в полной откровенности: «Если бы я имел когда-либо 20 таких огненных душ в кордебалете, то сделал бы чудные вещи!» Рецензенты того времени, видя увлечение публики таким полудиким пением, старались найти смягчающие обстоятельства и писали такие рацеи[291]: «Иногда весьма приятно из роскошной, богато убранной гостиной, освещенной тысячами огней, блистающей дамскими нарядами, вдруг перенестись в темную рощу и сквозь ветви дерев взглянуть на луну, на звездное небо, словом на природу. Так точно, после нежного, смягчающего душу италианского пения приятно вспомнить русский удалый или заунывной напев, нашу народную мелодию, перенестись в русскую природу». .
В доме Коссиковского нашло приют и одно из немногочисленных у нас спортивных обществ. В 1806—1807 годах в Петербурге возникло особое общество, которое звалось сперва «стрелецкое общество»[292], а потом «общество любителей стрельбы»[293]. В числе учредителей этого общества был сенатор и кавалер Теплов с товарищами. Окончило свое существование это общество довольно плачевно — в 1811 году продавались[294] «с аукционного торгу мебели, оставшиеся за упразднением собрания любителей стрельбы». — Чисто спортивным это общество назвать нельзя, скорее это был своего рода клуб, причем члены этого клуба отчасти занимались и спортом — стрельбою, фехтованием, но главной своей целью считали устройство балов.
«Г.г. члены собрания любителей стрельбы извещаются, что 11 декабря будет бал в маскарадных костюмах с 3 оркестрами и хором. Под названием оного маскарадного бала полагается, что не позволено будет приезжать на оной в масках, для того посетители благоволят приезжать в доминах или венецианках, но без масок, что же касается дам, дирекция просит их быть в обыкновенных маскарадных платьях и также без масок»[295]; как видим, в начале XIX века маскарад мог быть без масок. Затем члены общества, очевидно, могли пользоваться столом в обществе; по крайней мере мы читаем такое несколько курьезное, наивное с нашей точки зрения извещение[296]: «Г.г. членам общества любителей стрельбы сим извещается, что эконом, который все лето находился на даче, теперь перебрался в город, где каждый день дает обеденный стол. Присем также извещаются, что в субботу 2 октября будет дан обеденный стол с музыкою».
Мы не нашли устава этого общества, но из одного печатного извещения можно восстановить хотя некоторые правила этого общества[297]—«дирекция собрания любителей стрельбы, желая содействовать выгодам общества, предложила 17 минувшего сентября на баллотировку бывшим в собрании в довольном числе г.г. членам, что она находит удобнее и полезнее возобновлять билеты вместо маия в ноябре месяце каждого года, которое предложение и было большинством белых шаров принято, почему, поставляя долгом уведомить о сем всех членов, дирекция просит тех, которые по прежнему учреждению уже по 1 мая 1809 года билеты свои возобновили, возвратить их в контору, где по заплате 25 рублей дадутся новые по ноябрь 1809 года. Тех же из господ членов, которых билетам 1 ноября сего года срок минет, просит дирекция для возобновления явиться в контору не позже 20 ноября, ибо после того неявившиеся должны будут, если пожелают оставаться в обществе, в новь быть баллотированы. Возобновление билетов на полгода, как несовместное хозяйственному учреждению собрания впредь существовать не может, исключая только г.г. военно-служащих, которым не возбранено записываться и возобновлять билеты на полгода».
Из этого мы видим, что выбор членов общества производился баллотировкою, что членский взнос равнялся 50 рублям и год общества начинался 1 ноября. Далее, военные пользовались льготою: они имели право взносить свой членский взнос в рассрочку, по полугодиям. Наконец отметим, что «для дам, не принадлежащих к фамилиям господ членов», раздавались именные билеты[298]. Но какие занятия спортом были у этого общества? Уже самое название общества показывает, что на первом плане должна быть стрельба в цель и действительно; «г.г. члены собрания любителей стрельбы почтительно извещаются, что завтра в субботу 24 сентября, в 6 часов пополудни начнется в доме общества стрельба в цель» или другое извещение, до известной степени аналогичное вышеприведенному: «г.г. члены извещаются, что стреляние в цель из пистолетов начнется сего маия месяца 2 числа в нарочно изготовленном на то зале. Желающие сим приятным упражнением заняться, благоволят между тем рассмотреть начертанные для сего правила[299]. Итак, стрельба из пистолета названа «приятным упражнением» и для этой стрельбы были составлены какие-то правила, какие, мы, к сожалению, не нашли. Наконец, «в будущую субботу, 10 октября, в собрании любителей стрельбы дан будет генеральный фехтовальный бал или так называемое assaut général, единственно для членов оного собрания»[300].
Таким образом ежедневная стрельба из ружей и пистолетов в цель, нередко устраиваемые фехтовальные ассо — вот в чем проявлялась спортсменская деятельность общества, а на первом плане, опять повторяем, были обеды, балы, маскарады без масок и, очевидно, карточная игра.
Залы в доме Коссиковского снимали учреждения, а в те недолгие периоды, когда эти залы пустовали, сам хозяин сдавал помещения для различных эквилибристов, фокусников, различных антрепренеров и пр. Современный кинематограф в лице своего пра-пра-родителя, имевшего вполне непонятное современникам название «Номонсикло-география», появился именно здесь. 10 января 1822 года было пропечатано, «что г-жа Латур (с ней мы еще столкнемся, когда речь пойдет о соседнем доме) ежедневно от 10 утра до 10 вечера имеет честь представлять почтенной публике «номонсикло-географию», служащую к распространению сведений и к удовольствию, иначе называемый Театр Мира, на коем зрители, не переменяя мест своих, могут видеть Европу, Азию, Африку и Америку (об Австралии в то время еще и не подозревали) с заслуживающими внимания: древностями, развалинами, жителями в национальном их одеянии, идущих пешком, едущих верхом, в повозках, стоящих на местах и площадях народных, а также небо и море». Но такое описание показалось автору афиши недостаточным, и оп сгущает краски[301].
«Одним словом, все то, что наиболее приятнейшего и удивительнейшего находится на земном шаре. Зрелище сие столько сходно с природою, что по новости и совершенству своему достойно похвалы каждого. Знающие отдадут ему справедливость, любопытные удовлетворят своему любопытству, и все получат истинное удовольствие. Описание предметов можно узнать из афишей. Представление видеть можно ежедневно с платою за вход с каждой особы по 2 р.».
Видимо придаваемые г-жею Латур названия: «Театр Света», «Номонсикло-география» смущали публику, и через несколько дней Латур выступает с новым объявлением, в котором дает своему предприятию вполне удобо-понимаемое название: «Оптическая Панорама, в коей представляются наилучшие и первейшие виды знаменитых городов и мест в разных частях света, как-то: вид всего вообще Неаполя и его залива, снятый со стороны Средиземного моря, вид города и предместия Константинополя, вид всей Москвы, снятый с Воробьевых гор, близ места, предположенного для построения храма Христу Спасителю, вид Императорского Дворца, в древнем виде в Кремле, полная панорама города Рима, в древнем его великолепии, иллюминация большой площади и купола Ватиканского дома, каковая бывает ежегодно в день св. Петра в Риме, большая Императорская зала в Пекине е представлением общего церемониального обеда, который дает Император ежегодно Мандаринам, Посланникам и депутатам своего народа, вид сада и замка Тюллерийского в Париже, большая площадь св. Марка и великолепное здание Венецианского Правительства, главные надгробные памятники древних народов: Египта, Аравии и Индии, храм Соломона в Иерусалиме, снятый лучшими перспективными живописцами, удовлетворяет в полной мере любопытству зрителей. Касательно точности предметов и живости красок, а оптическое очарование стеклом, производимое столь совершенно, что каждый думает, будто он перенесен в те самые места, кои видит. Так судят о сем все любители и путешественники, удостоившие посещением своим сие зрелище, вместе поучительное и занимательное. Все сии виды видеть можно способно и не теснясь»[302]. — Эта оптическая панорама Латур сменялась различными косморомами, диорами, волшебными фонарями и т. д.
Из ряда этих многих увеселений упомянем, что в 30—40-х годах XIX столетия излюбленным местом для кукольного театра был описываемый нами дом: «Здесь под названием «Театр Свет»[303] устроено в большом зале зрелище довольно приятное. Между колоннами сделана сцена, по которой движутся куклы, вырезанные из бумаги. Механик достоин похвалы. Эти куклы стреляют из ружей, танцуют балет с ловкостью и как водится ссорятся и дерутся. Звери сделаны чрезвычайно хорошо, и движения их весьма натуральны. Для детей этот «Театр Света» — потеха». Пользуясь случаем, дадим вообще справку о кукольном театре старого Петербурга, тем более, что этот театр, главным образом, помещался в домах изучаемой нами местности.
«Чрез сие чинится известно, что находящийся здесь комедиант Мартын Ниренбах по понедельникам и четвертокам пополудня в начале 6 часа продолжает иметь марионетовы итальянские комедии сперва фигурами, а потом живыми персонами, так что смотрители наконец великое удовольствие из него получить могут»[304].
Мартын Ниренбах действовал в Петербурге в 1743 году и был по всей вероятности первым приехавшим с кукольным театром. Его особенность заключалась в том, что у него после «марионетовой итальянской комедии» выступали живые артисты, и зритель (смотритель, как выражались в то время) в конце концов (наконец, по словам афиши) получит «великое удовольствие». Почти через четверть века после Мартына Ниренбаха в 1775—1776 годах петербуржец мог читать извещения такого сорта[305]: «В следующее воскресение, т.-е. 3 января, будут представлять на новой кукольной комедии «Хромоногого Беса», комическую оперу, а кончать балетом, «Рождением Купидона» именуемом. Сии куклы представлены будут на театре, снабженном изрядными декорациями с препровождением из живых персон действий. При каждом явлении будут переодеваться в другое платье. Как сии комедии от великих государей и знатных особ заслужили себе их благоволения, то надеются равно и от здешной публики сим воспользоваться. Сии зрелища производимы будут по воскресениям, вторникам и пятницам. Будут начинаться в 6 часов пополудни. Каждая особа в ложе и партере платит 30 коп., во втором месте 15 коп. Театр имеется по Невскому проспекту, против Адмиралтейства в Перкиновом доме». — Репертуар этого кукольного театра был довольно обширен: 20 января 1776 года[306] давалась «комедия «Бабьи Сплетни, комедия славного Вейса», а кончать балетом, называемым «Карневал Венеции, в котором будут видны разные курьезные маски» — 24 января[307]та же труппа ставила «по требованию», т.-е. по желанию публики «изрядную Комик — оперу, снабженную веселыми песнями и поединками, под именем «Купец Смирны», потом следует веселый балет, называемый «Ревнивость трех любовников».
Видимо, кукольные комедии пользовались большим успехом, потому, что в том же 1776 году явился ряд лиц, прельщавших этою игрою петербуржцев. Так в июле месяце[308] некто г-н Мрочек «объявляет всем любителям изрядных наук и художеств, что он здесь, в С.-Петербурге по новому и еще никогда невиданному образцу сделал небольшой комедиальный театр. Всякий знаток признается, что дело сие не малого стоило труда и рачения. На одном будут представлены две небольшие компании танцовщиков и танцовщиц. Первая представляет изрядный сельский балет крестьян и крестьянок, и театр изображает приятную и веселую деревню. По окончании первого балета вдруг превращается в богатый зал, в котором будет видна вторая компания, состоящая из турок и турчанок. Музыка сочинена итальянским балетмейстером и капелмейстером. Живопись и резьба сделана также всеславными мастерами. Да вообще можно быть уверенным, что при зрении сих представлений почувствует всяк удовольствие и увеселение».
В 1781 году[309], какая-то компания представляла тот же кукольный театр по Петергофской дороге на даче у Нарышкина, причем на эти представления «ливрейные служителя не будут впускаемы», а в 1794 году[310] «за несколько недель сюда приехавший итальянец привез с собою нового изобретения кукольную игру. Имеющиеся у него куклы одеты на вкус итальянского театра и представляют пантомимы, арлекины и пр. выходят на малый подвижной театр, между собою говорят и делают разные забавные телодвижения и потому к удовольствию детей служить могут». Через пять лет в 1799 году[311] неизвестного итальянца сменил другой итальянец по имени «Фере», «представляющий разные забавные штуки куклами на театре с музыкой на Италианский манер».
Кукольная комедия процветала не только в XVIII веке. В 1802 году[312] некий Касперо Живанети представлял театр марионеток, затем в 1816 году явилась г-жа Пратте[313], которая разыгрывала целые исторические драмы. 10 декабря она представляла «Великодушный султан или морское сражение на Черном море. Большая драма в 4 действиях. За оною последует искусный балет в 3 действиях. Для заключения сцена переменится и представит Черное море с крейсирующими на оном Австрийскими и Турецкими судами, кои устроясь дадут сражение, в коем австрийцы наконец сожгут турецкий флот. Из числа превращений, кои поразят глаза непостижимою скоростью, заметим: 1) волшебный Арам, превращенный в верблюда, а сей в истукана богини Минервы, 2) гишпанец, который, танцуя, сбросит руки и ноги, которые обратятся в нимфы, а сам в Венеру»[314]. За «Великодушным Султаном» следовала драма в 3 действиях[315]: «Анжело великий разбойник или дух в полуночи». За оной последует балет с превращением в 3-х же действиях, кои суть: 1) Старый дуб превратится в Дианин храм. 2) Кровать, на которой лежит маленький гений, в городские часы. 3) Юпитер с орлом полетит на облако, из которого выпрыгивают 6 маленьких купидов, а облако поднимается опять наверх и, оставив по себе памятник, превратившийся в софу, на которой сидит принц с принцессою, софа превращается в кабриолет с лошадьми и слугами, в котором сидят принц и принцесса и отъезжают в столицу». В 20-х годах прошлого столетия[316] угощала кукольною комедиею в течение ряда лет некая г-жа Гобе. Звали ее Дарья Антоновна, и она извещала почтенную публику, что она «имеет кукольный театр со многими переменами и типами для увеселения детей».
Само собою понятно, что выгодное положение дома и сравнительное удобство устроенных в нем помещений привлекало в дом сперва Чичерина, а потом Куракина и Коссиковского, не только жильцов, но и главным образом торговцев. Так «в Телянской (т.-е. итальянской) лавке[317] продаются разные товары, а именно: масло прованское, конфекты италианские, сухие и в водке тож, мариней (т.-е. маринад) в масле, каштаны сухие, чернослив королевский, кедровые орехи италианские, пшено сорочинское хорошее, лимоны свежие, лимонный сок, вода благовонная, уксус самый хороший, шириак венецианский, шоколад италианский с ванилью и без ванили, бумага, музыкальные струны римские разных сортов и для контр-басу, камельки мраморные и столы, бюсты и разные мраморные вещи, сыр римский и сделанный из овечьего молока, еще свежий сыр, называемый проватор мардоли и римские картины печатные, которые сделаны в Венеции, разные увеселения, для Ее Высочества составленные, каждая комедия из 11 штук — как видим, торговля в этой италианской — она звалась сокращено: «тальяиская» — лавке была очень разнообразная, начиная с гастрономии до «мраморных камельков» (т.-е. каминов), от «благовонных вод», т.-е. духов, до «печатных римских картин». Эта лавка носила название «итальянской», но уже в 1772 году[318] в этом же доме поселился италианский купец Бертолотти, который открыл здесь «овощную лавку, называемую Болонья, в которой производится по иностранному манеру продажа в розницу чай, сахар, кофей, винные ягоды, миндали, изюм, чернослив, сыр, масло пермазанское, итальянская колбаса, рис, перловая крупа и прочие столу принадлежащие вещи». Отметим характерную особенность XVIII века: магазины и лавки в то время назывались именами тех городов, из которых выезжали их владельцы. Так Бертолотти был выходцем из Болоньи, и лавка его звалась «город Болонья», в том же доме Чичерина много лет под ряд существовала лавка «Амстердам», владельцем которой был амстердамский купец, и т. д.[319]. В 1790 году[320] «под Чичериновым домом в новой Итальянской лавке у Ипполита Вогака продается сходною ценою аппробованый состав для совершенного истребления клопов», в 1781 году[321] «продается разной рульной, также французской, немецкой и голландской нюхательной и курительной табак, как-то Кнастер, Порторико и разные другие самые лучшие мешечные и картузные и курительные табаки»; в 1786 году[322] — «самое лучшее флорентийское вино Аматино 1 р. 50 к., Мараскен по 2 р. 50 к., Олья лучшая французская памада с духами»; в 1790 году[323] «можно получать разные из Лондона музыкальные инструменты» — этот перечень свидетельствует, как разнообразна была торговля в описываемом доме. Нужно указать и еще одну особенность этого дома: в 1780 году[324] в нем открылась аптека, которая оставалась в этом доме до самого последнего времени, конечно, переменяя только владельцев. Из числа последних особенно был известен аптекарь Карл Имзен или как он себя именовал «аптекарь и ордена святого Владимира 4 степени кавалер». Имзен был очень предприимчивый аптекарь и изготовлял различные патентованные средства, которые он умел к тому же усиленно рекламировать, и наши деды и бабки верили в целебную силу «Имзенского шоколада» и «Имзенова рооба», а про последний сам составитель и изобретатель его писал такие строчки[325]: «Польза многих лекарств из царства прозябаемого при лечении любострастных болезней давно уже известна и ежедневно подтверждается тем, что они одни уничтожают многие виды сих болезней: для уничтожения прочих подкрепляют весьма сильно действие ртути. Истина сия доказывается продажею многих так называемых рообов, выписываемых из чужих краев, равно и ежедневным прописыванием так называемых кровоочистительных декоктов. Потребность сего средства возбудила во мне желание найти состав, который содержа в себе целительные составные части в концентрированном виде мог бы самым простым и надежным образом заменять столь часто употребительные декокты и все иностранные на сей конец приготовляемые рообы. По многим трудам и усилиям удалось мне найти весьма действительное средство от застарелых хронических болезней, известное под именем «Имзенова рооба». Я могу рекомендовать теперь публике сие средство, исследованное медицинским советом и найденное для предлагаемой цели весьма полезным. Оно может быть полезно: в застарелой венерической ломоте, в последствиях любострастной болезни, после употребления ртути, равно и в болезнях, происшедших от чрезмерного употребления оной».
Не менее любопытна хроника и других домов, расположенных в этой местности. В нижеприводимой таблице мы видим переход этих домов к различным владельцам, причем за XIX век этот переход отмечается нами довольно последовательно, сведения за XVIII век более отрывисты, но все же эта таблица позволяет восстановить постепенную застройку данной местности, застройку нынешнего Невского проспекта. Одним из первых по времени постройки был дом, находившийся против вышеописанного дома Чичериных, по другой стороне Невского проспекта, между большой Морской и набережной Мойки. С 1712 года[326] по 1778 год, т.-е. в течение 66 лет этот дом принадлежал иноземцу Нейману и его наследникам. Архитектура этого дома была довольно своеобразная; по крайним углам на Морскую улицу и Мойку дом этот был в два этажа, часть же дома, выходившая на Невский проспект, была одноэтажная и, представляя погреба, не имела на Невский проспект окон. Это обстоятельство подтверждает уже не раз высказанное нами положение, что Невский проспект, в рассматриваемое время, не представлялся главной улицею, иначе, конечно, не была бы разрешена постройка на Невский проспект простых погребов.
Если в архитектурном отношении дом Неймана не представлял из себя чего-либо интересного, то в бытовом, в истории житейских отношений петербуржцев хроника жизни этого дома заслуживает большего внимания.
«Перед недавним временем, читаем мы в номере «С.-Петербургских Ведомостей» от 27 ноября 1738 года[327], — прибыло два савояра сюда и привезли с собою в Версалии сделанный кабинет с преудивительными вещами, которые они здесь за деньги показывают». Любопытная черточка — «показывают за деньги»; савояры таким образом предупреждают, что «бесплатных» посетителей они не будут пускать. Что показывали эти два савояра— приводим подлинное описание: «Где можно видеть персону короля Французского с королевою, дофином и с принцессами, его величества дочерями, также всю высокую фамилию его величества короля аглинского и всех знатнейших министров французского двора в совершенной величине их роста, в платье и со всем убором, в котором они при дворе ходили, а потом для положения на сии подобии их лиц помянутым савоярам отдали». — Последняя фраза требует пояснения: савояры получили одежду тех лиц, восковые фигуры — «подобия» — которых они сделали и одели в полученную в подарок одежду. Как же были сделаны эти восковые фигуры? На этот вопрос савояры сами дают ответ: «С сим кабинетом не только в самой Франции, но и во многих европейских дворах были, и от всех, которые ево видели, особливую хвалу получили и не только чужестранные, но при французском дворе многие персоны, посмотря на вышереченные подобия засвидетельствовали, что их с живыми лицами, которые сим художеством представляются, весьма трудно распознать».
После такого вступления следовало со стороны савояров приглашение петербуржцам в следующей форме: «Ежели же кто сих диковинных вещей смотреть пожелает, те б изволили днем или в вечеру в самый последний дом на углу у большого лугу на дворе портного иноземца Неймана у зеленого мосту против погорелых лавок приходить, а хозяин того двора называется г. Берки; за помянутое смотрение берется с персоны по произволению, а именно по полуполтине, по 2 гривенника и по 10 копеек».
Савояры прогостили в Петербурге с 1738 по 1739 год; их сменил в том же доме Неймана «приехавший сюда из немецкой земли купец Иоганн Даниэль Альбрехт». В 1743 году он привез с собою «разные хорошие и редкие товары из серпантинова камня, который не терпит ничего ядовитого, из которого имеются у него разные сервизы, также чайные и кофейные доскани, в которых все свежее содержать можно, также имеет из сего каменя некоторые полезные к разным болезням»[328].
Счастливое прошлое! достаточно было иметь сервиз из «серпантинова камня», и можно было быть уверенным, что никто не сможет отравиться, так как «серпантинов камень не терпит ничего ядовитого».
«В 1769 году 25 октября[329], т.-е. в воскресенье пополудни в Неймановом доме близ зеленого мосту у французского трактирщика Пото разыгрывать будут весьма изрядной кабинет и китайские фигуры снаружи тонким черным лаком, а внутри красным лакированые и медными цепочками украшенные. Билеты раздавать будет помянутой трактирщик каждый по 5 рублей, где и помянутой кабинет всякому видеть можно».
И наконец в 1779 году[330] «в бывшем Неймановом доме на Мойке показывается муфта, сделанная из человеческих волос весьма искусно, за стеклом. Те, которые оную видеть желают, платят по 50 коп.»
Близость дома Неймана к проезжей дороге, к Адмиралтейству, к Морским слободкам — известно, что моряки никогда не принадлежали к трезвенникам — обратила на этот дом внимание виноторговцев. Уже в 1739 году «Иноземец Октавий Бартоломей Герцен» продавал в нем[331] «разные водки наподобие гданских водок зделанные, лучшие сорта фляжки по 90 коп., а целый ящик 43 рубля, в котором 50 фляжек, да у него же продается недорогою ценою разных сортов, а именно Шпанское, Алеканти и другие хорошие виноградные вина»; в конце 70-ых годов XVIII столетия здесь был Итальянский погреб[332], в котором продавалось «аглинское пиво по 20 коп. бутылка» (в итальянском погребе продавать английское пиво!), его сменил французский винный погреб[333], который продавал то же пиво, но уже по 10 коп. бутылка; кроме того, в 40-ых годах того же столетия здесь продавались «лучшие свежие устерсы (т.-е. устрицы), привозимые из Ревеля[334]. Устрицы привозились в декабре месяце, и продажа ими производилась целый январь месяц. Кроме виноторговцев, этот дом полюбили «золотых дел мастера[335], часовщики, например, здесь жил придворный часовщик Жан Фоза, у которого в 1774 году[336] были украдены «гладкие золотые карманные часы на французский образец, с гладким золотым футляром, вырезанными краями и с переломленным у секундной стрелки концом и с надписью мастера «Garneci à Jenève». Очень долго в доме Неймана жил некто француз Шарпантье[337], он был учителем французского языка в Академической гимназии, автором первой русской грамматики «с французским переводом в пользу желающих обучаться языку российскому». Шарпантье продавал свою грамматику по 1 рублю за экземпляр. Но, нужно думать, продажа шла плохо, и предприимчивый француз, несмотря на свое положение учителя Академической гимназии, не замедлил открыть продажу более выгодного товара — «самой хорошей пудры и крахмала бочками»[338]. Очевидно торговля пудрою не повредила Шарпантье, так как ему была поручена продажа «новонапечатанной книжки Letters d'un scythe franc et loyal ou rescitation du voyage de Sibérie publié par M. l'abbé Chappe[339] — это опровержение записок аббата Шаппа продавалось по 25 коп. за экземпляр.
Но кем был Нейман? Биографических данных, кроме того, что он был иноземец, портных дел мастер, мы не нашли, но, видимо, он, приехав в Россию, сделался богатым человеком и любил комфорт, что ясно видно из распродажи оставшегося после его смерти имущества: обстановка его была красного дерева, причем были какие-то «особливые кадрильные столы», фарфоровый сервиз, двуместная карета и пара карих лошадей[340]. В 1778 году, как мы указали выше, наследники Неймана продали свой дом купцу Шаде, который им владел до 1794 года[341], когда дом купил какой-то надворный советник Штандт. При купце Шаде дом не изменил своей внешности, ни характера своих жильцов, хотя вследствие того, что рядом появились значительные дома Чичерина и Овцына, большинство торговцев повыехало из бывшего Нейманова дома. Оставался верным лишь голландский торговец Ле Роа, который содержал здесь магазин под громким наименованием «Роттердам», где продавал «сельтерскую воду, хороший шоколад а ла ваниль, чернила разных сортов, бумагу, сургуч и перья[342]».
В начале XIX века дом перешел к купцу Котомину, который и перестроил старый неймановский дом в существующий по сие время четырехъэтажный дом. Этот дом с 1827 года[343] избрал своею резиденциею один из многочисленных зубных врачей С.-Петербурга — «Нижеподписавшийся зубной врач из Берлина сим извещает почтенную публику, что он лечит всякого рода зубные и в деснах болезни. Средствами его предохраняются десны от цынготной боли, а зубы от гнилости, воспаления и других опасных последствий. Он также ровняет зубы, чистит, наполняет их золотом, так что в оные не может проникнуть воздух, укрепляет шатающиеся, выдергивает испорченные, вставляет новые передние, коренные и целые ряды зубов, хотя бы даже и ни одного бы не было не из кости, но приготовленные в чужих краях из самой крепкой массы и имеющие весьма искусно шлифованную тонкую эмаль. Сухие мозоли на ногах и врастание в тело ногтей вырезывает без боли. Давид Валленштейн у Полицейского моста дом Котомина, к коему вход с Невского подле кондитерской лавки». В следующем же году этот же зубной врач и мозольный оператор[344] «имел честь уведомить почтенную публику, что недавно получил из чужих краев хорошую, прочную и весьма натуральную массу, употребляемую для вставления новых зубов, а также партию прекрасных белых и здоровых натуральных человеческих зубов, надеясь, что они будут соответствовать желанию каждого не только потому, что они красивы, натуральны, но и потому, что они прочны». Далее зубной врач расхваливал свое искусство: «Я вставляю также как по одному зубу, так и целыми рядами, даже если у кого ни одного зуба нет во рту, заменяя совершенно оный недостаток и укрепляю зубы таким образом, что от того нимало не повреждаются подле стоящие, но и те, которые несколько шатаются, утверждаются вновь вставленными и могут еще долгое время служить. Все потребное от моего искусства постараюсь я, сколько возможно лучше и прочнее на самых выгодных условиях».
Очевидно, этот врач приехал в счастливую минуту, так как он пришелся по вкусу петербургским обывателям и навсегда обосновался здесь и, кажется, прожил всю свою жизнь на одной и той же квартире. Об этом враче написал несколько строк в своей «Северной Пчеле» Ф. Булгарин. Начал свою заметку Ф. Булгарин по обыкновению издалека[345]: «У испанцев есть пословица: «не пускайся в путь с злым человеком и с больным зубом. Зубная боль в дороге и походе беда! Если умный и осторожный человек осматривает перед путешествием экипаж, все ли винты на месте и исправны ли рессоры, то гораздо умнее и осторожнее поступит тот, который запломбирует или вырвет испорченный зуб перед путешествием!» После такого вступления, которое должно было, по мнению Ф. Булгарина, заинтересовать читателя, следовало указание, что «в Петербурге есть столько зубных врачей, сколько здоровых зубов у жителей столицы». Указав на громадное количество зубных врачей, Булгарин восклицал: «всем этим господам мы свидетельствуем свое почтение, не оскорбляем их ни словом ни намеком и рекомендуем зубного врача Давида Валлентштейн (отец), живущего у Полицейского моста в доме Котомина». Оказывается, что для такой рекомендации у Ф. Булгарина были веские основания: «г. Валленштейн уже более двадцати лет печется о зубах всех лиц, составляющих редакцию «Северной Пчелы», с их чадами и домочадцами», и, подчеркивал Ф. Булгарин, «кажется, нельзя сказать, чтоб редакция «Северной Пчелы» была беззубая. На зубок (курсив подлинника, кроме того, была сноска следующего содержания: в просторечии взять или правильнее поднять кого-либо на зубок значит осмеять) мы никого не берем, а раскусим, что следует раскусить!»
Как характерна эта выписка для прошлого русской жизни! Не забудем, что эти строки появились на столбцах самой распространенной и большой политической газеты того времени. После такого намека на достоинства «Северной Пчелы» шло описание достоинства и самого Валленштейна: «г. Валленштейн весьма скуп на чужие зубы и говорит: вырвать легко, но вырастить зуба нельзя; а потому вырывает в крайней необходимости. Пломбирует он удивительно золотом и разными массами и вставляет весьма ловко искусственные зубы превосходной парижской работы, которые заменяют естественные с тою разницей, что не вросли в челюсть, хотя держатся столь крепко, как натуральные».
После такого восхваления Ф. Булгарин заканчивал свою заметку обычною для него фразою: «Говорим истину, побуждаемые чувством признательности к г. Валленштейну и по непоколебимому нашему правилу извещать наших читателей о всем полезном».
Эти сведения о Валленштейне позволяют нам привести справку вообще о зубных врачах и зубной болезни в старом Петербурге, тем более, что эта справка отличается многими колоритными подробностями, оживляющими былую жизнь былой столицы.
«Прошлого 722 года Июня 19 дня в Колтовской по дороге на Васильевский остров был задержан дозором отставной солдат Иван Красков с плахой дров» — его заподозрили в воровстве этих дров. А когда его стали обыскивать, то нашли при нем платок. Развязали платок, из пего посыпались травы, корешки, сделанные из дерева жеребейки и какие-то непотребные письма.
Разобрали прежде сего эти письма, оказалось, что они «до тайной канцелярии не косны, еретичества и важного непотребства не содержат, а всего на всего заговорные, а призываемо в них имя Божие всуе и содержат они только кощунство и обман».
Первое письмо было таково: «Господе Иисусе Христе, сын Божий, помилуй меня грешного! Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Стану я, раб божий, благословясь, пойду, перекрестясь из избы во двор; со двора воротами в чисто поле; в восточной стороне святая гора; на той святой горе стоит святая церковь; в той святой церкви лежит гроб, в том гробу лежит мертвец, круг того гроба ходит поп с кадилом и говорит такие речи: «Как у этого мертвеца не болят зубы, не опухают чирки, не отекают десны, не бьет червь коренновая и верховая в день при солнце, в ночи при месяце, на ветру и на холоду, так у этого раба Божия (имя рек) не болели бы зубы»... Вторая бумажка гласила: «Четыре сестрицы, Захарий, да Макарий, сестра Дарья да Марья, да сестра Ульяна, сами говорили, чтобы у раба Божия (имя рек) щеки не пухли, зубы не болели, век от веку, от ныне до веку, тем моим словам ключ и замок; ключ в воду, замок в гору». И наконец на третьей бумажке было написано: Ежели болят зубы, подойди к рябине и погрызи ее, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь, всю тебя изгрызу»[346].
Солдат Красков попал не в тайную канцелярию, а на криксрехт (военный суд). Презус премьер-майор Василий Аничков и асессоры допросили солдата сперва «просто», а потом, получив от господина генерала и кавалера князя Михаила Михаиловича Голицына «ордер» и с «пристрастием, под батогами, в застенке на виске».
Но солдат говорил те же речи, что и при первых допросах: «за ним идолопоклонства, чернокнижества, богохуления, ружья заговаривания, чародейства нет, и никакого с диаволом обязательства не имеет, а принесенными с ним жеребейками он ворожит про себя, а именно о здоровье и о смерти, также и о других домашних нуждах, а людям никому не вораживал. А травы де, которые с ним принесены, хотел он топить в печи и пить от грыжи и от ломоты и от животной болезни, и от вередов, и от других подобных болезней и другим их хотел давать для такого пользования».
Вышеозначенные травы и коренья, при присутствии презуса и асессоров, свидетельствовали штаб и полковые лекари и по свидетельству сказали и подписали, что - де во оных травах и кореньях и в прочем во всем, кроме пользы от разных болезней, никакова худа и порчи и погублению человеческому не касается, понеже-де оное употребляется в лекарстве к пользе человеческой от разных болезней».
И на криксрехте приговорили солдата Краскова — «хотя-де в военном артикуле напечатано: ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный и богохулительный чародей, оной но состоянию дел, в жестоком заключении и в железах, гоняются шпиц-рутеном или наказан сожжен имеет быть», но в толковании того артикула пояснено: «наказание сожжением есть обыкновенная казнь чернокнижца, ежели он своим чародейством вред кому учинил или, действительно, с диаволом обязательство имеет. А ежели он чародейством своим никому никакого вреда не учинил и обязательства с сатаною никаково не имеет, то надлежит, по изобретению дела, того другими высокопомянутыми наказаниями и притом церковным публичным покаянием, а посему означенного Краскова прогнать шпиц-рутеном через баталион шесть раз и послать в Святейший Правительствующий Синод».
Прогнали Краскова через батальон шесть раз, — ничего, отставной солдат вынес наказание и был доставлен в Синод, где вторую сентенцию учинили: «непотребные присланные с ним письма и жеребейки сжечь, чтоб впредь таковые непотребства в простонародствии ни от кого употребляться и размножатся не могли, а Краскова послать Его Императорского Величества при указе церкви Успения Богородицы к обер протопопу Степану Ярмарковскому на публичное покаяние[347]». Получив указ обер-протопоп распорядился широко оповестить свою паству о предстоящем публичном покаянии, и маленькая деревянная церковь Успения Пресвятыя Богородицы, настоящее народное название «Николы на Мокрушах», — место это было низкое, при каждом морском ветре заливаемое Невой — была битком набита, прихожане толпились даже в ограде. А посреди церкви, понурив голову, окруженный еще стражею, стоял на коленях Иван Краснов. Отошли часы. Из алтаря вышел дьякон и, громогласно на всю церковь прочитав указ Синода, прибавил, указывая на Краскова: «И ныне он, Красков, ту свою вину исповедуя, приносит покаяние и просит от всемилостивого Бога отпущения. Того ради, извольте вси православнии, слышав оное его покаяние, от таких и подобных тому причин остерегаться, а о нем, кающемся, дабы сподобился он от Господа Бога прияти прощение, помолитеся».
После этого слова дьякона Красков подошел к амвону, сделал три земные поклона и, обратившись лицом к народу, повторял за дьяконом следующие слова: «Я, нижайший и всех грешнейший раб, пред Господом Богом и пред вами, православными христианами, за предъявленное мое сокрушение, со сокрушением сердца, и со осуждением того греха прошу прощения пред всеми и молю ради человеколюбия вашего помолитеся о мне грешном, чтобы оный мой грех от Господа Бога мне оставился в жизни сей и в будущем веце. Аминь».
После совершения божественной литургии обер протопоп Ярмарковский составил надлежащий акт, который был подписан всем причтом и к которому Красков «по безграмоте своей приложил крест».
Правосудие было удовлетворено, и Красков, после почти годовой волокиты, был отпущен к себе домой, в Колтовскую, и надо думать перестал собирать и травы и коренья и хранить заговорные письма от грыжи и ломоты и от зубной боли[348].
«Болеть зубами» в то время, в дни Петровы, было вообще очень неприятно и могло привести к совсем нежелательным последствиям. При Петре Великом постоянно были два набора хирургических инструментов, и сам император не раз делал операции. «Проезжая мимо дома купца Борст, — писал в своем дневнике Ф. В. Берхгольц[349], — герцог голштинский увидел стоявший там перед крыльцом кабриолет императора и после узнал, что его величество уговорил наконец, г-жу Борет, одержимую водяною болезнею, позволить ему в этот день выпустить из нее воду. Государь будто бы употребил для этого род насилия и не мало гордился, что ему посчастливилось выпустить из больной более 12 фунтов воды, тогда как при попытке какого-то английского оператора показалась только кровь. Императрица, говорят, сказала в шутку его величеству, что его за эту операцию следовало бы сделать доктором, на что он отвечал: нет, не доктором, а хирургом, пожалуй.
Тот же самый Берхгольц повествовал, что[350] «мне немало было хлопот с денщиком и фаворитом императора Василием Петровичем, который в присутствии императорских принцесс и его королевского высочества схватил меня за руку и потащил в другую комнату, где я должен был с ним пить. Он страшно приставал, чтобы я решился позволить вырвать мне мои больные зубы».
Но если Берхгольцу, видимо, удалось избегнуть операции, то не так-то счастлива была жена камердинера Полубояринова, о которой рассказывает Штелин[351]. «Эта жена была великая щеголиха, и Петр I вырвал весьма искусно один здоровый зуб, к чему приведен был ее мужем, который крайне досадовал на ее распутство. А сие случилось таким образом. Государь, нечаянно застав своего камердинера в передней погруженного в глубокую задумчивость, спросил его, что с ним сделалось, что он так печалится. «Ничего, — ответствовал он, — а печалюсь я о своей бедной жене, которая от непрестанной зубной болезни совсем почти изнемогает, однако ж никак не допускает у себя вырвать больной зуб». — «Я ее тотчас к сему уговорю, — сказал государь, — и скоро восстановлю покой». И в самом деле его величество пошел немедленно с ее мужем к его жене, у которой ни один зуб не болел. Она должна была сесть и дать осмотреть свои зубы; однако ж всеми силами отрекалась, что они у нее совсем не болят. — «Это-то и несчастье, — сказал комердинер государю, — что она всегда утаивает боль, а как скоро уйдет лекарь, то тотчас начинает стонать». — «Хорошо, хорошо, — продолжал государь, — скоро она перестанет стонать, держи только крепче ей голову и руки». — Тогда его величество, сколько она ни плакала, зубными своими клещами, с великою осторожностью и чрезвычайным проворством выдернул ей мнимый больной зуб».
Обман через несколько дней открылся, и камердинер Полубояринов познакомился с царскою дубинкою, которая походила по его плечам.
Первый дантист или зубной врач, практиковавший в Петербурге и оставивший после себя след, был выходец из Лифляндии, некто Фридрих Гофман. Он действовал в Петербурге довольно значительный промежуток времени, по нашим данным, с 1732 по 1744 год. Можно думать, что Гофман был выписан в Петербург другою медицинскою известностью того времени доктором Краузе, родственником знаменитого Бургава; по крайней мере в свой первый приезд Гофман остановился у Краузе. Первое время Гофман именует себя «оператором», но вскоре заменяет это название «зубным лекарем». Таким образом, можно предположить, что ГоФман был всего-навсего немецким фельдшером и только в России превратился в зубного лекаря. В начале своей деятельности он проявлял более обширную практику: «Его операции, — писал он в своем объявлении 1732 года[352], — особливо в сем состоят, а именно: бельма снимать, зубы вынимать и вставлять, всякие мозоли и бородавки сгонять. У него имется также зело изрядное лекарство от глаз и зубов, в чем он каждому по достоинству услужить потщится».
Неудачными были его первые опыты снимания бельм или была какая-нибудь другая причина, но в дальнейшей своей практике Гофман не упоминает о глазных операциях, также он не указывает на себя, как на мозольного оператора. Но ведь в первом своем объявлении Гофман обещал и «каждому по достоинству услужить потщиться», он заискивает перед публикою, он приглашает её к себе и, очевидно, публика пошла к зубному лекарю, так как он не оставил своих наездов в Петербург, и в дальнейших извещениях он только упоминает, что он приехал в Россию и остановился там-то и там-то. «Зубной лекарь Фридрих Гофман объявляет через сие, что он ныне живет на Переведенской улице, на дворе Петра Алексеевича сына Волкова во второй улице на правой руке за рогаткою, перешедши синий мост[353] или «о зубном лекаре Фридрихе Гофмане объявляется, что он в непродолжительном времени отсюда отъезжает и ежели кто до него какую нужду имеет, тот бы оного искал в квартире его на большой улице в доме Федора Степанова сына Журовского, против самого Зимнего дворца[354]. Лечил Гофман зубную боль, как видно, ваннами и припарками — «у него в доме можно в ванне мыться и употреблять пары из лекарственных трав зделанные, но сие надобно у него наперед заказать[355] и «припарками» — зубной лекарь Фридрих Гофман для охотников делает припарки из трав и муравьевых яиц[356].
Очевидно, пользуясь известностью среди петербуржцев, Фридрих Гофман не мог заслужить благорасположение «сильных мира сего» и не мог проникнуть ко двору. Это обстоятельство подтверждает косвенно нами высказанное предположение о недостаточности образования Гофмана, о неимении у него докторского свидетельства. И слава первого (нам известного) придворного зубного врача принадлежит французскому доктору Жеродли.
«Для услуг Его Высококняжеской светлости герцога Курляндского, из Франции призванной сюда зубной лекарь г. Жеродли, уже свое лечение окончил. А его высококняжеская светлость в изрядное и совершенное состояние здоровия своего приведен. Помянутый лекарь имел пред недавним временем высочайшую честь ее императорскому величеству зубы чистить и за оные труды получил в вознаграждение 600 рублев. От ее светлости герцогини Курляндской же тоже подарено ему 200 рублей. А от его высокоупомянутой княжеской светлости герцога прислан ему пред несколькими днями в подарок, золотым позументом обложенная и преизрядным лисьим черевьим мехом подбитая, епанча»[357]. Мы нарочно привели это известие целиком, так как оно очень характерно для столь отдаленной от нас эпохи: у Бирона — высококняжеской светлости, любовника императрицы — болят зубы, выписывается, конечно, на государственные средства, доктор, когда лечение оказалось успешным, то ему подвергается и императрица; а за этими двумя высокими особами следуют, без сомнения, все придворные лица, и, надо думать, что на куртагах и званных балах 1737 года не было видно черных зубов — все они были вычищены французским лекарем Жеродли.
Интересен также и гонорар, полученный этим французом. Принимая во внимание, что деньги того времени около 8 раз дороже довоенного рубля, мы видим, что чистка зубов императрицы обошлась почти в пять тысяч рублей. Следует также обратить внимание и на то обстоятельство, что Бирон заплатил не деньгами, а епанчею — до известной степени подтверждается известие о скупости и скаредности Бирона.
Доктор Жеродли пробыл в Петербурге недолго, до конца весны 1738 года: «понеже французской зубной лекарь Жеродли в публичных ведомостях отъезд долее отсрочил, того ради всем в его пользовании нужду имеющим, чрез сие и объявляется, что он еще некоторое время здесь пробавится, и прежде будущей весны в Париж не поедет»[358].
И лекарь Гофман снова возобновил печатание своих объявлений, снова возобновил практику среди петербужцев. Вообще надо заметить, что чуть ли не до конца 70-х годов XVIII века Петербург довольствовался одним зубным врачем; сперва действовал Гофман, его сменил «зубной врач Теппе», далее в 60-х годах сначала действовал врач из Лифляндии Ян, а потом «парижский врач Ле-Ноар», и только к концу XVIII века столбцы «Санкт-Петербургских Ведомостей» единственной петербургской газеты того времени, печатавшей «частные известия», что соответствует нынешним объявлениям, запестрели от объявлений парижских, берлинских и английских зубных врачей.
С одним из таких врачей, в конце пятидесятых годов XVIII века, случился довольно любопытный инцидент. Этот врач, к сожалению, мы не знаем его фамилии, приехал в Петербург из-за границы по зимнему пути, что уже одно является необычайным. Чающие прибыли иностранцы приезжали обыкновенно осенью с последними кораблями, пробывали в Петербурге зиму и весною отъезжали обратно домой. Но этот зубной врач приехал 4 февраля 1757 года и остановился в лучшей местности Петербурга в доме купца Меера в Миллионной улице. Дом купца Меера уже не существует, но он занимал часть участка, ныне принадлежащего бывшему архиву Государственного Совета и был на углу к Зимней канавке, рядом с ним был «почтовый двор», и у Меера останавливались обыкновенно знатные иностранцы. Остановившись в доме Меера, этот зубной лекарь «искусной и при многих дворах испробованной», поместил в «С.-Петербургских Ведомостях» объявление, из которого было видно, что «этот лекарь весьма искусно вынимает зубы и опять вставливает», причем этими «опять вставленными зубами можно действовать так, как родными», кроме того, «очищает их от всякой нечистоты и имеет надежное средство зубную боль утолять в момент и зубы хранить» — объявление было заманчиво, и «апробованной зубной лекарь» уже заранее предвкушал обильную жатву от доверчивых петербуржцев. Но в защиту последних выступила уже образованная и действующая медицинская канцелярия, которая через неделю после объявления дантиста поместила следующее разъяснение[360]:
«Из медицинской канцелярии сим объявляется, чтоб приехавшего сюда недавно зубного лекаря» и объявленного в прошед ших ведомостях под № 10 от 4 февраля, которого помянутая канцелярия не знает и не экзаменовала и к лечению зубных болезней позволения она ему не давала, никто к себе в силу указов, прежде публикованных о неэкзаменованных лекарях, не призывали, дабы вместо желаемой пользы не получить какого вреда».
Таким образом, «апробованной лекарь» должен был отправиться в медицинскую канцелярию, выдержать там экзамен, получить разрешение и тогда только начать практику. Надо думать, что этот случай произвел сильное впечатление, так как последующие врачи в своих объявлениях усиленно подчеркивали, что «по хорошему знанию в пользовании страждущих зубною болезнею людей» — им дано от государственной медицинской коллегии позволение лечить зубные болезни.
Первым из зубных врачей, более подробно изъяснившим свои приемы лечения, был парижский врач Ле-Ноар, прибывший в Петербург в 1775 году. Оказывается, что Ле-Ноар «имеет способ испорченные зубы сохранить; он может жестокую их боль через минуту укротить. Вырывает оные с особливым искусством, также и сломанные зубы и коренные. Он очищает рот так искусно, что ни малейшей боли не чувствительно. Укрепляет шатающиеся зубы, приводит их в порядок, наполняет пустые зубы свинцом, расставляет те, кои плотно стеснены, при надлежащем порядке, вставляет также подделанные зубы, которые никогда не переменяются и с натуральными так сходны, что они и от больших знатоков не иначе могут быть признаны: словом, он знает от всякой зубной нечисти хорошие способы»[361].
Из способов Ле-Ноара против «всякой зубной нечисти», заслуживает внимания способ заливания пустых зубов свинцом. Таким образом, первые пломбы, которые начали делать в Петербурге, были свинцовые, искусство делать золотые пломбы, как кажется, привез в Петербург Самуэль Бернд, который в 1821 г. получил разрешение от Дерптского университета на практику зубного врача, — по крайней мере этот дантист заявлял: «пустые зубы» наполняет золотом, так что в оные не может проникнуть воздух и произойти дурной запах или гниль[362].
Уже Ле-Ноар указывал, что он вставляет поддельные зубы, которые даже и знатоки не смогут отличить от настоящих, но как Ле-Ноар, так и большинство врачей ХVШ века не поясняли публике, как и из чего делаются эти искусственные зубы, по крайней мере мы нашли только одного врача из Парижа Шоберта[363], который в 1778 году предлагал вставлять «натуральные и искусно подделанные зубы» — под словом «натуральные» он, конечно, подразумевал здоровые человеческие зубы. Дантисты начала XIX века, наоборот, усиленно подчеркивали, что они вставляют «искусственные зубы», причем эти зубы делаются не из кости, но «из изготовленных в чужих краях из самой крепкой массы», причем подчеркивалось, что эти зубы имеют весьма искусно шлифованную тонкую эмаль, которой цвет никогда не переменяется[364]. Вскоре эта «крепкая масса» перестала выписываться из-за границы, — «два зубных врача Фонси и Гаму привилегированный врач их королевских высочеств герцогов Ангулемского и Беррийского, вступили в компанию и стали на Екатерининском канале в доме Гадле против государственного банка делать, землено-металлические непортящиеся зубы»[365]. Первое время зубные врачи рисковали вставлять зубы поодиночке, затем они указывали, что им безразлично, как вставлять: поодиночке или целыми рядами, наконец в 1822 году[366] «иностранец Розенталь, российско-императорский экзаменованный зубной врач», извещал почтенную публику, что он вставляет «одинокие и целые ряды зубов, приготовленных из разных масс, кои у него получать можно даже в таком случае, если у кого нет ни одного зуба. Эти весьма искусственные зубы не подвержены ни перемена цвета, ниже дурному запаху».
Известный петербургский врач ХVШ века Бахерахт применял к зубной болезни нечто совершенно особое, — он стал лечить зубы помощью магнита. Предоставим слово самому творцу этого оригинального способа лечения[367]: «магнитную силу от зубной болезни нашел я чрез многие опыты столь надежною, что мне об оной не осталось уже никакого сомнения. Сие средство показалось мне сперва весьма слабым, потому что я действия оного понять не мог, чего ради не намерен я был чинить оным опытов; однако ж к тому почти был принужден, будучи позван к некоторой женщине, одержимой жестокою зубною болезнью. У ней гнил попорченный зуб; ничто муки ее не облегчало, и я не знал ей дать другого совета, как чтоб она тот зуб велела у себя вырвать; токмо упомянутая женщина, несмотря на жестокость болезни, на то не склонялась. Я взял, наконец, искусством сделанной магнит и, оной приложив к больному ее зубу, держал несколько минут, после чего, к крайнему моему удивлению, боль ее менее нежели в полчаса миновалась. Сей опыт чинил я и над другими людьми и нашел, что во всех родах зубной боли магнит совершенное имеет действие».
Как видим, Бахерахт указывает, что он нашел способ лечения зубной боли магнитом совершенно случайно, даже более того, он не хотел и пробовать этот способ лечения, так как «действие оного понять не мог», но обстоятельства заставили его применить магнит, и результаты получились блестящие. Но, достигнув таких результатов и принимая во внимание, что «не всякий может применять сие средства», а во-вторых, что «весьма многие страждут оною болезнею», Бахерахт открыл у себя прием бесплатного лечения зубной болезни магнитом. Для этого больные должны были приходить к нему на квартиру по утрам в восьмом часу. Бахерахт при этом указывал, что сперва «больные чувствовали при оном небольшую боль, после великий холод и стук в зубе, а, наконец, зуб совсем онемел, и боль вдруг прекращалась. По сие время я ни одного еще не видел больного, добавлял в заключение Бахерахт, у которого бы после того зуб опять заболел».
Почти через сто лет «магнит Бахерахта» заменился в Петербурге способом поручика Бородина[368]. Когда врачебная управа требовала у Бородина докторский диплом, то отставной поручик показывал на богатейший перстень, который блестел у него на руке — перстень был подарок великого князя, супругу которого Бородин вылечил от зубной боли. Врачебная управа примирилась с такою аргументациею, а отставной поручик продолжал свое лечение.
Пациентов у него было видимо-невидимо, брал он за лечение громадные деньги и наносил большой ущерб практике дантистов того времени, так что один из них знаменитый дантист 50—60-х годов прошлого столетия Вангенгейм предложил Бородину двадцать пять тысяч рублей, чтобы он прекратил свою практику. Поручик Бородин только рассмеялся в ответ на такое предложение, указывая, что он зарабатывает в месяц не менее семи тысяч рублей.
Вот как один из пациентов Бородина описывает способ лечения: «велел мне раздеться и лечь в постель, затем подан был кипящий самовар, жаровня с угольями и порожняя кадушка. Кадушкой этой он покрыл жаровню, посыпав на нее предварительно какого-то порошку, издававшего неимоверно противную угарную вонь и, накрыв меня с головою ватным одеялом, велел дышать над кадушкой, наполненной дымом и кипящей водой. Я полагал, что задохнусь на смерть, и через полчаса меня раскрыли.
Неизменно после лечения Бородин рассматривал воду в кадушке и прибавлял: «а вот посмотрим, сколько червяков вышло из больного зуба?!»
Поручик Бородин всегда находил чуть ли не десятки червячков, а большинство его пациентов уходили от него без зубной боли.
Как мог читатель заметить из приведенного объявления зубного врача Валленштейна, вход к нему был рядом с кондитерской Вольфа[369].
В 1788 году в Северную Пальмиру прибыло еще два иностранца, один с совершенно диковинной фамилией Валлот, другой, носящий более знакомое для русского уха прозвище Вольф. Были ли эти два иностранца в родстве или свойстве, или связывало их общее желание поправить свои обстоятельства, мы не знаем, но, очевидно, они заключили тесный союз, так как, прибыв вдвоем, открыв общее дело, они и вели его вместе вплоть до самой смерти одного из них m-r Валлота... Иностранцы эти не обладали какими либо выдающимися артистическими талантами, они были просто-напросто булочниками и кондитерами, но, несмотря на такую скромную профессию, сумели оставить по себе след в петербургской жизни. О своем прибытии эти иностранцы оповестили помощью следующего объявления: «У кондитеров Валлот и Вольф имеются разнообразные, из сахара сделанные, корзиночки и яйца с женскими перчатками внутри». Объявление это было напечатано 11 апреля за две недели до Пасхи и явилось, насколько нам удалось установить, первым объявлением о пасхальных подарках. Надо отдать справедливость Валлоту и Вольфу, они не удовлетворялись только выпискою из-за границы пасхальных яиц, но старались своими подарками заинтересовать петербуржца и ответить, как это ни странно, на запросы времени. Так в 1789 году[370] они выставили яйца с изображением Очакова, в 1790 году к торжеству Пасхи продавались яйца, изображающие сдачу Бендер[371], а в следующем 1791 году[372] торговали «Фигурными яйцами, изображающими победу над Измаилом» — текущие политические события находили отголосок даже в пасхальных яйцах. Кроме этих, если так можно выразиться, политических яиц, неизменно были на прилавках «яйца с женскими перчатками», «яйца à la Flore, деланные яйца и коробки à la sultan и, наконец, Chapeaux de bonne espérance с яйцами, и, наконец, из сахара деланные с именными вензелями яйца».
Заставив говорить о себе при своем появлении на петербургском горизонте, кондитерская Вольфа и Беранже (Валлот, как мы говорили умер, и в компанию к Вольфу вошел некий Беранже) не переставала привлекать внимание петербургской публики и в более позднее время. Вот какими виршами была увековечена перестройки в 40-х годах XIX столетия этой кондитерской, помещавшейся в том же доме Котомина:
Это стихотворение[374] еще интересно и потому, что оно свидетельствует, как слабо была развита общественная жизнь, как мало было вопросов общественности, о которых можно было рассуждать, когда единственная политическая газета того времени могла отводить столько места открытию китайского — кафе Шинуа — кафе-ресторана на Невском проспекте. Да и вообще оказывается, что кондитерские служили не раз темою фельетонов того времени, темою для различных статей, исследований. Вот один из наиболее ярких примеров: «Самые роскошные, самые изящные кондитерские расположены, разумеется на Невском проспекте. Взойдем туда посмотреть, подумать и усладить все свои пять чувств. Бывало, о le beau vieux temps! Бывало в Петербурге были только конфектные лавки, бывало в них купят, что надо, и уйдут, но тогда в Петербурге было еще младенчество конфектного века. В 1822 году уже блистали на Невском проспекте сладкою славою некоторые кондитерские; появились особые залы с фортепианами, с газетами. Приходящие могли играть, читать, кушать, пить, убивать время и деньги. Но что все эта значило перед кондитерскими нынешнего времени (1846 год[375], сияющими наружным великолепием, внутреннею роскошью, изяществом своих сладких товаров, изысканностию самого утонченного вкуса и услаждения!»
«Теперь кондитерскими на Невском проспекте сделались нс лавки, не магазины, а храмы лакомства и мотовства. Убранство по образцам кондитерских Парижа, зеркальные окна, граненые стекла в дверях, ослепляющий газ, благоухающие деревья, фантастическая живопись, богатейшая мебель с бронзою и слоновою костью, щегольские жокеи, множество журналов и газет на всех почти языках, всякого рода афиши и объявления; все прелестно, восхитительно, все удовлетворяет посетителей, даже с самыми изысканными требованиями! Теперь прочь уже слоеные, трехкопеечные пирожки, прочь леденцы с билетцами, прочь миндальное печение; все это осмеяно и выгнано на простые рынки, к русским разносчикам, носящим еще презренное звание: «конфетчика»! Фрукты, виноград, ягоды, плоды, одетые сахаром и сохранившие свой натуральный' вид, вкус и свежесть, фантастического вида конфекты из плодовых соков, из французских духов, подчас из рому и ликеру — обернутые во французские бумажки, бархатные, фарфоровые, кружевные с парижскими портретами, картинками, с золотом, серебром и лентами, пирамидальные вазы, храмы, корзинки, гитары из безе и пирожного, сахарные купидоны, карикатуры, лошади, рыцари, бюсты и портреты знаменитых людей, сделанные из сахара и шоколада, вот что украшает нынешние храмы сладостей! Чтоб видеть кондитерские на Невском проспекте во всем их блеске, надобно быть в них перед Новым годом или пред святою неделею»...
И описание кондитерских представляло специальное занятие публицистов того времени. Вот, например, какие строчки посвящались той же кондитерской Беранже, которую воспевали в стихах[376]: «Кондитерская Вольфа и Беранже превратилась в сахарный музей. Тут вы найдете небывалые до сих пор яйца с барельефными изображениям августейших членов высочайшей фамилии, а внутри вмещающие литые группы предметов св. изображения. Яйца куриные, натуральные, приведенные к затвердению посредством гальванизма, корзиночки, в которых лежали эти яйца, плетеные из лент, также наведены бронзою посредством гальванизма». К этому добавляли: «До сих пор учение было горько для детей, теперь помощью сахарных букв Излера оно будет приятно, сладко и положительно. Дитя с радостью заучит звуки букв (хорошо познание фельетониста в педагогике — звуки букв), когда ему дадут сахарное изображение с правом его скушать»[377].
Рассмотренный нами дом Неймана находился на левой стороне нынешней Морской или улицы Герцена. Но у этой улицы было еще несколько названий. Мы уже указывали, что она звалась Большой Луговой улицей — ее направление ясно видно на приложенном плане 1754 года. Когда же стала застраиваться и правая ее сторона — она получила название Луговая Миллионная, так как она прилегала к Адмиралтейскому лугу, наконец, сравнительно еще недавно она звалась Малая Миллионная и предел ее определялся аркою Главного Штаба и Невским проспектом, за последним шла уже не Малая Миллионная, а Морская. У этой улицы была одна особенность, отличающая ее от всех улиц Петербурга. Об этой особенности впервые повествовал Георги, в своем описании Петербурга: «Малая Миллионная улица лежит так точно но полуденной линии, что при солнечном сиянии в 12 часов можно ставить часы по собственной своей тени или по тени, отвесно поставленной трости —[378] фельетонист конца 50-х годов воспользовался этим указанием Георги и с пафосом воскликнул[379]: «Миллионная — солнечные часы в большом размере!» Одним из первых домов правой стороны этой улицы появился угловой дом на Невский проспект против уже описанного нами дома портного Неймана. В ХVШ веке дом этот принадлежал генералу Овцыну, хотя был более известен под именем «трактир, город Лондон именуемый». — Генерал-поручик Иван Ларионович Овцын получил участок по Невской перспективе слишком на 20, а по Луговой на 17 саженях[380] в 1765 или 1766 годах; по крайней мере с этого времени начинают появляться сведения об этом доме[381]. Конечно, хроника этого дома первое время немногим отличалась от хроники уже описанного нами дома Неймана. Если в последнем были савояры, то в доме Овцына «живущие италианцы показывают разные механические и математические части в 36 переменах состоящие представления об осадах, иллюминациях, путешествиях по морю, о бурях, потопах, фейерверках с 3 до 6 пополудни. С каждого смотрителя брано будет по 25 коп., а знатные особы могут платить особо»;[382] очевидно, итальянцы привезли что-нибудь вроде камер-обскуры или первого волшебного фонаря. Трактирщики дома Неймана сменились французским пирожником, который «делает разные паштеты и гамбургские говяжьи языки для путешествующих[383], «продает дорожный бульон по 3 р. фунт»[384]. Существовал, конечно, и в этом доме винный погреб. Но была и разница между домами Неймана и Овцына. Дом Неймана был двухъэтажный, дом Овцына четырехъэтажный — «на Адмиралтейской части по Невской перспективой, на углу Морской, что прежде звалась Луговая, продается каменный дом о 4-этажах его превосходительства генерал-поручик и кавалер Ивана Ларионовича Овцына»[385], следовательно, этот дом имел больше помещения. Этим обстоятельством и воспользовался предприимчивый иностранец Гейденрейх. В конце апреля 1773 года весь Петербург был обклеен объявлениями следующего текста[386]: «Гейденрейхской трактир, город Лондон называемой, переведен будет будущего мая 1 дня в Овцынов дом на Малой Миллионной.
Трактир «город Лондон именуемой» являлся для Петербурга XVIII столетия тем же, чем до последнего времени были Европейская гостиница или гостиница Астория. Действительно, мы читаем следующие строчки[387]: «города Лондона трактирщик Гейденрейх в Санктпетербурге рекомендует чрез сие иностранным и здешним сюда приезжающим господам для приставания своего посреди города лежащую и снабженную всяким удовольствием квартиру, в которой недавно стояли из Москвы сюда проезжей королевской дацкой посланник и из архипелага сюда прибывшей патриарх константинопольский, также несколько дней его светлость наследной принц гессен-дармштатской в проезд его из Москвы в немецкую землю и при отъезде их милостивое удовольствие как в квартире, так и в угощении оказали».
Как колоритно это объявление и как интересно оно по своим выражениям, показывающим развитие нашего современного языка! Какое, самые обыкновенные в наши дни, слова еще не были в употреблении у наших предков, которые должны были их выдумывать вместо: «удобство» говорилось «снабженная всяким удовольствием», «занять номер в гостинице» обозначалось словом «приставание»; наконец, как изыскано выражена мысль, что квартиранты оставались довольны квартирою: «их милостивое удовольствие как в квартире, так и в угощении оказали».
Но Гейденрейх имел своими посетителями не только наследного принца гессен-дармштатского: у него останавливался и император Иосиф II австрийский, когда под прозвищем графа Фолькенштейна он прибыл инкогнито в Северную Пальмиру к северной Семирамиде. Здесь же жил и известный английский доктор Грогаль[388], наконец, здесь же внизу, в погребах, обитала немалая известность того времени — парикмахер Лунд, у которого продавались «разного цвету и длины дамские и мужские пукли, шинионы, все новейшей моды и на разной манер приготовленные волоса за умеренную цену, также привезенные им недавно из Франции две болонские собаки[389].
Дела гостиницы Лондон шли настолько хорошо, что в 1781 г.[390] «здешний содержатель трактира города Лондона Георг Гейденрейх уведомляет почтенную публику, что он с 1 числа маия сего 1781 года перевел сей трактир в собственной его дом, состоящий по Невской перспективе, насупротив адмиралтейства под № 97 (угловой дом по правой, несолнечной стороне Невского, от адмиралтейства), построенной по образцу иностранных гостинец, где все приезжие сюда найти могут для себя так и для свиты своей всевозможные выгоды, коих они в партикулярных домах получить не могут». — Едва трактир Лондон успел водвориться на новой квартире, как «господа Надервиль и Дени» уже объявляли, что они «содержат теперь в Луговой Миллионной, на углу, трактир город Париж, что был прежде город Лондон и отдают в наем убранные покои[391]. Но трактиру город Париж не удалось затмить трактир «город Лондон», конкуренция была слишком непосильна, и город Лондон считался лучшею гостиницею и в первой четверти XIX в. По крайней мере в 1823 году мы сталкиваемся с таким объявлением[392]: «г.г. путешественники извещаются сим, что трактир Лондон, имея прекраснейшее местоположение, в среди столицы, против бульвара и поблизости Императорского Зимнего Дворца ныне вновь по примеру иностранных гостиниц отделан. В нем можно иметь меблированные по новейшему вкусу комнаты за умеренные цены».
Надо заметить, что эта местность — Адмиралтейская площадь, Невский проспект до Полицейского моста, перекресток Морской и Невского являлись излюбленным местом для трактирщиков. Большинство содержателей трактиров были иностранцы, к этим последним принадлежали и посетители, русский человек, особенно среднего класса, вообще не привык к трактирной жизни, к трактирным обедам. Но, видимо, с начала XIX века трактирная жизнь стала развиваться, посетителями перестали бывать только иностранцы и в 1805 г.[393] «во вновь открытом «Полуденном» трактире или герберге на Невском проспекте, идя от Адмиралтейства к Полицейскому мосту, в третьем доме, бывшем г-на Губкина, а ныне г-жи Пасенковой можно получать кушанье постное и скоромное» — трактир открылся в великий пост, и в нем имеется постное кушанье; судя по его местоположению — Невский проспект у Адмиралтейства — трактир ожидал у себя посетителей более или менее приличных и, очевидно, удовлетворяя требованиям, предлагал «постное кушание». Положим, вместе с этим кушанием «Полуденный» трактир вносил на Невский проспект, на эту улицу веротерпимости, обстановку, совсем не свойственную Невскому проспекту: «Тут же можно видеть лучших курских соловьев, которые поют днем и ночью, из коих один поет разными куликами, пеночкой и органные штуки, коему цена 300 рублей, датские жаворонки и ученые синицы. Желающие купить, о цене могут узнать у прикащика Карелина».
На Невском проспекте — трактир или герберг с названием «Полуденный» с поющими соловьями — в то время, когда уже появились «ресторасьоны», вполне не соответствовал общей картине, и «Полуденный Герберг» со своим постным кушаньем очень скоро исчез с «Невской перспективы». Правда, года через три предприимчивый купец Палкин открыл на том же самом месте — 1 февраля 1808 года[394] — свой русский трактир — трактир Палкина, но тоже должен был перевести его сначала на угол Невского проспекта и Садовой улицы, затем на угол Невского и Екатерининского канала и наконец на Вшивую биржу — угол Невского и Владимирской.
Зато англичанин Томас Роби, привезший в Петербург заморский английский обычай, почти в то же время из захолустья, с какой-то линии Васильевского острова переехал в центр в Малую Морскую в угольный господина действительного статского советника Бердникова дом. (На этом месте, вместо милого в стиле Empire домика теперь было воздвигнуто для какой-то банкирской конторы подражание чуть ли не дворцу Дожей в Венеции.) Англичанин Томас Роби содержал «обеденной стол, которой у него бывает всегда в 3 часа». Но не этим завлекал к себе Роби. Всем памятны, конечно, стихи Онегина :
Так вот несколько ранее и можно почти утверждать, что впервые в Петербурге Томас Роби в 1807 году указывал, что «биф-стекс (beef stakes) можно получать у него во всякое время как в Лондоне»[395].
Знаменитости более позднего времени Борель и Кюба только что начинали свою деятельность; ресторан Бореля «Канкинский Утес» должен был даже временно закрыться[396], но Café de Paris Кюба уже процветало, и оно считалось «приютом хорошего тона и для человека, ищущего рассеяния, есть даже с кем завести женский разговор, конторщицы всегда на своих местах[397]. У Кюба появились «конторщицы», а Фельон, уступивший свое заведение Леграну, в Большой Морской дом Жако, о нем речь будет ниже, задумал еще в 1839 году обзавестись непьющим народом и набрал татар и татаренков «самых неуклюжих и медленных из остатков всех возможных орд». Появление татар в качестве ресторанной прислуги вызвало ироническое замечание со стороны «Северной Пчелы»[398]: «Мы, русские люди, держимся стиха Крылова: «По мне так лучше пей, да дело разумей!» Потомки сподвижников Чингисхана двигаются с тарелками по трактиру Леграна, как черепахи по песчаному морскому берегу! — Но в ресторанах того времени бывали и не аллегорические черепахи в виде лакеев-татар, а самые настоящие: «черепаха находится в ресторации Леграна, дом Жако в Большой Морской; в передней ресторана помещается в полуоткрытой большой бочке это черепокожное; оно длиною более 11/2 аршина. Г. Легран намерен дней через 15, когда животное отдохнет от пути, угостить превосходным, настоящим супом à la tortu посетителей своей прекрасной ресторации. Гомары (большие морские раки) давно уже не редкость у г. Леграна».
Овцын владел своим домом с 1766 по 1793 год, дальнейшими владельцами этого дома были: Васильчиков (1793 — 1869 г.г.), Р. Я. Колун (1874 г.) и граф Зубов (1800 — 1903 г.г.). Отметим кстати, что в доме графа Зубова[399] открылось и помещалось в течение нескольких лет Собрание инженеров путей сообщения.
Последним застроился в этой местности участок, выходящий на угол Невского проспекта и Большой Морской улицы по правой стороне от арки главного штаба. Еще в 1788 году этот участок был огорожен желтым деревянным забором, за которым продавались трехъаршинные березовые дрова[400]. Затем в конце XVIII века на этом месте возникла довольно любопытная постройка, о которой давались следующие сведения: «По примеру заведенного художниками города Лондона обыкновения строить галлереи для выставления своих картин, г-н Квадаль выстроил здесь на Невской перспективе, против аглинского магазина картинной шалаш, где показывать он будет почтенной публике собрание картин своего сочинения и своей работы. Цена билета для входа 1 р. сереб. Каталог картинам видеть можно у входа в оной, который отворен будет ежедневно от 9 часов утра до 5 ч. вечера»[401]. Палатка эта — скоро ее перестали звать шалашом — просуществовала до 1804 года: в январе этого года петербургская публика извещалась, что «палатка живописных картин, состоящая на Невской перспективе, против аглинского магазина, в коей выставлено собрание живописных картин работы Квадаля, в числе которых находится портрет Его Императорского Величества во весь рост сидящего на коне и блаженныя памяти Императора Павла I опять открыта на короткое время с 9 часов утра до 5 вечера. За вход платится по 1 р. серебром. Палатка хорошо натоплена. Каталог картинам получается безденежно[402], а в марте того же года «продается на своз выстроенная на Невской перспективе против английского магазина деревянная палатка»[403]. О художнике Квадале[404], к сожалению, имеется слишком мало сведений — в 1804 году Квадаль «по разным известным публике его работам» был принят в академики, в 1808 году он уже умер, и 20 ноября того же года Академия Художеств оценила в 6 т. рублей его картину, представляющую коронование императора Павла I, картину эту хотел купить князь Александр Борисович Куракин. Художнику Квадалю, видимо, пришлось ломать свою палатку, так как то место, на котором она стояла, перешло к купцам Чаплиным, и последние стали строить на нем свой четырехъэтажный дом, существующий без особых перемен по наше время. Что дом был построен приблизительно в 1804 —1805 годах, мы видим из ряда появившихся в 1806 г. объявлений о сдаче помещений, именно «от с.-петербургских купцов Степана и Григория Чаплиных объявляется, что у них в доме № 89 против благородного собрания и Английского магазина отдаются покои»[405].
«Чаплины, — такую характеристику давала им «Северная Пчела»[406], — почтенные негоцианты, ведущие обширную торговлю мягкою рухлядью и чаем, вознамерились завести в доме своем китайский магазин во 2-м этаже над чайным магазином. На первый случай собраны только образцы китайских товаров; Чаплины принимают заказы на выписку товаров».
Дом Чаплиных помещается на углу Невского (былой Большой Луговой улицы) проспекта и улицы Герцена или Большой Морской, к рассмотрению которой в пределах до нынешней Мариинской площади мы сейчас и приступим, оставив некоторое время описание неописанной еще части Невского и Адмиралтейского проспекта — границы Адмиралтейского Луга.
«Тут я в разговоре между прочим, — читаем в записках Порошина, воспитателя Павла I, за 1764 год[407], — доносил его высочеству, какое скаредное и болотистое место было там, где ныне прекрасная улица, что Большею Морскою называется» — из этого места записок современника видно, что только при Екатерине II Морская улица приняла достойный северной столицы вид; с 1754 по 1761 год эта улица, как было видно из вышеприведенных данных, представляла из себя тупик: она упиралась в задний фасад деревянного дворца Елизаветы Петровны; в царствование же Анны Иоанновны с этою улицею произошли два выдающихся для каждой улицы события. Прежде всего эта улица выгорела — «в 1736 году выгорели также Большая и Малая Морская улицы, обитаемые морскими офицерами и матросами, и вместо выгоревших деревянных строений возведены были потом каменные дома[408], а затем улица переменила свое прежнее название, она стала зваться «Большою Гостиною улицею». Название это было ей дано потому, что местный купец Чиркин построил после пожарища 1736 года, когда погорел и мытный или гостиный двор, на месте нынешнего здания министерства земледелия большой дом, в первом и подвальном этажах которого были устроены лавки. Этот дом Чиркина вскоре получил название новый гостиный двор, а от него и сама улица стала зваться Гостиной. Но это название не привилось, и старое прозвище — Морская — сохранилось вплоть до наших дней, когда оно заменилось «улицею Герцена». Название «Морская улица» еще и в прежнее время возбуждало недоумение, которое особенно ярко отразилось в куплетах одного из водевилей 30 — 40-х годов XIX века. Герой этого водевиля между прочим пел:
И Морская улица получила свое название, конечно, не от близости к морю. На месте Морской улицы в Петровское время ютилась слобода морских служителей, в этой местности могли жить исключительно моряки: матросы, адмиралтейские служителя и рабочие; конечно, все эти распоряжения оставались больше на бумаге, в действительности здесь селился и просто обыватель, но он селился с опаскою, потому что существовало приказание по полиции ломать крыши и трубы в домах тех «не морских» жителей, которые не хотели переселяться из Морской на Васильевский остров.
После пожара 1736 года эти ограничения окончательно потеряли силу, наоборот, «сквозные места на Большой Морской и Мойке назначались для тех, кто обязывался возвести строение и на улицу и на набережную на погребах в 2 этажа»[409], принадлежность к морякам таким образом не требовалась, и к 1750 г. «Большая Морская улица построена палатным каменным строением в два этажа изрядной архитектуры»[410].
«Между 6 и 7 часов, когда сумрак начинает выводить красивые силуэты петербургских домов, дворцов, мостов, — читаем мы в 1840 году[411], — когда магазины открывают краны своих газовых языков и от Обухова мосту бегут огоньки к Зимнему дворцу, зажигаясь в фонарях, как лампадки в Роберте, я прогуливаюсь по Невскому проспекту. За Полицейским мостом я поворачиваю налево в большую Морскую, улицу парикмахеров, аптекарей, токарей и фруктовых лавок. Вы знаете, Морская была исстари улицей чудес! Тут Май вас чешет, мылит, бреет и стрижет (Май был лучший парикмахер того времени) и делает из азиатских голов благоприличные европейские физиономии; тут продают вам бумажные надежды на выигрыш девятисот тысяч злот (разрешенная польская лотерея), тут восемь лет сряду показывают вид Лондонского тоннеля, которого никто не смотрит, тут наконец обезьяны плясали на канате, куклы играли Фауста, автоматы давали концерты, и разрождался дивный комод Милера». — В этом описании, принадлежащем перу Ф. Кони, любопытно определение Морской улицы как «улицы парикмахеров, аптекарей, токарей и фруктовых лавок», этим подчеркивался торгово-промышленный характер этой улицы. Это определение 1840 года вполне поддерживается описанием 1857 года[412]: «за Невским проспектом улица делается многолюдною, великолепною, шумною; она то же, что Rue Vivienne в Париже. В ней движение не менее, как на Невском проспекте, чему не мало способствует торцовая мостовая. Из казенных домов замечательны дома обер-полицмейстера, военного генерал-губернатора и министерства государственных имуществ. Из частных нет отличающихся особенным изяществом, некоторые даже просто некрасивы, но все набиты жильцами, во всех богатые и великолепные магазины. Но правую сторону от Гороховой улицы тянется, в нижних ярусах, ряд магазинов золотых и бриллиантовых вещей. Модные магазины, знаменитые портные, парикмахеры и подобные художественные заведения сменяются одно другим. В доме Жако, знаменитая ресторация Дюссо; насупротив в доме Руадзе — кофейня-ресторан Бореля, самый великолепный магазин лампового мастера Штанге с подъездом с улицы, освященный по вечерам великолепно». И в это же время, на той же самой Морской улице[413], «мы говорим о доме на Большой Морской, недалеко от Почтамтского переулка, стоящего уже пятый год недостроенным, — в окнах ветер играл перегнившими рамами, никогда еще не знавшими стекол; кирпичные стены его осыпались; бревенчатые срубы будущих фонариков, выложенные, как в мозаике, дощечками всякого калибра, вида и цвета; ворота, вещавшие о несомненной старине руины, — все это исчезнет! Кто-то сжалился над этим недостроенным домом, купил стены и обломки и будет восстановлять городской дом. Эту развалину ныне обнесли забором, и уже деятельно начались работы».
Особенный вид Морская улица представляла из себя в некоторые дни по вечерам: «в день итальянской оперы около семи часов вечера Большая Морская представляет любопытное зрелище: «что это: скачка, что ли?» спросил нас приехавший сюда на-днях иностранец[414]. В самом деле, в целом мире так скоро не ездят, как у нас, особенно, когда надобно куда-нибудь поспешить. В эти дни кареты, четверки, несутся во всю конскую прыть, иногда в три ряда, а с дрожками или кабриолетами — милости просим подальше! Смотреть на это весьма забавно, но попасть в этот омут, не так-то приятно!»
После таких предварительных замечаний о самой Морской улице можно перейти к описанию некоторых наиболее интересных домов. Угловые дома на Невский проспект уже нами описаны, теперь нужно рассказать, что сделалось с двумя участками бывшего Елизаветинского деревянного дворца, расположенными на Кирпичный переулок. Ведь, как помнит читатель, дворовой участок дворца был разделен продолженной до пересечения с Невским проспектом Морской улицею на два участка, каждый из которых в свою очередь был разбит пополам — участки, выходящие на Невский проспект (участок Чичерина — Куракина — Пертца — Коссиковского — Елисеева и участок Чаплина), нами в достаточной степени восстановлены. И в то время, как дом Чичерина был уже построен и представлял одну из самых больших частных построек Петербурга, следующее место, освободившееся из-под бывшего Елизаветинского дворца — по Мойке, нынешнему Кирпичному переулку и Морской улице, было еще почти не застроено. Действительно, в 1781 году мы имеем такое сведение[415]: «В первой Адмиралтейской части, позади дому его высокопревосходительства Николая Ивановича Чичерина, по Мойке реке, продается пустое место с каменным строением госпожи полковницы Елисаветы Михайловны Поповой». — Попова недолго владела этим местом, которое вскоре (1784 год) перешло к какому-то меднику Реймерсу, затем к Трейборну; кто был этот последний, нам не удалось установить, но от него место это купил бывший слоновой надсмотрщик, кассир императорских театров некто Руадзе, выстроивший в середине 50-х годов прошлого столетия доныне существующий громадный пятиэтажный дом.
Существует очень характерный анекдот об этом доме — будто, когда он строился, на постройку его обратил внимание во время проезда император Николай и пожелал узнать, кто же этот богач, который может выстроить такую махину. — Императору донесли, что владелец бывший смотритель слонов и кассир театров. — Откуда у него средства? и император приказал доставить ему для допроса несчастного кассира. Но вместо кассира явилась его жена, известная красавица, заявившая, что домовой участок ее и что дом она строит на свои средства, и на вопрос императора, откуда она приобрела средства, красавица Руадзе, не сморгнувши и не смутившись, ответила: «Приобрела собственными средствами, ваше императорское величество». — Император посмотрел на красавицу поставил ее мужа в покое...
Судя по одному из планов, имеющихся в архиве городской управы, каменное строение, принадлежавшее еще полковнице Елизавете Михайловне Поповой, было небольшим каменным двухъэтажным домиком, находящимся внутри места и выстроенным как-то вкось к набережной Мойки. Этот небольшой домик избрали своим излюбленным местопребыванием приезжие тирольцы с канарейками; так, начиная с 1784 года, читаем следующее и ему подобные объявления: «Большая Морская, подле Мещанского клуба, в Реймерсовом доме у тирольца Перка продаются, самые лучшие канарейки, которые поют днем и ночью при свечах»[416]. Пение канареек «ночью при свечах» являлось необходимою принадлежностью хорошей канарейки.
В 1820 году на углу Кирпичного переулка и Морской улицы г-жа Латур, содержательница панорамы «Париж», выстроила небольшое деревянное здание, которое получило название «ротонда». В этом здании показывалась одна из первых панорам. «В числе зрелищ 1820 года, — читаем мы в «Отечественных Записках»[417], — первое место занимала прекрасная панорама Парижа, писанная с натуры Штейнигером, живописцем венской академии. Зритель должен представить себя на самом верху одного из Тюльерийских флигелей, откуда первым предметом является ему карусельная площадь, окруженная Тюльерийским и Луврским дворцами, музеумом и новою галлерею, а по другую сторону первого — королевские сады с бьющими фонтанами. Далее зрение наслаждается видом Сены и великолепного на ней королевского моста, вдали видны другие мосты, как-то: pont des arts (чугунный), pint neuf, pont de concorde etc. На другой стороне реки простирается набережная с нынешними дворцами и палатами, из-за коих возвышаются верхи и купола разных церквей. Наконец, через всю сию массу строений и зеленеющих садов взор достигает окрестностей столицы, узнаешь холмы Монмартрские, коих вершины увенчаны множеством ветренных мельниц, густой Булонский лес, прохладные рощи Сен-Клудские, замки Севский, Медонский и т. д.
Штейнигер представил Париж во время пребывания в нем союзных войск, не забыв даже отличительные характеры каждой нации. Вот по Карусельной площади несутся, как вихрь, два казака, ближе — вокруг безобразного башкирца (коих парижане назвали amours de Nord) собралась куча любопытных зевак. Там прекрасная парижанка притворно закрывает лицо опахалом при виде нагнувшегося шотландца; мужественные пруссаки в синих колетах сменяют караул красивой венгерской гвардии, одетой в белые мундиры. На мосту движутся торговки, фигляры, савояры. Мне кажется, я вижу того мальчика с черным пуделем, который долгое время был предметом любопытства целого Парижа. Маленький савояр приучил свою собаку доставлять ему работу и деньги следующим образом: когда хитрый пудель замечал человека, сходящего с мосту в чистых сапогах, то немедленно отправлялся к нему навстречу и обегал раза три кругом его, этого было достаточно, чтобы забрызгать сапоги грязью, коею всегда была покрыта длинная шерсть его, в ту же минуту являлся мальчик с предложением вычистить сапоги и получал работу. В саду видны разные группы гуляющих, щеголи гонятся за красавицами, политики или важно расхаживаются, закинув руки назад или газеты держа, с жаром спорят о современных важных происшествиях. На улицах скачут кареты, кабриолеты, верховые; на домах разные вывески; словом, столько пестроты одежд предает эффекту картине, столько разнообразности действий фигур переносит невольно жителя в шумный Париж. Сколько панорама сия может познакомить с сею столицею не бывавшего в ней, столько доставит удовольствия коротко с ней знакомому. Весьма приятно было мне встретить здесь однажды усатого гвардейского унтер-офицера, который толковал товарищу своему видимые предметы, как лучший чичероне. Вот как сделался нам знаком Париж, бывший незадолго за сим идеалом воображаемых красот, описываемых иностранными нашими наставниками для возбуждения к ним уважения и теми немногими счастливцами, коим удалось побывать в сей столице совершенств! Мудрено, чтоб теперь кто-нибудь из русских поставил себе в достоинство (как бывало прежде) даже и то, что его двоюродный братец собирается в Париж!!!
Нет сомнения, что зрелище сего города доставляет особое удовольствие русским воинам, ибо самое великолепие его говорит приятно о их великодушии! Нельзя не заметить еще, что небо и облака отлично хорошо написаны в панораме, особливо весьма удачно представлено действие солнечных лучей, ударяющих из-под черной тучи, плавающей над Тюльерийским дворцом, на белый флаг Бурбонов, развевающийся над оным.
Сия панорама была выставлена в Вене во время конгресса. Она величиною в 1580 квадр. арш. и показывается ежедневно в Большой Морской на дворе Реймерса, в нарочно сделанном для сего 8-угольном здании, которое освещается только сверху. Цена за вход по три рубля с персоны».
Пример госпожи Латур не остался без подражания; ее ротонда вследствие своего выгодного положения не пустовала; одна панорама сменялась другою, а в 1824 году, «недавно прибывший в С.-Петербург иностранец Яков Пинтор, главный рыболов в Адриатическом море во владениях графа Раймонда Туриано, с дозволения правительства, имеет честь показывать почтенной публике необыкновенной величины рыбу акулу, имеющую по 4 ряда зубов в верхней и нижней челюсти, в 19 футов длины и 11 футов в окружности (конечно, это размеры акулы, но не ее зубов). Весу в ней более 5 тысяч пудов, в печенке 1200 фунтов и жиру выварено 600 фунтов. Рыба сия находится в доме Реймерса, в том самом амфитеатре, где была показываема панорама Парижа и Вены; с 10 часов утра, посетители платят за первое место 2 рубля, за второе 1 рубль, за третье 40 коп., дети половину»[418]. Этот главный рыболов хотел даже продать вывезенное им из Адриатики чучело акулы — не знаем, нашлись ли желающие купить.
В 1832 году застроился и другой угол рассматриваемого нами участка, на углу Мойки и Кирпичпого переулка; здесь механик Клейншпек построил также деревянное здание для своего механического театра. Этим зданием пользовались в 30—40 годах XIX века разные содержатели зверинцев.
«Если вы испугались смешного объявления о зверинец Турньера[419], — читал петербуржец в 1838 году в «Северной Пчеле», — и еще до сих пор не были в нем — напрасно!
Правда, что зверинец этот невидной: вам покажут несколько общипанных птиц, какую-то хохлатую собаку, называя ее китайскою, змей и обезьян, которых, кажется, видели мы много раз. Правда, и то, что чичероне зверинца лжет, рассказывая чудеса о своих обезьянах и попугаях, но все-таки пойдите в зверинец Турньера — там есть любопытное животное: это носорог! Его стоит посмотреть. Кроме того, что носорог большая редкость у нас, находящийся в зверинце Турньера принадлежит к числу огромных и красивых зверей сей породы. Любопытно видеть этого чудовищного великана, с его рогом, огромной головой, непроницаемой кожею, бесконечною жадностью, крошечными глазами, глупым видом. Смотря на него, вы не пожалеете, что заплатили два двугривенника». — Это был первый носорог, появившийся в Петербурге. В 1843 и 1849 годах здесь был зверинец Зама. Обычное объявление этого зверинца было следующее: «Вслед за кормлением диких зверей в 2 часа пополудни будет кормление боа-констриктора и других змей живыми курами и кроликами[420]». И петербуржцы жадными толпами теснились перед ящиками, в которых змеи пожирали живых кроликов, а когда нервы притуплялись и это зрелище не действовало на петербуржцев, предприимчивый голландец Зам не унывал и извещал: «1 мая 1849 года в час пополудни будет показана невиданная до сих пор редкость, а именно спускание бенгальского льва и медведя в одну клетку»[421], и петербуржцы опять валом валили смотреть, раздерутся ли лев и медведь.
Ротонда г-жи Латур несколько раз перестраивалась и увеличивалась в размере, в ней помещались и диорамы, и косморамы, и «театр света» — предшественники нынешнего кинематографа и, наконец, знаменитый «физионотип Соважа». Так звался особый способ снимать маску с живого человека. В «Северной Пчеле» было помещено следующее любопытное описание этого физионотипа[422]: «Представьте себе довольно большую кастрюлю, наполненную сотнями тысяч тупых, хорошо выполированных игл, которые так подвижны, что поддаются назад при малейшем прикосновении. И вот в эту кастрюлю с чувствительными иглами вы должны вставить вашу голову. Разумеется, что при такой щетинистой поверхности рождается какая-то недоверчивость, какое-то щекотливое чувство, которое заставит вас призадуматься. Но, коснувшись до острой щетины, вы убеждаетесь, что это не что иное, как стальная вата нежная, мягкая. Вы смело втискиваете в нее свое лицо. Кострюля охлаждается. Иглы делаются неподвижными, их заливают воском — и вот маска вашего лица готова и так похожа и верна, как ни один художник не в состоянии сделать».
За подобное изображение брали от 200 рублей и дороже, и одно время эти изображения были в большой моде в Петербурге.
К началу 50-х годов прошлого столетия упомянутый участок имел следующий вид: по Большой Морской тянулся низенький деревянный забор, на воротах которого красовалась надпись «лесной двор», на углу Морской и Кирпичного переулка было деревянное уже описанное нами здание диорамы, затем по Кирпичному переулку опять забор, а на Мойку выходили деревянные сараи зверинца.
В 1852 году стали строить каменный дом Руадзе, который и был готов к 1854 году. Дом этот был доходный, и на архитектурную его внешность не было обращено внимания; единственная цель, которую стремились достигнуть при постройке — как можно выгоднее эксплоатировать каждый квадратный аршин площади.
В доме Руадзе в 1861 году несколько гостинодворцев, по инициативе суконщика Лапотникова[423] в ознаменование 19 февраля основали русское купеческое общество для взаимного вспомоществования и открыли при нем клуб. Как на особенность этого клуба указывали на «большую читальню, где на длинном столе, покрытом зеленым сукном, были разложены все издававшиеся тогда в С.-Петербурге и Москве журналы и газеты». В те же 60-е года, в этом доме, в зале Кононова петербургские литераторы ставили свои спектакли в пользу воскресных школ, а 15 марта 1862 года профессор истории В. Павлов читал в Петербурге, в пользу тех же воскресных школ, лекцию о тысячелетии России. Свою лекцию профессор закончил патетическим восклицанием: «имеющий уши слышати, да слышит!».
Большего профессор сказать не посмел, но слушатели, присутствовавшие на лекции, поняли этот намек и ответили бурею аплодисментов, а через три дня профессор Павлов поехал в ссылку в Вологду[423]....
Несколько ранее, чем описываемый, потерял свой первоначальный вид противоположный участок по другой стороне Морской ул. и Кирпичного пер. Здесь при Елиз. Петр, помещалось каменное здание дворцового театра. Когда разбирали деревянный дворец, эту каменную часть пощадили, и уже в 1763 г. «по высочайшему позволению в скором времени под дирекциею г. Локотелли в зимнем дворце начнется публичной маскарад, а в какие дни и в какое время, о том дано будет знать особливыми листочками, также маски и маскарадное платье у него же г. Локотелли за дешевую цену получать можно, о чем чрез сие объявляется[424]».
Театр стоял нетронутым до 1768 года, когда, как мы уже и указали, его приспособили для мастерской Фальконета. После его отъезда переделанный каменный театр дворца Елизаветы Петровны снова опустел, мастерския же Фальконета, деревянные сараи и вообще хозяйственные постройки стояли и гнили вплоть до 1782 года, когда появилось объявление[425]: «ежели кто имеющееся деревянное строение, оставшееся на месте бывшего зимнего дворца и сделанной над поставленною гипсовою моделью монумента блаженныя и вечнодостойныя славы памятника государя императора Петра Великого деревянный амбар разобрать пожелает, явился бы в контору строений немедленно», затем через год в 1783 году[426] предлагалось «имеющееся довольное число земли и мусора желающим получать безденежно» — место это очищалось для склада мрамора, который был привезен из Екатеринбурга, очевидно, для воздвигавшегося мраморного собора св. Исаакия Далматского[427].
За эти пять лет, протекшие с отъезда Фальконета и до образования склада мрамора, был какой-то проект построить каменный дом, как будет видно из приводимого нами ниже указа Екатерины II, но что это за дом, для чего его хотели построить и было ли приступлено к постройке — мы не нашли никаких сведений. 9 декабря 1786 года Екатериною II был дан следующий указ[428]: «Для построения дома, нужного кабинету нашему, в котором бы с безопасностью вмещены все его отделения с вещами и деньгами, мы находим выгодным пустое место, состоящее в 1-ой части города, где была часть старого деревянного дворца и где заложен фундамент вновь проектированного каменного дома. Сие место повелеваем кабинету взять в свое ведение и, сочиня план со сметами, нам на утверждение представить».
Место, которое Екатерина II отдавала для постройки здания кабинета, находилось в ведении конторы строений, и потому кабинет 28 апреля 1781 года послал последней следующее отношение: «Кабинет уведомляет контору строений, что для строения кабинетного дому план ее императорским величеством конфирмован и теперь к производству оного настоит удобное время к чему распоряжения сделаны, рабочие люди наняты, а потому благоволит контора строений очистить данное место». — Одновременно с этим кабинет отослал в редакцию «С.-Петербургских Ведомостей» следующее объявление[430]: «есть ли кто желает построить на месте, где была часть старого зимнего деревянного двора подле Чичерина дому, для кабинета ее императорского величества каменный дом, явился бы для договору в кабинет». — Но не так скоро дело делается, как думается. Конторе строений надо было перевезти мрамор на другое место, а мрамора было довольно большое количество — 1494 штуки, затем сломать старые сараи и навесы, сделать на новом выбранном месте покрышку для мрамора, словом, потребно было 4.445 руб. денег, а таких свободных средств у конторы строений не было,и контора обратилась в кабинет с запросом, нет ли у него свободных денег. Пока шла эта переписка, обстоятельства дела изменились, Екатерина решила подождать с постройкою здания кабинета, и помещение Фальконета осталось нетронутым.
В 1798 году[430] 27 сентября появился новый указ уже преемника Екатерины II императора Павла I: «Состоящий ведомства кабинета нашего по Большим и Малым Морскими Кирпичной улице дом № 33 повелеваем отдать нашему действительному тайному советнику князю Юсупову под строение театра». На постройку этого театра было ассигновано 50 т. р., но и это предположение не вышло из области предположений, и этот участок в конце концов в начале XIX столетия был продан в частные руки и попал во владение купцу Маасу, который надстроил этаж над театром, обратив его таким образом в жилой дом и, кроме того, окружил этот дом по Кирпичному переулку и Большой Морской улице каменным забором.
В 1837-1838 г.г. участок Мааса купил известный в то время архитектор Жако и построил существующий, кажется, без значительных перестроек и доныне каменный дом. Этим домом усиленно восторгались при его постройке. Так мы нашли в 1838 году[431] следующие строчки: «Дом Жако... что за прелесть! можно ли было догадаться, что на таком малом пространстве, на каком стоял прежний дом Мааса, можно воздвигнуть такое огромное здание со всеми удобствами. Нижний этаж на Морскую посвящен магазинам с огромными окнами для выставки товаров на иностранный манер. Все дома Жако, а их множество, отличаются красотою и удобствами!»
В 1750 году[432] мы наталкиваемся на объявление следующего содержания: «В Большой Морской продается каменный дом со всем строением покойного бывшего директора немецких комедиантов Сигмунда, и ежели кто оный дом купить желает, то о цене оного осведомиться могут в Большой Морской в дома госпожи Ланги». Любопытно было бы, конечно, определить точно положение этого первенца частных петербургских театров, но определение местоположения домов Елисаветинского времени очень затруднительно. В то время сама улица определялась местоположением дома, а не наоборот. Действительно, в 1758 г.[433], например, приехавший купец, извещая о своем приезде, писал, что он остановился на Адмиралтейской стороне, в той улице, где немецкий комедиальный дом — и этим самым уже указывал, что местоположение комедиального дома хорошо известно. Ряд косвенных указаний мы, конечно, находим, из которых видно, что местоположение немецкого театра было на нынешней Морской улице. В самом деле. В 1744 году[434] комедиант с выпускными куклами Мартин Ниренбах, о нем мы уже говорили, указывал, что театр его помещается в Большой Морской улице недалеко от нового Гостиного двора. Новый Гостиный двор был отстроен, как уже делалось указание, именитым петербургским купцом Иродионом Чиркиным, после того, как сгорел в 1737 году Гостиный двор, помещавшийся на углу нынешнего Невского проспекта и Большой Морской улицы. И Гостиный двор Чиркина занимал часть нынешнего здания бывшего министерства государственных имуществ, выходившую на Мариинскую площадь; это был двухъэтажный дом на погребах со сводами, при чем в первом этаже помещались лавки. Дом существовал до 40-х годов XVIII столетия. Затем мы встречаем еще ряд косвенных указаний на местоположение немецкого комедиального дома: «С Большой Морской не далеко от Синего моста (1745 г.[435], в доме г. Загряжского подле немецкой комедии (1756 год[436], здешний купец Карл Генрих Шлиттер завел погреб под домом мельничного дел мастера Антона Шмита в Большой Морской на углу подле дома портного Кригера, неподалеку от немецкого комедиального дома» (1755 года[437].
Положение как дома Загряжского, так и мельничного мастера Антона Шмита, мы можем определить из других данных. Указанный нами выше нынешний дом министерства государственных имуществ занял собою место не только трех домов старого Петербурга, но и целого переулка. Действительно, на этой части Морской улицы помещается на углу дом Чиркина (после Попова, потом Гунеропулла), рядом с ним по направлению к Невскому проспекту был дом Воеводского, затем шел узенький переулочек, носивший название первого Выгрузного переулка, по этому переулку разгружались или нагружались баржи, проходившие по Мойке — за переулком был вышеупомянутый дом Загряжского. Дом Антона Шмита в последнее время был занят громадным магазином Эсдерса. Следовательно, первый немецкий комедиальный дом помещался на нынешней левой (считая от Невского проспекта) стороне Большой Морской улицы, между Гороховой и Мариинской площадью.
Конечно, если бы не счастливый случай, он ведь играет громадную роль, наши сведения о местоположении немецкого театра так бы и остались неполными. Но в 1755 году[438] «вдова подполковника Марфа Кирилловна дочь Елагина» захотела продать свой каменный дом с деревянным строением и с землею. Указав, что ее дом помещается на Адмиралтейской стороне в Большой Морской, она для большей точности местоположения, чтобы покупатели бесплодно не блуждали по Морским улицам, добавила следующую фразу: «В коем, т.-е. в ее доме, бывала немецкая комедия». Елагина продала свой дом Михаиле Измайлову, а 25 февраля 1763 года появился указ Екатерины II[439]: «Повелеваем выдать гоф-маршалу Михаиле Измаилову, за покупной у него каменный дом в С.-Петербурге в Большой Морской улице со всем на оную улицу и на реку Мойку строением, тринадцать тысяч рублей, который дом мы всемилостивейше жалуем нашему действительному статскому советнику Ивану Елагину в вечное и потомственное владение».
Императрица Екатерина не забыла тех заслуг, которые оказал ей в сношениях с ее любовником графом Понятовским, впоследствии последним польским королем, Иван Перфильевич Елагин — и она подарила своему приближенному его былой дом.
А где помещался дом Елагина, мы можем указать точно. После смерти Елагина дом его перешел его незаконнорожденной дочери графине Анне Морелли[440], от которой и был куплен в начале царствования императора Александра I для с.-петербургского генерал-губернатора[441].
Этот дом так и был известен под именем генерал-губернаторского. Когда же в царствование императора Александра II генерал-губернаторство было уничтожено, дом перешел к городскому управлению, которое и уступило его обществу поощрения художеств[442], во владении котораго этот дом состоит и по сей день. Таким образом, и в настоящее время на месте первоначального немецкого комедиального дома помещается приют другой древней музы — не Мельпомены, а музы художества, живописи и ваяния — дом общества поощрения художеств с его музеем, картинной галлереей и школою рисования.
Конечно, простое совпадение, но оно характерно: на том месте, где ломали комедь немецкие комедианты, сначала жил И. П. Елагин[443], лицо сыгравшее большую роль в истории нашего театра, а затем, в наши дни, помещается также приют искусства, и между этими, так сказать, полюсами находилась резиденция главной полицейской власти северной столицы...
Вопрос о нахождении владельца того или иного дома в Петербурге до 1804 года разрешается довольно легко помощью адресных книг, изданных, начиная с 1804 года; при пользовании этими книгами — все они изданы или официально или официозно, следовательно, могут считаться вполне достоверными источниками — надо помнить, что нумерация петербургских домов испытала два раза, в начале 30-х годов и в конце 50-х годов XIX столетия коренные изменения. В конце 50-х годов почему-то перенесли четные номера домов на ту сторону, где были нечетные, и обратно; почему нужно было сделать этот перенос, мы не знаем. Реформа нумерации, произведенная в начале 30-х годов, была более значительная: до этого времени нумерация домов в Петербурге велась по частям, так что в каждой части был свой порядковый нумер, вследствие этого у некоторых домов в С.-Петербурге были тысячные нумера. Такие большие нумера, конечно, были неудобны, и в начале 30-х годов завели порядковый нумер по каждой улице, а для того, чтобы обыватель, привыкший к старым нумерам, мог пользоваться и ими — издали «нумерацию домов С.-Петербурга», в которой было указано, какому старому нумеру (порядковому в каждой части) соответствовал новый нумер (порядковый по улице). При помощи вышеуказанных адресных книг, а также планов Петербурга, можно довольно легко и безошибочно определить владельца и нумер какого-либо нынешнего дома в 1804 году. Но в XVIII веке адресных книг не существовало, да и самые нумера домов вошли в обыкновение лишь в середине 80-х годов XVIII века, до этого времени дома значились под именем своего владельца. Таким образом, чтобы отыскать владельцев домов в XVIII веке, необходимо пользоваться каким-либо другим способом. Разыскивая этот способ, я обратил внимание на объявления «С.-Петербургских Ведомостей» XVIII века. Оказывается, что если систематизировать эти объявления за ряд годов, то в них найдется громадный ценный материал для топографии Петербурга, и в тех случаях, когда можно установить связь с 1804 годом, является возможность определить перемену владельцев того или иного участка до наших дней. Здесь мы даем несколько примеров подобного определения домов на Морской улице, тем самым восстановляя историю этой улицы.
У Адам Васильевича Олсуфьева на Большой Морской был дом, и в объявлении 1777 года мы читаем[444]: «В Большой Морской подле дому его высокопревосходительства А. В. Олсуфьева в доме вдовы Апельгрин, в лавочке Павла Ильина продается голландский зеленый сушеный горох», из этого известия мы видим,что дом ОлсуФьева имел своим соседом дом вдовы Апельгрин. Обращаемся к табели домов Петербурга за 1804 год и в ней находим, что дом Апельгрина в этом году имел № 129. Пользуясь вышеуказанными справочниками, мы находим, что этот домовый нумер соответствует № 21 в 1903 году и что это есть второй дом по правой стороне Морской улицы от угла Гороховой. А так как дом Олсуфьева как было видно из вышеприведенного объявления был соседом дома Апельгрина, то, следовательно, он мог быть или угловым (по Гороховой и Морской улицам) или ближе к Кирпичному переулку, т.-е. домом под № 19. Но иод этим нумером в росписи 1804 года значится дом Погенполя, а об этом доме в известиях от 1771 года[445] найдем указание, что он был также соседним домом с домом Апельгрина, т.-е. этот последний помещался по Морской улице, между домом Погенполя и домом Олсуфьева и, следовательно, дом Олсуфьева был на углу Гороховой и Морской улиц. Таким образом нами точно устанавливается местонахождение дома ОлсуФьева.
Морская улица получила свое направление в 1714 году, когда городской архитектор Гербель[446], по приказанию Петра Великого, произвел планировку Морских слободок, расположенных на пространстве между нынешними Невским проспектом и Новым Адмиралтейством, с одной стороны, и Александровским садом, Невою и Мойкою с другой стороны. Морская улица сделалась главною улицею Большой Морской слободки, разместившейся между нынешними Исаакиевской и Мариинской площадями, Александровским садом, Невским проспектом и Мойкою, здесь должны были селиться исключительно моряки. Эта слобода сгорела в 1736 году. Но после пожара было издано распоряжение[447], чтоб Морская улица сохранила свое направление, данное ей архитектором Гербелем. На этой улице разрешались постройки исключительно каменные. И в 1742 году появился уже дом на углу Морской (перейдя ее, если итти от Невского) и Гороховой английского купца Кленка[448]; этот дом, как увидим впоследствии, для нас интересен и важен, а дом, впоследствии принадлежавший Олсуфьеву, в 1748 году[449], был домом немецкого банщика Кинтера. На других углах Гороховой и Морской были дома придворного полковника Каченовского и мельничного мастера Антона Шмита — из четырех домов перекрестка только один принадлежал русскому, остальные три были домами иноземцев. Под домом Кленка держал ренсковый погреб винопродавец Иоганн Нагель, и в 1742 году он объявил, что «для находящейся в погребах под этим домом великой воды» он перенес свой погреб «в той же линии под палатами г. генерал-полицмейстера Наумова[450]». Этот дом был угловым по той же стороне Морской улицы и Кирпичного переулка, перейдя последний от Невского проспекта. Купец Кленк обиделся и решил вступиться за честь своего поруганного дома, будто в его погребах постоянно сочится вода[451]: «Понеже винопродавец Иоганн Нагель, нанятой прежде сего погреб под палатами аглинского купца Кленка на углу Большой Морской не для находящейся в нем воды, но понеже от найму ему сам хозяин отказал, оставил, то перешел в оной теперь винопродавец Д. В. Форслен и настоящею ценою продает там разные вина».
Вообще этот перекресток изобиловал винными погребами: в том же доме Кленка Томас Янсен продавал в 1746 году[452], «аглинское пиво полубутылками», в 1751 году[453] из своих погребов купцы Кессель и Шлитер продавали не только вино, но и «сыр Пармезан, флорентинское деревянное масло, итальянское белое мыло, свежие лимоны и апельсины[454], свежие устерсы (т.-е. устрицы) по 2 рубля сто»[455], устрицы были привезены из Любека, а из Гамбурга доставлялись «хорошие морские раки[457]»; словом, в этом доме и в XVIII веке была тоже гастрономическая и винная торговля, которая сохранялась до последних дней, здесь помещался магазин Смурова. Вообще, мы должны отметить, что кабаки, бани, раз они были устроены, почти не переменяли своего места, и эти учреждения являются хорошими маяками для определения той или иной местности Петербурга.
Такие же винные погреба существовали и в двух других угловых домах, а в доме Каченовского в 1775 году[458] «С.-Петербургский купец Карл Генрих Шлиттер недалеко от своего винного погреба, посреди Большой Морской, а именно в поперечной улице в доме бригадира Каченовского, стоящем на левой стороне, на углу по Мойке, завел новоуказной гербер для иностранных и здешних, где имеют не токмо покои, убранные постелями и другими потребностями, но и кушанья разные, вина иностранные, пиво, вейную водку, чай, кофе и шоколад, также полпива и кушанья в помянутом доме продаются».
А в доме банщика Кентнера — впоследствии Олсуфьева — «Иоганн Христиан Паукер умеет делать разных моделей аглийские стулья, притом и другими материями крытые, также переплетеные из тонкой аглийской трости[459] и недавно сюда приехавший из-за моря жестяных дел мастер Франц Огерер делает как из белой и черной жести, так и на желтой меди всякую работу[460]» — чуть ли не первый стульный мастер и жестяник Петербурга жили в этом доме.
В 1761 году[461] банщик Кептнер помер, и дом его очень скоро перешел к Олсуфьеву. Первые сведения о принадлежности этого дома А. В. Олсуфьеву мы находим в 1763 году; в это время в доме Олсуфьева жил испанский посланник, который и уезжал на родину[462]: «Его превосходительство марки (т.-е. маркиз) д'Алмодовар, Гишпанский полномочный при здешнем дворе министр намерен вскоре отсюда отъехать: того ради имеющие какое требование до него или до его свиты могут явиться на Адмиралтейской стороне в доме его превосходительства господина тайного советника и кавалера Адама Васильевича Олсуфьева».
Судя по выкопировке 1753 года, участок ОлсуФьева был застроен вполне. Ворота на дворе были на Морской улице, по которой помещался и главный двухъэтажный дом, по Гороховой тянулась более низкая постройка в один этаж на погребах и, наконец, на границе смежного по Гороховой улице участка во дворе, были расположены по всей вероятности деревянные службы. В доме по Морской жил сам А. В. Олсуфьев, дом по Гороховой был занят отчасти многочисленными дворовыми, отчасти сдавался под частные квартиры; так в 1776 году[463], «Луи де Туксен, флота премьер лейтенант, отъезжает заграницу, живет в Морской в доме его высокопревосходительства тайного действительного советника сенатора и кавалера Адама Васильевича Олсуфьева». В этом же доме с 1765 по 1775 год, т.-е. в течение целого десятилетия, помещался ренсковый погреб, в котором продавались изделия Муринского водочного завода, — этот завод принадлежал графу Воронцову, и в нем деньгами участвовал и сам Олсуфьев, понятно, почему и была торговля в его доме. Содержатель погреба, какой-то «здешний купец Мидтендорф» уверял, что у него[464] «продается сделанная на здешних водочных заводах при Мурине вейновая водка, которая ни в чем не уступает Гданской, ящиками по 1 р. 50 к. за каждый штоф, а порознь каришневая, золотая водка ротофия по 2 р. да прочих сортов по 1 р. 60 к. каждый штоф».
К сожалению, кроме вышеприведенного плана, не сохранилось никаких данных об этом доме, но так как А. В. Олсуфьев купил его у наследников умершего немецкого банщика Кентнера, и, видимо, не перестраивал, а Кентнер построил этот дом около 1742 года, то, очевидно, дом не выделялся своей архитектурой. Это был обычный для того времени двухъэтажный на подвалах со сводами каменный дом, выстроенный по тем планам, которые выдавались из канцелярии от петербургского строения.
Мы подчеркнули, что дом «английского купца Кленка» представляет интерес для петербуржца; поясним это наше замечание. В 70—80-х годах XVIII столетия этот дом принадлежал графу Соллогуб, от которого купил купец Кувшинников, а в 40-х годах XIX столетия от последнего приобрел глазной врач Лерхе, былая медицинская знаменитость города Петербурга. Из биографии Александра Ивановича Герцена видно, что в свое педолгое пребывание в Петербурге он прожил на Большой Морской в доме Лерхе. Это обстоятельство и побудило переменить название «Морская улица» на улицу Герцена. И это название вполне подходит к одной из самых оживленных улиц Петрограда — имя Герцена заставляет вспомнить тот «Колокол», что властно гудел хотя и заграницею, но его звон отзывался на родине в многострадальной России...
В Морской улице есть еще один дом, также связанный с историей вашей общественности,—в настоящее время в этом доме (второй от Кирпичного переулка по левой стороне Морской, идя от Невского проспекта) помещается телефонное управление: до перехода в руки города, дом этот принадлежал министерству иностранных дел, в XVIII веке им владели два графа, два больших деятеля Екатерининской эпохи — сперва граф Панин, а потом граф Завадовский. Так вот, когда этим домом владело министерство иностранных дел, здесь жил Ахшарумов, один из участников пятниц Петрашевского, — из этого дома он был увезен в Петропавловскую крепость.
Наконец, в отношении архитектурном заслуживают упоминания дом, бывший Лобанова-Ростовского, затем Яхт-Клуб, построенный Монфераном, и громадное здание бывшего министерства государственных имуществ, постройка архитектора Ефремова...
По Морской улице мы выходим на Мариинскую площадь. 25 июня 1859 года был открыт на этой площади памятник Николаю I. Строился этот памятник всего три года, проект его был утвержден всего-навсего 2 мая 1856 года, скоропалительность, как видим, изумительная!
Проект памятника был составлен архитектором Монфераном, который не мог за своею смертью (28 июня 1858 года) закончить постройку этого памятника, последний год его доканчивал архитектор Ефимов. Осенью 1856 года начали бить сваи под фундамент, в январе 1857 года была закладка памятника, 28 декабря 1857 года положили первый камень пьедестала, а в январе 1859 года уже заканчивали мраморную часть пьедестала. Пьедестал памятника состоит из 118 отдельных камней, соединенных между собою. Материалом служило: для самого низа пьедестала красный финляндский гранит, далее шел серый сердобольский гранит, затем — главная часть пьедестала темно-малиновый шоханский порфир, который увенчивался белым итальянским мрамором. Высота пьедестала 22 аршина. Конную статую Николая I в парадной конногвардейской форме и в кирасе изваял академик Клодт—квадрига которого на Нарв ских воротах и копи на Аничковом мосту известны каждому. Изваяние статуи было закончено летом 1857 года, к отливке приступили весною 1858 года. 21 февраля 1859 года статуя была готова и красовалась в здании академии художеств; 19 мая приступили к перевозке этой статуи: она была перевезена на деревянной платформе на катках; человек 60 рабочих тянули за два каната, приклепленные к подножью статуи; возбуждал большое опасение подъем на Николаевский мост, но его прошли благополучно, и статуя была доставлена на Мариинскую площадь. 23 мая статуя также успешно была поднята на пьедестал. С этого дня на Мариинской площади стало заметно особенное стечение народа, который заглядывал под полотняное покрывало, закрывавшее статую. В работах памятника принимали участие еще два академика Залеман и Рамазанов, на долю которых выпала работа по украшению; ими сделаны трофеи из орудий, четыре барельефа, изображавшие важные события из царствования Николая, и четыре эмблематические фигуры — правосудие, сила, мудрость и вера. Российское подхалимство нашло яркое подтверждение в этом случае: в лицах этих фигур — как писалось в то время — сохранены черты близких в бозе почившему императору особ августейшей фамилии—что означало, что правосудием, верою, мудростью и силою были изображены жена и дочери Николая I[465]!
На Мариинской площади, на углу Малой Морской, по обеим сторонам Синего моста и против Мариинского дворца были устроены трибуны для публики — места на этих трибунах продавались за очень высокую цену; так ложа на 7 персон стоила 100 р., стулья 25 р., последнее место стоять 1 р. Воспользовались этим случаем и владельцы домов на Мариинской площади, сдавшие окна и балконы на день 25 июня, при чем цена за окно достигала 100 р. Наконец оптические магазины, в свою очередь, публиковали о прокате зрительных трубок (по современному биноклей) по цене от рубля до 5 рублей.
Самое открытие памятника происходило по особому церемониалу с большим торжеством и великолепием. Присутствовала царская фамилия, придворные, дипломатический корпус, гвардия. Дворцовые гренадеры в своих мохнатых шапках стояли двумя шпалерами от южных дверей собора вплоть до памятника. Многотысячная толпа зрителей занимала трибуны, толпилась за рядами войск, даже самые крыши, — писал хроникер того времени[466], — унизались, как бусами, разноцветными дамскими зонтиками, и над всем этим ярко светило летнее солнце. В момент открытия памятника раздался залп с Петропавловской крепости, с расположенных по Неве между Николаевским мостом и Зимним дворцом в три линии канонерок и из всех орудий, находящихся при войсках, а на колокольне Исаакиевского собора и ближайших церквей начался торжественный перезвон.
Конечно, без всякого шума и трезвона 16 мая 1860 года[467] был открыт на той же площади Исаакиевский сквер, его разбили очень скоро в течение чуть ли не одного весеннего месяца. В это же время окончили последнюю заботу о памятнике, окружили его решеткою, решетка была заказана известному фабриканту Шопену за 16.614 рублей.
Возвращаемся снова на Невский проспект. Исчез безвозвратно любопытный угловой дом на солнечной стороне Невского проспекта против Адмиралтейства. Теперь на этом месте возвышается здание бывшего главного штаба. А с 1768 года[468] по 1844 год[469] здесь был интересный дом Вольно-Экономического общества. На гравюре Лори ясно виден этот трехъэтажный завернутый полукругом дом, причем на самом углу, во втором этаже был большой открытый балкон. 11 июля 1768 года из собственных средств Екатерины II было пожаловано на кирпич для строения дома Вольно-Экономического общества 3.250 рублей. Но этих денег недостало, средств у Вольно-Экономического общества, как вообще у российских культурных начинаний, было мало, несмотря на то, что в число членов этого общества входили самые богатейшие люди России, и общество не могло закончить постройкой свой дом. И оно решилось сдать его на несколько лет в аренду, с тем, чтобы арендатор выстроил этот дом. Таким арендатором стал петербургский нотариус Перкин, и дом Вольно-Экономического общества был известен петербуржцам, как дом Перкина, а вовсе не как дом Вольно-Экономического общества. И не зная этого обстоятельства, можно подумать, что на Невском проспекте в период 1772—1782 года были два дома — дом Перкина и дом Вольно-Экономического общества, так как этот дом фигурировал под этими двумя владельцами, только сохраняя свое положение «против Адмиралтейства» и свой номер — № 83.
Находясь на таком видном месте, на углу Невской перспективы и Адмиралтейской площади, дом Вольно-Экономического общества, конечно, являлся привлекательным для всевозможного рода предпринимателей, причем некоторое время арендовал средний этаж этого дома известный антрепренер и устроитель маскарадов француз Лион. Но он поссорился с Вольно-Экономическим обществом, и последнее 30 апреля 1784 года[470] известило, что «поелику здешнее под Высочайшим покровительством состоящее Вольно-Экономическое общество принуждено было наемщику своего дому г. Лиону в продолжение найма с 1 июля сего года отказать, то объявляется чрез сне, чтобы желающие оный дом нанять с надежным по себе поручительством явились в будущий четверток 2 Мая». Но, кажется, такого арендатора всего дома больше не нашлось, и Вольно-Экономическому обществу пришлось иметь дело с отдельными лицами. Из них особенно интересен некто Николай Мори, появившийся осенью того 1784 года, когда Лион должен был покинуть стены дома № 83. «Почтенной публики чрез сие знать дается, — читаем мы в «С.-Петербургских Ведомостях»[471], — что недавно сюда приехавший француз Николай Мори, мещанин города Бреславля и короля Прусского привелигированный художник (любопытное соединение титулов — мещанин и художник), который при разных королевских и княжеских домах милостиво принят с двумя его прекрасными 37 дюймов вышины турецкими лошадьми, разные штуки показывать будет. Сии лошади разумеют более 200 штук и столь искусно все представляют, как еще никогда не видано. Они делают все по приказанию их хозяина, разумеют три языка, т.-е. французский, немецкий и итальянский, в которых зрители их спрашивать могут, прыгают сквозь маленькие не прямые кольца, делают другие достойные удивления прыганья, могут читать, писать и разумеют четыре правила арифметики, разумеют цвет краски, также французские и прочие монеты, играют в кости и карты, на часах показывают который час, четверти и минуты, идут на 3 ногах, входят в лагерь против турок, показывают, сколько им лет, из какой земли и долго ли были в школе, падают на колена, ежели просят о милосердии, ежели оного не получают, то, встав на двух ногах задних, и к человеку идут и стоят на карауле на задних ногах до тех пор, пока их хозяин не прикажет склониться, стоя на... словом, невозможно описать всего того, что они разумеют».
Николай Мори показывал это зрелище два раза в день в 3 и 5 часов — часы несколько странные, на современный взгляд, еще более странное объявление о плате: «Отменные особи платят по их благоволению, а прочие 1 место 50 коп. на 2-м 25 коп.»
«Отменные особи платят по их благоволению» — это означало, что нельзя было подойти к знатному русскому барину и заставить его взять билет 1 ряда, — русский барин мог обидеться, и вовсе не пойти на представление, но если это представление ему понравилось, произвело на него впечатление, то он «по своему благоволению» мог заплатить гораздо больше, чем значилось в объявлении. Это обстоятельство являлось довольно характерным знамением времени.
Среди арендаторов дома Вольно-Экономического общества был какой-то «военный клуб» или как тогда писали «клоб». Что это за клуб, мы не знаем; нам удалось найти только следующее известие о нем; известие датировано 3 октября 1782 годя[472]: «в военном клубе, что в Перкиновом доме под № 83 в 6 часов пополудни г. Зах, шведский придворный музыкант будет петь и на скрипке играть. Билеты по 1 рублю».
Но среди многочисленных извещений, появлявшихся в доме Вольно-Экономического общества, была группа, совершенно особливых, свойственных только этому дому или вернее тому учреждению которому принадлежал дом. «Почтеннейшим науки охотникам подписавшихся, печатались такие слова в 1779 году[473], доктор Григорий Соболевской через сие уведомляет, что окончивши 1 часть истории натуральной, состоящую в минералогии или в ископаемом царстве, сего марта 18 дня начнет он 2 часть, содержащую в себе все царство растений, где стараться будет изъявить славного Линнея ботанические основания и даже о всех травах, деревьях и разных вещах, от растений происходящих, к общему домостроительскому употреблению надлежащих общее и философическое понятие; и будет лекции продолжать по понедельникам и четвергам от 4 до 6 часов пополудни, в Вольном Экономическом доме».
Этими лекциями — доктора Соболевского — кажется, начались вообще лекции Вольно-Экономического общества; затем[474] «с мая же месяца по 1 сентября позволяется всем любителям земледелия и домостроительства смотреть модели, находящиеся в зале Вольно - Экономического общества по пятницам от 2 до 6 часов» и далее[475] «здешнее Вольно-Экономическое общество получило на сих днях от Парижского разные сочинения оного и в короткое время прибудут остальные. Любители домостроительства могут всякую пятницу при осмотре находящихся в зале собрания моделей, также и сии полезные экономические сочинения видеть», и наконец[476] «в доме Вольно-Экономического общества продаются свежие семена настоящего Аглинского экпарцета по сходной цене» или «в доме Вольно-Экономического общества у смотрителя продается настоящий аглинской клевер красной и белой» — все это были меры к поднятию отечественного земледелия.
Из остальных домов укажем на два, по обе стороны Гороховой улицы и Адмиралтейского проспекта. Первый, не переходя Гороховую, принадлежал графу Самойлову, у которого при Павле I был приобретен для губернских присутственных мест, а впоследствии долгое время служил местопребыванием петербургского градоначальника. О доме на другом углу Гороховой сохранился следующий именной указ Павла I от 16 декабря 1796 года[478]: «За купленный в казну дом купца Николая Щербакова в 1 Адмиралтейской части 110 тысяч рублей, а дом отдать нашему гардеробмейстеру Ивану Кутайцову» — в 1796 году брадобрей Павла еще не был бароном, но вскоре стал таковым. От него дом перешел полковнице Крюковской, и здесь был первый в Петербурге магазин резиновых изделий; они так еще тогда не звались, а назывались более замысловато: «гуммилистические изделия фабриканта Кирстена»[479] «Магазин г. Кирстена на Адмиралтейской площади № 90 обогатился новыми изобретениями. Многие жаловались и весьма справедливо, что резиновые калоши не греют ног и неудобны для ходьбы, когда на улицах слизко. Г-н Кирстен делает нынче калоши с кожаными подошвами и на меху, имеющие двойное удобство согревать ногу и не пропускать мокроты»[480]. Дом Щербакова — Кутайсова — Крюковской был построен в 1793 году[481] и сохранился с того времени без переделки, представляя хороший образец дома конца Екатерининского царствования.
Наконец, нужно сказать еще о последнем примечательном доме в этой местности,—это дом бывшего военного министерства, иначе известный под именем «дом со львами» и помещавшийся между Вознесенским проспектом и Исаакиевским собором. О постройке этого дома сохранилось следующее предание. Его построил князь Лобанов - Ростовский и вот по какому поводу. Будто бы Александр I вместе с князем, бывшим его флигель-адъютантом, ехал через Адмиралтейскую площадь. Конногвардейский манеж уже был построен, Адмиралтейство приняло свой новый Захаровский вид, воздвигался Исаакиевский собор, — а Адмиралтейская площадь не обстраивалась. Император Александр будто бы и высказал князю свое недоумение. Князь промолчал, но через год устроил так, чтобы вместе с императором снова проехать по этой площади, и царь мог любоваться новым домом Лобанова-Ростовского, построенного по проекту Монферана, того же самого архитектора, который строил и Исаакиевский собор.
Конечно, это анекдот, но анекдот, очень характерный, этими анекдотами подчеркивали, насколько мы, россияне, верноподданны: царь выразил лишь сожаление, а его верноподданный не жалеет средств и строит громадный дом, совершенно не нужный для личного употребления.
Надо помнить, что для пропагандирования той или иной идеи употребляли все средства, что трудно даже предположить, к чему прибегали, чтобы получить желаемые результаты, и, изучая прошлое, мы прежде всего должны отрешиться от наших современных взглядов и перейти в дух былого времени, и многое, что кажется на первый взгляд совершенно непонятным, оживет и станет вполне понимаемым.
Князь Лобанов-Ростовский, богатейший человек в России, был к тому же женат на самой богатой невесте Петербурга на Безбородко, и, конечно, он мог удовлетворить свою прихоть — выстроить себе лишний дом, тем более, что он знал, что в случае ненадобности казна всегда приобретет у него этот дом. Заготовка материалов для этого дома князя началась осенью 1817 года[482], весною 1819 года дом уже штукатурился[483], а с осени дом стал заселяться; а в 1826 году в военном министерстве было заведено дело «о доме Лобаново-Ростовском, покупаемом в казну[484], таким образом князь владел этим домом всего 6 лет. Это обычное явление для Петербурга — вельможи строят дом, затем дом ему оказывается не нужным, или вельможа разоряется, и казна покупает его дом для какого-либо своего учреждения. Весьма понятно, что дом, который строился для частного лица, не подходит для казенного учреждения, учреждению приходится стесняться, ютиться не так, как нужно, особенно плохо было, если дом покупался для учебного заведения — классы были темны, неудобны, но на это не обращали внима ния, надо было поддержать того или другого вельможу... Отметим, что в доме Лобанова-Ростовского была одна из первых литографий Петербурга[485].
Теперь мы приступаем к изучению другой замечательной постройки этой местности Петербурга — Исаакиевскому собору и, сравнивая эту постройку с Адмиралтейством, мы сразу сможем понять разницу между высоко-художественной постройкою и просто художественной, разницу между эпохою развития архитектурного вкуса и его упадком... Повторяем уже не раз высказываемую нами мысль о некоторых особенностях Петербурга — в нем строения сконцентрированы в нескольких пунктах, и эта концентрация очень удобна для наглядного изучения памятников архитектуры. Ведь словами нельзя описать архитектурного сооружения, описание словами далеко не дает того эффекта, который достигается самим сооружением. Но подведя зрителя к сооружению, поместив его в такое место, откуда открывается особенно удачный вид на сооружение и — вследствие того обстоятельства, что рядом стоит другое сооружение — возможно сделать сравнение, так сказать, наглядное и вследствие этого получить вполне законченное цельное впечатление.
К 1706—1707 году[486] начались предварительные работы по устройству первой церкви во имя св. Исаакия в Петербурге— в день рождения императора Петра приходится память о святителе Исаакии — понятно, что в городе Петра должна быть церковь, посвященная этому святому, и вот в 1706—1707 году составили роспись, что надлежит построить при Адмиралтейском дворе церковной утвари в церковь св. Исаакия; вслед за этим появилось распоряжение об устройстве печей в этой вновь устраиваемой церкви[487], затем произошел ряд переделок в том здании, которое предполагалось отвести под новую церковь[488], и, наконец, 30 мая 1710 года произошло освящение первоначального Исаакиевского собора[489] — что же представляла из себя эта первоначальная церковь? Даем слово первому историку Петербурга Богданову[490]: «сперва сия церковь построена была из того, что при Адмиралтействе был большой чертежный анбар, в котором рисовали чертежи для корабельного строения, который тогда стоял на лугу против Адмиралтейских ворот, по когда вместо оного построен иной чертежный анбар, тогда Его Величество повелел в оном в 1710 году построить в нем церковь во имя преподобного Исаакия, в память дня рождения своего, в которой отправлялась Божия служба по 1727 год» — как видим, Петр поступил и скоро и просто — чертежный сарай сделался церковью — над входом устроили небольшую колокольню, в которую повесили один маленький колокол, а на противоположном конце воздвигли небольшую же главку с крестом над алтарем; помещалась эта церковь напротив Гороховой, приблизительно там, где теперь Александровский фонтан. Такое приспособление сарая к церкви говорит о том, что в это время Петр не считал еще положение Петербурга крепким и прочным, военное счастье могло повернуться, и шведы могли вернуть отнятую от них Ингерманландию. Но только положение окрепло, только Петербург мог назваться столичным городом, Петр вспоминает об этой скромной Исаакиевской церкви и 6 августа 1717 года[491] производит закладку уже каменной церкви во имя того же святого, причем церковь должна своим внешним видом соответствовать тому событию, в честь которого она строится. Проект церкви составляет значительный архитектор Петровского времени Маторнови, место выбирается за Адмиралтейством, на берегу Невы, ближе к последней, чем нынешний памятник Петра I. Как же производится постройка? Ответ на этот вопрос дает очень характерный рапорт подрядчика по постройке. Рапорт датирован 27 мая 1720 года[492], т.-е. на третий год постройки: «Слушали подлинное доношение Ярославского уезда морского флота поручика Травина от крестьянина Якова Неупокоева, что он договорился в городовой канцелярии построить на Адмиралтейской стороне церковь Исаакия Далматского из государевых всех материалов своими мастеровыми и работными людьми и окончить оную в нынешнем 720 году; и в 719 году у оного строения было материалов малое число; и делая у того строения с мая но июль месяц с наемными 60-ю человеками, а с июля месяца за неимением материалов работы никакой не было, о чем де он в оной канцелярии подавал доношения, однако же по тем его доношениям материалов никаких к тому строению не отправлено. А в нынешнем де 720 году того строения за неимением материалов и делать не починал, а по договору де ежели оное строение в нынешнем 720 году не окончено, положен на нем штраф с наказанием и что того на нем не взыскалось»... Обычная история русской действительности, когда по бумаге все благополучно, а на деле совсем иначе. По заключенному контракту церковь должна была быть закончена в 1720 году, подрядчику за неоконченные работы грозили жестоким наказанием, а на самом деле работы производились всего-навсего лишь 2 месяца, май и июнь, и работало на этой постройке только 60 человек. Богданов дал[493] нам такое описание этой церкви: «начали строить каменным строением 6 августа 1717 (как видно из донесения подрядчика настоящей постройки не производилось), а совершенно 1727 года (в конце описания Богданов, как увидит читатель, сам себе противоречит, церковь никогда не была вполне закончена), строил каменных дел подрядчик Яков Нарпонов (Неупокоев, Богданов здесь допустил ошибку), а рисунок делал ей архитектор Маторнови. Длина церкви 281/2 сажени и 31/2 вершка, ширина 91/2 сажени и 3 вершка (любопытна эта точность в вершках!). Стены толщиною при окнах 3/4 аршина и 2 вершка, а с пилястрами, что промеж окон 1 аршин 5 вершков. Ширина поперек от южных дверей 153/4 сажени и 2 вершка. Внутри церкви 8 столпов, ширина 13/4 аршина, толщиною 1 аршин 5 вершков. Большие столпы, что под куполом в 21/2 арш. и 2 вер. толщины. Круглые столпы у двух папертей толщиною 1 аршин 5 вершков, вышиною до гзмызов 7 арш. 7 вершков. Колокольня вышиною 12 сажень 2 аршина и 21/2 вершка, ширины 5 сажень 81/2 вершков, в толщину стены 2 аршина и 2 вер. Еще к той же церкви придано с обеих сторон галлереи глухие со окошками для укрепления стен и сводов; до бывшего в 1735 году пожара в сей церкви были деревянные своды, кои сгорели, а оные побочные галлереи сделаны только для укрепления стен, дабы оные от тяжести сводов не повредились. Над оною колокольнею купол большой и один лантернин был, а сверх того маленький куполец и на нем поставлен был крест медный, вышиною до креста 6 сажень и колокольня вышиною была и со шпицем 18 сажень. Крест вышиною 7 футов и 8 дюймов, поперек 5 футов и имел 4 сияния, длины в 3 ф. и 4 д., вызолочен был червонным золотом, также и другой крест, который на церковном куполе. Яблоко, которое было на шпице колокольни, медное, позолоченное, мерою в округлости в 1 с. 5 ф. и 6 д. Купол большой над церковью, и над ним маленький, обитый белым железом, а прежде пожару обито было простым железом, также, как и кровля, покрыто все железом. При сей церкви на колокольне были преизрядные часы с курантами, такие ж, какие и на Петропавловской колокольне имеются, на которых били часы, полчаса, четверти и минуты. После 12-ти часов 1 час играли куранты. Оные часы с петропавловскими вывезены были вместе из Амстердама, даны 35 т. рублей. Иконостас в сию церковь сделан и поставлен, также и освящен в 1727 году. Галлереи около колокольни сделаны для подкрепления оной в 1742 г., и тако сия церковь и поныне (1753 г.) строением не окончена и колокольня стоит без шпица».
Таково единственное описание Петровского Исаакиевского собора, это описание поражает какой-то бессвязностью, бессистематичностью рассказа, свойства, которыми обыкновенно не отличался Богданов, наоборот, он всегда точен, лаконичен и ясен; в описании Исаакиевской церкви он хотя и щеголяет вершками в размерах, но общее впечатление от его рассказа более чем странное. Разгадка очень проста, — описывал Исаакиевскую церковь Богданов не с натуры, так как в натуре ее не было, а со слов и с проекта, который был составлен при Петре.
Мы уже видели, что до 1720 года церковь почти не строилась, а в 1733 году[494] был дан указ об окончании постройки собора Исаакия Далматского — следовательно в 1733 году постройка собора была не закончена, а 21 апреля 1735 года была «гроза, во время которой Исаакиевская колокольня зажглась»[495], а 26 июля 1735 года «разбиты молнией часы Исаакиевского собора»[496], все это, вместе с указом 18 июня 1736 года «о бытии в церкви св. Исаакия Далматского только 1 пределу, о писании образов таким же мастерством, как в Петропавловской церкви и о достройке каменной ее колокольни»[497], позволяет чуть ли не категорически утверждать, что ранее конца 30-х и начала 40-х годов XVIII века церковь не была готова, но этот законченный вид дал ей П. Трезини, который был назначен 4 июня 1735 года быть при строении[498]. Но и эта постройка велась, видимо, плохо, так что 29 октября 1753 года[499] пришлось назначить освидетельствование собора; во време этого освидетельствования было высказано предположение, что церковь следует перенести, но с этим предложением не согласилась высочайшая власть —17 декабря 1757 года[500] состоялось «Высочайшее повеление о непереносе соборной Исаакиевской церкви на другое место, но о поправлении, укреплении и отстройке таковой на прежнем». Высочайшее повеление нужно было исполнить, но в данном случае устроили так, что 10 апреля 1759 года[501] появилось новое высочайшее повеление об освидетельствовании фундамента Исаакиевской церкви для определения возможности продолжения работы по постройке колокольни» — ясно, что колокольня как она была не достроена после пожара, так и оставалась. Это освидетельствование хотя и вызвало новое высочайшее повеление от 16 марта 1760 года «о поновлении Исаакиевской церкви с постройкою колокольни»[502], но к концу года призвали архитектора Чевакинского[503], который подтвердил необходимость разобрать церковь — и это решение было уже бесповоротное: 3 июля 1761 года появилось первое объявление[504]: «Исаакиевскую соборную церковь желающим разобрать совсем и с фундаментом явиться в дом бывшего канцлера у определенного к строению той церкви полковника Шамшева», торги на разборку назначались несколько раз, но уже 30 ноября 1761 года[505] «сим объявляется, что хотящие на возвышение улиц брать находящийся от разломки старой Исаакиевской соборной церкви щебень» должны были обращаться к тому же полковнику Шамшеву».
Все несчастие со вторичною постройкою Исаакиевского собора заключалось в том, что недостаточно позаботились об основании. Строили церковь чуть ли не на самом берегу Невы, где было сплошное болото, и не укрепили достаточно фундамент и не возвысили почву от постоянных наводнений. Вследствие слабого фундамента происходила неравномерная осадка здания, пытались этому горю помочь устройством контрфорсов, галлерей вокруг здания, но все эти паллиативы не достигали и не могли достигнуть цели — церковь была обреченною. Но когда ее начали разбирать, то не оставили мысли построить её на том же месте, для этого повелели «укрепить берег Невы у Исаакиевской церкви»[506], но Елизавета Петровна умерла, новый император Петр III относился довольно индифферентно к православным церквам, считая их одною тяжелою формальностью и с легким сердцем издал «высочайшее повеление о строении вновь Исакиев ской церкви на площади против Адмиралтейского луга»[507]. Это повеление датировано 28 марта 1762 года и является, таким образом, основною датою для третьей Исаакиевской церкви, которую должны были соорудить по проекту Ринальди. 2 марта 1764 года Екатерина II распорядилась «об устройстве модели Исаакиевского собора под наблюдением архитектора Виста и об отпуске ему 68 р. на покупку инструмента для исполнения порученного дела[508] — модель исполнялась значительный промежуток времени, и только 20 апреля 1770 года, т.-е. через 6 лет, публика Петербурга была оповещена[509], что с 20 числа сего месяца от 10 до 2 часов показываема будет публике новостроящейся Исаакиевской соборной церкви модель. Так же и вновь найденные на Ладожском и Онежском озерах разные российские мраморы и модели же тех гор с натуральным изображением, из коих оные мраморы достаются, желающие оное видеть, являться могут при конторе строения Исаакиевской соборной церкви». — Это известие, насколько нам известно, нами впервые извлеченное, имеет большое значение, так как им устанавливается точно дата начала разработки российского мрамора. Приказав сделать модель церкви по проекту Ринальди, Екатерина II назначила 21 февраля 1765 года[510] срок для начала строения на апрель 1765 года, затем 8 марта того же года[511] архитектор Вист был назначен в помощь «архитектору Ринальдио» при строении Исаакиевской церкви и наконец 19 марта[512] «о препоручении находящегося при строении Исакиевской церкви полковника Шамшева со всею при нем командою под главную дирекцию генерал-полицмейстера Чичерина» — этими распоряжениями Екатерина II установила как административный, так и технический надзор — а 19 января 1768 года появилось распоряжение «об изготовлении мрамора и дикого камня для Исакиевской церкви»[513]. Этим узаконением генерал-поручик граф Брюс должен был взять на себя заведывание добычею мрамора в Кексгольмском уезде в погосте Сердобольском и Русколеском; при каменоломнях должно было устроить шлифовальные мельницы[514].
В течение 4 лет на этих каменоломнях должно быть добыто достаточное количество мрамора, расход выражался в 240.760 р. — но все эти предположения так и остались предположениями, добывание мрамора затянулось, причем особенно затруднительна была перевозка его через Ладожское озеро; нередко случались аварии — 31 января 1783 года вызывались желающие взять на себя работы по подъему в Ладожском озере галиота с мрамором для Исаакиевской церкви[516].
Торжественная закладка церкви произошла 8 августа 1768 года[517], и затем потянулись бесконечные ассигнования и доасснгнования средств на постройку этой церкви, причем значительны ассигнования, производимые из кабинета. Вот далеко не полный перечень их: 11 сентября 1772 года[518] — 10 т. р., 15 мая 1773 года тоже 10 т. р.[519]; 15 января 1774 года — 40 т. р.[520]; 30 октября 1774 года — 10.655 р.
43 коп.[521]; 24 августа 1783 года[522] — 30 т. р.; 17 июля 1786 года[523] — на продолжение строения церкви 50 т. р., но несмотря на обилие средств, постройка шла очень медленно, и к концу жизни Екатерины II[524] было построено только основание здания, ни купол ни колокольня еще не начинались. Одним из первых распоряжений Павла I было «упразднение конторы Исаакиевской церкви[525] и приказание доделать верх собора кирпичем». Постройка пошла усиленным темпом, и 30 мая 1802 года[526] произошло освящение Исаакиевской церкви, про которую современники составили эпиграмму:
Весьма понятно, что такая постройка не могла удовлетворить императора Александра I, и 26 июля 1819 года была сделана закладка нового Исаакиевского собора по проекту Монферана на месте ранее построенного при императрице Екатерине II архитектором Ринальди собора, части стен которого вошли в план нынешнего собора[527]. Постройке собора предшествовала, как это было и с Екатерининской Исаакиевской церковью, выставка модели. Сохранилось очень любопытное современное описание этой модели[528]. «Любопытство публики обращено теперь на модель новой Исаакиевской церкви, показываемую каждую среду в доме Шмита, что у Семеновского моста на Фонтанке. В день сей и сам архитектор г. Монферан бывает притом для объяснения подробностей г-м посетителям». Модель поставлена на огромном столе из красного дерева, который раздвигается помощью пружины на две равные половины и дает возможность любопытствующим видеть самую внутренность храма. Церковь представляет огромное четырехугольное здание, украшенное сверху пятью главами, а с двух сторон портиками наподобие знаменитого Римского Пантеона. Она будет иметь в длину 234 ф. 6д., в ширину 177 ф.. 4 д., в вышину 207 ф. 8 д. Сверх того, средняя глава будет иметь 84 ф. 4 д., что составит с церковью 295 ф., а с крестом, который сам по себе 18 ф. — 313 ф., следовательно, вышина средней главы будет почти равна колокольне Ивана Великого. По совершению сего здания только два храма в Европе — св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне будут превышать его огромностью.
Исаакиевская церковь обложена будет снаружи полированными плитами из белого мрамора, найденного неподалеко от Ревеля, а внутренность украсится разного рода и цвета мраморами, в том числе и тем, коим обложена была доселе старая мраморная Исаакиевская церковь. Портики будут иметь по 16 столбов коринфского ордена, из коих каждый вышиною 56 ф. (8 с.) из цельного превосходного гранита, добываемого на одном финляндском острове. Капители их и базы (основание) будут из бронзы — сей размер во многом превосходит меру столбов Римского Пантеона, которые вышиною 46 ф. 9 д. 11 линий и двумя саженями более колонн Казанской церкви. Главы окружены будут мраморными колоннами же сего же ордена и покрыты бронзовыми, вызолоченными листами. Алтарь представит соединение богатства и великолепия по части живописи, скульптуры и бронзы; но более всего украшен будет единственными осьмыо столбами из зеленой сибирской яшмы — вышиной в 10 ф. и четырьмя из несравненного порфира в 4 ф. 2 д., кои уже и привезены из Колывани и Екатеринбурга. Внутренность сводов покроется богатейшими рамчатыми узорами и живописью. Пол будет из разноцветных драгоценных мраморов — вокруг церкви обнесется невысокая решетка с приличными скульптурными изображениями святых и урна для освящения в торжественные ходы и праздники.
Уже за несколько лет пред сим Государь Император предполагал перестроить Исакиевскую церковь. Многие проекты по сему предмету представлены были Его Величеству г. Монфераном, и наконец Государь изволил принять и утвердить вышеописанный. Вследствие оного в 1819 году Июня в 26 день положен первый камень обновления сего храма с начертанною по высочайшему повелению на Российском языке следующею надписью: «Сей первый камень обновления положен в лето от Р. X. 1819 в 26 день месяца Июня царствования же Императора Александра Первого в 19 лето. При основании храма, начатого его Великою Прародительницею Екатериною II во имя святого Исаакия Далматского в 1768 году». По сему проекту Монферана большая часть старой церкви должна остаться невредимою и войти в состав нового здания, так что и внутренность расположена сообразно первоначальному ее чертежу, сделанному архитектором Ринальди, по коему она однако ж за кончиною императрицы Екатерины II не была проведена к окончанию. Без сомнения известно всякому, что храм сей воздвигнут Екатериною в память дня рождения избранного ею героя, Петра Великого.
Перед входом в комнату, где поставлена вышеописанная модель, можно видеть для сравнения и модель старой церкви. Кроме несравненно изящнейшей отделки первой перед второю, г. Монферан умел и побочными предметами придать особый блеск своему произведению. Комната, в которой она поставлена, украшена картинами, а по полу натянут богатый ковер, что распространяет какую-то приятную мрачность — и вот искусство, особенный дар иностранцев, которое мы, Русские, еще у них не переняли!
Прошедшего Июня г. МонФеран напечатал великолепное издание всем своим проектам, относящимся до сего здания, с кратким описанием оных на французском языке».
В этом описании все характерно, все переносит нас в столь отдаленную эпоху, особенно хороши мелкие описания — «этот богатый ковер, положенный в комнате, где показывалась модель, и распространяющий какую-то приятную мрачность!» — Как мог этого достигнуть ковер, конечно, секрет автора описания, достопочтенного Свиньина.
Мы считаем необходимым в дальнейшем привести в хронологической последовательности те статьи и заметки, которыми сопровождалась постройка Исаакиевского собора в Николаевское время. Нам кажется, что только дословною передачею возможно будет хоть отчасти восстановить то настроение, ту психологию, которую переживали наши предки. В этих выписках столько колорита того времени, такие драгоценные подробности, едва уловимые штрихи, что, мы думаем, читатель не посетует на нас за несколько страниц старых выписок. Из них мы видим, что против Монферана была значительная оппозиция, что ему приходилось не только строить, но и отклонять те интриги и стремления подкопаться, к которым так склонны были в прежнее время. Первое описание относится к 1830 году[529]: «Со времени сооружения Александровской колонны, строение Исакиев ского собора продолжается с такою деятельностью, что по исте чению немногих лет столица наша может славиться сим зданием, одним из прекраснейших в Европе (здесь пока говорится очень скромно, но в дальнейшем эта скромность откинута как излишняя). Летом ежедневно занимаются сим строением по 3 т. человек. Здание сие исполинскою огромностью материалов и вообще преодолением величайших затруднений возбуждает всеобщее удивление. Не упоминаем о множестве мрамора, подвозимого беспрерывно. За несколько дней перед сим выгруженно на берег 9 огромных гранитных цилиндров, из коих вытесываются колонны для внешнего украшения купола. Колонны сии цельные, числом 24, имеют в вышину 42 фута. 15 уже привезены водою. За остальными направлены суда, приводимые в движение пароходами. Огромные леса, которыми окружено здание, не позволяют еще судить о красоте исполненных доныне работ, но отчасти, видя исполинский мраморный антаблеман, портики длиною в 20 сажен с 48 гранитными колоннами с бронзовыми базами и капителями, можем, без преувеличения, заключить, что доныне нет ни одного здания новых времен, в котором было бы столько богатства и величия, как в сем храме».
В следующем году усиленное внимание привлекала железная дорога, устроенная от Невы к собору для перевозки тяжестей помощью лошадьми или людьми. Эта была первая железная дорога, преимущество пользования ею указывалось следующим образом[530]: «при употреблении прежнего способа перетаски камней требовалось для доставления означенных пяти штук четыре дня времени и в каждый день по 40 человек рабочих людей — помощью железной дороги употребили только час времени и 6 человек рабочих». В конце того же 1837 года появилось следующее очередное описание работ[531]: «Из всех построек, которыми великолепный Петербург украшается с каждым годом, наша публика особенно интересуется работами над построением величественной церкви св. Исаакия, которая будет находиться на-ряду с величайшими зданиями Европы и превзойдет их богатством материалов, благородством и чистотою своей архитектуры. Мы находим в «Journal de St. Pétersbourg» любопытную статью о произведенных доныне работах над постройкою этого храма и спешим передать ее нашим читателям. Для составления себе понятия о великолепии сего здания должно себе представить храм в 340 футов вышины, весь из мрамора и бронзы, украшенный снаружи 112 колоннами из красного гранита, расположенными по строгому и правильному плану. Сверх того, должны присовокупить к сему четыре фронтисписа с бронзовыми барельефами в длину и своды с украшением из того же металла, к этому должно прибавить мраморный купол с 109 ф. в диаметре, обнесенный отдельною колоннадою, которая начинается в 108-ми футах над основанием; вокруг большого купола этого богатого здания на квадратном плане должно расположить четыре малые с вызолоченными сводами подобно главному. Совокупив все сказанное, можно получить некоторое понятие о том, что представляет это здание уже ныне и что оно будет в 1841 году, к которому надеются окончить наружную отделку храма. В продолжение трех лет работы над этим вековым зданием были произведены с удивительными стараниями и деятельностью. Вид этой постройки столь величественен, что, продолжая мысленно окружающие ее леса, воображение переносится к колоссальным пирамидальным массам, которыми гордится Египет. В прошедшем году были окончены своды этого строения; они столь высоки, что, находясь во внутренности храма, с трудом измеряешь их высоту. Мраморный стилобат купола, с большим антаблемантом и большая часть колонн окончены тремя тысячами работников, которые занимались ежедневно в течение всего прошедшего лета. Двадцать четыре колонны купола, имеющие 12 фута в вышину и состоящие из одного куска гранита, окончены отделкою. В прошедшую субботу в ноябре происходило поднятие первой из сих колонн. Поднятие сих колонн столь же трудное, как и поднятие предыдущих, но еще сложнее его, было произведено под управлением и распоряжением г. Монферана главного архитектора. Помощью подвижного деревянного стелажа должно было поднять тяжесть в 200.000 фунтов слишком до 200 футов вышины. Совершенный успех увенчал это гигантское предприятие, которое доныне еще не было производимо и которому не представляет примера ни один из древних или новых памятников. Несмотря на неблагоприятное время года, поднятие и поставка прочих колонн производится безостановочно, и по всему можно надеяться, что к будущему маю будут поставлены все 24 колонны купола».
После устройства колонн принялись за барельефы[532]: «когда положено было основание новому зданию по плану архитектора Монферана (в 1820 году), в городе носились слухи, что храм будет кончен постройкою в течение 50 лет, и потому не многие из свидетелей заложения надеялись увидеть его. Но слухи оказались не справедливыми, и мы в истекшем году уже увидели знамение спасения на маковке созидаемого купола (т.-е. крест) и в текущем 1840 году увидели вчерне все здание, т.-е. всю наружность собора. Удивляясь великолепию здания в рисунках и моделях, мы никак не можем вообразить себе того величия, в котором храм сей представляется теперь по снятию лесов с верхней части здания. Знаменитые храмы св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне удивляют огромностью, высотою, красотою формы, и, по справедливости, поставляются в числе чудес искусства. Исаакиевский собор хотя уступает несколько римскому и лондонскому храмам в огромности, но в красоте форм и в величии целого стоит на-ряду с ними, а в богатстве материалов далеко их превосходит. В нашем соборе целые горы гранита, приняв щегольские формы колонн лучших времен Греции, укрепляют 4 фронтона и башни, и это, так сказать, удивительное собрание монолитов есть первое чудо в свете: до сих пор на земном шаре нет здания, украшенного таким множеством монолитов и такого огромного размера. И с каким искусством поместил их г. Монферан! С какою легкостью и удобством поднял он эти громады на высоту! Таких работ не видывала Европа! Не менее достойны удивления внутренние своды и свод главного купола из чугуна. Одним словом, все в этом храме гигантское, служащее эмблематическим изображением нашего отечества. В исполнении видим силу России, в материалах ее богатство, в формах изящество нашей образованности (нельзя не подчеркнуть этой фразы, в которой весь ужас положения выясняется с невероятною резкостью— ведь это определение относится к России Александра I и Николая I, к России военных поселений, крепостного права, произвола и гнета без конца!) Фронтоны будут украшены барельефами исполинского размера. Один барельеф, изображающий Воскресение Господне, уже кончен знаменитым парижским (разве своих не нашлось?) скульптором Лемером, нарочно вызванным для сего из Парижа. Это вполне совершенство искусства! Фигура Спасителя, божественный лик его, фигуры воинов, их позы, ужас, изображающийся на их лицах, фигура ангела — все это отделано с величайшею тонкостью, отчетливостью и одушевлением. Воззрение на это чудное произведение искусства трогает душу и проливает в нее благоговение к таинствам веры. Для трех других барельефов назначен конкурс — от создания мира ни одно великое предприятие не было исполнено без того, чтоб зависть не прошипела над гениальною головою. Мы душевно убеждены, что Исаакиевскому собору невозможно было дать лучшего и приличнейшего вида, какой ему дан ныне, по плану г. Монферана. Странно было бы следовать моде и пускаться в готизм или византизм в городе новом, в котором все здания носят на себе характер новой эпохи в искусствах и даже новых потребностей общественной жизни. Архитектура Византийская и Готическая могут быть приличны в древней Москве, в виду кремля, но в Петербурге только правильная архитектура греческая и щегольство эпохи возрождения искусств (de la ranaissance) могут иметь место. Это постигли великие художники, которым Петербург обязан лучшими своими украшениями: Кокорин (строитель Академии Художеств), граф Растрелли (строитель Зимнего дворца и других зданий) и Гваренги (строитель Ассигнационного банка, английской церкви на набережной и т. п.). Чуждые всем посторонним отношениям и руководствуясь одною честною любовью к изящному, мы душевно убеждены, что им г. Монферана должно стоять с сими знаменитыми художниками. Все беспристрастные ценители художеств поставят наш Исаакиевский собор на-ряду с церковью св. Петра в Риме и церковью с в. Павла в Лондоне, т.-е. почитают его равным с лучшими произведениями нового искусства!»
Последние строки очень интересны, так как они показывают, что против Монферана велась весьма серьезная кампания, когда «Северная Пчела» должна была так восстать на его защиту!
В 1841—42 годах освободился от лесов главный купол Исаакиевского собора, и мы читаем следующие строки:[533] «Самый купол, крытый вызолоченною бронзою, поразителен по богатству и изящности, не имеющим себе подобных. Вышина его такова, что виден за сорок верст в окружности и из Кронштадта виднеется, как светящийся маяк, указывающий путь многочисленным судам, летящим к столице. В бессолнечную погоду его яйцеобразная масса чистого золота обрисовывается светом на лазури; она являет разительную противоположность с строгим цветом бронзовых украшений, с мраморными стенами и со 104 гранитными колоннами этого величественного здания. В прелестную петербургскую ночь, когда весь город представляет лишь неопределенные и темные очерки, едва обрисовывающиеся, купол нового собора не темнеет, но блистает необыкновенным светом!»
В 1844 году[534] — главные предметы, обращающие на себя внимание на выставке Академии Художеств — картоны пли эскизы образов, которыми украшен будет Исаакиевский собор, а 27 мая 1847 года[535] «было чрезвычайное стечение парода у новостроящейся церкви Исаакия, чтобы послушать пробу колоколов. Они сильны, звучны, но с высоты, когда этот великолепный памятник нашей эпохи будет отстроен, святой голос их будет без всякого сомнения величественнее». —1848 года 18 мая писали: «На прошлой неделе приступили к поднятию и постановке на пьедесталы, устроенные над фронтонами собора, колоссальных бронзовых статуй, изображающих св. апостолов»,[536] и наконец 21 октября 1857 года[537] «петербургский старожил, с удовольствием, какого не поймут молодые люди, берется за перо, чтоб сообщить о новости, которая непременно будет приятна всем жителям Петербурга и, конечно, порадует иногородних, бывших в нашей прекрасной столице. По снесении временных деревянных строений и заборов, окружавших Исаакиевский собор, открыто сообщение по Исаакиевской площади, сначала между собором и зданием военного министерства, а потом и с южной стороны, из Малой Морской улицы в Почтамтскую, — сообщение, бывшее прерванным лет 30 и нынешнему поколению неведомое. Кажется, эта часть города пробудилась, вздохнула свободно. Вид с угла Малой Морской восхитительный! Прямо представляется теряющаяся вдали Почтамтская улица, по левой руке временные строения вокруг строящегося на площади монумента, вправо великолепный собор с своими исполинскими колоннами, с невообразимо величественными бронзовыми воротами, готовыми развернуться для принятия православных внутрь храма, живого памятника благочестия и любви к святыне великих царей наших!»
30 мая 1859 года[538] произошло торжественное освящение законченного наконец постройкою Исаакиевского собора.
В приведенных нами выписках ярко отразились главные моменты строительства собора и в то же время ясно выступает значение этой постройки в общественной жизни Николаевской эпохи.
Но если в настоящее время мы посмотрим на Исаакиевский собор с горки, находящейся в Александровском саду и, повернувшись к нему, обратим наше внимание на здание Адмиралтейства, мы, повторяем, должны сразу увидеть разницу между этими постройками — зрелая мысль художника, могучий порыв вдохновения виден в Адмиралтействе, наблюдается в каждой его детали — но этой мысли, этого порыва мы не находим в Исаакиевском соборе, посмотрев на него, мы сейчас же вспомним храм Рима или Лондона, затем мы можем изумляться теми архитектурными хитростями, которые употребил архитектор при этой постройке, мы невольно выскажем восторг от материала, от дивных гранитных колонн-монолитов, от сверкающей бронзы купола, но и только, в душе ничего не пробудится, разве только сожаление об затраченной энергии, о бесконечных тратах и денежных и человеческих сил...