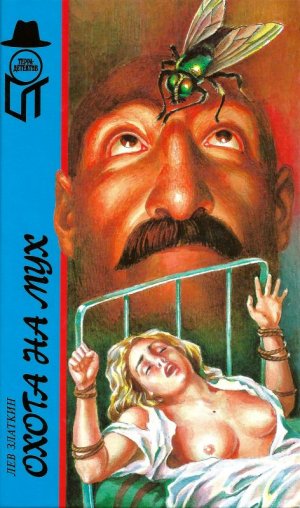
Охота на мух
Зеленая жирная муха ползала по нагретому солнцем стеклу окна возле общей уборной в конце галереи, останавливаясь изредка, чтобы заняться собой. Сегменты ее выпуклых глаз неотрывно следили за маленьким детенышем тех странных двуногих, которые были врагами, как птицы, но, в отличие от птиц, создавали среду обитания мухам своими испражнениями, отбросами пищи, свалками мусора. Детеныш не двигался, но его черные выпуклые глаза также неотрывно следили за мухой, гипнотизируя ее своим умоляющим взглядом: «замри, замри, замри, замри»!
И муха замерла. Ее передние лапки замелькали, очищая голову, а задняя пара, попеременно с передними, занимались брюшком. Микробы холеры и других опасных эпидемий тысячами летели в воздух.
Мир-Джавад дышал ими, но даже микробы холеры погибали, едва они оказывались втянутыми потоком воздуха в его огромный с горбинкой нос. Два пальца левой руки семилетнего мальчишки цепко держали один конец толстой резиновой нити, а два пальца правой руки натягивали резинку за другой конец, а правый глаз намечал место для удара. «В голову, только в голову, сразу брызнет темная кровь, короткие судорожные посучивания ножек, и все кончено… А может, в живот?»
Дверь уборной звякнула, с нее сбросили крючок. Муха на мгновение замерла, собираясь улететь, но удар резинки распластал ее внутренности по стеклу, и, как муха ни пыталась взлететь, ни сучила ножками, ничего не получалось, только крылышки жужжали от величайшего напряжения, от невозможности оторваться от страшной боли, впившейся ей в тело.
Дверь уборной резко распахнулась, едва не ударив Мир-Джавада. Вышел молодой мужчина, но уже совершенно седой. Увидев Мир-Джавада, вытирающего с резинки кровь пальцами, закричал отчаянно, так, как жужжала муха:
— Опять охотишься, негодяй, больше тебе нечем заняться?.. Иди на двор, погоняй мяч, или «покалай», паук двуногий, убийству учишься, чтобы у тебя руки отсохли…
Мужчина пытался влепить Мир-Джаваду подзатыльник, но тот увернулся и закричал:
— Ба!..Сумасшедший дерется…
— Вазген!.. Что к ребенку пристал? — закричала из общей кухни пожилая толстуха, бабушка Мир-Джавада. — Из уборной вышел, руки не вымыл, — заразу разносишь, маленького обижаешь. Занимайся своими делами, каждый лезет куда не просят, своих рожай, потом им раздавай «щелля»… Приходят тут всякие приблудные, распоряжаются…
А Мир-Джавад пропищал:
— Недорезанный!..
Вазген затряс кулаками в воздухе и, зайдя в общую кухню, закричал на бабушку Мир-Джавада:
— Да!.. «Недорезанный»!.. Не убили меня, как я их ни просил, оставили мучиться, оставили не жить, а мучиться и вспоминать ту дорогу, такую же пыльную и ровную, как это стекло, и так же, как муха, на ней билась моя Ануш, на моих глазах над ней надругались, на моих глазах ей кинжалом вспороли живот, а меня привязали к столбу над ней и били, чтобы я не отводил глаз, били, чтобы я смотрел, и смеялись, как они смеялись… Да, у меня никогда не будет детей… Ты, старая женщина, думай, кого ты растишь, думай, пока не поздно…
И Вазген поплелся по веранде, бормоча: «жестокий мир, жестокий мир, в липкой паутине все, что ни вижу, солнца хочу, солнца!.. А, распятый, я кричал солнцу: „ненавижу“!..
Бабушка Мир-Джавада выразительно покрутила пальцем у виска ему вслед, показывая внуку, что у Вазгена „не все дома“. А Мир-Джавад, ковыряя в носу, мерзко хихикал…
„Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше… Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас“.
А солнце жарко светило. Город сонно разбросал по склонам горы дома, кое-как проложил между ними кривые улицы, щедро озелененные в центре и голые, грязные чуть в стороне. Вопиющая нищета соседствовала с наглой роскошью, дворцы окружали старый город, где солнце с трудом пробивалось во дворы, а в комнаты без окон оно не заглядывало. Запах сырости лежал на всем: на скудной мебели, залатанной одежде, на телах живущих здесь людей и, казалось, даже на их мыслях… А дворцы, в свою очередь, окружали жалкие домишки, где в каждой комнате жили по пять-шесть человек, где по утрам, во время игр, дети, хихикая, делились опытом подсмотренной и подслушанной близости отцов и матерей, семейных старших братьев и сестер. Эти — дома поставляли во дворцы прекрасные тела юных проституток, а в тюрьмы воров и грабителей, ибо развращенные с детства умы трудно направить на благое дело, а воровской мир нищеты, как и воровской мир роскоши, засасывает. А между двумя воровскими полюсами был мир тружеников, мир трудностей и забот, иногда светлых радостей, неподкупной и продажной любви, дружбы и предательства, дела и карьеры, доброты и зависти, ненависти и жестокости, преданности, прощения и мести. С утра мужчины уходили на работу, их ждали фабрики и заводы, лавки и магазины, учреждения и мастерские. Женщины отправлялись на базар, тонкие темно-пестрые струйки матерей и жен, сестер и невесток текли, унося в огромных зимбилях свежие зелень и фрукты, овощи и молочные продукты. Во дворы заходили браконьеры, предлагавшие черную икру и красную рыбу, фазанов и кашкалдаков, все по такой доступной цене, что вынужденные на всем экономить люди расхватывали в пять минут весь принесенный товар, хотя прекрасно знали, что скупают ворованное. И эта двойственность лежала на всем: родители лгали детям, дети — родителям, правительство — народу, народ — правительству, и правда запуталась в этом лабиринте лжи и обмана и отчаялась уже увидеть свет истины. Природный закон выживаемости и отбора выбрасывал за пределы жизни слабых, наивных, страдая, добрые и отзывчивые получали за доброту и отзывчивость зло или насмешки в лучшем случае, жестокость, их безжалостно использовали в своих целях и выбрасывали, как ненужный хлам: шкурку очищенного апельсина, разбитую на мелкие куски тарелку из грубого фаянса… А из старинного фарфора тарелку, если разбивалась, бережно склеивали и ставили на видное место, хвастаясь императорским вензелем, словно приобщаясь к царской фамилии, чувствуя свою исключительность… Это чувство было неистребимо, если оно появлялось: зараженный им искал таких же больных… так наркоманы узнают своих по блеску глаз, по особому, только им присущему взгляду, по запекшимся губам. Союз исключительных был беспощаден в своей неуязвимости, и его мог уничтожить только такой же союз исключительных. Город, словно Кронос, пожирал своих детей, но не родился пока Зевс, чтобы низвергнуть его в тартар.
„Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною“…
Из тамбура, в щелочку приоткрытой двери, маленький толстенький человечек с интересом наблюдал за находящимся в пустой приемной Мир-Джавадом. Прикрытая вторая дверь создавала в тамбуре тот полумрак, из которого легко можно было следить за всеми, ожидающими приема, оставаясь самому невидимым… Ждать и догонять, ждать и догонять! Это было самым трудным в жизни, на этом проверялся каждый, и мало кто выдерживал искус… А Мир-Джавад выдержал.
Он спокойно следил за мухой, летавшей с противным насмешливым жужжанием над его головой, но руки, невозмутимо лежавшие на коленях, цепко держали пальцами полунатянутую нить резинки. А за ним также невозмутимо следил из тамбура наместник провинции Атабек: „сколько этому лет?., двадцать пять?., или больше?., или меньше?., надо в деле посмотреть… что это он так внимательно рассматривает в приемной“?..
Муха несколько раз пикировала на большой нос Мир-Джавада, но юноша был невозмутим, не пошелохнулся. Однако легкий выдох чем-то смутил муху, и она раздумала сесть на потный, резко пахнувший чем-то приятным, гнилостным нос, выбрав местом для раздумья стену неподалеку.
Мир-Джавад повернулся всего на несколько градусов так осторожно и гибко, что муха не заметила его движения, а когда заметила, было уже поздно улетать, меткий удар расплющил ее голову о стену. Муха несколько раз дернула ножками и свалилась на пол, за скамейку.
— Попал? — с интересом спросил наместник провинции в щелочку двери.
— В голову! — ответил Мир-Джавад щелочке. — А ты кто: джинн или гном?
— Я тот, которому внимают все в полутемной тишине… Знаешь такого?
— Нет, это мы не проходили…
— Проходили, только ты плохо учил стихи…
Мир-Джавад вспомнил, как он читал в классе:
— Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как гений чистой красоты, Как мимолетное виденье…
— Наоборот только, — заметил вслух учитель, а хотел про себя.
Мир-Джавад тут же начал снова:
— Я помню чудное мгновенье, Перед тобой явился я, Как мимолетное виденье…
И запнулся, почувствовал, что ошибся. Касым-всезнайка, отличник, сидевший на первой парте, невозмутимо закончил за Мир-Джавада:
— С горбатым носом и свинья…
Класс загоготал. Мир-Джаваду вдруг очень захотелось, чтобы Касым стал на минуту мухой…
И Касым превратился в муху, но сколько ни бил в него резинкой Мир-Джавад, резинка отскакивала от Касыма, словно стрелы от лат, сработанных миланским оружейником. Тщетно гонялся за Касымом Мир-Джавад. А когда тому надоела охота, Касым выпорхнул в окошко, махнув на прощание Мир-Джаваду лапкой… И вновь гомерический хохот класса обрушился на неудачника…
Учитель взмахом руки установил спокойствие:
— Одно я могу тебе смело предсказать: поэтом ты не будешь, ты совершенно не чувствуешь стихи… Помнишь, как ты прочитал однажды: „…и защелкала глазами, и захлопала перстами“…
„Поэты — нищие, бабушка еще ругалась: „учиться не будешь, дервишем станешь или поэтом, или бандитом каким-нибудь“, — подумал Мир-Джавад. — Их все преследуют, над ними смеются, издеваются, даже убивают… Если мне будет нужно, Касым мне напишет“…
Атабек открыл дверь в приемную настежь. Мир-Джавад, увидев наместника, вытянулся по стойке „смирно“ и „ел глазами начальство“.
— Заходи! — приказал Атабек.
Мир-Джавад, чеканя шаг, как на параде, вошел в кабинет и замер. Атабек тщательно закрыл за собой дверь, довольно посмотрел на застывшего столбом Мир-Джавада и сел за стол.
Красота и роскошь кабинета ошеломили Мир-Джавада: черное и красное дерево, ковры ручной выработки, малоазиатские, стены увешаны картинами в золоченых рамах, золотые и серебряные статуэтки, пепельницы, чернильницы… все сверкало, искрилось… убеждало.
— Подойди!..
Мир-Джавад сделал два шага и опять застыл в почтительности.
— Разрешаю сесть!..
Мир-Джавад робко присел на краешек стула и взглянул на Атабека. Атабек едва был виден из-за стола, но его вытаращенные глаза внушали страх.
— Слушай!..
— Я весь внимание, учитель!
— Ты кто?..
— Ваш слуга, учитель!..
— Ты уже член нашей партии?..
— Послушник!..
— Кто тебя рекомендовал, кроме Исмаил-паши?
— Мой дядя, Гяуров…
— Не наш человек… Ты о нем что-нибудь знаешь?.. Такое…
— О родственниках всегда знаешь все, или почти все… Что вам угодно?
— После… Ты хочешь стать моим человеком?
— Мечтаю!
— А сможешь, как муху?
— Смогу, учитель!
— В голову?
— Куда скажете!..
— И… когда скажу… Запомни: инициатива наказуема…
— Я не знаю, что это такое, учитель.
— Без команды ничего не делать…
— Как скажете, так и будет.
— Как будет, так и скажу…
Старый паук испытующе смотрел на молодого: „челюсти еще слабоваты, но будут стальные, и я их выкую, — подумал он, — моему клану нужна свежая кровь, а этот на все готов… Все нижестоящие для него — мухи!“
Мир-Джавад смотрел на Атабека преданно и твердо. „Вот центр паутины, куда он будет стремиться, вот где держат все нити и знают все сигналы, и главная добыча ему, центру“… Так думал он, но в глазах читалось: „я предан, как ваша рука, нога, настолько предан, что — если меня не станет, то вам будет так больно, словно вашу руку или ногу ампутировали“… Он знал еще несколько иностранных слов: презерватив, импотент, педераст, триппер, сифилис, космополит, агент, шпион, карьера, босс, шеф, шеф-кок, бифштекс, голубец, гурьевская каша… „Может, еще ввернуть что-нибудь Атабеку, — размышлял Мир-Джавад. — Сразу поймет, что я не вчера приехал из деревни“…
— Слушай и запоминай, записывать ничего не надо: возьмешь машину с шофером, поедешь в Каланчаевский район-виллайят, там всем распоряжается мой враг, пишет на меня в столицу самому Гаджу-сану, отрывает отца всего мира, всех наций и народов, вождя и учителя от исторических деяний. Великий полководец, чьего ногтя не стоят все Цезари и Наполеоны вместе взятые, вынужден тратить драгоценное время не на то, чтобы думать, как разбить всех врагов, а на мерзкие кляузы, в которых правды не больше, чем водорода в воздухе…
Атабек замолчал и, испытующе глядя на Мир-Джавада, думал: „неужели интересно мессии, сошедшему на нашу грешную, провонявшую дерьмом планету, что сев яровых я приказал начать на месяц раньше, а, сев хлопчатника на полмесяца позже, что вместе с государственными отарами пасутся мои собственные, а если погибают мои овцы, то их навечно вписывают в государственные… Разве интересно Оку вселенной знать, что для каждой должности существует свой тариф, ты, конечно, дурачок, этого слова не знаешь, неужели я должен выгодную должность, где „капает“, отдавать за красивые глаза, впрочем, за красивые глаза я даю должность, моя семьдесят восьмая жена получила дачу в заповеднике, а ее брат стал главным лесничим, правда, он продает лес, истребляет дичь, молодой, когда и погулять, но такие мелочи разве для ушей столпа мироздания“…
Атабек вышел из-за стола, подошел к Мир-Джаваду. Тот пытался встать со стула, но Атабек, положив руку ему на плечо, удержал: сиди, мол, сиди.
— Я тебе все рассказываю, чтобы ты ценил мое доверие, а детали там, на месте тебе расскажут в подробностях, может, даже больше откроют, я сам многого не знаю, а из дворца эмира не сообщат… Смешно? — неожиданно рявкнул Атабек…
— Печально, босс, что к вам в доверие влез проходимец, негодяй, таких злодеев надо убивать, как навозных мух…
— Убивать пока не разрешаю, у злодея „мохнатая рука“ в столице, у эмира во дворце… Ты должен, ты просто обязан дать мне на него „компру“…
— Компру?.. Это что-то такое мохнатое?..
— Копра… Кокос, вкусная штука, не пил небось… А „компра“ — какое-нибудь черненькое дельце, он не святой, а если святой, ты ему сам подбери такое дельце с дегтем, чтоб не отмылся до смерти, сечешь?..
— Хорошо, учитель. Не то, так это!..
— Какое у тебя образование?.. Высшее?..
— Неоконченное среднее…
— Партии нужны бойцы, а не специалисты, а если специалисты, то особые: „специалисты по жизненным коллизиям“, не трудись вспоминать, смысл этого слова я сам не знаю… В армии стрелять научился?
— Арчиловский стрелок… Значок в кармане.
— Носи на груди. Ты его заслужил.
— Шеф, может, мне лучше в пролетке поехать в виллайят? Амбал за кучера: ящик гранат, ящик персик, ящик виноград, инжир… вашим детишкам на „молочишко“…
— Амбал — не солидно, нет, шофер в ржанке, сбоку господин маузер… И в автомобиль больше вмещается, себе немного разрешаю прихватить тоже… Амбалов в районе хватает. Тебя пусть все принимают за высокое начальство, люди решат, что ты можешь слопать районное начальство, и пойдут к тебе со своими жалобами, а ты их поддержи, потом мы этих жалобщиков к „ногтю“, им все обещай, может, что-нибудь серьезное и откроется, а нет, так „каждое лыко в строку“… Запомни: „первый блин комом“, — так „комом“ и останешься на всю жизнь… В сторожах… А хорошо сделаешь, у меня на тебя большие виды… Сгинь!..
Мир-Джавад испарился. Атабек остался один. Тяжелые мысли давили: подпольная борьба в горах Серры сдружила его с Гаджу-саном, тогда еще скромным и отзывчивым бойцом, сражавшимся под кличкой Сосун, так что благодаря этой дружбе Атабек стоял крепко на ногах, но как „копать“: можно ведь и рухнуть, сколько бывших друзей Сосуна уже погибло, кто от операции язвы желудка, кто от насморка, при котором на теле выступают синие пятна, а кто от катастрофической случайности, вернее, от случайности катастроф: автомобиль переезжает, а веревки с трупа снимают уж потом, а их следов доктор в упор не видит, теряя зрение, скоро теряет и здоровье, скоропостижно умирает, ни разу не болея… Так что всю провинцию скорее надо прибрать к рукам, затем бросить ее к ногам великого Гаджу-сана, а то замену найдут быстрее, чем успеешь помолиться аллаху в мечети…
Ветер гнал по улице клубы пыли, создавая себе из них разнообразные наряды, бросая надоевшие на головы случайных прохожих, рискнувших выйти на улицу в самум, горячий песок наждаком полировал кожу, запорашивал глаза до воспаления, затруднял дыхание. От духоты люди ходили, как сонные мухи, а мухи ползали, как пьяные люди, а рядом с ними ходил одуревший от жары Мир-Джавад с иголкой, со спичками, со своей любимой нитью резинки… Удар отшибал у мухи одно крыло, и муха, не пытаясь взлететь, медленно кружилась на одном месте. Мир-Джавад привычно ловил муху за целое крыло, насаживал муху на иголку, зажигал спичку и начинал медленно поджаривать ее, пока она не обугливалась или огонь спички не начинал жечь пальцы. Тогда Мир-Джавад бросал остаток спички на пол, щелчком сбрасывал маленький уголек с острия иголки и все начинал сначала. Бесконечное аутодафе, для которого всегда было достаточно материала…
Несколько лет назад Мир-Джавад застал на лестнице сидящую на ступеньке и плачущую Дильбер, соседку, старше него на два года, толстую девчонку, но довольно красивую. Она плакала над раскрытой книгой.
— Отлупили? — с надеждой спросил Мир-Джавад, которого секли три-четыре раза в день.
— Нет, меня никогда не бьют! — всхлипывая, ответила Дильбер.
— Так чего ревешь, дура? — разочаровался Мир-Джавад.
— Обезьянку жалко, — пожаловалась Дильбер, ткнув пальцем в книгу.
Мир-Джавад взял раскрытую книгу и медленно, по слогам, прочел, как маленький Филипп во дворце жег на самодельном костре обезьянку. „Королевское удовольствие“, — вздохнул про себя Мир-Джавад и с тех пор каждый день испытывал его и удовлетворял, сжигая мух…
На веранду из своей комнаты вышел Вазген, направляясь в уборную. В горячий самум сознание его почти отключалось, и он на короткое время получал передышку: куда-то улетучивалась пыльная, ровная, затопленная жарким солнцем дорога, столб, к которому он был привязан, и его юная жена Ануш, чье растерзанное тело тяжким крестом Вазген нес по жизни.
— Мальчик, ты в каком классе? — спросил Вазген, словно в первый раз увидел Мир-Джавада.
— В шестом, — неприязненно ответил Мир-Джавад, ожидая очередного крика „недорезанного“.
— Хочешь, я возьму тебя на концерт в филармонию? Ты был хоть раз на концерте?
— Не хочу!
— Познакомишься с Моцартом, с Бетховеном…
— Мне твоих друзей не надо…
Из кухни закричала бабушка Мир-Джавада:
— Опять пристаешь к мальчику, бесстыжий, вот заявлю на тебя в полицию, как ты занимаешься своими турецкими штучками, суннит несчастный…
Бабушка выглянула из кухни и, окинув опытным взглядом Мир-Джавада, закричала уже на него:
— Опять портишь иголку?.. Смотрю, почему иголки закалены, а это шлюхин сын развлекается, нет чтобы брать пример с героя-отца…
Отец Мир-Джавада, мелкий лавочник и тайный наркоман, был расстрелян прогнившим режимом Ренка за то, что, хотя и без его ведома, в его лавке целую ночь скрывались от преследовавших их жандармов повстанцы во главе с Гаджу-саном. Мать Мир-Джавада работала помощником у видного деятеля управленческого аппарата Исмаил-паши, который в благодарность за помощь два раза в неделю приходил к ней домой, очевидно, помочь по хозяйству, для чего они запирались на ключ в отдельной комнате…
Самое лучшее время года в горах Серры — ранняя осень. Сады и виноградники радуют глаз. Благодатный край, щедрая земля. Но нет на ней мира. Когда один тянет к себе больше, чем ему нужно, больше, чем он может съесть, то другому не хватает и необходимого… В природе все уравновешивается. Насилие рождает насилие, а тот, кто роет яму другому, частенько в нее попадает сам…
Глава Каланчаевского района-виллайята сардар Али верил в революционную справедливость по-своему: у него идиот получал столько же благ, сколько и гений, ведь у гения есть утешение в собственной гениальности, а бедный идиот не осознавал даже своего идиотизма.
„Всем по возможности, от каждого по нужде“! — этот лозунг у сардара Али висел везде, где только можно было привесить разноцветную тряпку с белыми буквами, даже на общественных туалетах, которые убирались и мылись раз в месяц, в них больные астмой или сердечники умирали от миазмов, но зато в каждом висели большие таблички с надписью: „у нас не курят“!
Мир-Джавад трясся в автомобиле, рвущемся в горы по покрытой колдобинами пыльной дороге. Все меньше оставалось времени охотиться на мух, все больше ответственных поручений стали ему поручать, а то, по которому он ехал, было самым ответственным. Другой бы на его месте наслаждался редким покоем, выпадающим лишь в дороге, но Мир-Джаваду такое наслаждение не нравилось. Ему лишь нравилось, когда ребятишки стайками бежали за машиной, крича: „Сардар, сардар приехал“!.. Нравилось чувствовать себя богом в этой забытой богом дыре. Ему выносили в селениях чурек с солью, отводили на постой лучший дом, а Мир-Джавад устраивал для них митинг, где выступал всегда с одной и той же речью, обрушивая на их головы поток слов, которых и сам толком не понимал, читая их по бумаге, данной ему секретарем Атабека. „…Народное правительство о вас заботится, думает только о народе… в целом, о массах, вы уже ощутили эту пристальную заботу, а если нет, то в ближайшие сто лет расцветете и Запахнете, вам дают все, а вы должны отдать больше, чем вам дают, чтобы показать, как вы любите свое народное правительство, вы просто обязаны отдать своему правительству все свои силы, все свое достояние, все, что вы имеете, — это народное, а то, что народное, — это государственное, а что государственное, — это правительственное, а покушаться на общенародное достояние, грабить государство мы никому не позволим, как бы он высоко ни сидел, наш отец-орел парит над всеми нами, своими мощными крылами защищает нас, а его зоркий соколиный глаз видит каждого врага, кто еще даже не мыслит об этом, но имеет гнусную склонность подрывать веру в справедливость нашего исключительного и единственного в мире общества, выявляйте таких людей, составляйте на них списки, пусть они еще не знают, что они уже враги, вы должны это знать, будьте бдительными“…
Седобородые аксакалы согласно кивали головами, не понимая ни слова из сказанного, но не решаясь ни себе, ни другим в этом признаться.
Шофер, одетый в кожаную куртку, черную и блестящую, с маузером на боку, снимал всех „на память“ для особого отдела Комиссии контроля за настроениями счастливых и свободных и заодно Мир-Джавада зарубежным фотоаппаратом „Лейка“, вызывая зависть у малообразованных скрипом кожи, блеском фотоаппарата, неподвижной значительностью.
По вечерам Мир-Джавад принимал поодиночке целеустремленных идиотов, которые считали, что их обижают, уравнивая с гениями: те ничего не делают, только думают, ишак тоже думает, голова большая, а мы работаем, строим, что строим, — неважно, главное, что строим, мы не думаем, работаем, те думают, но не работают, все получаем одинаково, несправедливо, сардар района думает, что те, кто думают, что-то значат, нам не нужны те, кто думают, нам нужны те, кто работают, кто не работает, тот не ошибается, если ошибаемся, — значит работаем, те, кто думают, — не ошибаются, но они и не работают, а всем ясно, что, если кто не работает на строительстве нового общества, — тот гнилой осколок сметенного ветром переворота деспотического режима Ренка, когда была только низменная свобода уехать из страны и вернуться обратно, выбрать для удовлетворения своего брюха что-нибудь вкусное из обилия еды, но не было ни грамма свободы строить новое светлое здание, на строительство которого обязательно надо согнать насильно, под охраной, всех, кто в состоянии трудиться, имеют право не работать только те, кто не может, у кого нет сил, но они не имеют права требовать от нас и еды, „кто работает — тот живет“, „кто не работает — умирает“, светлое здание надо строить быстрее, отдать строительству все силы, даже если не останется сил жить в этом светлом здании, но другие нам скажут: „молодцы, вот спасибо“!
Однако во всех недовольствах сардаром Али Мир-Джавад не находил той „компры“, которой от него ждал Атабек…
„Нет ничего легче, чем выдумать правду, — вспомнил Мир-Джавад слова учителя математики, когда на вопрос: „сколько будет семью два?“ — ответил: „восемнадцать“! — Но твоя правда все же ближе к истине, чем если бы ты ответил: „двадцать пять“, правда, в математике важна истина, а не личная правда, поэтому я ставлю тебе „два““…
„А если нет ничего легче, чем выдумать, значит, надо выдумать, чем будет нелепее, тем больше нужно убедительности… Фотография, вот что мне может послужить „компрой“, но фотография чего?“
Райцентр был таким же грязным селением, только побольше в размерах. Мир-Джавад подъехал к самому большому зданию, уверенный, что это и есть дом сардара Али. К его удивлению, дом оказался местом собраний и принятий общих решений, перед домом висела большая корабельная рында, неизвестно как попавшая в этот сухопутный район-виллайят, очень далекий от моря, выполнявшая, очевидно, обязанности вечевого колокола.
„Из какой страны, интересно, приперли такую штуку? Какой-нибудь осман подумал, что золотой, вишь, как сверкает, кирпичом толченым чистят, не иначе капрал на военной службе пуговицы заставлял вас чистить таким молотым в пыль красным кирпичом“, — думал с завистью Мир-Джавад.
Сардар Али жил рядом в маленьком саманном домишке вместе с женой и кучей ребятишек. Печать спокойствия на его блаженном лице делала похожим это лицо на древние византийские иконы.
— Как жаль, что я не могу дать вам приют в своем доме, он слишком тесен, но я вас поселю по соседству, там живет вдова с дочерью, места много, очень уютно, — печально пропел он, и седина в его бороде и на висках блеснула чистым серебром, а в глазках стояла ласка и нежность. — Я вас там буду навещать, чай пить, разговаривать, как много у вас новостей должно быть, я вечность не выезжал из района, до сих пор в горах еще стреляют, свергнутые мстят, убивают из-за угла, один внедрился в полицию, сколько зла принес. Когда не защищают те, на кого возложена обязанность защищать, да еще грабят и убивают, то страшно. Разбойники на месте законодателей. Тогда и ложь станет правдой, правда ложью, черное белым, а белый цвет отменят указом: „то, что видится белым, только серое на самом-то деле“…
— Единичные случаи, сардар, мы не позволим бывшим занять наше место. Даже палачи у нас свои будут…
— Палачей не должно быть в нашем обществе, мы долго боролись, чтобы не было палачей…
— Палачи всегда были, есть и будут, палачи нужней науки, это науку можно запретить, астрологию разную отменить, а палачи, как хлеб, необходимы. Вы же не сможете прожить без хлеба, сардар!..
Сардар Али проводил Мир-Джавада и шофера в дом вдовы. Мир-Джавад внимательно исподтишка вглядывался в лицо вдовы, пытаясь прочесть в нем истинные отношения сардара Али с ней, но глаза ее были пусты, а лицо покрыто пеплом печали, чуть позже, в разговоре, Мир-Джавад узнает, что мужа вдовы недавно убили те бандиты, что пробрались служить в полицию. Зверски убили: сожгли в сарае вместе с двумя друзьями.
„Нет, не найдешь „компры“ в их отношениях. Действительно, как говорит: друг погибшего мужа и больше ничего“… Мир-Джавад стал уже отчаиваться, он хорошо помнил слова, сказанные Атабеком: „комом“ и останешься на всю жизнь»… И тон, которым были сказаны эти слова, не оставлял ни малейшего сомнения в том, что только так и будет.
В комнату вошла дочь вдовы, Гюли, и Мир-Джавад вздрогнул, осененный решением, возникшим сразу же, при первом взгляде на нее… Красота девушки могла поразить любого мужчину: молодая лань не сравнилась бы с ней в изяществе и грациозности, пантера в гибкости и упругости. Такие глаза, как у Гюли, воспевали многие тысячи лет поэты и влюбленные… Мир-Джавад был покорен ее внешностью, но своих планов отменять не собирался, то, что он задумал, ему очень понравилось и отменять было бы вдвойне глупо. Жалость на миг коснулась его сердца и улетела, испугавшись льда.
Мягко и как-то робко Мир-Джавад попросил сардара Али ознакомить его с теми необходимыми бумагами, ради которых он и приехал с инспекцией в такую даль.
— Вы же понимаете, уважаемый, что кроме вашего виллайята, у меня еще два, а, мне хотелось бы быстрее вернуться в город… Долг заплатить.
— Разумеется, дорогой, такое рвение в работе большая редкость в наши дни. Вы заслуживаете поощрения…
Сардар Али, удивленный таким рвением, пригласил Мир-Джавада следовать за ним. Мир-Джавад, уходя, у двери обернулся и бросил такой покорный взгляд на Гюли, эту нежную газель, что даже большая жирная зеленая муха не вызвала у него желания выхватить из кармана нить резинки и расправиться с нею…
Бумаг было немного, а тех, которые бы заинтересовали Мир-Джавада, не было совсем, но он рассчитал так время, чтобы закончить с ними только поздно вечером. И тут же высказал желание уехать в другой виллайят.
— Такой идеальный порядок, клянусь отцом. Можно было и не приезжать. Но вы же понимаете, сардар, приказы не обсуждают. Их только выполняют. Быстро выполняют… Извините, побеспокоил вас, уважаемый…
Но сардар Али, как охотно мы лезем в расставленную нам западню, настоял, чтобы Мир-Джавад со спутником переночевали:
— Я не пущу вас. Ночь скоро, в горах небезопасно, я вам говорил, постреливают… Вы наш почетный гость, разве можно допустить, чтобы с вами что-нибудь случилось… И новости еще не рассказали…
— Какие новости?.. Так, сплетни: «борода» вот развелся со старой женой, с боевой подругой, которая прошла с ним все подполье в горах Серры…
— Не может быть… «Борода»… На молодой женился?
— Не женился. Живет с двумя молоденькими кузинами. Потаскушки с такими неприличными фамилиями, что и повторять — язык пачкать… Ники — ваш друг?..
— Единственный! — расплылся в улыбке сардар Али.
— Ника в большом почете у Гаджу-сана… Удивительно, что сардар Али так скромен. Подумайте, ага, не перебраться ли вам во дворец эмира? Столица — это не районный центр…
— Какой дворец? — счастливо засмеялся сардар Али. — Мои сорванцы завалят любой дворец…
— Там мраморные туалеты с золотыми унитазами…
— А что это такое?
— Что такое, я и сам не знаю, слышал, в городе говорят: вроде это уборная, но такая, что там жить хочется…
— Вай, какая жизнь настает. Через два года и до нас дойдет, будем жить, как люди…
Сардар Али не рвался в столицу, хотя его друг Ники занимал во дворце почетный пост и звал его к себе, Ники был ему обязан жизнью, во время боя Али прикрыл Ники своей грудью от выстрела в упор, и теперь простреленная кость давала о себе знать в сырую погоду ноющей болью. Сардар Али считал, что он на своем месте, и не было на свете более довольного человека, вот только война с Атабеком отнимала много сил и здоровья: Али не мог спокойно видеть, как Атабек грабит весь край и заменяет старых испытанных бойцов, с которыми сардар Али бок о бок сражался в горах, на своих лизоблюдов и прихлебателей… Наивная душа сардара Али видела в каждом доброту и верность тем идеалам, ради которых они столько лет сражались в тяжелейших условиях в горах Серры, где их вождь, добрый богатырь Кален, своим мужеством поддерживал всех в трудную минуту, когда войска Ренка пытались штурмом взять главную базу возмущенцев. Какие картины светлого будущего рисовал Кален: справедливость и любовь воцарятся в стране, стоит лишь изгнать из нее эксплуататоров (это слово Али учил произносить неделю, но до сих пор произносил по слогам), садами засадим все пустыри, осушим болота, разрушим тюрьмы, построим на их месте дворцы «…с золотыми унитазами. Мальчик рассказал правду. Его в насмешку прислал Атабек с проверкой, чтобы унизить, несомненно, своего врага»…
После смерти Калена от сухотки мозга к власти неожиданно для всех пришел Гаджу-сан. «Борьба продолжается»! — заявил он твердо. Ему необходима была борьба, он еще не всю страну держал в своих маленьких пухлых ладошках… Низенькие человечки заполнили министерства, заполонили партийный и хозяйственный аппарат, чем меньше рост, тем больше честолюбия. Стали выдумывать врагов, а это бочка без дна, сколько ни лей, не наполнишь, одни враги рождают других, а если достаточно лишь объявить: «враг»! — а у тебя и требуют доказательств, какое страшное время настает.
Недавно объявили, что в стране уже победили неграмотность, читать и писать могут все, а бумаги хватает. И уже начинают писать.
Сардар Али только вчера читал такое сочинение на вольную тему: «Арвад — враг, гонял моих кур со своего огорода палкой, одна из них хромает второй день, а все потому, что Арвад служил в войсках Ренка, все говорят, что это он убил главного возмущенца Кармаса, посадите его на северный остров Бибирь, пусть остаток жизни проведет там, может, отучат от жестокости»…
Это письмо сардару Али прислали из города, предлагая срочно принять меры и арестовать убийцу… Али знал Арвада всю жизнь, тот никогда не служил в войсках Ренка и никогда не служил убийцей, он не выезжал ни разу из селенья, так что убить главного возмущенца Кармаса, который жил в другой стране восемьдесят лет тому назад, он не мог… Али знал и того, кто это письмо написал, соседа Арвада: до того как он научился читать и писать, тщеславие в нем спало непробудным сном, грамотность открыла ему мир, но в искаженном свете, словно через какую-то чудовищную призму, почувствовав свою значимость, он теперь любую ссору раздувал до размеров всемирного пожара, а раньше был человек как человек, не очень хороший, не очень плохой, разный…
За чаем у вдовы Мир-Джавад охотно рассказывал разные смешные истории, всякие мелкие слухи, что вечно носятся по городу, затем предложил вдове заварить свой чай из древней страны Инд, так, как он заваривает, никто не умеет заварить. «Такого чая, я уверен, никто еще из вас не пил», — подумал, ухмыляясь про себя, Мир-Джавад. Вдова проводила его на кухню.
— Я вас не обижу, если останусь один «поколдовать»…
Вдова первый раз после смерти мужа улыбнулась, ей еще не приходилось видеть мужчину на кухне, и она ушла, решив, что смущает мальчика. Мир-Джавад достал из потайного кармана плоскую коробочку, открыл и высыпал из нее порошок в чайник, щедро добавил редкостного чая и заварил эту дьявольскую смесь…
…Хасан, сосед Мир-Джавада по дому, хоть и старше на три года, выглядел младшим, так он был худ и мал, и никто бы ему не дал его девятнадцати лет. А Мир-Джавада, два года уже работающего у Исмаил-паши на побегушках, легко принимали за совершеннолетнего, настолько он был крепко сбит и выглядел взрослым.
Хасан подошел к Мир-Джаваду, когда тот отдыхал в свой выходной день после успешной охоты на мух.
— Слушай, я хочу жениться на Дильбер.
— Женись! — равнодушно бросил Мир-Джавад.
— Но она меня не любит, — отчаянно воскликнул Хасан.
— Плюнь и найди другую, — по-взрослому повторил чужие слова Мир-Джавад. — Мало, что ли, их бегает…
— Но я ее люблю, — захныкал Хасан.
— Тогда женись! — милостиво разрешил Мир-Джавад.
— А как? — спросил Хасан. — Дай совет.
— Пожалуйста, везде одни советы, если хочешь, как другу, я помогу тебе делом.
— Спрашиваешь, конечно хочу.
— Деньги есть?..
— Нет! — вздохнул Хасан.
Мир-Джавад задумался.
— Ладно, другое придумал, — загорелся он, — твоя мать дохтур?
— Врач.
— Все равно, дохтур. Доставай у нее сонный порошок, много доставай, потом я тебя позову.
— Когда?
— Можешь теперь, Дильбер одна, занимается, у нее какой-то сес… язык поломаешь, мать с отцом на работе, придут поздно вечером… А что, порошок есть?
— Есть и очень сильный, пять пачек мама приготовила для своей подруги, к ней по ночам какие-то кошмары приходят, а она их не желает видеть…
— Гони две пачки.
— Зачем две?
— Надо!
— Ну, если надо…
Хасан побежал за порошком, а Мир-Джавад постучал в комнату к Дильбер.
— Тюфяк, выйди, дело есть.
Разгневанная толстушка вылетела из комнаты.
— Опять обзываешься, хулиган?
— Закрой пасть, дело есть…
— Какие у нас с тобой могут быть дела?..
— А ты вспомни, что я тебе обещал?.. Порошок для худения!
— Ой, Мир-Джавадик! Хороший мой, пригожий мой, дай я тебя в носик поцелую.
— В носик не хочу, целуй в губы.
— В губы еще не дорос, вырасти сначала! Сколько денег надо?
— Пять монет!
— Ай, как дорого!
— А бесплатно только кошки занимаются любовью.
— Тьфу, хулиган!
— Принцесса!
— Ладно, неси порошок.
— Иди, готовь деньги, принесу к тебе…
Дильбер ушла к себе, а тут и Хасан, белый как мел от волнения, прибежал с двумя коробками порошка.
— Вот… Принес.
— Спрячься, я тебя позову…
Мир-Джавад постучал в комнату Дильбер и вошел. Дильбер делала вид, что читает, но, как только Мир-Джавад вошел в комнату, книга была отброшена на тахту. Приготовленные деньги лежали на столе.
— Как действует порошок?.. Как принимать его?
— Коробка на неделю. Два порошка в день, килограмм долой…
— А сразу попробовать можно?
— Можно, только после лечь надо… Попробуй, я тоже хочу посмотреть, как ты потеряешь килограмм, заметно будет… А может, на тебя не действует, тогда деньги верну сразу, э!
Дильбер торопливо, с жадностью выпила два порошка и прилегла на тахту. Порошки мгновенно подействовали, и она крепко уснула. Мир-Джавад приоткрыл дверь и свистнул. Вбежал Хасан, увидев лежащую Дильбер, застыл у двери.
— Чего стоишь как вкопанный? — насмешливо шепнул ему Мир-Джавад.
— Я не знаю, что делают, — смутился Хасан.
— Я тоже не знаю, давай думать, — сознался в своей неподготовленности Мир-Джавад, — сначала давай мы ее разденем…
Он стал неуклюже раздевать Дильбер. Хасан дрожал как осиновый лист. Мир-Джавад раздел догола Дильбер и с интересом рассматривал ее тело.
— Что стоишь, истукан? — обратился он к Хасану.
— Мне стыдно…
— Хорошо, я на тебя смотреть не буду, раздевайся.
Мир-Джавад отвернулся от Хасана и стал жадно, с желанием смотреть на ее тело, так что брюки надулись парусом. Хасан стыдливо разделся, оставив только длинные, до колен, трусы, подошел к тахте и остановился в нерешительности.
— А что дальше?
— Трусы снимай.
— Ни за что!..
— Дурак, трусы мешать будут… Ладно, ложись рядом.
— Я люблю у стенки.
— Ты что, со стенкой собираешься заниматься любовью?
— Я не могу при тебе…
— Хорошо, я выйду, если нужно будет, на помощь позовешь…
Мир-Джавад вышел из комнаты на веранду. Из своей квартиры он услышал, доносился до веранды, голос Исмаил-паши, который, как обычно, пришел навестить мать. А матери еще не было, она ушла мыться в баню и пока не вернулась, очереди огромные всюду. Мир-Джавад, услышав голос Исмаил-паши, заглянул в комнату Дильбер. Услышав плач Хасана, зашел в комнату и плотно закрыл дверь. Хасан лежал рядом с Дильбер и рыдал навзрыд.
— Не целка? — с любопытством спросил Мир-Джавад.
— Не получается у меня, — простонал, всхлипывая, Хасан.
— Дурачок, слезами ребенка не сделаешь, — Мир-Джавад сел на тахту, — слушай, выпей два порошка, поспи час, силы прибавятся, сон освежает, успокаивает, мама мне всегда так говорит…
Хасан жадно выпил два порошка и моментально уснул. А Мир-Джавад быстро разделся и овладел Дильбер.
— Целка! — довольно ухмыльнулся он.
Когда Мир-Джавад слез с тахты, то увидел стоящего в дверях Исмаил-пашу.
— Вдвоем одну? — Исмаил-паша не мог глаз оторвать от тела Дильбер.
— Нет, я один, этот не может.
— Давно любовью занимаешься?
— Первый раз, клянусь, э!
— Она спит?
— Порошок дал… Если хочешь, можешь стать вторым.
— Иди, покарауль! — Исмаил-паша задрожал от желания.
— Двадцать монет!
— Ты что?.. Дорого!
— Такая молодая на панели стоит пятьдесят, здесь ты будешь вторым, клянусь отца.
— Держи, вымогатель.
— Обижаешь, тридцать монет осталось у тебя в кармане…
Мир-Джавад, довольно позванивая монетами в кармане, вышел на веранду покараулить… На каплю варенья, неизвестно как попавшую на подоконник, налетели маленькие мухи. Подрастающее поколение густо облепило сладкое лакомство. Мир-Джавад достал нитку резинки и тремя хлопками устроил на месте пиршества кровавое месиво.
Затем стал тренироваться, стреляя мух на лету… Услышав голос матери, пришедшей из бани, Мир-Джавад постучал в комнату Дильбер и осторожно заглянул вовнутрь. Исмаил-паша быстро одевался. Мир-Джавад проскользнул в комнату и закрыл за собой дверь. Когда он обернулся, то увидел, что Исмаил-паша что-то делает с Хасаном. Мир-Джавад подошел поближе. Исмаил-паша пачкал кровью Дильбер Хасана.
— Ты чего делаешь?
— И с этим он жениться решил? Пусть женится, мы ему помогать будем, человек должен помогать человеку, ты как считаешь, сынок?
— Я еще хочу, а ты уходи, мать пришла, ты ее сегодня оставишь с носом.
— Плохо ты свою мать знаешь, джигит!
Исмаил-паша шкодливо шагнул за дверь, а Мир-Джавад остался с Дильбер…
Вечером родители Дильбер застали свою бесстыжую дочь в объятиях Хасана, они спали. Пришлось назначать свадьбу. Хасан был так рад этому, так счастлив, что бросался на шею Мир-Джаваду и клялся в вечной дружбе ему…
Мир-Джавад разлил по стаканам чай и задумался, как бы ему самому избавиться от чаепития.
— Пойди, принеси, — приказал он шоферу, — франкский коньяк. За встречу мужчины должны пить коньяк. Это пусть женщины пьют чай, а мы сначала согреемся другим.
Шофер рад был стараться. Рассчитывая, что и ему нальют, он опрометью бросился выполнять поручение. Но сардар Али от коньяка отказался.
— Я вина не пью!
— Вай, какой правоверный мусульманин! Отнесешь мулле пару монет, он тебе все грехи отпустит на неделю вперед.
— К мулле не хожу.
— Али, совсем плохо, с другом не хочешь выпить.
— Я лучше чаю, ты же сам говоришь, такого мы никогда не пили…
Мир-Джавад налил все же ему, несмотря ни на какие возражения, коньяк.
— Пусть стоит, захочешь, выпьешь.
Но сардар Али к коньяку не притронулся, а стал пить чай.
— Высший сорт! — похвалил он, отпив глоток.
— Пей, у меня много, если хочешь, оставлю тебе пачку.
Мир-Джавад выпили с шофером «за здоровье присутствующих». А сардар Али, вдова с дочерью пили чай… Но недолго. Скоро снотворное подействовало. Мир-Джавад с удовлетворением смотрел на распростертые тела. Шофер застыл от ужаса.
— Ты отравил их? — сиплым голосом спросил он Мир-Джавада.
— Ерунду говоришь, клянусь отца! Ты что, не слышишь, как вдова храпит?
— Вижу! — спокойно вздохнул шофер.
— Я тоже вижу, что она тебе понравилась, бери ее, унеси в другую комнату, что хочешь с нею делай полчаса, потом одень, как было, и ко мне с фотоаппаратом…
Шофер взял на руки вдову и унес в соседнюю комнату. А Мир-Джавад медленно, смакуя каждую деталь, раздел Гюли и грубо изнасиловал податливое бесчувственное тело, затем быстро раздел сардара Али, положил рядом с дочерью вдовы и вымазал кровью: «теперь скажи, что это не ты обидел маленькую девочку»… Сардар Али простонал во сне. «Стони, стони, утром плакать будешь»… Мир-Джавад застыл, впившись взглядом в обнаженную красоту Гюли. «Захватить с собой в город?.. Нельзя, опасна, что-нибудь не так скажет и все испортит, уберут сардара Али, тогда попробую». Но глаза его жадно ласкали обнаженное, опозоренное им тело несовершеннолетней девочки.
В комнату с одетой вдовой на руках вошел шофер. Мир-Джавад тихо зашипел:
— Осел, я тебе велел с фотоаппаратом, а не со вдовой вернуться. Брось ее в соседней комнате, осторожно бросай, без шума, и быстро приходи с фотоаппаратом, моим уже холодно, ночи не летние, сам понимаешь.
Шофер заторопился. Осторожно положив вдову в соседней комнате, он побежал к машине за фотоаппаратом. Когда вернулся, Мир-Джавад также зашипел на него:
— Осел, как в темноте снимать будешь? Ты что, вредитель?
Шофер посмотрел на три горевшие свечи в старинном, невесть как попавшем в такое захолустье подсвечнике и понял, что света действительно мало. Принести вспышку и приладить ее к фотоаппарату было минутным делом…
Мир-Джавад прикладывал в разных позах, каким он только научился в своей жизни, голые малоподвижные тела Гюли и сардара Али, а шофер аккуратно их фотографировал. Он с детства был послушным, а послушные, как он усвоил, неплохо живут, ему приказали выполнять любое поручение этого юноши, он выполняет, ему приказали следить за ним в оба глаза, он следит.
Шофер заснял всю пленку, но Мир-Джавад заставил его зарядить вторую кассету.
— Снимай, не ленись. А вдруг испорченная пленка, все дело загубим, мало что зарубежная, за границей опасные сицилисты и вредители, только и мечтают, как бы нашей горной державе ущерб причинить.
Шофер послушно зарядил и отщелкал вторую кассету. Глаза его разгорелись на Гюли, он направился было к ней, но Мир-Джавад отправил его к вдове.
— Не пристраивайся! Вдова — тоже человек, ласку заслужила, как нас принимает, как принимает, послушай.
Шофер, злобно сверкнув глазами, что в темноте не было заметно, покорно ушел к вдове, а Мир-Джавад задул огонь свечей и целый час согревал озябшее тело Гюли.
— Какая красота, — радовался Мир-Джавад, — разве достоин этот жалкий виллайят иметь у себя такую красавицу? Ни за что не оставлю здесь!
Звериным чутьем угадывая, что пора уходить, он последний раз поцеловал, жадно и продолжительно, ее нежные губы и вдруг ощутил ответный поцелуй. Мир-Джавад, затаив дыхание, на ощупь оделся в темноте и, тихо свистнув шоферу, вышел из дома во двор. Крупные южные звезды шаловливо подмигивали ему, луны поначалу не было видно, но вот и она важно выползла из-за туч, освещая дорогу к машине. Шофер, одеваясь на ходу, выбежал из дома, а затем нырнул обратно, чтобы вынырнуть уже с фотоаппаратом и вспышкой в руках, молча спрятал все в машину, избегая смотреть на Мир-Джавада, зол был на него несказанно, сел за руль машины и, включив первую скорость, почти беззвучно укатили из села.
«Я и в темноте поняла, что это он. Это могли быть только его тонкие, но такие жаркие губы, только он мог так впиться, словно хотел высосать душу. Он и высосал ее, вон как болит низ живота, никогда я уже не узнаю самого первого ощущения близости. Что будет дальше, не знаю, может, ничего, может, новая жизнь, не только во мне, но и для меня. Опоил, проклятый, „чай из страны Инд“, из страны дэвов, скорей… Что я матери скажу?.. А ничего, бранью дела не поправишь, нет той Гюли и не будет уже никогда… Но он вернется! Его глаза посажены на такую прочную цепь, что долго и далеко от меня он не сможет жить… Так что матери ничего не скажу, буду ждать, что еще остается, не вешаться же, не я первая, не я последняя, был бы жив отец, а без защитника… Да, а куда девался сардар Али?.. А… он тоже пил этот проклятый чай, где-нибудь без памяти валяется… Спать надо. Утром решу: как быть, с матерью посоветоваться не мешало бы, но… Спать!.. Спа…»
«Когда я проснулся, долго лежал и не мог понять: где я?.. Думал, что сплю и вижу сон. Дети, когда им снится сон, что они уже проснулись, писают в постель. Но я давно не мальчик, отец семейства… Сказал вчера жене, что буду с гостями, это чтобы не ждала, она всегда волнуется, когда я задерживаюсь… Так, что было вечером?.. Пили чай… да, чай, а потом сразу сон… Атабек! Его работа: прислал мальчишку, чтобы у меня не возникли подозрения. Мальчик далеко пойдет, какой мерзавец, вай, какой мерзавец… Тогда я сразу понял, что случилось что-то очень страшное. С трудом приподнялся, так спать тянуло, голова тяжелая, словно котел с водой, и увидел голую Гюли, голую, хоть ее и прикрыли покрывалом… А когда увидел на себе кровь, сразу понял, чья это кровь и кто виновник… Бедная девочка. Видит аллах, не хотел я этого, но из-за меня тебе испортили жизнь. Зашатался Атабек, если применяет такие подлые приемы. Неужели он думает меня этим сломать?.. Сегодня же поеду в столицу, во дворец, пусть Ники, первый раз обращусь к нему с какой-либо просьбой, представит меня Гаджу-сану. Я ему открою глаза, я ему расскажу, какую жабу он пригрел на своей груди и что эта жаба вытворяет… Ай, какой позор!.. Как я буду смотреть людям в глаза?.. Что будут думать обо мне мои дети?.. Как я оправдаюсь перед этой девочкой и перед ее матерью, женой моего погибшего друга… Враги?.. Эти люди хуже врагов, от врага всегда ждешь удара, а не ждешь, так не обижаешься, когда тебя бьют за каждую твою промашку, а когда человек, которого ты принимал за друга, всаживает тебе в спину кинжал… Что, так и видеть в каждом врага?.. В каждом глотке вина или чая яд или снотворное?.. Какая жизнь наступает, какая жизнь… Разве за такую жизнь мы боролись в горах Серры? Разве для этого я получил опасную рану в грудь, а пулю в легкое?.. Нельзя сдаваться»… — Сардар Али оделся и тихо вышел из дома вдовы. В тот же день он уехал поездом в столицу, во дворец эмира.
Атабек любовался представленными «доказательствами».
— Какие снимки, нет, ты посмотри, какие снимки, — предлагал он Мир-Джаваду, словно постороннему. — Тициан, Ренуар… Слушай, а ты их не подделал?..
— Как это, шеф?
— Снимают проститутку с сутенером, а потом к их телам подклеивают лица тех, кого надо, и снимают второй экспозицией?
— Я в этом еще не разбираюсь, босс, извините, молодой, исправлюсь, но снимки свежие и настоящие, как те персики, которые вы получили, как те гранаты, инжир и виноград…
— Я верю, что ты честно расплатился.
— Не беспокойтесь, вождь, официально все по закону, а так, конечно, подарок от ваших почитателей, больше — от почитателей вашего таланта, от тех, кто идет за вами вашим путем и счастливы, что именно вы их ведете.
— Себе что-нибудь захватил?
— Совсем немного: маленький ящичек персик, еще меньше ящичек винограда, совсем маленький ящичек гранат, а инжир, говорить стыдно, маленький, с горсточку ящичек, шофер немножко тоже взял, из-за широких плеч почти не видно…
Ну, не говорить же, что не было видно машины. Но Атабек и так все знал. Ему приносили информацию о всех его сторонниках, которые занимали важные посты, тоже… Вот и сейчас зашел его помощник и положил перед Атабеком сводку донесений. Атабек мельком просмотрел ее, делая попутно отметки, и вдруг побледнел.
— Джигит, все пропало, сардар Али поехал во дворец эмира. Если Ники на месте, он обязательно, из вредности, устроит встречу с Гаджу-саном. Ты, кажется, хотел стать главным инквизитором края?
Мир-Джавад все понял.
— Поездом поехал?
— Поездом.
— Не волнуйтесь, шеф, дайте мне свой личный самолет, и я буду в столице раньше сардара Али… Клянусь отца, он живым не вернется: два амбала, сто монет, головка сахара и делу конец. Не переживайте, босс, от переживаний морщинки выскакивают на лбу.
Каждую ночь Атабеку снился один и тот же сон: он гонялся по залитой ярким солнцем какой-то пустынной строительной площадке за соседской девчонкой, им обоим было уже по четырнадцати лет, и Атабек, нагоняя Ику, хватал ее за грудь, за тугую, как неспелый персик, грудь, а Ика вырывалась, увертывалась, и все начиналось сначала… Одно и то же. Сладостный и мучительный сон… Никогда Атабек в жизни не хватал Ику за грудь, соседская девчонка умерла в восемь лет от дифтерита, в жизни ей никогда не исполнялось четырнадцать лет, а во сне ей никогда не было больше четырнадцати лет, один и тот же счастливый возраст. И этот сон, один и тот же, не расставался с Атабеком в течение всех лет, он приходил к Атабеку и там, в горах Серры, и здесь, на вершине славы и почета, власти и богатства. Скольких жен ни имел Атабек, ни одна из самых красивых, страстных, любвеобильных женщин не появлялась во сне, ни разу Атабек не видел во сне своих детей, родителей, которых, правда, и наяву смутно помнил. Атабек уже свыкся с этим сном и полюбил его, и был бы удивлен и огорчен, если не напуган, не увидев ожидаемого сна.
Мир-Джавад никогда не был в столице. Она удивила его своей бестолковой суетой, но, приглядевшись, он убедился, что бегает в основном приезжий люд, который стремится попасть сразу в десять мест.
Вместе с Мир-Джавадом приехали два амбала, у Мир-Джавада в сейфе на них лежали улики: оба мальчика участвовали в ограблении и убийстве торговца коврами Джумшида. Мальчики охотно согласились вместо тюрьмы поступить на государственную службу и выполнять беспрекословно все распоряжения Мир-Джавада.
Все трое поехали на железнодорожный вокзал встречать прибывающий поезд, которым ехал сардар Али, чтобы в столице с помощью друга Ники искать защиты и справедливости у Гаджу-сана.
Поезд удивительно точно прибыл на станцию, в пути его не обстреляли и не ограбили, он не свалился в пропасть, ни один мост под ним не рухнул, не помешали ни сель, ни оползни, ни обвал, на что втайне так надеялся Мир-Джавад.
Сардар Али прямо с поезда поехал к Ники, а Мир-Джавад с амбалами следом за ним. К счастью Мир-Джавада. Ники был в поездке и должен был вернуться на следующий день, один из мальчиков «сшустрил» и ловко подслушал разговор сардара Али с супругой Ники. Она приглашала друга мужа остановиться в ее доме и подождать приезда Ники, но сардар Али решительно отказался, сказал, что у него есть где переночевать, и, оставив жене друга корзину персиков в подарок, ушел. Когда он проходил мимо уголовника, тот услышал, как сардар Али ясно пробормотал:
— Ночевать под одной крышей с женой друга, когда его нет дома, нельзя. Законы гор пока еще есть на земле…
И сардар Али поехал в старинную гостиницу «Интер», а Мир-Джавад с подручными за ним.
Сулеймен был философом: «когда столько лет стоишь за конторкой, выдавая ключи приезжим, а перед тобой проходят в день десятки людей, невольно от скуки начинаешь их изучать, — думал он, — часто я оказываюсь прав. Изучение становится второй профессией, интересным, захватывает, как все, что любишь, да и ищейкам из главного управления инквизиции есть что рассказать… Когда вошел этот горец, упрямый и гордый, я его сразу узнал, люблю читать воспоминания сильных мира сего, пока читаешь, живешь его жизнью, и „великое стояние“ за конторкой не кажется таким уж тягостным. Это о нем писал Ники, в книжке его портрет, один к одному, наверное, и снимали его в этой одежде, другой-то нет, все они нищие, — честные, такой только и может подставить свою грудь под пулю, закрывая собой другого. Я бы ему в благодарность хоть бы пиджак купил, да он меня закрывать от пули не будет, а вот своего начальника за милую душу. Я бы ни за какие коврижки не стал закрывать своего начальника, да и он чужого начальника не станет закрывать… Взял самый дешевый номер, чулан, а не номер, под самой крышей, бывший чердак, одно узенькое окошко и то во двор выходит, склеп, а не номер, и сам отнес наверх фибровый дешевенький чемоданчик, очень легкий, наверняка полупустой… За этим горцем вошли еще трое похожих, явно земляков, причем один тут же сел в кресло, закрылся газетой, как неопытный шпик, что еще так недавно ходили в гороховых пальто, и стал из-под газеты разглядывать ножки у проходящих мимо него женщин. Такой маленький, а с таким большим носом… Двое других, больше похожих на борцов из цирка, чем на государственных служащих, как значится у них в документах, потребовали номера рядом с героем. Странно, эти уж на нищих никак не похожи, особенно тот, кто закрылся газетой, чего закрываться, я тебя узнаю с первого предъявления хоть через сто лет, если нос не провалится. Я им пытался объяснить, что в таких клетушках у нас и преступников не содержат, на что один из амбалов, хмыкнув, сказал: „много ты понимаешь, в каких клетушках у нас преступники содержатся“, — и я растерялся. А они упрямо стояли на своем. Доморощенный шпик дочитал до конца газету и подошел к нам, посмотрел на меня взглядом убийцы, выслушал внимательно, а затем велел дать требуемые номера. Было только два свободных, но они их забрали, а когда я хотел их зарегистрировать, носатый грозно посмотрел на меня и сказал: „утром рассчитаемся, тогда и запишешь“… Багажа у них не было никакого, один небольшой портфель и только… Когда я им намекнул, что хочется чая, носатый отсчитал мне по одному три гроша и сказал: „это тебе на стакан чая с сахаром, сахар ты не просил, это, чтобы ты помнил мою щедрость“… Либо прямолинейный идиот, либо наглец, каких свет еще не видывал…»
До глубокой ночи сардар Али переносил на бумагу все прегрешения Атабека, подробно описывая каждый случай, приведя даты, факты и фамилии свидетелей. Только один раз он прервал свой утешительный труд: поел черствого чурека с брынзой и выпил воды из-под крана. А затем опять писал, стараясь ничего не упустить и облегчить последующую работу инквизиции Гаджу-сана. Ни одной детали не упустил сардар Али, рука устала, ныла, столько он написал, за всю жизнь столько не было. Но, как только написал, то с чувством исполненного долга лег спать и мгновенно крепко уснул, тяжелым сном очень уставшего человека…
Все время, пока сардар Али писал у себя в номере, в соседнем номере находились Мир-Джавад со своими амбалами, скучая, грызли плитки шоколада с орехами, прекрасный продукт с берегов Колумбуса, запивая лакомство сырой водой из-под крана, издающей противный запах хлорки… Один из амбалов сидел на тумбочке, приложив пустой стакан к тонкой перегородке, служившей стеной и разделявшей два номера, слушал, чем занимается сардар Али, другой сидел на стуле у двери и через маленькую щелочку следил, чтобы сосед не ушел куда-нибудь незамеченным… Мир-Джавад лежал на единственной узкой койке одетый, в ботинках и думал, как ему убрать незаметно и бесшумно сардара Али.
Под утро один из амбалов открыл отмычкой дверь номера сардара Али, и все трое бесшумно вошли в номер. Сардар Али крепко спал, измученный дорогой и переживаниями. Мир-Джавад вылил на платок из флакона хлороформ и, кивнув головой амбалам, приложил платок к лицу сардара Али, а в это время амбалы держали сардара Али за руки, за ноги. Взбрыкнувшись несколько раз, сардар Али затих. Мир-Джавад оглядел номер и, увидев бумаги на столе, подошел к столу и стал читать.
— Как много успел написать! — удивился неслышно подошедший к столу амбал.
Мир-Джавад быстро спрятал бумаги в портфель, достал из него фотографии, те, где не было видно лица Гюли, а только ее голое тело, зато каждый без труда узнал бы в голом мужчине сардара Али, бросил их на стол, вытащил из портфеля чистый лист белой бумаги и велел амбалу:
— Напиши на фарси: «гони монету, а не то фотографии будут у Великого Гаджу-сана. День на размышление».
Амбал хотел взять ручку, которой писал сардар Али, но Мир-Джавад хлопнул его по лбу.
— Про отпечатки пальцев своих забыл, болван? — напомнил он амбалу. — А они во многих картотеках числятся.
И вручил ему карандаш… Как только бумага была написана, Мир-Джавад тихо открыл окно, дал знак, два амбала подняли с кровати сардара Али и выбросили его во двор. Глухой стук удара им был даже неслышен. Оставив открытым окно, Мир-Джавад быстро вышел из номера, предварительно убедившись, что он пуст и никаких следов не оставлено. Амбалы последовали за ним…
У конторки Мир-Джавад задержался, вынул из портфеля бутылку франкского коньяка и демонстративно налил себе в стаканчик, которым завинчивалась бутылка. Консьерж и амбалы завистливо смотрели на коньяк.
— Что, тоже хотите? — ласково спросил Мир-Джавад.
— Конечно, ага! — глотая слюну, пробормотали амбалы, а консьерж с готовностью достал из-под конторки три стаканчика.
Мир-Джавад налил им стаканчики до края.
— Пейте, заслужили!
Те торопливо, а вдруг отнимут, залпом выпили коньяк и… дружно рухнули на пол мертвыми. Мир-Джавад аккуратно перелил в бутылку из своего стаканчика коньяк, крепко завинтил, спрятал в портфель бутылку и вышел из гостиницы. Его уже ждала машина, а на аэродроме личный самолет Атабека… Газеты, кратко сообщив о загадочном отравлении в холле гостиницы, ни словом не обмолвились о гибели сардара Али. Ники постарался уберечь имя друга от клеветы. Хула не коснулась наивного человека, верящего в лучшие качества людей, в то время как от них требовали проявления худших.
«Куда, интересно, он дел своих спутников?.. В столицу летели втроем, а обратно летит один. Не иначе подставил своих амбалов под пули, а сам целехонек. Ишь, нос отрастил, персюк поганый, вся сила роста в нос ушла… У инквизиторов тоже сладкая работа, смотри, какой коньяк пьет, франкский, а угощать и не собирается. Ничего, наш горный „Навес“ не хуже будет, один мне говорил: сакский вождь пьет только его, каждый месяц два ящика отправляют самолетом, все сам выпивает… А этот крутой начальник пользуется полным доверием Атабека, иначе самолет не дал бы гонять… А куда все-таки он дел своих спутников?.. Может, следить за кем-нибудь оставил? Ха! Следить! Этих амбалов ребенок разгадает, за километр видно таких дылд. Да и зачем гонять самолет, чтобы следить? Что, в столице следить некому? Больше чем достаточно. А если не следить, то зачем?.. Ащи, не думай ты о посторонних делах. За штурвалом лучше гляди, как болтает, в яму бы не попасть. Ащи, вообще, чем меньше знаешь, тем дольше живешь… Гург болтал о приписках, куда он исчез, кто знает? Даже жена не знает… „Без права переписки“… Для всех умер человек. Где-то, может, и живет, да разве это жизнь? Вина нет, шашлыков нет, хачапури нет, курицы по-судански нет, женщин нет… Ара, а что есть?.. Никто не знает, что есть и есть ли что. Как загробный мир: все знают, что он есть, но никто не знает, что там. Пока туда не попадешь, не узнаешь. А кто стремится туда раньше времени попасть? Клянусь, никто!.. Носатый улыбается, довольный… Такой коньяк пьет, каждый будет доволен… И не предложить земляку… Не по-товарищески, э!»
Мир-Джавад ловил завистливый взгляд летчика, и дьявольская ухмылка играла на его тонких губах.
«Не угощу, а то ты мне самолет разобьешь, не потому, что мне жалко самолета, пожалуйста, разбивай на здоровье, но без меня, — думал Мир-Джавад, делая вид, что наливает себе коньяк и пьет его, опрокидывая пустой стаканчик в рот, он не забывал закусить шоколадом „Люкс“, что убеждало пилота лучше, чем он видел бы, как коньяк вливается в глотку Мир-Джавада. Ладно, хватит делать вид, надо и пилоту половину оставить, чтобы пасть заткнул… Интересно, кого он с собой прихватит?»
Мир-Джавад вылил немного коньяка на воротник, дождавшись, когда машину резко тряхануло.
— Эй, извозчик, осторожно, трудно яму объехать, что ли?
— Ты думаешь, здесь тебе столичный проспект? Давай местами поменяемся: ты бери штурвал, а я коньяк пить буду. По рукам?
— Держи бутылку, там ровно половина, честно… Только поклянись, что дома выпьешь, а то на меня и так наговаривают, что я всех друзей спаиваю, мулла после утреннего намаза прямо намекал, в лоб почти. Билмир?
— Маленький, что ли, на работе не пью!
Мир-Джавад встал с кресла, незаметно вытер бутылку и отдал ее пилоту.
— Пей, аксакал, да дело разумей!
— Чего дело?
— Разумей, говорю.
— А что это?
— Сам не знаю, в столице, слышал, говорят.
— Может, ругательство такое?
— Может, но звучит хорошо.
— Нет, не ругательство: умей, а это — разумей, разучись, значит…
— Умный! Слушай, какой умный ты, э!
— А ты думал…
Мир-Джавад вдруг увидел маленькую черную муху, она пролетела мимо Мир-Джавада и села на шлем пилота.
— Вай, смотри, муха на голове у тебя, не двигайся, я ее сейчас убивать буду.
— Из пистолета собираешься стрелять?
— Зачем из пистолета, глупый, я тебе тоже тогда голову прострелю, муха меньше пули, не понимаешь, что ли… Не двигайся.
Мир-Джавад достал нитку резинки, свою вечную спутницу, он эти нитки доставал, аккуратно расплетая самую обычную резинку, на которой держались и его трусы. Секунда, и убитая муха упала на штурвал.
— Снайпер! — похвалил его пилот. — Поищи, может, еще найдешь.
Он сказал просто так, в шутку, а Мир-Джавад стал серьезно высматривать мух и, к удивлению летчика, нашел еще штук шесть и спокойно их расстрелял.
Атабек, услышав радостную весть, как мальчишка, запрыгал и захлопал в ладоши.
— Ай, как ловко получилось, ай, как ловко получилось. Молодец, джигит, инквизиция вся твоя, с потрохами. Бери, владей, только помни: каждое мое слово для тебя закон.
— Зачем обижаешь, отец, каждое твое дыхание для меня — закон… Ой, извините, босс, забылся…
— Ничего, ничего, это от избытка чувств… Слушай, бумаг никаких при сардаре Али не оказалось?
— Никаких, шеф. Я вам докладывал, что он сперва заезжал к Ники, если и были, там оставил, но мне кажется, что бумаг и не было, сардар Али намеревался сначала обсудить все с Ники, а того не было.
— Не было, не было… А если были?.. Ладно, до Ники все равно не добраться пока… Яблоки на столе, угощайся.
Мир-Джавад повернулся к столику взять яблоко и побелел: пирамиду яблок венчала маленькая человеческая голова…
…Днем солдат привез мешок яблок, сказал матери:
— Подарок от Ренка, переберите только, давно стоит, могут попасться червивые…
И уехал. Мать расстелила дерюгу во дворе и высыпала яблоки из мешка… Ее дикий крик оторвал от игры голенького Мир-Джавада. Подбежав к матери, он застал ее лежащей в обмороке возле яблок, а отец спал, зарывшись в яблоки так, что только голова его была видна на вершине горы из яблок. Малыш растолкал мать и спросил ее, когда она открыла пустые глаза:
— Почему папа спит так неудобно?
И не успела мать его остановить, как Мир-Джавад подбежал к отцу и ткнул его в лоб. Голова покатилась с яблочной горы вниз. Мир-Джавад так закричал, что его крик поднял в воздух стаю голубей, и они еще долго кружились в воздухе, не решаясь спуститься на землю… А голову отца уже облепили тучи мух…
…Сейчас Мир-Джавад не закричал, спокойно взял яблоко и откусил такой большой кусок, что стало неудобно жевать.
— Пугает, старый ишак, — злобно подумал он, — бумаг все равно не получишь.
— Нравится?
— Вкусное яблоко, шеф.
— Я о другом.
— Настоящая?
— А как ты думал? Есть у меня один умелец, из настоящих индейцев, племени майя, по узелкам читать не умеет, правда, зато знает, как высушивать головы в горячем песке… Думаю коллекцию оставить по завещанию музею антропологии.
— Что, музей есть, черепа собирает?
— Темный ты, необразованный. Никакую другую должность я бы тебе не доверил, но с инквизицией ты справишься.
— Буду стараться, шеф, в совете только не отказывайте.
— Не откажу, тебе не откажу.
— Совет всесилен… Я могу идти, босс?
— Иди… Стой! — остановил Атабек Мир-Джавада в дверях. — Почему ты убрал моего пилота? Тех двух амбалов убрал, я понимаю, а зачем пилота? Это преданный мне человек, не понимаю.
— Ники будет землю рыть, а на пилота выйдет. А он меня выгораживать не станет: туда летели втроем, скажет, обратно один… В глазах у него читал этот вопрос. Пилот скажет, Ники поймет, чей я человек, вам конец…
— Все звенья обрубил, один ты остался?
— Если других дел не будет, меня тоже надо обрубать…
Атабек внезапно успокоился.
— Понимаешь, значит?
— Слепому ясно…
— Иди, работай!
Мир-Джавад вышел из кабинета. Атабек остался один. Вот оно — новое поколение… А с кем работать? Этот не болтает, а делает и быстро. Но человек для него не человек, все что угодно, но не живой человек со своими бедами, желаниями, мыслями. А этот будет знать только желания начальства и свои желания. Смутные дни наступают. Своих людей мало, приходится таких брать. Опасно с ними работать. Как дрессировщик в цирке: тигры вроде бы и ручные, а скольких учителей уже растерзали, чуть почувствуют слабину… О, черт, забыл!
Атабек позвонил. Вошел секретарь.
— Ушел Мир-Джавад? Верни его немедленно.
Секретарь скрылся… Через некоторое время, в течение которого Атабек сидел, словно загипнотизированный, глядя в одну точку, вошел Мир-Джавад.
— Слушай внимательно, джигит: самое первое дело твое в инквизиции будет знаешь какое?
— Какое скажете, босс!
— Дело Гяурова!
Мир-Джавад молчал.
— Что молчишь?
— Считаю.
— Деньги?
— Время!
Атабек недоуменно посмотрел на Мир-Джавада, и тот поспешил пояснить.
— Сколько времени мне понадобится на это.
— Сколько?
— Примерно месяц.
— Почему не спрашиваешь зачем?
— Приказ не обсуждают.
— Это твой родной дядя.
— Я его с детства помню, такого ничем нельзя остановить: ни подкупить, ни испугать… Убивать его сейчас тоже нельзя, скажут: «террор»!.. Так что месяц нужен, чтобы все подготовить…
…Вазген смотрел с жалостью на Мир-Джавада, как тот занимался своим любимым делом: расстреливал мух. Глаза Мир-Джавада горели от удачной охоты, пальцы в крови, резинка в крови.
— В кого ты такой уродился, мальчик?
— В проезжего молодца!
— В кого, в кого?
— Бабушка так мне говорит: «не в мать, не в отца, а и проезжего молодца».
— У тебя такой замечательный дядя, вот с кого тебе пример надо брать.
— Кому не лень мне примеры дают: в школе, на улице, дома. Одни говорят — эти плохие, другие — эти плохие, третьи — и те, и другие плохие. Отстаньте от меня, я сам себе — «пример».
Блики от оконного стекла плясали на его лице, оставляя кровавые следы, Мир-Джавад, как обычно, вытирал пот со лба окровавленными пальцами… Вазген вновь вспомнил ту ужасную картину, когда он, привязанный к столбу, был вынужден под ударами плетей смотреть, как юнцы, чуть постарше Мир-Джавада, насиловали его молодую жену: они резвились, как щенки, повизгивая от возбуждения, отталкивая друг друга, а потом установили очередь, у предпоследнего не получилось, бессилие вызвало у него злобу и ярость, он выхватил кинжал и распорол живот у лежащей под ним жертвы. Последний, не получив своей доли, ударил убийцу, а тот, вымазав кровью жертвы все лицо, бросился на обидчика. Их разняли: «какие могут быть счеты между своими», заставили пожать друг другу руки и поцеловаться. Второй тоже вымазался в крови. Последнему предложили изнасиловать Вазгена, быстро отвязали его от столба и сорвали штаны, но последний ударил ногой Вазгена по голому заду и ушел, обиженный и неудовлетворенный…
«То же лицо, те же страшные глаза фанатика, одна мысль овладела им, одна безумная мысль, но разве кому докажешь. Я вижу, больше никто… Гяуров, такой хороший человек, и тот о племяннике хорошего мнения: послушный, добрый, поделится последним куском… Видят то, что хотят видеть, не видят, чего не желают понять. Сейчас он жарит мух и спокойно смотрит на их муки, не просто спокойно, а с наслаждением, а потом… Гяуров смеется: „дети всегда растут исследователями, изучают природу, им любопытно“… Это — не изучение, это — самовоспитание»…
Вазген пошел к себе в комнату, но затем обернулся и тихо спросил:
— Зачем мух убиваешь?
— Заразу разносят, нам в школе объяснили, — спокойно, без злобы и раздражения ответил Мир-Джавад.
— Хочешь, подарю тебе мухобойку? «Одним махом семерых побивахом».
— Не хочу, зачем она мне? Меня мухи не интересуют, меня интересует: попаду из резинки или не попаду, куда попаду: в голову, или в крыло, или в живот. А твоя мухобойка, я видел, шлеп, и муха падает целая, как живая.
Вазген ушел в комнату. Огненные круги мелькали у него перед глазами, а чей-то голос вколачивал раскаленными гвоздями каждое слово в его голову: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную, внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее»…
День за днем ходил радостным Мир-Джавад, а назначения главным инквизитором края из столицы не поступало. Постепенно радость стала тускнеть, возникать сомнения, в которых Мир-Джавад не хотел себе признаться: «Неужели меня обошли?.. О бумагах Атабек ничего не может знать. Тогда кто? Кто перешел дорогу?»
Наконец, Мир-Джавада вызвал Атабек. Долго молчал, подражая Великому Гаджу-сану, курил любимые папиросы «Герцогиня».
— Поработаешь пока заместителем… — виновато начал он. — Во дворце сочли, что ты еще слишком молод для главного инквизитора. Потом, теперешний главный — старый борец, соратник Вождя… Между нами, тебе скажу, он тяжело болен, долго не протянет, каких-нибудь несколько лет, рак у него, ясно?
— У главного два заместителя уже есть, вместо кого пойду?
— Не вместо кого… Будешь третьим… Директива пришла из дворца эмира: о разорении.
— Это как?
— Всех несоглашенцев, всех непопутчиков можно грабить, доход в пользу государства.
— Блеск, э!
— Ты будешь этим заниматься.
— Как скажете, босс… А если кто будет сопротивляться или жаловаться?
— Кто будет сопротивляться, того можешь убивать, а кто жаловаться, тех ссылай на самый отдаленный и холодный остров Бибирь.
— Есть, сэр!
Атабек опять надолго замолчал, но Мир-Джавада не отпускал.
— Месяц для Гяурова наполовину прошел, — неожиданно спросил Атабек. — Что-нибудь есть?
— Сэр, я ждал назначения…
— У тебя осталось, значит, только полмесяца.
— Мало.
— Я ждать не могу. — Атабек раздавил недокуренную папиросу в золотой пепельнице. — Гяуров мне мешает… А ты будешь главным инквизитором края только после смерти старого борца за справедливость, такое распоряжение я получил от самого несравненного Гаджу-сана. Кстати, он о тебе уже все знает, помнит твоего отца, так что считай, утверждение у тебя в кармане… Я за тебя стою горой, но ты должен быть Магометом. Через полмесяца ты обязан убрать Гяурова любыми средствами, или он будет арестован. Ты обещал мне блестящую работу. Я хочу ее увидеть.
Мир-Джавад понял, что выхода нет.
— Будет сделано, босс!
Мир-Джавад, после того как убили отца, рос у дяди. С матерью случился удар, она лежала без движения, бабушка за ней ухаживала, а мальчик остался беспризорным, и дядя Муса взял его к себе. У него был сын, младше Мир-Джавада на год, Джумшид. Мир-Джавад полгода прожил у дяди. С братом у него установились такие дружественные отношения, что Джумшид ревел, вцепившись в Мир-Джавада, когда за ним пришла выздоровевшая мать, чтобы забрать домой. С тех пор они знали друг о друге все, вернее, Мир-Джавад знал о нем все.
Теперь Джумшид заведовал, после окончания торгового института, самой крупной торговой базой в городе. И Мир-Джавад, сразу же после напоминания Атабека о невыполненном задании, зашел к брату на базу.
— Как дела, дорогой?
Братья поцеловались. Джумшид взял пачку бумаг и потряс ими.
— Все просят прислать грузовики, а где я их столько возьму? Им бизнес, а мне одни хлопоты, я за всех должен отвечать, они палец о палец не хотят ударить, даже пошевелить, а я отдувайся.
— Попроси у отца, — посоветовал Мир-Джавад брату. — Худо-бедно, он — мэр города, пусть помогает.
— Ты что, своего дядю не знаешь? Родному сыну все в последнюю очередь: хорошую зарплату, квартиру, персональную машину. Не поверишь, до сих пор хожу пешком.
— Хорошо, что не под стол, — пошутил Мир-Джавад.
— Тебе хорошо шутить, я смотрю, в инквизиции одни шутники подобрались. Штучный отбор, да?
— Как брату помогу, дадут тебе грузовики, куда их посылать?
— В Корален, в первую очередь лимоны и апельсины забрать, вся партия идет в Дойчланд, сам понимаешь, должны быть свежими.
— Готовь склад, завтра утром к тебе прибудут пять машин, как минимум!
Мир-Джавад поболтал с братом о пустяках, выпил стакан чаю с кизиловым вареньем, поцеловал брата поцелуем Иуды и ушел. Больше они не встречались.
Мир-Джавад позвонил Атабеку.
— Шеф, срочно нужны машины!
— Надо, возьми! — последовал ответ.
— Взять надо у Гяурова, прошу вас ему позвонить. Но вы машины у него не просите, нажмите на срочное выполнение плана поставок лимонов и апельсинов в Дойчланд, он поймет и даст сыну машины, а остальное — мое дело.
Атабек обещал помочь. Накануне Мир-Джавад узнал о подпольном складе опиума, взял его со своими людьми, преданными только ему, начальству о складе, естественно, не доложил, и теперь все его люди сидели там в засаде, но выполняли странное поручение: разрезали апельсин на две равные половины, аккуратно вынимали содержимое, попутно отправляя его в свой желудок, в кожуру вкладывали мешочек с опиумом, склеивали половинки и закрашивали плод темным воском, затем заворачивали каждый плод в бумажку и прилепляли сверху длинную этикетку: «марока», что сокращенно обозначало «мировая автономно-республиканская овощная контора»… А тем временем машины шли на плантации за грузом цитрусовых для Дойчланд, которая взамен поставляла машинки для набивания сигарет и прочные презервативы. Один из шоферов был человеком Мир-Джавада. А сидевшие на складе агенты занимались странным для них делом, делом, которым обычно занимаются те, кого они неустанно выслеживали и ловили. Теперь агенты на собственном опыте постигали тяжелый труд контрабандистов и торговцев наркотиками…
На обратном пути одна из машин свернула в сторону от маршрута и остановилась у подпольного склада. Люди Мир-Джавада быстро выгрузили половину ящиков из машины и загрузили вместо выгруженных свои ящики с особыми апельсинами. Машина уехала на склад Джумшида, а агенты остались сидеть в засаде. От скуки они съели и те апельсины, что выгрузили из машины. Объелись так, что больше не могли на них смотреть всю жизнь. Тем более что Мир-Джавад вычел стоимость этих апельсинов из их денег, но зато заплатил за сверхурочные, чем поселил глубокую убежденность в справедливость в их сердцах…
А машины спокойно разгрузились на базе, которой заведовал Джумшид, он специально и склад для них освободил. Довольный Джумшид не уходил с базы, пока каждый ящик не был взвешен, не уложен в штабели на складе, а документы не оформлены.
А в это время Мир-Джавад заглянул «по дороге» в дом Джумшида, удивился, что тот так долго задерживается на работе: «совсем себя не бережет», остался пить чай и, улучив момент, когда жена Джумшида хлопотала на кухне, подложил пачку иностранной валюты Джумшиду в кровать под матрац. Затем Мир-Джавад долго пил чай с любимым черешневым вареньем, хвалил хозяйку и, не дождавшись брата, ушел, сославшись на неотложные дела. Из телефонного автомата, что неподалеку от дома Джумшида, он позвонил в инквизицию, в отдел по борьбе с наркотиками, изменив голос положенной в рот конфетой, сказал:
— Верноподданный сообщает: на первом складе у Джумшида крупная партия наркотиков, несколько ящиков апельсинов. Утром они уйдут в Дойчланд.
И, довольный, повесил трубку. Машина заработает, это он знал неплохо…
Усталый, как никогда, Джумшид уже уходил домой, когда территория базы была окружена солдатами, а к Джумшиду подошли трое в штатском и потребовали ключи от первого склада. Джумшид не стал даже требовать у них документов, людей инквизиции каждый узнавал по доброму и отзывчивому взгляду. Он вернулся в контору, взял ключи, полез зачем-то в карман и сразу был схвачен человеком в штатском. Его быстро обыскали и отпустили.
— Зачем? — обиделся Джумшид. — У меня никогда в жизни не было оружия.
— Береженого бог бережет, — мягко извинился инквизитор.
На складе рота солдат быстро, но не очень ловко, вскрывала ящики с апельсинами, скорее ломали, штурмовыми ножами взрезали каждый плод и тут — же его жадно уничтожали. Когда эта рота объелась, вызвали вторую, и разгром продолжался.
Джумшид попытался протестовать.
— Что вы делаете, это же наша валюта, партия идет в Дойчланд.
— Заткнись! — сказал ему нежно инквизитор. — Она пойдет в животланд.
Джумшид сел на пустой ящик из-под апельсинов и обреченно стал смотреть на это дикое пиршество… Когда под утро нашли все-таки ящики с наркотиками, он уже не удивлялся, был в прострации, все плыло перед глазами, как в тумане. После того как Джумшид подписал акт об изъятии крупной партии наркотиков из первого склада вверенной ему базы, он как в тумане поехал с инквизиторами к себе домой. Как в тумане он увидел бледное лицо испуганной жены, как должное воспринял найденные под матрацем пачки иностранной валюты. Так, в тумане, он и жил еще долгие годы на далеком острове Бибирь в Антарктике, пока случайно не затесался в пьяную драку уголовников и не получил смертельный удар ножом в толпе дерущихся. Боль развеяла туман, и последнее, что видел перед собой Джумшид, было не лицо дочери, не лицо жены, не лицо отца или матери, а улыбку брата. Мир-Джавад улыбался добро, ласково, дружелюбно. Но глаза его смотрели черным дулом пистолета.
Мир-Джавад пришел к Гяурову ранним утром, еще до начала работы. Он знал, что дядя приходит, как правило, за час до начала, раньше всех, чтобы в тишине, когда никто не дергает, поработать. Это было единственным временем, когда он принадлежал себе и никто не приставал с личными просьбами, от которых надо было уметь отказываться, потому что большая часть из них незаконна.
Гяуров очень удивился, увидев племянника в такую рань в своем кабинете. А Мир-Джавад нежно его обнял, расцеловал.
— Здравствуй, отец!
— Что-нибудь случилось?
Мир-Джавад выложил на стол фотокопии документов.
— Дядя, вы знаете, как я вас люблю! Ради вас я совершил должностное преступление. Здесь документы: протокол изъятия наркотиков с первого склада базы Джумшида, протокол изъятия иностранной валюты из его рабочего стола, протокол изъятия валюты в его доме, протокол допроса Джумшида. Через час за вами придут, ордер на арест подписан. Я не хочу, чтобы вы предстали перед судом, чтобы вас объявили преступником, но факты против нас. Ни один суд в мире вас не оправдал бы. Джумшид показал, что вы не давали ему машин, а для этого груза дали сразу… Вы смелый и решительный человек, дядя, вы знаете, что в таких случаях делают…
Гяуров внимательно изучал документы.
— Ты веришь? Ты можешь в это поверить?
— Я не верю, но не я вас буду судить, а ваш заклятый враг Кочиев. Ему верить не надо. Есть еще свидетели: шоферы, они скажут все, что им велит Кочиев.
— Джумшида расстреляют?
— Вместе с вами, да! Без вас мне будет легче сохранить ему жизнь.
— Ты думаешь, он виноват?
— Уверен на сто процентов, что ничего не знал. Растяпа, всем, кому надо и не надо, доверял. Заведующий складом скрылся, его ищут и найдут.
Мир-Джавад сам помогал зарывать тело заведующего складом в оливковой роще, после того как выстрелил ему в затылок.
Гяуров пристально всматривался в глаза Мир-Джавада, но кроме любви и преданности ничего в них не прочел.
— Возьми фотокопии, ты очень рисковал, спасибо тебе. Я на тебя надеюсь, что ты спасешь жизнь Джумшида и разоблачишь эту ложь и клевету.
— Я вам обещаю, дядя. Жизнь положу, а найду того негодяя и отомщу.
Мир-Джавад спрятал фотокопии документов в карман. Гяуров обнял племянника, они троекратно расцеловались.
— Живи долго, — прошептал Гяуров и перекрестил уходящего Мир-Джавада.
Когда Мир-Джавад подходил к выходу, из кабинета раздался легкий хлопок выстрела. Никто не заметил Мир-Джавада: сторожа вызвал подручный Мир-Джавада, а до начала работы оставалось сорок минут…
«Какие похороны, какие похороны, — думал Вазген, глядя из окна на нескончаемое шествие с траурными знаменами. — Как у нас любят мертвых, нет, ты посмотри, как у нас любят мертвых, толику бы этой любви живым, может, рай наступит… А почему? Потому что мертвый не опасен, мертвого не надо бояться, конечно, если ты не веришь в привидения. Объявили, что умер от инфаркта, а говорят: „застрелился, позора не выдержал“… Ай, Джумшид, Джумшид, что ты наделал, негодяй? Век тебе мучиться, такого славного, знаменитого отца подвел. Что нужно человеку? Все имел, э: хорошую должность, здоровье, жену красавицу, квартиру, деньги… Нахал! Все мало, прорва ненасытная. Валюты захотелось. Иностранной монеты. В торгиуме штиблеты покупать. Не понимает, сразу спросят: „откуда взял“?.. Что ответишь? Нашел на базаре?.. Нет, какие похороны… Носатый шел с женой Гяурова, как главный родственник. А красавицы жены Джумшида не было. Стыдно за мужа. Убил отца, зато спас свою шкуру. Ничего, на остров Бибирь отправят, там тепло и уютно не будет. Все желания замерзнут… Нет, какие похороны. Ничего не скажешь, любят у нас мертвых, любят больше живых… Все мы такие: матери при жизни лень лишний раз письмо написать, а над гробом рыдает, как маленький… И я не лучше: разве я так сильно любил свою Ануш при жизни, как поклоняюсь ей после ее мученической смерти. Может быть, поэтому так помним, так любим мертвых, что вина терзает, вина, что не так помнили, не так любили при жизни. А на что мертвому наша любовь? Живому она нужна. Живому! Жениться мне надо, пока не поздно… Детишек надо, тогда, может, не буду так страдать, оставит меня та страшная дорога, мой нескончаемый путь скорби и отчаяния»…
«Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними: потому что о насилии помышляет сердце, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается».
Над могилой Атабек говорил речь:
— Мы сегодня провожаем в последний путь нашего друга, боевого соратника, одного из несгибаемых борцов против мировой несправедливости, против эксплуатации человека человеком. В горах Серры он не раз доказывал свою беззаветную храбрость, отчаянное мужество и гранитную непоколебимость. Все силы он отдал служению народу, служению делу возмущенцев, подполье в горах Серры выковало его характер, его сердце стало железным, даже иногда стальным. Ступень за ступенью шел он по лестнице своей славы, заслуженной им всей своей жизнью, полной опасностей, но и тех радостей, которые несут эти опасности. Ни угрозы, ни подкуп, ни холод, ни жара, ни снег, ни проливные дожди не могли столкнуть его с этой постницы славы, он дошел до вершины, но его сердце, полное любви к своему многострадальному народу, не выдержало этой чудовищной нагрузки, самозабвенной отдачи. Мы все будем помнить этого замечательного человека, прекрасного отца и учителя. Ты всем, мой друг, будешь служить образом для подражания, войдешь в будущие легенды, которые благодарный народ будет сочинять о таких, как ты. Спи спокойно, боевой друг. Ты сделал все, что мог!
Оркестр заиграл траурный марш. Прощальные залпы разорвали кладбищенскую тишину, могилу Гяурова в аллее вечной славы украсила гора венков и живых цветов… Расходились молча. Многие стыдились смотреть в глаза друг другу.
Мир-Джавад развернул кипучую деятельность. В инквизиции его назначение третьим заместителем встретили прохладно, если не сказать «холодно». Два лагеря внутри инквизиции боролись друг против друга, улыбаясь и целуясь при встречах. «Плохо спал, дорогой? Бледный какой, здоровье беречь надо, хочешь, врача посоветую». «Спасибо, родной! А как твои дела?» «Цвету и хорошо пахну!» «Да, лучше жизни не найдешь».
Оба лагеря приглядывались к Мир-Джаваду, прикидывая, как перетянуть его на свою сторону, поэтому ни один лагерь ему своих людей не дал, бери, где хочешь. Мир-Джавад поклонился Атабеку, инквизиции расширили вдвое штат, и Мир-Джавад набрал своих башибузуков, всех, кто смотрел ему в рот, ел из его руки, пил из его бутылки. И сразу превратился в такую силу, с которой пришлось считаться.
Никто не знал, как выполнять директиву о разорении, поэтому Мир-Джавад мог делать все, что считал нужным. Он не стал утруждать себя и своих подчиненных, выясняя: кто непопутчик и кто несоглашенец. Мир-Джавад быстро выявил всех тех, кто имел движимое и недвижимое имущество: богатых торговцев, остатки аристократической знати… Всех тех, у кого остались драгоценности, картины, антиквариат.
Тех, кто держался в тени, но делал большой бизнес, всех подпольных миллионеров он обложил налогом в свою пользу. К остальным применил директиву. По утвержденному дворцом эмира списку Мир-Джавад каждый день разорял какой-нибудь клан, неугодный Гаджу-сану.
Человек Мир-Джавада приходил с солдатами в дом, устраивал обыск, все ценное конфисковывал, оставляя расписку на память, чтобы всю оставшуюся жизнь вспоминали: как мы хорошо жили. Тех, кто пытался сопротивляться, солдаты убивали: расстреливали или просто закалывали штыками… Если ничего не находили, а в списках значился, пытали и мучили до тех пор, пока не показывал тайник, или не умирал. Редко кто мог утаить что-нибудь, у кого хватит сил смотреть, как насилуют на твоих глазах жену и дочерей, издеваются над сыновьями, кто может променять детей на богатство, разве все золото мира, все алмазные россыпи Голконды заменят счастливый детский смех, огоньки счастья в их глазах…
«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он, как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. И когда Он снял третью печать, я услышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей… И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть: и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными»…
«Аллах, благослови Исаака, пусть он иудей, но какой хороший человек, какой замечательный совет дал. Послушай, какой он замечательный совет дал, всего за сто монет: разделить все богатство на две равные части, одну бросить в пасть носатому дьяволу, другую спрятать как следует. Я так и думал сделать: золотые монеты отложил, чтобы спрятать, а все остальное решил отдать, не спрячешь же бриллиантовое ожерелье жены, когда его весь город знает. Солдаты нагрянули так внезапно, свалились как снег на мою старую голову. Думал — все. Опять выручил Исаак, пришлось десятую часть ему отдать. Умный какой: вывалил из корзинки в уборной кучу использованной бумаги, на дно положил завернутое в бумагу золото, а сверху завалил опять грязными бумажками. Солдаты забрали половину, все в доме перерыли, перевернули вверх дном, но, представь себе, золота не нашли. Спасибо тебе, аллах, ты даже светлую голову Исаака, не потому, что он плешивый, по-настоящему светлую, заставил работать на благо правоверных, чтобы дьяволу меньше досталось. Стон стоит на земле, как жизнь дальше пойдет, подумать страшно…»
По приказу Атабека каждый день в газетах печатались мнимые ниш разоренных непопутчиков и несоглашенцев, каждый день устраивались митинги и собрания, на которых зачитывались преступления разоряемых. И в газетах, и на митингах, и на собраниях давались клятвенные уверения властями, что строгие, исключительные меры применяются только к врагам, а другие честные торговцы и представители старой знати могут спать спокойно. И все верили, или только делали вид, что верят, каждый день радуясь, что опять пронесло мимо солдат-разорителей, так их окрестила молва, опять другого, опять не его, его-то за что, он честный попутчик и соглашенец. Как бараны ждали своей очереди, когда им всем перережут глотку, являя собой пример смирения и долготерпия.
А куда денешься? Граница так крепко охраняется, что и муха не пролетит, а если по дурости перепутает направление и нарушит границу, ее тут же собьет своей ниткой резинки Мир-Джавад. Он не промахнется, — снайпер. Завербованные им агенты распространяли слухи, что видели его летящим, аки ангел, во всем белом, над границей, и тишина, и мир спустились на землю там, где он пролетал. А он трубил в большую трубу и громко кричал: «Спите спокойно, граница на замке»!
Сколько добровольных помощников нашлось у Мир-Джавада среди мелких лавочников и деклассированного элемента, сколько ушей и глаз было предоставлено в его распоряжение, причем патриоты не требовали никакой платы, своей доли в этом вселенском грабеже.
Зависть! Вот основа из основ этого гнусного слоя общества. Здесь ее питательная среда, здесь всегда в избытке зреют бациллы, которые потрясают мир в какой-нибудь из его частей страшной эпидемией ненависти, опустошительной и внушающей ужас для многих поколений. В каждом квартале, в каждой улице, в каждом доме городов, поселков и деревень находились знающие, что сегодня у соседа на обед. И они заваливали инквизицию письмами без подписи, сообщая в них такие интимные подробности, что инквизиторы только диву давались, как быстро стремилось общество вернуться вновь к рабовладельческому строю, люди не знали, что делать с полученной свободой, и сами умоляли обратить их снова в рабов, где каждый бы вновь мечтал о добром хозяине и о теплой похлебке.
Так что работы в отделе Мир-Джавада было хоть отбавляй. Ну, а те, кто платил дань Мир-Джаваду, жили спокойно: при зарплате в сто монет имели по прекрасному особняку для каждого взрослого члена клана, по две огромных дачи, одна из которых обязательно должна быть на берегу самого синего в мире моря, покупали беспрепятственно женам и дочерям, да и любовницам тоже, машины и шубы, стоимостью по пятнадцать тысяч монет каждая, не говоря уж о таких «пустячках», как бриллиантовые и золотые побрякушки. И никто им не задавал даже малейших вопросов, от которых появляется бессонница. Множество писем с подписями и без подписей, изобличающих подпольных миллионеров, изымались, хотя все пасквили, вперемежку с фактами, аккуратно регистрировались и подшивались, так что подпольным миллионерам не надо было скрываться в горах Серры, а против тех наивных патриотов, что осмелились открыто написать свое имя, возбуждали дела о клевете на достойных, всеми почитаемых людей, сажали «клеветников» в тюрьмы или ссылали их на необитаемые острова Лусин. «Пусть там клевещут!»
И поощрялась ложь, и преследовалась правда. Стало выгодно жить неправдой, чтобы выжить, элементарно выжить. И люди приспособились, с трудом, но приспосабливались. По-другому жить не разрешалось. Ты мог думать, что хотел, но говорить вслух был обязан лишь то, что внушали газеты, что вещали с высоких трибун и поменьше, чему стали учить в школах и даже в подготовительных детских заведениях. Везде появились портреты Гаджу-сана и Атабека. «Фюрер мыслит, а мы проводим эти мысли в жизнь!» «Претворим великие замыслы в реальность!» «Весь мир нам внимает!..» Не добавляли только: «с ужасом»!
А рядом с Атабеком на официальных приемах можно было увидеть все чаще и чаше фигуру Мир-Джавада. Он и ему подобные набирали силу и уже кое-где косо поглядывали на тех, кто их нашел, вывел в люди, подсобная, вторая роль их больше не устраивала. Им нужен был лидер, они нужны были лидеру, и они создали земного бога, предложив себя в рабы. «Великий Гаджу-сан»! «Несравненный Гаджу-сан»! «Мудрый Гаджу-сан»! «Гаджу-сан — учитель всех народов мира»! «Гаджу-сан — вождь всех стран»!.. Такие лозунги запестрели на стенах домов и вдоль шоссейных дорог, особенно вдоль трансконтинентальной трассы. Но новое поколение ошибалось, думая, что лидер останется им верен. Это он выдвигал их, определяя, кому быть пешкой, кому фигурой, он выбирал их, способных и готовых на все: отказаться от отца с матерью, забыть о братьях и сестрах, предать жену и друга, не признавать детей. Он выдвигал каждого зубастого, каждого клыкастого, его совет был законом для всякого, но тех, кто не понимал, чем ему обязаны, кто проявлял хоть малейшую свободу, он сбрасывал с доски своей игры, понятной лишь ему одному, зато понятливых выдвигал на важные посты в своей партии эмира, в армии, в полиции, а главное, в инквизиции. Ставка была сделана на инквизицию. После Торквемады Гаджу-сан был первым, кто осознал влияние инквизиции на умы и чувства общества и понял, что тот, кто владеет инквизицией, владеет этими умами и чувствами. И он трудился не покладая рук.
Ио слушал, но голос ректора то звенел, то пропадал, когда Ио уносился мыслями в родные горы:
— Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши ты устрояешь для нас… Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он… Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, кто вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся… Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я — Господь Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся! Я помогаю тебе»…
«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты — Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я — Господь Бог твой»… «Ко мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я — Бог, и нет иного… И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас»…
«О, аллах, как я тебе молился, когда мне удалось перебраться через границу с караваном контрабандистов.
Караванбаши уже на этой стороне мне сказал, что меня и проверять не надо было, такой страх на лице не сыграешь, смерть за плечами стояла и смеялась. Не стал я его пугать, не сказал, из-за чего бежал. Сказал, что убил двоих, кровной мести испугался. Это ему было знакомо, обыденно, привычно. Караванбаши взял плату и исчез из моей жизни, он не будет много рассказывать обо мне, кому интересен какой-то убийца. А узнай он настоящую причину, ночами бы не спал, предал бы меня с потрохами.
А причина страшная… До переворота отец каждое лето отправлял меня к своему брату на эйлаг пасти овец. „Лучший отдых от городской жизни, — говорил, — целый день на воздухе“. И мне нравилось. Чем проводить время за альчиками в пыли, жаре и грязи, лучше работать на природе, в тишине и покое, дышать кристально чистым воздухом, есть свежую пищу. Может, поэтому я ни разу не болел разными простудными заболеваниями, такую закалку получал в горах. Пастухи принимали меня за равного и спуску не давали, старший, если что не так сделаю, такую оплеуху мог дать, что щека целый день горела огнем. Но бил только за дело: мы, городские, ленивы уж больно, а за отарой нужен глаз да глаз. Овцы как люди: есть умные, никуда не бегают, щиплют себе спокойно траву, на водопой со всеми сбегают, никаких тебе с ними забот, а есть сумасшедшие, только отвернешься от нее, норовит в лес удрать, а то и вниз по дороге, в селение, за одной раз я минут десять бежал, пока поймал, пару километров отмахал, ну, и лупил же я ее всю обратную дорогу, пока пастухи не видели… И в тот злополучный день одна из сумасшедших дочерей овечьего стада удрала от меня вниз по дороге. Я ее заметил только тогда, когда она исчезла за поворотом, поэтому я побежал ей наперерез через лес по тропинке, думаю, как я поймаю эту негодную и отлуплю. Тропинка выходила на развилку нашей дороги на эйлаг с дорогой в город. Хорошо, что я заметил их издали, зрение у меня, как у сокола, пастухи так говорят. Их — это бандитов. На дороге почтовый дилижанс остановили и грабят. Я в кустах и залег, про овцу и думать забыл, сам, как овца, беззащитен. А бандиты почтарей и охрану уложили на обочину и всех по одному перестреляли. Как начали они стрелять им в затылок, хотел я убежать, да ноги не слушаются, ватные стали, не пошевелить даже пальцем, лежу и молюсь, чтобы меня не заметили, а то убьют. Так и лежал, пока последнего не пристрелили. Среди пассажиров дилижанса была одна женщина. Ее сразу увели в лес, и под крики этой женщины и расстреливали. Мама кричит, а бандиты смеются и пулю пускают в затылок следующему. Наконец, крики женщины смолкли, убивать было больше некого, тогда камень, который давил на меня и не давал убежать, исчез, и я отполз подальше и удрал к своим баранам, не зная, что говорить пастухам. Забыл и думать про сбежавшую овцу. А что про нее думать: ясно, на шашлык попала к грабителям и убийцам. Пастухам решил не говорить ни слова: у каждого по винтовке, вдруг захотят награду за поимку государственных преступников получить, а те их убьют и меня заодно. Нет, лучше забыть этот ужас, жив остался и благодари аллаха. Сел я на пригорок, на солнышке греюсь, только глаза зажмурю — убивают, открою — солнышко, зеленая трава, синее небо, мир и благодать, закрою глаза — стреляют в затылок. Стал думать о городе, вспомнил свою улицу, родной дом, лавку, где отец торгует орехами и кишмишем, пряностями и другими вкусными и ароматными вещами. И эти воспоминания спасли меня от ужасных видений, закрыл глаза и увидел мать, а не окровавленный труп, успокоился я, размяк на солнце. Слышу, кто-то подходит ко мне. Открыл глаза и обомлел. Рядом со мной стоят двое из тех, кто грабили дилижанс. Один, маленький, заросший черными волосами, он и командовал всеми бандитами, приказывал убивать всех по одному, держит на руках мою сбежавшую овечку и ласково мне говорит: „мальчик, так ты проспишь все свое стадо, разбегутся у тебя овцы, или волки их всех унесут“. А я молчу, от страха язык к зубам прилип. „Видишь, как испугался, — заметил второй, — побелел весь“. „Держи свою овечку, подрастающее поколение, — пошутил главарь и сказал приятелю: — Арчил, дай ребенку шоколадку“, — и так лучезарно улыбнулся, такой добротой сияли его глаза, совсем как у моего отца… Вручили они мне: один овечку, другой шоколадку, и, погладив меня по голове и потрепав по щеке, спустились не торопясь к дороге, где их, очевидно, ждали остальные члены банды. А я, как только они от меня отошли, штаны обмочил…
Сколько лет прошло с тех пор, подсчитать трудно, один я остался, умерли родители, жену в дом привести не удалось, маленький я, некрасивый, а тех, кому нужна моя лавка, а не я, мне и даром не нужно. И вот позавчера, как вспомню этот день, мурашками покрываюсь, выгнали нас всех на улицу, встречать Великого и Непобедимого Гаджу-сана. Мое любопытство чуть меня и не погубило. Пробрался я в первый ряд, рост-то у меня маленький, хочется посмотреть все получше, и оказался неподалеку от группы представителей всех слоев общества. Держат наготове хлеб-соль, ждут Вождя… Машина подкатила вплотную к группе, дверца открылась, Гаджу-сан вышел из машины, и тут меня вытолкнули, это задние ряды поднажали, прямо под ноги Вождю. Растянулся я на дороге в пыли, а лицом на башмак Великого Учителя попал. Это ему очень, видно, понравилось, подумал, что я целую его обувь, поднял меня, отряхнул заботливо пыль с моего костюма, а потом пристально посмотрел мне в глаза и говорит: „Где-то, кацо, я тебя раньше встречал, глаза твои ясно помню“. Стою я столбом, язык от страха к зубам прилип, молчу и жду, когда меня казнить будут. Но тут группа встречающих ревниво оттеснила меня в сторону, и, может быть, их радость и спасла мне жизнь. Только я услышал, успел услышать, каждое слово Великого, обращенное к стоявшему рядом его спутнику: „Арчил, мы с тобой видели где-то этого человека, узнай!..“ Нырнул я поскорее в толпу и со всех ног домой. Переменил замаранные штаны на чистые, взял все деньги и ценности, какие были у меня, зашел к конкуренту, он последнее время проходу не давал своими предложениями, и выгодно продал ему лавку отца, чем его, как узнал, значительно подвел, здесь сказали, что все имущество бежавших конфискуется, даже если это имущество передано или продано другому. Чтобы меня не искали, сказал всем, что иду на свадьбу, несколько дней дома не будет, и ушел навсегда. Уехал в приграничный район, где жил еще мой дядя, где я когда-то пас овец. Рассказал я все дяде без утайки. Любил он меня, как сына, своих детей у него не было в живых, погибли в горах Серры, помог, свел с знакомым караванбаши, не потребовал, чтобы я не говорил тому правды. Что я охотно сделал… Какое счастье, что у меня хватило ума и силы бежать! Какое счастье, что я жил один, без жены и детей! Какое счастье, что мои родители умерли и некого будет инквизиции казнить за мой побег!.. Иногда я затоскую по отчему дому, защемит сердце и невольно подкатит слеза, но как вспомню подозрительный взгляд Гаджу-сана, как вспомню тот ужас: что только двадцать минут отделяло меня от смерти, когда я выходил из дома конкурента, я уже заметил черную машину, стоявшую неподалеку от моего дома, и только чудо, ослепившее агентов, поверивших, что я действительно ушел на свадьбу, спасло меня; в то время как прочесывали все свадьбы в городе, я успел сесть на поезд, умчавший меня благополучно от смерти… И проходит тоска, я ощущаю лишь счастье от жизни… Правда, мне пришлось переменить имя и национальность и уехать на край света»…
Мир-Джавад не забыл о Гюли, о своей подстреленной газели, чье нежное тело снилось ему каждую ночь. После убийства сардара Али Мир-Джавад послал своих людей за Гюли, но посланные им вернулись ни с чем, вдова с дочерью уехали неизвестно куда, продали дом, сад, землю и всякую живность… Мир-Джавад отхлестал их по щекам.
— Олухи царя небесного, как шпионов ловить будете, если девчонку не смогли отыскать, они же не улетели по воздуху, не вознеслись на небо. Болваны, срочно расспросить, если нужно, то с пристрастием, соседей, кассиров на вокзале… Два дня вам даю, не найдете, куда уехала вдова с дочерью, пеняйте на себя!
Что значило это слово, никто из агентов не знал, но что за этим следовало, они настолько хорошо выучили, что «рыли землю» до тех пор, пока не вышли на одного односельчанина, который видел вдову в городе на базаре, куда привозил персики и немного анаши, жить-то надо, на продажу. Односельчанин очень удивился, увидев ее, они всем сказали, что уезжают в другой виллайят к родственникам, а вовсе не в город. В городе искать было труднее, но у Мир-Джавада были свои люди в каждом отделении полиции, всех своих он поднял на ноги, и через несколько дней Гюли привезли в его кабинет.
«Чувствовала я, что не забудет носатый мое тело. Отыскал, хотя мать клялась, что в городе нас никто не разыщет, ни один черт. Один черт нашелся, который отыскал. Интересно, как отыскал? Ладно, потом узнаю!.. Сказать ему, что у нас будет ребенок, или нет? Посмотрим… У матери ребенок тоже от него будет? Тоже мне, родственник. Кем он нам придется? Моему сыну — брат, потому что у них отец один, в то же время он брат и мне, у нас одна мать, а значит, — дядя моему сыну, но, раз он брат моему сыну, значит, он и мой сын, хоть и не я буду его рожать. А кем он будет своему отцу? Сын — это понятно, шурин, как мой брат, а еще?.. У матери родится сын и внук одновременно. Запутаться можно… Отыскал, чтобы жениться? Может, стыдно стало? Начальства боится? Припугнуть его?.. Нет, не испугается, не женится. Черта с два я с тобой буду жить просто так. Сначала женись, голубчик. Детей тебе нарожаю, будем жить, как люди»…
Мир-Джавад смотрел на Гюли и чувствовал, как переполняется нежностью и любовью его душа.
— Как расцвела ее красота, какое удовольствие будет одевать это тело, а еще большее раздевать. Дарить ей подарки наслаждение, — думал Мир-Джавад, разглядывая пристально каждую деталь ее тела.
Он гнал от себя другие, греховные мысли: ему хотелось здесь же, в кабинете, раздеть ее и на широком кожаном диване, который он конфисковал, где, уже не помнил, и наслаждаться ею, вместо этой утомительной работы.
— Нарочно скрылась? — спросил он ревниво.
— Какое тебе дело? Ты что, мне муж? — вскинулась Гюли. — По-твоему, нам надо было остаться на потеху всей улицы, а то и города.
— Тоже мне, саманный город! — презрительно бросил Мир-Джавад.
— Слушай, что ты ко мне привязался? — рассвирепела обиженная за родной городок Гюли. — Приехал, растоптал все законы гостеприимства, адат и коран в придачу, сделал свое грязное, черное дело и еще издеваешься. Ты, негодяй, еще и мать мою опозорил…
— Не говори глупости, женщина, нужна мне была твоя вдова, когда ты рядом.
— Ара, значит, ты хочешь сказать, она на стороне нагуляла ребенка?
— Это — шофер, э! Я ему скажу, он женится на твоей матери… Теперь ты довольна?
— Я буду довольна, если ты последуешь его примеру и женишься на мне, я тоже жду ребенка…
Мир-Джавад обрадовался.
— Молодец, ты делаешь меня мужчиной… Но жениться не могу. Не спрашивай: зачем, почему? Не могу и все!..
…Трудно объяснить то, что и самому не понять. На днях Атабек вызвал к себе с отчетом о конфискации. Остался доволен своей долей, суммой, отправленной в столицу, во дворец эмира, развеселился, как ребенок, а когда Мир-Джавад собрался уходить, вернул его от двери.
— Мальчик, почему ты не женишься? Женилка не выросла?
Мир-Джавад смущенно замялся.
— Шучу, шучу, — рассмеялся Атабек. — Пока не женись. Я тебе невесту подыскал: красивая, умная… Правда, я ее не могу уговорить, но ты надейся и жди. Я сказал, я помогу!
— Спасибо, учитель! — только и нашелся сказать Мир-Джавад.
Недоумевая, ушел и целый день не мог от волнения работать, — развлекался: достал из коробочки искусственных, сделанных из резины, мух, настоящих где зимой возьмешь, прилеплял их в разных местах, ходил, тренировался, сшибая ниткой резинки, затем привязал несколько «мух» к вентилятору, включил его, поток воздуха кружил «мух», и Мир-Джавад стрелял их «с лета».
Но машина конфискации и разорения работала, раз запущенная, уже самостоятельно.
…Мир-Джавад попытался поцеловать Гюли, но она резко и недовольно отстранилась.
— Трудно тебе объяснить, я и сам не понимаю.
— Что понимать? У ребенка должен быть отец, и ты им будешь, или я пойду к твоему начальнику, учти, я еще несовершеннолетняя, и все ему выложу.
Мир-Джавад засмеялся, просто хохотал.
— Ты прелесть! — стонал он между приступами хохота. — Повторяешь слова матери, как попугай, а ты — газель, лань, серна, ты должна быть сама собою: пугливой, грациозной, нежной, смотри, какие слова выучил, взял себе одного заключенного, передает мне каждый день свои знания, умный очень, философ большой, профессор… А ты базаришь, как торговка с центрального рынка. Стыдись!
— Это мне стыдиться? — возмутилась Гюли и… заревела, вытирая по-детски кулачком слезы. — Кто тебя звал, проклятый, приехал, опозорил, жениться не хочет и еще поучает.
Мир-Джавад, не обращая внимания на ее слезы, открыл сейф, достал фотографии. Гюли продолжала рыдать.
— Перестань реветь, хватит. Полюбуйся на эти картинки, они настоящие.
Мир-Джавад швырнул фотографии на стол перед Гюли, а сам отошел к окну, он столько раз любовался фотографиями, что знал их наизусть: на всех видна была Гюли, голая и в таких позах, о которых она, он был уверен, и не подозревала… И лишь на одном, на последнем снимке был виден голый партнер — сардар Али.
За окном шел снег, редкие прохожие торопились покинуть негостеприимную, продуваемую насквозь улицу… За спиной Мир-Джавада послышался стук упавшего тела. Мир-Джавад испуганно оглянулся и бросился к Гюли. Она лежала на ковре, зажав в руке ту, самую последнюю, фотографию. Мир-Джавад стал ее целовать, пытаясь привести в чувство, а затем, почти не раздевая и не раздеваясь сам, жадно овладел ею. Его конвульсии или тяжесть тела привели Гюли в сознание. Увидев над собой, так близко, его лицо, не осознавая происходящего, она тихо прошептала:
— Неужели это — он?..
Мир-Джавад молча встал с нее, бесцеремонно застегнул, не прячась, штаны, помог подняться Гюли, усадил ее на диван.
— Он, это — он! А я, это — я!.. Ребенок — мой, а об остальном тебе знать не полагается. Есть вещи, о которых не только знать, думать опасно. Я тебе не советую…
Мир-Джавад положил фотографии в сейф, достал стоявшую там же на полке бутылку марочного коньяка, налил полстакана и заставил выпить Гюли.
— Пей, пей, ты вон какая бледная, как снег, холодная, как лед, тебе вредно, ребенку вредно, пей и не разговаривай.
Гюли, не сопротивляясь, выпила коньяк, сразу порозовела, дрожь в теле исчезла. Дурной сон, на который так надеялась Гюли, не проходил, наоборот, она вдруг ощутила весь ужас реальности, неотвратимости настоящего…
— С сегодняшнего дня ты у меня работаешь секретарем, первая твоя обязанность, кроме любви, стоять на страже этого кабинета… Да это, впрочем, и в твоих интересах: в сейфе лежат фотографии… Пленок там нет, не трудись вскрывать, — пошутил Мир-Джавад. — Ребенка рожай, хорошо, что ты его оставила… Слушай, идея! Давай я тебя выдам замуж за одного старика: богатый, собственный дом имеет, не будешь ни в чем нуждаться, и спать с ним не надо. Высше, э!
Гюли смотрела на него, но ничего не видела и не слышала. Перед глазами стоял огромный огненный шар, из которого молниями вылетали одна за другой порнографические фотографии, затем в центре шара Гюли увидела раздутое до безобразия лицо Мир-Джавада, с торчащими изо рта, как у вампира, клыками. Шар неожиданно лопнул огненными рваными клочьями и… Гюли ясно поняла, что она целиком и полностью во власти этого любящего ее, она это твердо знала, вернее, чувствовала, человека, и единственное, что ей разрешается, это — полностью подчиниться его прихотям и желаниям. И Гюли решила подчиниться…
«Черт носатый, всю душу вывернул наизнанку. Вот почему исчез сардар Али, чтобы скоропостижно скончаться в столице. Этот вурдалак виноват. Он и приехал за этим, меня не зная и никогда не видя, этот черт носатый… Мешал он им чем-то, вот они его и убрали… А! Что мне до этого? У меня будет ребенок, и я должна думать о нем. Главное, что этот черт носатый от меня без ума, опять изнасиловал, негодяй, если ему так больше нравится, пусть, все равно я ничего не чувствую. Ребенку обрадовался, значит, не бросит, как ненужную вещь. Буду делать, что скажет, хуже не будет… Какие фотографии страшные, вдруг кто увидит, стыда не оберешься, придется собакой на цепи сидеть у него в кабинете и сторожить… Вот к чему был тот сон: бесконечная дорога, и я по ней иду, солнце немилосердно палит, пить хочу до сумасшествия, руки связаны, шею аркан держит, другим концом привязанный к седлу коня, а в седле сидит он, носатый дьявол, и красном кафтане, золотые звезды разбросаны, в руке держит дьявол длинную пику и, как бабочек и жуков, натыкает на нее всех встречных детей, изо рта у него торчат окровавленные клыки, придающие ему почему-то вечно усмехающийся вид. А Гюли идет за его конем, перебирает по дороге окровавленными босыми ногами. Бедная Гюли!.. С ума сошла: о себе говорю, как о другом, совершенно постороннем человеке. О другом человеке… А я разве прежняя Гюли?..»
Две свадьбы играли одновременно. Шофер смотрел тоскливо на свою жену, которая была старше него на семь лет, и на своего новоявленного зятя, старше него на тридцать лет, а на сколько лет он старше своей жены, падчерицы, на которую шофер искоса бросал страстные взгляды, и подсчитать трудно. Но женщины были довольны: вдова, получив такого молодого и красивого мужа, отца ее ребенка, была так благодарна Мир-Джаваду, что некоторые «мелочи» прощала, такие, например, как смерть сардара Али, друга ее семьи, насилие над дочерью и даже навязанного ей мужа, от одного вида на которого мутит и тошнит. А Гюли как раз была очень довольна, что муж такой старый и безобразный.
«Уродина! В самую тоскливую минуту не придет даже мысль, не говорю о желании, лечь к тебе в постель. Сидит, словно на похороны пришел», — думала Гюли, изображая счастливую новобрачную.
На столе было все, чего только душа ни пожелает. Мир-Джавад не поскупился, ничего не пожалел: обложил дополнительным налогом всех торговцев, и они принесли все самое свежее, самое лучшее. Обычно на все свадьбы приглашают зурначей, ансамбль восточных инструментов: тар, кеманча, зурна, нагара. Но Мир-Джавад решил пустить пыль в глаза и пригласил еще духовой оркестр. Духовой оркестр играл вальсы, польки-бабочки и марши, когда гости пили и ели, а при смене блюд, для отдыха, квартет бодро играл «шур», или тарист надсадно пел длинный мугам. Специально по вызову Мир-Джавада приехал и спел несколько классических арий известный баритон Бай-булат. Получив оговоренную сумму в запечатанном конверте, он привычно, не вскрывая, положил деньги в карман, собираясь ехать на следующую гастроль, но Мир-Джавад пригласил его остаться. Знаменитость не посмела отказаться, хотя следующий гонорар ему не суждено было получить. Приглашенный к столу, как всегда, напился, стал хвастаться и приставать к молоденьким дочерям и женам сослуживцев Мир-Джавада. Но гости с завистью смотрели на его присутствие и прощали ему маленькие шалости: эта знаменитость не ходила к простым смертным, да и гонорары брала умопомрачительные.
Старый молодожен тупо смотрел на собравшихся в его доме людей: все чужие, видел он их впервые, только с Мир-Джавадом у него состоялась предварительная беседа, о которой старик без содрогания не мог вспоминать. Молодую жену свою, на пятом месяце беременности, старый муж уже тихо ненавидел, второй день, как переехала, а распоряжается, как будто выросла здесь, хозяйка… «А ее мамаша, шлюхи чертовы, выглядит так глупо: смотрит, дура, как влюбленная девочка, на молодого мужа, а тот смотрит на ее дочь. Ну, семейка! Что делается на свете, все перевернулось: молоденькие выходят замуж за стариков, ведь я ей в дедушки гожусь, а молодые женятся на старухах, а этот брак мне вообще непонятен. Раньше, если совершались подобные браки, то только по расчету, а какой расчет может быть у этого молодого парня, денег-то у вдовы нет, хотя какая она, к черту, уже вдова. Выгнать бы всех к чертям собачьим! Вот так; встать и крикнуть матом: „пошли, мол, к такой-то матери!“ Где уж мне, этот дьявол тут же убьет моего Джаваншира, а я все готов отдать, всем пожертвовать ради спасения моего единственного ребенка. Ради мальчика моего я на коленях готов ползать перед ними. Но этой молодой шлюхе я отомщу, я уже придумал, как я это сделаю… А какая у меня была свадьба сорок лет назад, о перевороте никто тогда и не думал, какая при Ренке была жизнь, ах, какая жизнь. Недавно слышал по радио, как знаменитая актриса давала интервью: слащаво хвалила кровавый режим Гаджу-сана, рассказывала, как всем хорошо живется, но когда ее спросили: как она представляет себе наше светлое будущее, ответила, что когда все будет, как при Ренке, магазины полны товаров, за границу свободно можно будет ездить… и еще что-то там подобное, я уже и не помню. Уверен, что всех работников радио, имевших отношение к этой передаче, либо уволили, либо посадили в тюрьму, а то и расстреляли… Ради Джаваншира я пошел на такую сделку, что, по сравнению с ней, продать черту душу — это пустяк»…
Мир-Джавад скоро увел «молодых» в спальню. Провожали их со смехом, с сальными шуточками, с гнусными предложениями. Гюли со страхом смотрела на Мир-Джавада. «Неужели положит ее в постель к старику? Потешиться захотел?»
Но Мир-Джавад, никого не стесняясь, разделся догола и залез в постель, приготовленную для «молодых».
— Раздевайся и иди ко мне, — приказал он Гюли. — Или тебе этот старик понравился? Так я встану… Только не уступить ему место, а убить его.
Гюли начала было раздеваться, но застыдилась, покраснела и умоляюще посмотрела на Мир-Джавада.
— Что, этот старый хрен тебе мешает? — изгалялся наглец. — Эй, старый хрен, ты слышал? Мешаешь своей законной жене. А каждое ее слово для тебя — закон. Принеси маленький столик, поставь на него вино, фрукты и исчезни. Рядом есть маленький чулан, ты не забыл его, я думаю, сегодня переночуешь там, чтобы гости думали, что ты спишь в нежных девичьих объятиях… Да, пока не забыл: возьми в моей сумке простыню, забрызганную кровью, через два часа выйдешь к гостям и продемонстрируешь ее со счастливым видом. Задание понял?
Старик мрачно кивнул головой. Мир-Джавад нахмурился.
— Не слышал, повтори!
— Через два часа со счастливым видом выйду к гостям и продемонстрирую символ ее невинности. Если гости не помрут от смеха, то останутся довольны.
— Если кто начнет умирать от смеха, мне доложат, я ему помогу… умереть.
Старый «молодожен» поставил к кровати столик, на него поставил вино и фрукты, достал из сумки Мир-Джавада заранее заготовленную простыню со следами чьей-то невинности и удалился в расположенный рядом со спальней чулан.
Гюли медленно раздевалась, ощущая необычное волнение и новизну. Будучи на пятом месяце беременности, она ни разу, по сути, не познала до сих пор мужчину. Это была ее, по-настоящему, первая брачная ночь. Гюли потушила свет и легла в брачную постель рядом со своим любовником, отцом ее будущего ребенка.
А в это время ее законный муж лежал без сна в чулане и думал о сыне, о тех огромных жертвах, которые он принесет во имя спасения его жизни, выжидая обусловленного срока, когда за ним придут, и он обязан будет разыгрывать комедию, удостоверять чистоту навязанной ему жены, кто женой ему не является, и следовательно, признать себя отцом чужого ребенка, во имя спасения своего…
И вот этот позорный момент настал. Люди Мир-Джавада поднялись за ним и отвели его к гостям. Гости встретили «счастливого молодожена» пьяными, сытыми смешками. Изображая изо всех сил счастье на лице, старик, несчастный муж и отец, развернул простыню и продемонстрировал свежие пятна крови. Раздались приветственные крики, одобрительные возгласы, даже хулиганские выкрики. Но лишь на мгновение опустилась тишина, сосед старика домами ехидно произнес:
— Ты, как святой, можешь творить чудеса. Впрочем, ни один святой еще такого чуда не сотворял, ты — первый.
Каждое его слово было словом его смертного приговора. Утром соседа арестовали, днем судили с группой «заговорщиков», причем все заговорщики охотно его признали за своего, а вечером расстреляли… Если бывают убийственные шутки, то эта была самоубийственной.
Мир-Джавад стал демонстрировать свое всесилие.
Незаметно пролетели зима и весна. Муж Гюли по ее требованию переписал на нее свой дом и все имущество и жил в своем доме теперь как квартирант. Вдова жалела его и ухаживала за ним, кормила, стирала белье, а Гюли не обращала на него никакого внимания, словно его и не существовало. Человек так уж устроен: любит тех, кому делает добро, и ненавидит тех, кого обидел или причинил зло, вольно или невольно. Шофер влюбленно ухаживал за Гюли, стараясь ей во всем угодить, ловил каждый ее взгляд, а его жена тихо ревновала к своей дочери, молчала, но следила за каждым их шагом.
Летом мать Гюли родила девочку, а Гюли мальчика. Ее первые роды прошли тяжело, и Гюли предстояло пробыть в роддоме для избранных не менее месяца. Мир-Джавад навещал ее, но не ежедневно.
— Начальник не может проявлять к своей подчиненной повышенного интереса, — так он успокаивал ее.
На самом же деле Мир-Джавад охладел к Гюли. Он увлекся одной эстрадной певицей. Женщина оказалась несговорчивая, а Мир-Джаваду было трудно ее арестовать по подозрению в шпионаже и три законных дня предварительного следствия наслаждаться ею. Мир-Джавад почти каждый день приезжал в тюрьму навещать молоденьких арестованных. Новенькую переводили в специально оборудованную камеру, где стояла никелированная кровать с мягкой сеткой, в камеру приносили деликатесы и спиртные напитки, и Мир-Джавад три ночи проводил в тюрьме. Насладившись свеженькой, Мир-Джавад выпускал ее на свободу, даже если она на самом деле была шпионкой. Но если девица упрямилась, то ее за руки, за ноги привязывали к спинкам кровати, и Мир-Джавад получал свое, но и том случае после него выстраивалась очередь стражников, все, кто был свободен и имел желание, больных венерическими болезнями ставили в конец очереди, и бедная жертва против своей воли обслуживала всех. Иногда слабые жертвы испускали дух под очередным потным и вонючим телом. Если скандал не удавалось замять, то стражники бросали жребий, и того, кому он выпадал, «с позором» изгоняли с работы. Наверх отсылался рапорт о принятых жестких мерах, а Мир-Джавад пристраивал неудачника где-нибудь в районе.
Но Нигяр, так звали певицу, принадлежала к тем кругам, куда еще Мир-Джаваду был заказан вход и куда он рвался войти. Может, поэтому Мир-Джавад жаждал ее любви, восхищения, ее привязанности. А эта «неблагодарная» отказывалась его видеть, отсылала обратно дорогие подарки. Но самым обидным для Мир-Джавада оказалось то, что Нигяр была женой Касыма-всезнайки, изводившего его насмешками в школе. Касым работал конферансье, вел концерты своей жены, заполняя паузы между номерами шутками, юмористическими миниатюрами… Жена ему, очевидно, рассказала об ухаживаниях Мир-Джавада, и Касым прошелся по нему с эстрады, не называя имен, но Мир-Джавад все понял, он уже научился понимать с полуслова, а Касыма-всезнайку он всегда понимал. И всегда у него появлялось желание шлепнуть Касыма, как муху, он ненавидел этого наглеца, нахала.
Да руки коротки. Касым был родственником самого Атабека, не ближним, но родственником. И голыми руками его взять было невозможно. Тем более что на всех правительственных концертах Касым говорил правильные слова, только те, что разрешается говорить. Но на правительственных концертах Касым выступал не так часто. А на обычных концертах Касым, как доносили не раз Мир-Джаваду, позволял себе двусмысленности, которые сам же и называл: «кукиш в кармане показывать».
Времена менялись, а Касым так быстро меняться не умел. Ему часто стал сниться странный сон: что у него вырастают крылья и он бросается с утеса, чтобы лететь, лететь далеко, сквозь черноту ночи к горизонту, играющему сполохами зари, но крылья начинают по перышку разлетаться, и какими беспомощными оказываются руки в воздухе, как они бессильны, им не на что опереться, не за что ухватиться, а пропасть бесконечна, и, падая, Касым постепенно растворялся в воздухе, вернее, сливался…
Мир-Джавад решил попытаться уничтожить Касыма, «подловить» его на чем-нибудь. Для этого ему Нужна была квалифицированная помощь. Поэтому он и вызвал к себе известного в городе и по всей стране писателя Эйшена. Писатель, Мир-Джавад это хорошо знал, подрабатывал на эстраде и в цирке, писал скетчи, репризы, скрывшись под псевдонимом Пендыр. Вызов в инквизицию уже вызывал трепет почтения в законопослушных сердцах граждан, для очень многих этот вызов оказывался последним, и домой они больше не возвращались. Поэтому писатель, бледный, как стена, смотрел заискивающе на Мир-Джавада и был готов на все. Мир-Джавад долго занимался списками «заговорщиков», не обращая ни малейшего внимания на Эйшена. Затем он милостиво заметил его.
— Дорогой Эйшен! Вы давно уже тут? Эти секретари ничего не смыслят в посетителях. У них для всех одна мерка. А я заработался, сил нет.
— Ничего, ничего, — залепетал Эйшен, — я подожду, времени у меня много, не на работу.
— Кого мы вызываем к нам, тот о работе уже не думает. Его интересует только своя шкура. Вы понимаете меня, друг?
— Понятно, как не понять, я абсолютно с вами согласен.
— Вы знаете, что ваш родственник арестован?
— Знаю, конечно, но я заявляю, что он мне не родственник и даже не однофамилец. Среди Эйшенов не было еще выродков.
— Крупный заговорщик, э! Клянусь отца, не знаю, как мне быть: он утверждает, что вы, дорогой, наш уважаемый писатель, знали о его заговоре. Нет, не участвовали, я этого не утверждаю, это дело следователя утверждать, но знали.
Эйшен сполз со стула на колени.
— Клянусь отца, не знал, сука буду, один раз и видел этого родственника. Землю есть буду, он обманывает вас, дорогой начальник.
— Может быть, может быть, такие на все способны. Но, к сожалению, не исключено, что прелести острова Бибирь вы все же узнаете.
Эйшен заколотил лбом об пол.
— Умоляю, дорогой Мир-Джавад, спасите, я для вас все что хотите сделаю, хотите, книгу за вас напишу «Гаджу-сан и дети», а вы ее подарите Великому Вождю.
— Подумаем, подумаем… Слушай, ты Касыма знаешь?
— Встречал, но он мои рассказы не читает со сцены, предпочитает писать сам.
— Напиши такой, чтобы прочитал, такой, чтобы можно было его арестовать. «Подставишь» его, я тебя из списков исключу, слово даю. Согласен мне помочь?
— Все сделаю, шеф!.. Есть один рассказ об усах Гаджу-сана.
— Слушай, это не тот, за который автор уже отдыхает на острове?
— Я его предложу Касыму, как свой. Этого рассказа никто не знает.
— Иди, трудись на благо родины своей.
О прелестях острова Бибирь ходили такие страшные слухи, а воображение у писателя было настолько богатым, что Эйшену пришлось пить дома сердечные капли, хотя сердце его было абсолютно здоровым… Вытащив из тайника копию рукописи, за которую автора арестовали не без помощи Эйшена, он перепечатал ее на своей машинке, у Касыма были другие рукописи, и он мог случайно сравнить шрифт. Но позвонить Касыму и лично передать ему рассказ он не решился, боялся выдать себя чем-нибудь. Поэтому он позвонил другу Касыма, эстрадному режиссеру Булову, и попросил того заехать вечером к нему захватить рукопись для Касыма. Булов охотно согласился, у Эйшена всегда был хороший коньяк, стоило только ему намекнуть, что бензин нынче дорог, как Эйшен достал из буфета бутылку «курвуазье» и налил стакан. Булов, медленно, смакуя, выцедил коньяк и, взяв для Касыма рукопись, уехал. По дороге он заехал в клуб подпольных миллионеров, в буфете встретил пару знакомых, выпил за их счет стакан водки, запив стаканом сухого вина, затем его уговорили приятели подвести их в ресторан на встречу с ветеранами боев в горах Серры, с ветеранами Булов выпил несколько бокалов шампанского, так как ветераны уже не употребляли крепких горячительных напитков. Нагрузившись сверх меры, Булов вспомнил, что он обещал завезти рукопись Касыму.
Руль машины перестал повиноваться Булову, поэтому режиссер решил оставить машину у ресторана и пройтись пешком, благо Касым жил в центре, неподалеку. Но через квартал Булов увидел женщину своей мечты и пошел за ней. Женщина была из профессионалок, надеясь на знакомство, она шла медленно, а Булову казалось, что она несется экспрессом. Шатаясь из стороны в сторону, он упрямо шел за ней, но догнал ее только в районе старого города, когда женщина, убедившись, что хотят с нею познакомиться, просто остановилась. Булов долго кружил вокруг нее, затем долго и нудно совращал женщину, из тех женщин, что на панели зарабатывают свой кусок хлеба с маслом, и был очень горд собою, когда уговорил взять его в дом к себе. Предложил он ей двадцать пять монет, так она ему понравилась. Если бы плату требовала женщина, то ночь приключений обошлась бы Булову всего за пять монет, а двадцать остались бы на знакомого врача-венеролога. Но удовольствие от того, что он может уговорить еще женщину, тоже чего-то стоит, пусть это будет лишние двадцать монет.
Трущобы, они везде — трущобы. В трезвом виде Булов сюда не рискнул бы показаться, но пьяному «море по колено». После длительного блуждания по кривым запутанным переулкам, проходам, через переходящие один в другой дворы, обратно Булов не нашел бы дороги, даже если бы ему пригрозили расстрелом, женщина наконец привела его в свою маленькую, крошечную квартирку, где честно отработала полученную неожиданно завышенную сумму.
Булову приспичило сходить в туалет. Оказалось, что все «удобства» во дворе.
— Во двор выйдешь и пятьдесят метров направо, — охотно объяснила ему женщина.
— А что, если я сбегаю в одних трусах, еще башмаки надену на босу ногу, ничего?
— Кого ты в такой поздний час увидишь здесь, своих знакомых, что ли? Ночь теплая, беги так, конечно, не упади только там. Может, тебя проводить? — побеспокоилась она.
— С ума сошла? — обиделся Булов. — Я трезвый, как стеклышко.
Едва Булов переступил порог дома и оказался во дворе, как свежий ночной воздух сыграл злую шутку с ним: вместо того чтобы отрезвить, одурманил его еще больше. Булов пошел налево, а пройдя в соседний двор, вспомнил, что надо повернуть направо, и повернул направо, долго кружил по дворам, наконец, не найдя туалета и не в силах больше терпеть, он справил нужду перед чьим-то окном, в упор не видя в окне старушку, очевидно, страдала бессонницей, а теперь испуганно крестилась при виде такого бесстыдства странно одетого существа… И теплой осенью далеко за полночь становится холодно, иногда и заморозки случаются. Булов, дрожа, хмель начал покидать его бренное тело, слонялся из двора во двор, из переулка в переулок, но лишь окончательно запутался в дворах, забыл, как выглядит, дом, в котором так тепло его встретили. Чтобы согреться, он стал бегать, разглядывая дома, отыскивая «свой», но переулки неожиданно стали все оканчиваться тупиками, дома угрожающе надвигаться, переулки становились все уже, можно было уже вытянутыми руками дотрагиваться одновременно до противоположных сторон. Булову стало казаться, что дома пытаются его поймать и расплющить в лепешку. Ему уже представилось, что он попал в древний лабиринт, западню, из которого выхода не найти. Потеряв над собою контроль, обезумев, он стал метаться и кричать:
— Ариадна!.. Ариадна!.. Спасите меня!
Звонко звучали его крики в ночной тиши, но к крикам в трущобах и не к таким привыкли. Может, какой-нибудь разбуженный среди ночи обыватель и удивился бы, услышав столь незнакомое имя, но не очень, в трущобах женщины сплошь носили экзотические имена: Роза, Лилия, Гортензия, Травиата, Фиалка… Булову в каждом темном углу стал мерещиться притаившийся Минотавр, ожидающий человеческих жертвоприношений. Булову почему-то не захотелось быть съеденным, и он метался из стороны в сторону, выбивая зубами дробь и лихорадочно соображая, как зовут хотя бы эту женщину, но в голове вертелось лишь: «Ариадна! Ариадна!»
Неожиданно в подворотне вспыхнули два огромных желтых глаза, и что-то, рыча и чихая, двинулось медленно на Булова. Булов, увидев, заорал, как безумный, и бросился бежать по переулку, но уткнулся вновь в стену дома. С ощущением наполовину съеденного Булов обернулся, прощаясь с жизнью, с эстрадой, с женой и с детьми и… запел неожиданно: «…о, радость, жизнь моя!..» Перед ним стояла полицейская машина. Булов стремительно бросился к ней, так, как бросался только в раннем детстве испуганный к маме.
Из машины вышел полицейский.
— Где раздели? — сухо и привычно спросил он.
— Вот это я как раз и хочу у вас узнать! — воскликнул Булов.
— Что, хочешь сказать, что это мы тебя раздели? — угрожающе обиделся полицейский.
— Что вы, я всегда самостоятельно раздеваюсь.
— Тебя по голове случайно не стукнули?
— Нет, я просто заблудился… — Булов замялся. — Вы не знаете, где здесь живет одна шлюха?
— Если бы ты спросил: где здесь живет одна порядочная, я бы смог тебе ответить — вот, здесь, в этом доме, парализованная с детства. А шлюх в этом районе в каждом доме хоть пруд пруди. Тебе какую: молодую, старую, блондинку, брюнетку, рыжую?
— Блондинку! — обрадовался Булов. — На мою первую жену похожа.
— Я с твоей первой женой не спал, со второй тоже, опиши свою первую жену, может, мы по ней твою шлюху найдем.
— Стройная, высокая, молодая, лицо еще такое, интеллигентное, глаза — две синие звезды…
— Ну, забрало, поэт! — рассмеялся полицейский. — Это Кэто, дочь врага народа, смотри, завербует тебя… в шпионы. Садись, отвезем.
Где-то неподалеку послышались пистолетные выстрелы.
— Опять начинается! — возмутился полицейский. — Садись быстрее, говорю, отвезем к синеглазой.
Булов быстро шмыгнул в полицейскую машину, и уже через пару минут, Булов, оказалось, кружил все возле дома Кэто, они были на месте. Полицейский первым поднялся по лестнице и что есть силы забарабанил в дверь. За дверью царила мертвая тишина.
— Кэто, открывай!
Полицейский мощным кулаком, как кувалдой, бил в дверь.
— Заснула она, что ли, чертова шлюха!
Было три часа ночи. Булов стоял за широкими плечами полицейского, дрожал как осиновый лист, проклиная свою любовь к приключениям. Минут десять за дверью не подавали признаков жизни, и все эти десять минут полицейский равномерно бил своим страшным кулаком в дверь. Наконец, за дверью послышался недовольный голос Кэто:
— Другого времени ходить в гости не нашел?
Дверь открылась, испуганная Кэто выглянула в щелочку и, увидев полицейского, завопила:
— Какого черта…
— Открывай, открывай, ведьма!
Кэто распахнула дверь и завопила еще громче:
— Сколько раз тебе говорила, чтобы ты не приходил среди ночи, сутенер проклятый!
— Заткни глотку, я по делу. — Полицейский приоткрыл Булова. — Это твой клиент?
Тут только Кэто разглядела за широкой спиной полицейского дрожащего Булова и захохотала, аж слезы градом покатились из глаз. Полицейский, не обращая на ее смех ровно никакого внимания, втолкнул Булова в комнату и ушел, закрыв за собой дверь. А Кэто все смеялась. Как взглянет на почти голого Булова, так новый взрыв хохота сотрясал ее.
Замерзший Булов бросился стремглав в постель, отогревшись в теплой постели и перестав лязгать зубами, он огляделся и заметил, что его одежда исчезла.
— Э, а где моя одежда? — удивился он.
Кэто еще больше перегнулась от хохота.
— Ой, не могу, умру сейчас…
— Слушай, не умирай, куда ты дела ее? — забеспокоился Булов.
— Я твою одежду сожгла, в печь бросила, все сожгла.
— Ты что, с ума сошла?
— Ты сам виноват. — Кэто перестала смеяться. — Полчаса спустя я пошла тебя искать, думала, может, в яму свалился, там доска сгнила совсем. В уборной тебя не было, в яме тоже, походила, покричала, нигде нет тебя, вернулась домой в тревоге, каждое утро у нас находят хотя бы один труп, а сколько не находят?..
— А причем моя одежда? — удивился Булов.
— Стрелять начали, потом полиция, я не знала, кто приехал, думала, найдут твою одежду и мне каюк, по этапу, прости-прощай мой край родной. Все бросила в печку, так сильно колотили в дверь, что голос я услышала, когда подошла открывать, да и поздно все равно было, я одежду для верности керосином обожгла, чтобы быстрее сгорела.
— В пиджаке рукопись была.
— Была, да сплыла, — обозлилась Кэто. — Ты не знаешь, что такое «большой шмон». Найдут любую мелочь, мне конец, раздуют политическое дело.
Булов затосковал. Жаловаться было бесполезно, да и кому, если полицейского зовут «сутенером».
«Ладно, — подумал он, — скажу, что отдал Касыму рукопись, все равно Касым дерьмовые произведения Эйшена не читает».
Утром Кэто принесла старые брюки и рубашку, одолжила у соседки, и Булов поплелся домой, ежесекундно сверяя дорогу с планом, нарисованным Кэто, чтобы вновь не заблудиться.
«Рукопись я не сожгла. От скуки вытянула ее из кармана пиджака, чтобы просмотреть, и сразу же узнала его подпись. Сколько его рукописей я перепечатала за те два года, шрифт машинки наизусть помню. А начала читать эту рукопись и не могла оторваться: рассказ этот когда-то был написан моим отцом, из-за него он и исчез в просторах острова Бибирь. А тот, кто написал на отца донос, после того как отец прочел ему рукопись, теперь выдает его рассказ за свой, псевдоним Пендыр может обмануть кого угодно, только не меня. Негодяй! Как он обо мне заботился, когда отец бесследно исчез, а я осталась без средств к существованию, ведь все конфисковали, ведь он был другом отца, как же, а все для того, чтобы затащить меня в свою постель. Пятнадцать лет мне тогда было… А через два года я нашла черновик доноса, вариант, без подписи, неоконченный, но шрифт был его машинки… Я чуть не умерла, любила ведь его. Промолчала. А ему подвернулась выгодная жена, и он меня выставил на улицу, коротко бросив: „ты уже большая, работай“!.. А где работать, если от меня все шарахались, как от чумной, если на работу нигде не берут… Вот одна работа для меня нашлась — „панель“. Всех объединяет: и профессионалок и любительниц. Этих любительниц я бы всех разорвала: имеют семью, детей, все то, о чем я мечтаю, как о рае… Что их гонит на панель? Разве они умирали от голода, как я и мне подобные?.. Разве их преследовали, как шелудивых, больных, бездомных собак?.. Вот куда ты послал меня работать!.. Ничего, теперь ты в моих руках. Я уверена, что те, кто услал так далеко отца, сами этого рассказа не читали. Тараканьи усы Гаджу-сана священны, и тот, кто смеется над ними, — святотатец… Но надо выждать. Наши инквизиторы догадаются… Вчера один охранник, в постели они так же болтливы, как и простые смертные, сказал, что ждут приезда большого начальника, самого близкого помощника Гаджу-сана… Инспектировать приедет… А не получится ему передать, подождем, нам некуда торопиться, живи пока, раз можешь».
Мир-Джавад женился. Выгодно было. Да и отказать не посмел.
Вызвал его в свой кабинет Атабек по телефону:
— Заходи, дорогой, подарок тебе приготовил!
Мир-Джавад заторопился к шефу. Волновался Мир-Джавад не напрасно, подарки Атабека многим очень трудно было переварить, и они погибали от несварения желудка. Всякое могло быть, поэтому Мир-Джавад навел необходимые справки по своим, только ему известным каналам. Грозой вроде бы не пахло, во всяком случае, никто ничего не знал.
В кабинете шефа Мир-Джавад увидел молодую красивую девушку. Мир-Джаваду она понравилась, но девушка, мельком взглянув на Мир-Джавада, злобно нахмурилась и отвернулась. Атабек встал из-за стола, пошел навстречу, как к самому долгожданному гостю.
— Рад видеть тебя, дорогой! Великий Гаджу-сан сказал, что он следит за твоей работой и удовлетворен ею. Он тебя помнит… А ты, помни, кому всем обязан… Теперь вернемся к лирике, я тебя для этого и приглашал… Посмотри на эту красавицу! Слушай, ты не представляешь, как долго мне пришлось ее уговаривать. Каждый день по телефону я ей рассказывал о твоей великой любви, как ты мучаешь меня своими разговорами о ней, отсылал ей твои подарки, заказывал по твоей просьбе цветы. Если бы я не любил тебя, как сына, надоело бы мне давно уламывать эту капризную красавицу. Так что ты мой должник! Я удовлетворил твои мольбы: она согласилась стать твоей женой. Теперь можешь звать меня «папой»!.. Давай поцелуемся!
Атабек обнял Мир-Джавада и прослезился. Тот, кто не знал Атабека, при взгляде на эту сцену всерьез мог бы подумать, что перед ним «добрый дядюшка». Мир-Джавад знал. Поэтому он также прослезился в ответ, почтительно поцеловал ему руку.
— Моей благодарности нет границ! Ты — тот свет, который освещает прекрасную дорогу в неповторимое будущее! Тебе я обязан всем и до последнего вздоха я буду помнить об этом.
Атабек подвел Мир-Джавада к капризной и недовольной красавице.
— Дочь моя! Вот тот робкий воздыхатель, что извел меня своими рассказами о своей любви к тебе. Смотри, Меджнун, вот твоя Лейли. Дайте, дети, друг другу руки, соедините их, чтобы идти вместе дорогой счастья и согласия.
Мир-Джавад, ни секунды не раздумывая, протянул руку, стараясь изображать счастье и любовь на лице и в глазах. Девушка встала, секунду посмотрела Мир-Джаваду в глаза и подала вяло свою руку. Но пожатие ее было нежным и теплым. Девушка была выше Мир-Джавада на полголовы, стройная, изящная, с огромными черными глазами, которые так чудесно гармонировали с прекрасными вьющимися черными волосами. Она была красивее Гюли, в ней чувствовался аристократизм. Она была из того круга, куда ранее Мир-Джаваду была заказана дорога. Но вместе с тем что-то злое, надменное и неприятное было впечатано в это ангельское личико.
— Меня действительно зовут Лейла, но я надеюсь, что красивая метафора отца верна только наполовину, и вы — не Меджнун, терпеть не могу безумных, сентиментальных воздыхателей, изображающих из себя Вертера. Вы, конечно, читали «Страдания молодого Вертера»?.. Чушь и бред уже в названии, как будто может быть старый Вертер. Что хочет нам внушить автор не значит, что это есть на самом деле…
Она еще что-то говорила, но Мир-Джавад уже не слушал, отключившись, он думал о своем: очень обрадовался, когда узнал, что Лейла — дочь Атабека.
— Честно говоря, я был уверен, что Атабек решил женить меня на одной из своих любовниц, — признался себе Мир-Джавад. — И отказаться нельзя. А так ничего, выгодно. Породниться с самим Атабеком…
— Ты что, от радости язык проглотил? — засмеялся Атабек.
Мир-Джавад стал срочно изображать смущение. Лейла насмешливо и несколько нагловато смотрела на него в упор.
— Я согласна стать твоей женой, но только при одном условии: каждое мое слово для тебя — закон!.. Ясно?
И глаза ее так яростно сверкнули, что Мир-Джавад поблагодарил аллаха, что его сердце занято Гюли и Нигяр. Влюбиться в это чудовище — страдать всю жизнь, или хотя бы пока любишь. Но он покорно склонил голову.
— Так оно и будет: каждое твое слово для меня — закон!
Атабек хлопнул в ладоши. Тотчас слуги внесли в кабинет черный фрак для жениха и белое, все в кружевах «голланд» и в золотом шитье, платье для невесты. Лейла ушла в комнату отдыха за кабинетом.
— Мулла уже ждет, священник тоже, во дворце брака и семьи все готово. Сначала в мечеть, затем в церковь, жаль католический собор в склад превратили, уже переделали, долго реставрировать. А печати ставить и шампанское пить — это во дворец брака и семьи… Как тебе нравится программа максимум?.. Да, вот тебе золотые часы с двумя бриллиантами. Подарок дочери. Она — символистка, что это значит, я не понял, на всякий случай у медиков интересовался. Говорят, — ничего страшного… Твой подарок, бриллиантовое колье, я уже преподнес невесте. Слушай, откуда у тебя такие деньги, а? Ты же скромный служащий инквизиции, а это колье стоит в десять раз больше, чем ты зарабатываешь за десять лет. Экономишь на спичках?
— Одна тетушка умерла, завещала мне, — робея, Мир-Джавад подыгрывал шефу.
— Слушай, значит у тебя их несколько? Дорогой мой, тогда я спокоен за свою дочь, она ни в чем не будет знать отказа. Правда?
— Не беспокойтесь, шеф, если даже тень неудовольствия окажется на ее лице, то эта тень исчезнет в моих подвалах…
— Все правильно: чистых к чистым, нечистых к нечистым!
Переодеться Мир-Джаваду было минутным делом. Долго ждали Лейлу. Минуты тянулись в полном молчании. Атабек просматривал бумаги, делая из них выписки в толстую книгу в сафьяновом переплете. «Мортиролог». Все про нее знали, но ни один смертный, кроме Атабека, в нее не заглядывал.
Мир-Джавад следил за мухой, по недосмотру слуг чудом пролетевшей в кабинет. Пальцы сами, автоматически достали из кармашка жилета, куда он переложил из своего костюма, нить резинки. Муха лениво изучала огромное помещение, где так сладко пахло, постепенно приближаясь к Мир-Джаваду, возле которого на столике лежала огромная коробка, уже раскрытая, с шоколадными бомбочками с ромом. Мир-Джавад сбил муху над раскрытой коробкой, вытер пальцами по привычке нить резинки, спрятал ее в кармашек жилета и окровавленными пальцами взял из коробки шоколадную бомбочку с ромом и отправил ее в рот. Крошечный глоток рома приятно освежил горло, а шоколад смягчил этот легкий ожог…
Наконец, дверь из комнаты отдыха распахнулась, и вошла Лейла в подвенечном наряде. Мужчины с почтением встали, так красива была и эффектна невеста, хотя у Мир-Джавада мелькнула мысль, что и Гюли в этом дорогом подвенечном платье смотрелась бы не хуже. Подумать-то подумал, но бросился на колени перед Лейлой.
— Богиня, я раб твой недостойный! Смотреть на тебя, как на солнце — слепнешь!
Лейла была очень довольна произведенным впечатлением, умиротворена покорностью Мир-Джавада…
Ни одному мулле не доводилось обручать такую странную пару. «Творю святотатство, аллах! Но ты пойми: если я откажусь, меня в лучшем случае бросят в тюрьму, а то и зарежут, я их знаю. Они оба не верят в тебя, так что весь этот балаган незаконен, да разве им нужен закон? Осквернили святую мечеть, затем поедут в церковь. Храмы и мечети закрывают, устраивают в них склады, а то и вертепы».
Мулла торопливо произвел обряд, скороговоркой прочитал в назидание суру из Корана, но получив деньги, пересчитывал их с наслаждением, такой суммы он не получал и за год.
В церкви обряд обручения длился долго, торжественно. Но затем Лейла расшалилась, стала бегать вокруг аналоя, увлекая за собой Мир-Джавада, отца, священника и прочих присутствующих. Сорвав фату, она размахивала ею и пела на французском непристойную песенку. Священник беззвучно шевелил губами, читая про себя молитву, чтобы его не поразил гнев господень, и был близок к обмороку.
— Шампанского! — закричала Лейла.
Мгновенно принесли ящик шампанского. Древние иконы часто слышали в прошлом звон мечей, свист стрел, ружейные выстрелы, но стрельбу пробками из бутылок слышали впервые. Словно вновь дикие орды ворвались в храм любви и прощения, ввели коней и жгут костры. Но это чадили не костры, а крупные ассигнации. Лейла зажигала их от свеч и бросала в воздух или прилепляла вместо свеч под образа. Пили шампанское, лили его на аналой, кропили им иконы…
Вакханалия продолжалась и во дворце брака и семьи. Сверкая глазами, Лейла бросала хрустальные бокалы в стены, а бутылки из-под шампанского в окна, разбивая стекла. Книгу регистрации брака демонстративно разорвала. Торжественность обряда была сорвана. По знаку Атабека, принесли мгновенно другую книгу, отдельную, в атласном переплете, на мелованной бумаге золотое тиснение. Лейла смирилась, поставила свою подпись, холодно поцеловала Мир-Джавада.
На пиру, за столом Лейла была само смирение. Она смотрела на изобилие, стоявшее на столе, но сама не ела, не пила. Ради такого случая, как свадьба, Атабек велел взять из музея старинный императорский золотой сервиз, подарок эмиру, и гости с благоговением вкушали с этого сервиза, ощущая свою принадлежность к лучшим слоям мирового сообщества.
В постели Мир-Джавад был приятно удивлен, обнаружив, что она девственна. Правда, ее опытность внушала некоторые сомнения, но Мир-Джавад с детства знал, как девочки могут заниматься сексом, оставаясь девственными… Поэтому он с чувством глубокого удовлетворения продемонстрировал простыню со свежими кровавыми пятнами собравшимся гостям, чем вызвал прилив восторга и повод для новых тостов и возлияний.
Больше по привычке, чем из любопытства, Мир-Джавад, когда вышел на службу, запросил данные на свою жену из столичного архива. Данные его ошеломили. В справке перечислялись многочисленные любовные связи Лейлы, но это были пустяки, главное, что повергло в изумление Мир-Джавада, было то, что год назад Лейла официально вышла замуж, зарегистрировав в столице свой брак, причем вышла по великой любви, порвав все свои многочисленные любовные связи.
Мир-Джавад дал задание своему агенту-врачу пройтись по всем клиникам, и уже через день перед Мир-Джавадом стоял перепуганный хирург и умолял пощадить его.
— Если Атабек узнает, мне не миновать острова Бибирь.
— Мертвых не ссылают! — загадочно ответил Мир-Джавад.
Сломленный врач тут же ему все выложил: как он делал операцию Лейле, в результате которой она опять стала девственной. Хирург зачем-то стал рассказывать Мир-Джаваду о сногсшибательном гонораре, но Мир-Джавад прервал его и выгнал из кабинета, заорав на него неожиданно:
— Убирайся, святой херовый, а не то я велю из тебя мальчика сделать!
Обида на Атабека вдруг захлестнула сердце Мир-Джавада. Надо же, был готов жениться на любовнице Атабека, а обман с его дочерью так обидел. Странно устроен мир человека.
Возвращение из свадебного путешествия принесло очередное разочарование: жена ждала ребенка.
— Беременная девственница! — ошеломленно прошептал себе Мир-Джавад. Что может быть смешнее…
Гюли впала в депрессию. Она очень тяжело переживала женитьбу Мир-Джавада. Перед отъездом в свадебное путешествие на Азоры он провел с ней целый день, был нежен и неутомим. Гюли почему-то так и подмывало спросить у него: как, мол, жена по сравнению с ней. Но что-то злобное в лице Мир-Джавада, какое-то разочарование останавливало.
Мир-Джавад уехал, и все стало валиться из рук. А тут еще отчим замучил своим вниманием, последнее время прохода не давал: старался войти в комнату, когда Гюли переодевалась, стоило Гюли забыть завесить окно между туалетом и ванной, как она видела в окне его вытаращенные глаза, пожиравшие ее голое тело. Мать ревновала, срывалась по пустякам. Обстановка дома накалялась, становилась невыносимой. И лишь старый хозяин ходил, ничего не замечая вокруг и никого не замечая, думая лишь о сыне. Последние ночи он стал сниться ему маленьким мальчиком, тянувшимся к нему ручонками и улыбающимся…
Гюли стала пить, а напившись, рыдала, как маленькая, так ей было жаль себя. Первопричиной была ревность к этой новой аристократке, «укравшей» у нее единственного и любимого мужчину, отца ее ненаглядного Иосифа. Соседи ей завидовали, заискивали перед нею, а она себя жалела… Гюли полюбила коньяк, который отправляли одному сакскому вождю. И так им увлеклась, что однажды, напившись, отключилась и заснула в кресле.
Отчим, застав ее в столь удобном для себя состоянии, не преминул воспользоваться таким выгодным случаем. Взял ее на руки, отнес в спальню, торопливо раздел и овладел ею с такой радостью, с какой лишь измученный жаждой путник доползает из пустыни до чистой воды. И пусть Гюли была бесчувственна, она, ничего не соображавшая, дарила все же сказочное наслаждение.
Под утро утомленный шофер заснул. А Гюли проснулась от его мощного храпа. Она долго смотрела мутными глазами на храпевшего рядом отчима, голова от боли раскалывалась, во рту все пересохло, мысли путались. В спальню зашел старик, муж Гюли.
— Закрываться надо! — буркнул он, увидев в ее кровати отчима.
И ушел из комнаты, плюнув себе под ноги. Гюли почувствовала себя убитой, умершей. Она встала с кровати, одела халат и пошла в ванную. Долго, с остервенением скребла себя, словно пыталась отодрать с себя каждое прикосновение наглого отчима, воспользовавшегося ее неисправимым горем. Выйдя из ванной, Гюли выпила крепкого горячего чаю, немного пришла в себя, но в голове продолжало биться: «Все пропало, все пропало, все пропало… Если Мир-Джавад узнает, он выгонит меня тут же к чертовой бабушке… Тогда одна дорога — на панель, да и на панель он ее не пустит, сошлет в такую глухомань, где увидеть нормальное человеческое лицо — уже праздник. Надо немедленно найти выход, немедленно найти»…
Гюли взяла тяжелую, толстую палку на кухне, которой мешали белье в баке при варке, и пошла в спальню. Отчим лежал на спине и, открыв рот, храпел. Гюли нанесла ему несколько ударов палкой по лицу и выбила ему пару зубов прежде, чем он, проснувшись, слетел с постели.
— С ума сошла, дура? Я тебя искалечу, шлюха!
Гюли достала из ящика тумбочки маленький, почти игрушечный пистолетик, никелированный браунинг.
— Пристрелю, пес!
— Дура! — отпрянул от нее испуганный шофер. — Что скажет Мир-Джавад, когда меня здесь голого найдут? Думай прежде.
И, схватив одежду, отчим не спеша пошел из спальни Гюли. Как ни хотелось ей разрядить пистолет ему в голую спину, она не смогла нажать на курок. В первый раз убить человека очень трудно. У порога отчим обернулся.
— Будешь молчать, или я такое придумаю, что век не отмоешься! — произнес он угрожающе и сплюнул кровью.
И выскользнул за дверь. Тут только Гюли вспомнила, что в спальню заходил ее официальный муж, что-то говорил, содержания она вспомнить не могла, но все равно, — это опасный свидетель.
«Отчим будет молчать, — думала Гюли. — А этому какой смысл выгораживать меня?.. Продаст!»
И у нее родилась идея. Страшная идея. Такая рождается лишь от отчаяния или у извращенных людей. Гюли поехала в инквизицию. Она не бросала работу, не потому что не на что было жить, а не могла оставить Мир-Джавада без присмотра. Да и Мир-Джавад не настаивал на этом, ему необходим был преданный человек на таком ответственном месте, как секретарское…
Гюли достала из шкафа прошлогодние списки расстрелянных, нашла самый подходящий, включавший фамилии друзей и знакомых сына ее старого мужа, а значит, он о них мог слышать или даже знать. Разведя водой чернила, чтобы запись вышла блеклой, прошлогодней, Гюли внесла в список и фамилию, имя и отчество сына своего лжемужа. На включенной электроплитке как следует высушила запись. Теперь подделку можно было обнаружить только специальными приборами, более совершенными, чем человеческий глаз. А глаза старика слабы.
Изготовив такое смертоносное, убийственное оружие, Гюли вернулась домой. Она так привыкла считать этот дом своим, что забыла думать о том, что дом принадлежит другому, вернее, принадлежал до недавнего времени, а она его, по существу, украла.
Старик молился, когда Гюли вошла в его комнату.
— Ты можешь хотя бы минуты молитв не осквернять своим присутствием? — злобно закричал на нее старик. — Я тебе запретил появляться в моей комнате.
— Поговорить надо.
Старик злорадно посмотрел на Гюли.
— Боишься, что скажу Мир-Джаваду, как ты ему рога наставляешь? Может, и скажу, а может, и не скажу! Смотря как себя вести будешь!
Гюли улыбнулась.
— Кто тебе поверит, старый сморчок! Тебе тоже было запрещено появляться в моих комнатах.
— О сыне думал, машинально ноги привели, ведь это его комната была.
— Мечтаешь встретиться?
— Это моя единственная надежда.
— На том свете встретитесь, на этом больше не увидитесь.
— Врешь, шлюха, — побелел старик. — Мир-Джавад мне обещал…
— Мало ли чего мужчины обещают, — перебила его, рассмеявшись, Гюли. — Вот, посмотри! Прошлогодние списки нашла, в них твой сын. Он уже давно мертв.
И Гюли швырнула списки старику на стол. Тот дрожащими руками надел очки в серебряной оправе и, медленно шевеля губами, стал читать весь список сначала, отмечая знакомые имена:
— Эри! И ты здесь! Какая светлая голова… Мамед! Тебя-то за что? Ты ведь и мухи не обидишь…
Дойдя до конца списка, старик прошептал фамилию, имя и отчество своего сына, затем повторил их громче и вдруг закричал на весь дом с силой, которую трудно было предположить в этом слабом, тщедушном теле.
— Не-е-т!.. Не-е-т! Он же мне обещал! Я ему все отдал: свою честь, свой дом, богатство… Я такой выкуп дал… А он целый год уже мертвый…
Старик заплакал обиженно, как плачут только маленькие дети, вытирая кулаками глаза.
— Звери!.. Это разве люди? Хуже зверей, звери хорошие… Вот почему он мне снится каждую ночь маленьким: ручонки протягивает и смеется…
Старик завыл. Его страшный вой выплеснулся через открытое окно и всполошил всех окрестных собак, они также страшно завыли в ответ. Гюли побелела от страха, от жалости слезы у нее хлынули ручьем из глаз, но признаться в подлоге было уже некому, старик сошел с ума; стал смеяться радостно и счастливо, протягивать руки видимому только ему маленькому сыну и нежно звать его:
— Иди ко мне, бала, смелей иди, труден только первый шаг, главное, не упасть после первого шага, главное, не упасть…
Старик потянулся вперед и упал, глаза его застыли. Гюли отпрянула от него в ужасе. Старик был мертв. Он и жил одной надеждой, а с ее смертью ему нечего было уже делать на этой земле. Гюли поспешно схватила списки и выбежала из комнаты убитого ею хозяина. У себя в комнате она отрезала аккуратно ножницами совершенный ею подлог, сожгла клочок бумаги, а списки отвезла в инквизицию и положила на место: мало ли, вдруг кто хватится. Впрочем, за все время ее работы секретарем о них никто не спрашивал, никто ими не интересовался…
Мир-Джавад приехал и вышел на работу на следующий же день.
Увидев Гюли, рявкнул:
— Пить начала?.. Отлуплю!
Гюли зарыдала. Вся боль и обида, весь ужас пережитого выплеснулись наружу и затопили комнату. Мир-Джавад отпрянул от этого потока и закрылся в кабинете. Выждав какое-то время, он вызвал Гюли к себе.
— У нас все остается по-старому. Не бесись!.. Не забывай: у нас — сын! Что с тобой случилось?
— Старик умер.
— Знаю, донесли… Все к лучшему. Я так и не придумал: как ему сообщить, что его сын уже год, как мертв…
— И ты об этом знал? — ужаснулась совпадению Гюли.
— Договор был заключен, но помочь его сыну я просто не успел: он убежал с острова, решил переплыть океанский пролив, и его разорвали акулы, их там специально разводят, скармливая им трупы заключенных.
— И ты молчал? — Гюли смотрела на него со страхом.
— Что я, дурак, такую выгоду упускать? Тебе тоже кое-что перепало, для тебя же старался. Да и старик лишний год прожил, на молодой женился, чем плохо?..
— На мне его смерть!
— Выбрось из головы! Одним на земле меньше, одним больше… «Лес рубят — щепки летят»!.. Людей у нас много.
Гюли ушла было из кабинета, но у двери вдруг решилась и сказала:
— Еще! Шофер пристает с гнусными предложениями. Вчера пришлось палкой ему всю морду разбить, чуть не изнасиловал.
— Чуть, или изнасиловал, — криво ухмыльнулся Мир-Джавад, — шучу, не сердись, чуть-чуть не считается. Не беспокойся, я его охлажу.
Гюли вышла из кабинета, а Мир-Джавад достал из стола сильный цейсовский бинокль и стал смотреть в сторону гаража во дворе инквизиции. Группа шоферов, собравшись возле одной из машин, «убивали время», «травили» анекдоты, курили анашу и перемывали косточки своим шефам. Потом все эти разговоры ложились в записи на стол к Мир-Джаваду, иногда из какой-нибудь мелочи можно было раздуть серьезное дело. Шофер Мир-Джавада, сверкая новыми золотыми зубами, вставленными взамен своих, выбитых, с тщательно замазанными синяками на лице смеялся и шутил больше всех. Глаза его скрывали огромные черные очки, что делало его похожим на итальянского мафиози. Мир-Джавад долго смотрел на него, обдумывая, что ему делать с этим негодяем, затем вызвал своего помощника, показал ему в бинокль на шофера, тихо прошептал инструкции. Тот молча слушал и согласно кивал головой.
Мир-Джавад задержался в кабинете до ночи, работы накопилось много за время свадебного путешествия. Шофер покорно ждал, была его смена. Он нервничал, кошки скреблись на его душе.
— Будь проклят тот день и час, когда мне в голову пришла эта шальная мысль овладеть Гюли, — ругал он себя. — Из-за одной сладкой ночи можно угодить на остров Бибирь, вдруг эта дура признается Мир-Джаваду… Да нет, что она, сумасшедшая? Ну, загонят меня на остров, так ей все равно не простит этой ночи со мной, выгонит к чертовой бабушке… А у нее ребенок! Еще скажет, что от меня… Нет, промолчит, уверен, будет молчать. Подожду… Промолчит, значит, боится. Как миленькую, заставлю спать со мной, когда шеф занят, а он теперь будет часто занят по ночам: молодая жена, красивая, не чета этой деревенской девке… Но какое тело, какое тело у нее. Гурия!
Поздно ночью, наконец, Мир-Джавад сел в машину и велел шоферу везти его к Гюли. Машина охраны последовала за ними, Мир-Джавад никого из охраны в свою машину не взял. Шофер, услышав свой адрес, испугался, встревожился, холодный пот заструился по его спине. Ведя машину, как во сне, шофер подъехал к дому, лихорадочно соображая: будет разговор втроем, после которого его отправят по этапу, и это будет лучший вариант, или нет. Остановив машину у входа в дом, шофер быстро выскочил из машины, чтобы услужить Мир-Джаваду и открыть дверцу перед ним.
И тут прозвучали выстрелы из винтовки. Подряд. И нее три пули попали в шофера. Первая пуля его ранила. Он обернулся и посмотрел умоляюще на Мир-Джавада. Тот сидел неподвижно и, улыбаясь, смотрел на него. В глазах Мир-Джавада шофер прочитал свой приговор. И в нем была только смерть. И она тут же прилетела со второй пулей. Так что третья уже была лишней. Охрана выскочила на выстрелы, прочесала тщательно все окрестные дома, но никого из чужих не нашла.
Вдова голосила на похоронах: жаль ей было все равно своего непутевого молодого мужа, отца ее маленькой дочери. А Гюли улыбалась, возможность распоряжаться жизнью и смертью начинала ей нравиться…
Все утренние газеты были полны описания ночного покушения врагов народа на защитника правопорядка. Подробно описывали твердость духа и мужество Мир-Джавада. И превозносили подвиг погибшего шофера: «доблесть солдата, грудью закрывшего своего командира». Шофер был представлен к высокой награде. Его именем был назван туалет на площади освобождения, и Гюли, когда бывала в центре, любила заходить в него, чтобы почтить память… Вдове установили пенсию и дали паек героя. Мать Гюли с маленькой дочерью уехала на родину. Теперь ей было не стыдно туда вернуться…
Арчил, ближайший помощник Гаджу-сана, давненько не был в гостях у Атабека.
— Сколько же лет прошло? — размышлял он, стоя у окна вагона, мимо которого проносилась бесконечная солончаковая степь. — А, это было в тот год, когда я не сумел поймать пастушка. Хитрый мальчик! Как сквозь землю провалился, и за границей не могут найти, не иначе имя сменил. Я и говорю: хитрый мальчик!.. Какая память у Сосуна. Сколько лет прошло, а каждый взгляд помнит. За каждым словом другое слово слышит. Настоящий Великий Вождь!.. С инспекцией пошлет, значит, в чем-то недоволен Атабеком. Выяснить это невозможно, Великий не делится такими мыслями, значит, надо, на всякий случай, найти замену Атабеку. Только кого?.. Кандидатов хоть отбавляй.
Поезд специального назначения мчался, не останавливаясь даже на крупных станциях. И кто же не любит быстрой езды. И расступались другие поезда, и пропускали безропотно этот бронированный, напичканный оружием и головорезами состав. Когда поезд благополучно проходил через какую-нибудь станцию, начальник станции крестился, пусть он и был приверженцем аллаха или Будды…
Вымытый горячей водой с мылом перрон благоухал французскими духами и церковными благовониями. Уже неделю вокруг перрона в радиусе пятисот метров были закрыты все общественные туалеты. На перроне, устланном дорогими персидскими коврами, стояла вся верхушка местной знати во главе с Атабеком. Был выстроен почетный караул из звероподобных индейцев племен чеч-ин и ин-гу. С цветами в руках разучивали в последний раз стихотворное приветствие молоденькие девушки в национальных индейских костюмах. Все пухленькие как на подбор, тип, который любил Арчил, пусть выбирает.
Атабек нервничал, хотя умело скрывал это. Мир-Джавад, преданно глядя ему в глаза, в душе злорадствовал, он тоже понимал, что с инспекцией, да еще Арчила, просто так не приезжают, значит, горит земля под ногами Атабека, бензинчику умело плеснуть бы, но только так, чтобы самому волосы не опалить…
Встретили Арчила как полагается: музыка, цветы, поцелуи, приветственные речи. Повезли на бронированных лимузинах во дворец почетных гостей. В машину к Арчилу сели Атабек и две пухленькие школьницы, на ком остановил свой выбор Арчил, они очень уж ему приглянулись. С дороги отвели Арчила в финскую баню, где его бережно мыли отобранные им школьницы, а потом так же бережно, с любовью их мыл Арчил. Чистенькие и довольные сели за стол откушать, чем бог послал.
Здесь были только избранные из избранных, доверенные из доверенных, но, оглядывая их, Арчил понял, что ни на кого из них в полной мере положиться было нельзя, при первом же удобном случае предадут. Но речи произносились одна дружественней и верноподданней другой. Соловьем заливался Атабек, прославляя мудрость и прочие достоинства Гаджу-сана…
Мир-Джаваду по рангу не должно было выступать, но он волновался больше выступающих, несколько раз он ловил на себе взгляды Арчила, человека номер два, как его льстиво называло окружение Гаджу-сана. И ему было неуютно под этим пристальным взглядом.
Арчил действительно пристально рассматривал Мир-Джавада. Атабек рекомендовал назначить своего новоявленного родственника начальником инквизиции края. Арчил поэтому был против этого назначения. И Ники зудел, настраивая Гаджу-сана против Мир-Джавада и Атабека. Люди Ники раскопали подробности гибели сардара Али, кто-то видел Мир-Джавада с амбалами, чьи отравленные тела нашли у конторки. Прилет личного самолета Атабека тоже не прошел незамеченным, а внезапная смерть пилота наталкивала на грустные сопоставления. Но Гаджу-сан в душе не любил Ники, доброго и простодушного великана, и его обвинения только вызвали повышенный интерес к сыну того человека, кому из-за Гаджу-сана пустили пулю в живот, а затем отрубили голову. Арчил заметил этот повышенный интерес Гаджу-сана и решил взять этого молодого пройдоху в свои руки, тем более что он заметил усмешку Мир-Джавада, взглянувшего на Атабека, столь мгновенную усмешку мог заметить только человек, пристально и внимательно следивший за каждым движением интересующего его лица. Арчил обрадовался, уловив усмешку: значит, Мир-Джавад в душе не очень любил своего шефа и близкого родственника. Что ж, Арчил знал, как превратить маленькую трещинку в глубокую пропасть.
Мир-Джавад был не тот человек, с которым надо было вести сложную дипломатическую игру. Улучив минуту, Арчил шепнул Мир-Джаваду:
— Камрад, проводишь меня до постели!
Мир-Джавад склонил покорно голову, у него перехватило дыхание: либо это сама смерть, либо его пустят в башню избранных, откуда выход был только один: птицей выпорхнуть в окно, но птицей выпорхнуть не значит — птицей полететь, вскрик и короткий полет, твердь земли и мягкий удар, который сознание уже не ощущает…
Казалось бы, должны избегать этой страшной башни, так нет: рвутся туда, толкаются у входа, отпихивают друг друга, локтем стараются дать под дых, подножку подставить или врезать в ухо, ногу отдавить или душу. Дверь настолько узка, что двое не пройдут, вот каждый и старается первым прорваться, лишь бы быть одним из тех, кому поклоняются, лишь бы быть одним из тех, кого боятся, лишь бы быть одним из тех, кому дано право распоряжаться жизнью и смертью, имуществом и карьерой, счастьем или несчастьем тысяч и тысяч людей.
Ах, какой великолепный строй создали, какую новую пирамиду общества построили, что там древние пирамиды Египта и Америки, майи и ацтеки, тысячелетия вашего опыта уложили в десять лет, и еще удалось втиснуть опыт китайских мандаринов и богатый опыт Чингизидов. Огромное историческое наследие, из которого каждый черпает по своему вкусу. Одному нравится шоколад, другому — свиной хрящик. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет»… Идет, куда прикажут, делает то, что ему говорят, мыслит, как все, а все, как один, а один — это Великий Гаджу-сан. Идеальное государство!..
Пусть развратные, загнивающие враги клевещут: полицейское… казарма… террор… Да, террор: каждые десять лет — чистка, каждые пять лет — кампания… Кампания разорения принесла башне огромный доход. Но среди землевладельцев появился новый слой крепких хозяев, у них было продовольствие, были деньги, не было лидера, чтобы открыто заявить о своей силе…
Атабек сам приказал Мир-Джаваду глаз не спускать с гостя, быть все время рядом, не отходить ни на шаг, а о каждом шаге Арчила докладывать ему лично. Мир-Джавад охотно заверил шефа, что постарается так занять и заговорить гостя, что ни один из тайных врагов Атабека не сумеет проникнуть во дворец высоких гостей. А ночью за Арчилом будут следить две пухленькие школьницы, сдавая каждое утро письменный отчет, который им будет засчитан вместо сочинения по родной литературе, Мир-Джаваду. На счастье Атабека, начальник инквизиции края был болен, и у Мир-Джавада были развязаны руки. Люди Мир-Джавада тройным кольцом окружили высокого гостя, муха не пролетит, мух убивал лично Мир-Джавад, ходил по дворцу с ниткой резинки и охотился, час утром, час вечером…
Мир-Джавад лично проводил Арчила в спальню, почтительно поддерживая за локоток, тот был сильно пьян.
— Давай выпьем! — предложил Арчил трезво, как будто и не пил столько только что за столом на пиру. — У меня виска есть, сакский вождь в обмен на коньяк присылает, крепче водки, только вкус специфический, привыкнуть надо.
— Если надо, я готов! — серьезно ответил Мир-Джавад.
— Готов, это — хорошо! — ухмыльнулся Арчил.
Мир-Джавад прямо смотрел в глаза Арчилу, не отводя взгляда, преданно и с серьезной готовностью. Арчил достал из чемодана бутылку виски, открыл ее и разлил по стаканам.
— Тебе со льдом или водой разбавлять будешь?
— Скажу вам честно, дорогой гость, никогда не пил этой виски, не могу знать! — честно признался Мир-Джавад.
— Лед лучше, брось пару кубиков! — посоветовал Арчил и пододвинул чашу с колотым льдом Мир-Джаваду.
Все эти приготовления предвещали долгий разговор. Мир-Джавад был готов к нему, а Арчил не спешил, выжидал чего-то, примеривался, приценивался… Достал плитку швейцарского шоколада, разломил ее на дольки, так радушно угощал Мир-Джавада, что у того стали холодеть ноги.
— Ну, рассказывай! — тихо предложил Арчил.
— О чем изволите знать? — с готовностью согласился Мир-Джавад.
— Как ты убил сардара Али и свидетелей?..
У Мир-Джавада потемнело в глазах и перехватило дыхание. «Смерть, смерть»! — застучало в висках. Он решил пойти ва-банк.
— Вас, партайгеноссе, интересуют, очевидно, детали?
— Не детали. Все!.. Кто поручил… ну, ты и сам все знаешь, — сердито буркнул Арчил, закуривая сигару с золотым кольцом «Гавана».
— Сардар Али провел собственное расследование дел Атабека, и Атабек поручил мне заняться им. Убивать его мы не собирались, просто хотели взять за глотку… Мне это удалось, вы видели фотографии, они подлинные, но сардар Али не сдался, ринулся во дворец эмира. Как вы понимаете, если бы ему удалось передать бумаги через Ники Гаджу-сану, нашему единственному отцу и учителю, Атабеку пришел бы конец, а следовательно, раньше еще и мне. Не мне вам говорить, камрад, но допустить этого было нельзя. Нам, правда, повезло. Ники не было дома. Мы все время следили за сардаром Али и убрали его без шума: сняли рядом номера, а под утро, когда он угомонился и уснул, отомкнули дверь, хлороформ на лицо, чтобы не кричал, и выбросили его через окно во двор. Смерть безболезненная, как во сне.
— Подручных зачем убрал?
— Один из них заглянул в бумаги сардара, все понял, он был не дурак. Вместе с ним пришлось убрать еще троих.
— Разве не двоих? Мы нашли с ним только двоих.
— Пилот личного самолета Атабека еще.
— Этого-то зачем?
— Мы летели втроем туда, обратно я один лечу… Все понял бы, как только прочитал бы в газете, у нас же всеобщая грамотность.
Арчил пристально посмотрел на Мир-Джавада.
— Нас слушают?
— Нет, шеф, я сам убрал всю звукозаписывающую аппаратуру, ждал разговора.
— Тогда слушай внимательно, от твоего ответа зависит мое решение: бумаги те ты уничтожил?
— Что я — сумасшедший?
— Атабек о них знает?
— Нет!
Арчил первый раз улыбнулся.
— Я не ошибся в тебе. Держи их пока наготове, уезжать буду, принесешь в поезд. Можешь сказать Атабеку, что убедил меня в его преданности Гаджу-сану, рассеял все сомнения, разрушил все оговоры и клевету.
— Атабек будет доволен!
— Я думаю!.. Слушай, а как ты относишься к Гаджу-сану? Его многие не любят.
— Слово вождя — мой закон! Его улыбка — награда! Скажет: «убей брата»! — убью.
— Хорошо сказал! Речь мужчины… Скоро проверим тебя: слово — это не дело, а нам нужны люди дела… Ты натолкнул меня на одну замечательную идею… Впрочем, это тебе знать не положено…
…Когда через месяц Мир-Джавад прочтет в газете короткое сообщение, что бывший посол страны в французской столице, изменник, отказавшийся вернуться на родину, там его приговорили к смертной казни, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна своего дома, он вспомнит слова Арчила…
Мир-Джавад внимательно ловил каждый взгляд Арчила, но тот устало откинулся в кресле.
— С делами на сегодня все. Пришли мне этих двух малюток и… остальное.
Мир-Джавад отправился выполнять распоряжение высокого гостя, но у двери был остановлен.
— Подожди!.. Фотографии, которые ты оставил в номере, возьми.
Мир-Джавад вернулся. Арчил протянул ему фотографии, но только Мир-Джавад взялся за них, задержал и, глядя в глаза ему, сказал:
— А оригинал завтра ночью ко мне! Привезти успеешь?
Спокойствие Мир-Джавада удивило его самого.
— Для вас сделаю все невозможное.
Спрятал фотографии и вышел. По его знаку внесли вина и изысканные закуски. За закусками в спальню Арчила последовали две пухленькие девочки.
Мир-Джавад поспешил к Атабеку. По дороге придумал заговор и в члены заговорщиков решил вписать Касыма.
— Все в порядке, шеф! — успокоил он Атабека. — Несколько мерзавцев, в том числе и ваш родственник Касым, ведут себя так, что об этом стало известно в столице Великому. Арчил мне не открыл имена, но я их узнаю. Он мне поверил, что вы здесь ни при чем, все в порядке.
Атабек обрадовался, услышав, что Мир-Джавад так умело отвел грозу, но, услышав о Касыме, поморщился.
— Родственники меня съедят, не могу я тебе разрешить арестовать этого хулигана. Слушай, поведи завтра на концерт Нигяр Арчила, тайком только, никого не предупреждай, если на чем-нибудь поймаете Касыма, бери его, он твой, но чтобы Арчил одобрил, ясно?
— Как прикажете, отец! — тихо и покорно прошептал Мир-Джавад.
Атабек довольно потрепал его по щеке.
Арчил удивился, услышав такое необычное предложение: посетить концерт известной певицы, да еще тайком.
— Зачем, дорогой? Если что-то заслуживает твоего внимания, пошли слугу, пригласи, будешь слушать один, хочешь, заплати, у них ставки маленькие, хочешь, не плати, угости по-царски, а не понравятся, выгони голодными.
— Ходят слухи, уважаемый, что конферансье читает рассказ, в котором неприлично отзывается об усах Гаджу-сана.
— Один такой уже пропал на острове Бибирь за такие неприличные намеки и сравнения. Заболел, и я его лично включил в список на баржу.
— На баржу? — удивился Мир-Джавад. — А, это в переносном смысле?
— В прямом, зачем в переносном? Набиваем больными старую баржу, выводим в открытое море. Небольшой взрыв, баржа тонет.
Мир-Джавад изобразил восхищение, он сразу понял, кто является автором этой экономной идеи.
— Гениально, босс! Ваше высокопревосходительство, такие изобретения достойны премии Нобиля. Высше, э! Ни больниц тебе, ни похоронной команды…
— Почему не взял до сих пор негодяя? — удивился Арчил.
— Родственник жены Атабека.
— Какой по счету?
— Там сложности, ваше мнение развяжет руки Атабеку.
— Я вижу, раскис старый боец, омещанился, погряз в болоте быта, размяк от бабьих слез… Да, ты не забыл? — спросил он неожиданно другим тоном и совсем о другом.
— Ночью будет спать в постели с вами.
Мир-Джавад чуть не рассмеялся от такой нелепой ситуации: можно было, конечно, найти замену Гюли, тем более что лица ее на фотографиях, оставленных в номере сардара Али, не было видно, но Мир-Джавад не хотел рисковать из-за такой «мелочи». Если он женился на беременной девственнице, дочери Атабека, то и Гюли не остановить его продвижения к башне. Правда, она могла заартачиться и не лечь в постель к Арчилу, молодого шофера и то под пули подвела, но Мир-Джавад уже разработал план, основанный на сведениях, как Арчил ведет себя в постели: он набрасывается, как зверь, на лежащую жертву и любит, чтобы жертва лежала покорно и спокойно, не дергалась, а насытившись, поворачивался к ней спиной и тут же засыпал, рано утром вставал и уходил работать в кабинет, забыв о партнерше.
— Все будет в порядке! — повторил он неожиданно твердо и жестко, переступив последнюю черту, отделяющую его от желанной цели, он переступил с ней и черту, отделяющую свет от тьмы. Отныне он был утрачен для добра…
— Хорошо! — неожиданно согласился Арчил. — Подарю тебе эти два часа, но смотри, чтобы улики были.
Мир-Джавад напичкал агентами все прилегающие к театру улицы, но в здание театра запретил заходить им, чтобы не возникло ни малейшего подозрения.
До концерта оставалось часа три, когда Мир-Джавад вспомнил, что Эйшен ему так и не позвонил, чтобы сообщить: взял Касым рукопись или нет, будет ее читать или нет. Мир-Джавад бросился к писателю, один, без охраны.
Писатель, увидев его, помертвел, но старался выглядеть радушным хозяином.
— Какой гость!.. Такой гость — в доме радость! Заходите, дорогой Мир-Джавад…
— Ты почему мне не позвонил: получил Касым рукопись или нет… Ты отнес ему, надеюсь?
— Видите ли, дорогой Мир-Джавад, мне самому было неудобно навязывать свое произведение известному актеру. Я попросил его друга, известного режиссера Булова передать ему мой рассказ. Он и передал.
— Звони, Касыму, поинтересуйся, болван, неужели раньше догадаться не мог. Доверяй, но проверяй!
Эйшен, встревоженный уже не менее Мир-Джавада, лихорадочно набрал номер телефона Касыма. Тот был дома, готовился к концерту.
— Дорогой Касым, извини, что отрываю от дела, ты, наверное, готовишься к концерту, все забываю у тебя спросить, передал тебе мой рассказ Булов?.. Как так, нет! Он мне сказал, что передал, может, ты забыл?
Эйшен с трудом положил трубку и стал что-то несвязно бормотать. Мир-Джавад оплеухами привел его в чувство.
— Не получил рассказа?
Мертвый вид писателя говорил больше его слов. Мир-Джавад ударом в живот сбил Эйшена с ног и достал «вальтер». Эйшен, увидев пистолет, обмочился от страха, зарыдал и бросился в ноги Мир-Джаваду. Мир-Джавад хотел пристрелить его, но в последнюю секунду пришла в голову замечательная идея.
— Пристрелить его я всегда успею, — подумал он. — Надо спасать положение.
Насладившись еще минуту ужасом писателя, он приказал:
— Поднимайся, негодяй. Быстро мыться, переодеваться, а то от тебя мочой разит, как от старого мерина.
Через десять минут Эйшена было не узнать. Когда он вышел из ванной, от него уже пахло французским одеколоном. Еще две минуты ему понадобилось, чтобы одеться в выходной костюм.
— Возьмешь второй экземпляр рассказа, поедешь в театр, — инструктировал его Мир-Джавад. — Любыми средствами ты должен заставить прочитать этот рассказ Касыма именно сегодня. Или завтра ты не увидишь свободы, а то и света.
Эйшен смотрел на него рабски-преданными глазами и был на все согласен.
Охваченный ужасом писатель помчался в театр на такси. В гримерной Касыма не было посторонних, и жена его куда-то вышла. Эйшен смело протянул рукопись рассказа Касыму.
— Просмотри, может, понравится, правда, скажу тебе откровенно, слишком смело, мне так кажется, не то время…
Касым, переодеваясь и гримируясь, стал читать рассказ, и чем больше он вчитывался, тем взволнованней становился.
— Не ожидал от тебя такой гениальной вещи, скажу тебе честно… Ну, почему ты раньше мне не принес, я бы выучил к сегодняшнему концерту, надоели мне одни репризы.
— Булов, негодяй, подвел! Я был занят, попросил его тебе передать, а он… Слушай, у тебя же феноменальная память, выучи его ко второму отделению! — невинно восторгаясь, предложил Эйшен.
— Это идея! — загорелся Касым. — Репризы из второго отделения я перенесу в первое, а рассказ прочту во втором. Решено!
Писатель обнял Касыма и ушел из театра, по дороге дав знать Мир-Джаваду, что все в порядке.
В гримерную вошла жена Касыма, Нигяр.
— Что у тебя делал этот прохвост?.. Опять принес какую-нибудь дешевку?..
— Что ты так его не любишь? Он тобой восхищается, везде так тебя превозносит…
— Лучше бы оставил нас в покое, бездарность!
— Не порти себе настроения перед концертом, радость моя… Кстати, этот, как ты говоришь, «прохвост», принес мне замечательный рассказ. Вот, прочти!
И Касым протянул жене рукопись. Та взяла его с таким недоверием, что Касым рассмеялся. Нигяр внимательно прочла рассказ и растерянно провела рукой по лицу:
— Не может быть!
— Не веришь глазам своим?
— Не верю! Не может такой негодяй написать такой замечательный рассказ… Нет, не верю!
— Я прочту его во втором отделении.
— Ты сошел с ума? Думаешь, не догадаются?
— Народ сегодня в зале хороший, трудящийся класс, если и догадаются, доносить не побегут.
— Касым, я тебя умоляю! Атабек не будет вечно прикрывать тебя.
— Будет! Куда он денется… Да, я «фигу в кармане» показываю! Ну и что? Мир не изменится от этого.
— Это уже не фига, это — пощечина. Тебе ее не простят.
— Они плюют на эти комариные укусы… Вместо того чтобы призывать к восстанию, отделываемся смешками и считаем себя честными, а мы ничем не лучше других…
— Ты считаешь, что предавать или не предавать, это — одно и то же? Доносить или не доносить, убивать или не убивать?..
— Мы все видим, мы все знаем, мы все понимаем. Раз трусливо молвим, то ничем не лучше других. Если мы молчим, другие, глядя на нас, тоже закрывают рты, приспосабливаются. Если желание выжить сильнее, если желание не потерять удобств, комфорта, сытой жизни сильнее, значит, мы — животные, только не хищные, а травоядные. Бараны спокойно смотрят, как режут их брата или сестру. Мы все стали такими жё. Мы потеряли право называться людьми. Нам обещали свободу! Единственная свобода, что у нас осталась, это — свобода выбора: трусливо, покорно молчать или отправиться на муки, да и эту свободу у нас скоро отнимут, все идет к этому. Камень, брошенный с горы, увлекает за собой другие, такие же, не представляющие большой опасности каждый в отдельности, но вместе это — лавина, которая сметает все на своем пути: деревья, дома и людей. И уже покорные будут сметаться этой страшной силой, и уже те камни лавины, что послабее, будут рассыпаться от тяжести пылью, а лавина будет все нарастать, нарастать, пока не потеряет силы в борьбе с собой. Мало быть честным по отношению к себе, надо быть честным по отношению к другим. Это — самое трудное!
У Касыма пересохло от волнения в горле, он налил из графина в стакан воды и жадно, почти двумя глотками, выпил. Нигяр подошла к нему, обняла и прижалась головой к его груди.
— Я люблю тебя!
Касым нежно поцеловал ее.
— Пора начинать концерт… Может, то, что я прочитаю этот рассказ, и будет самым значительным, что я сделал за всю свою жизнь. Я знаю, как его надо читать…
И концерт начался. Нигяр пела так, что у зрителей таяло сердце, а Касым смешил их до слез.
Арчил восхищался концертом. Никем не узнанный, кто мог предположить, что ближайший помощник Великого Гаджу-сана сидит в зале, как простой смертный, без охраны, хотя люди Мир-Джавада держали весь зал под прицелами снайперских винтовок, Арчил вспоминал те далекие времена, когда он был одним из народа, а не одним из тех, кто угнетает его, и наслаждался давно забытым редким ощущением простоты и слияния душ.
И лишь Мир-Джавад ничего не слышал и не видел. Он ждал, как ждет паук муху, весело жужжащую возле самой паутины, наверное, паук молится в ту минуту своим богам, чтобы те на миг ослепили муху и притупили бы у нее чувство опасности. А попавшим в паутину уже не выбраться, не избежать парализующего укуса, стоит лишь натолкнуть муху пролететь чуть дальше…
И бедная муха полетела. Касым, словно забыл все приготовленные репризы, и читал, и говорил все, что накопилось на душе, все, заготовленное для лучших дней, когда разрешат читать и говорить, не подвергаясь за это репрессиям и гонениям… Уже Арчил недовольно поморщился, услышав встреченную громовым смехом реплику Касыма: «Правительство делает вид, что оно платит народу, и дождется, когда народ будет делать вид, что он работает»… Уже Мир-Джавад довольно улыбнулся, услышав, что правительство так рьяно принялось искоренять все законы, принятые во времена Ренка и предшествующих ему палачей и сатрапов, что в запальчивости отменило закон об искоренении в стране рабства. А Касым не унимался, продолжал подготавливать зрителей ко второму отделению, когда он прочтет им столь замечательный рассказ, самое главное, что ему удастся за всю жизнь. В очередной свой выход он заявил, что будет рассказывать самые свежие новости, и стал пускать в зал мыльные пузыри. Зал стонал от смеха…
Наконец, объявили перерыв. Арчил хмуро посмотрел на Мир-Джавада.
— Кацо, если Сосун узнает, что мы допустили этого разбойника читать рассказ, от которого нашего дорогого вождя всех земель трясло три дня в пляске святого Витта, я за твою голову, партайгеноссе, не дам и ржавого фартинга.
— Можно навестить его сейчас, в перерыве. Ставлю пять карат против двух, что перечитывает рассказ.
Арчил согласно кивнул и встал. Тотчас, по знаку Мир-Джавада, охрана проложила путь до гримерной Касыма. Арчил не спеша шел за кулисами, сопровождаемый недоуменными взглядами. Шел один, Мир-Джавад предусмотрительно отстал. У гримерной Касыма Арчил ладонью дал всем знак остаться в коридоре и вошел один в гримерную.
Касым читал рассказ. Нигяр обреченно сидела рядом, устав упрашивать мужа не делать глупости и не «подставлять» себя. Увидев Арчила, она задрожала от страха и онемела. Она сразу узнала ближайшего помощника Гаджу-сана. Но Касым не обратил на вошедшего ни малейшего внимания, решив, очевидно, что это какой-нибудь поклонник жены. Арчил выхватил из рук Касыма рассказ и стал его перелистывать.
— Читать со сцены собрался?
Касым был ошеломлен такой наглостью.
— А вы что, из комиссии по контролю за репертуаром?
— Зачем мне комиссия, я сам — контроль! — тяжело посмотрел на Касыма Арчил. — Ты знаешь, тот, кто написал эти подлые слова, уже мертв. Интересно, перед смертью он гордился, что его произведения переживут века?… Ха-ха-ха-ха-ха… — засмеялся Арчил таким страшным смехом, что люди, знавшие близко Арчила, сходили с ума, если он так смеялся им в лицо.
Касым его не знал.
— Рукописи не горят!.. — тихо сказал, но твердо. И гордо.
Звезды зажглись в его глазах, звезды бессмертия. «Жаль, — мелькнула мысль, — главного не удалось сделать. Значит, Эйшен — провокатор. Значит, он никакой не писатель, он просто „паршивый Худу“, как его звали в детстве»…
Касым встал и вырвал из рук Арчила рассказ.
— Пошел вон, контролер, и передай «паршивому Худу», что он мерзавец.
Арчил привычно кулаком ударил Касыма в живот, а когда тот согнулся от боли пополам, ребром ладони двинул по затылку. Касым упал без сознания.
Нигяр не кричала, только прокусила руку до крови, и она темными каплями стекала на ковер.
Арчил свистнул, как охотники подзывают собак, и в гримерную вбежали два амбала. За ними, усмехаясь, вошел Мир-Джавад и встал скромно в сторонке. Амбалы мгновенно одели на Касыма наручники и за ноги выволокли из гримерной. Арчил подошел к Нигяр.
— Что дрожишь?.. Не бойся, ты очень худая, я не собака, на кости не бросаюсь. Слушай, ты так поешь, как соловей! Э, зачем плохо ешь?.. Или у тебя глисты? Слушай, хочешь, я тебе своего врача пришлю. Хороший дохтур. Будешь толстая, довольная. Вместо своего заморыша, таких мужчин будешь иметь: богатыри, пехлеваны, рыцари… Хорошо поешь. Пой, детка, пой. Услаждай народ…
И Арчил вышел из гримерной, направляясь в зал. Зрители ждали продолжения концерта, хлопали и свистели, свистом высказывая одобрение… Арчил сел на свое кресло и также стал хлопать и свистеть.
Мир-Джавад остался в гримерной вдвоем с Нигяр, смотрел на нее и улыбался. Нигяр трясло, как в лихорадке, а глаза ее смотрели с ужасом на Мир-Джавада. Мир-Джавад, все так же криво ухмыляясь, достал из кармана плоскую серебряную флягу с коньяком, налил в отвинченный от фляги стаканчик и протянул Нигяр.
— Пей! Тебе еще выступать.
Нигяр выпила залпом коньяк, словно надеялась, что там окажется яд.
— Я не могу петь… Вы требуете невозможного… Мне нужно срочно к Атабеку.
— Э, милая, Атабеку своя шкура ближе к телу. Пока мог, прикрывал Касыма, неужели ты думаешь, что он пойдет против Арчила?
— Это ты прислал Худу?
— Я делаю только то, что мне приказывают, не более.
— Ты задумал эту провокацию, я чувствую.
— Думай, чувствуй, как хочешь, но иди, пой. Арчил уже в зале, для него пой, может, помилует Касыма. Посидит он год в тюрьме, смирит гордыню, вернется.
— Какие слова знаешь. Самый тупой в классе не значит — самый тупой в жизни.
Мир-Джавад не слушал ее. Он следил за летевшей к ним мухой, а его пальцы автоматически достали нить резинки из кармана, как только муха оказалась в пределе досягаемости, меткий удар бросил ее к ногам Нигяр. Мир-Джавад удовлетворенно засмеялся. Нигяр подняла убитую муху, положила ее на ладонь. И слезы потоком хлынули из ее глаз. Она смотрела на крошечное тельце, а перед глазами был Касым, лежащий без сознания на ковре гримерной, и рыдания сотрясали ее грудь.
Мир-Джавад ударил Нигяр по руке, и муха отлетела за зеркало.
— Иди, пой!
Нигяр яростно взглянула на него.
— И ты мечтал, чтобы я тебя полюбила? Негодяй!
Мир-Джавад ударил ее по лицу. Не сильно, чисто символически, и так же демонстративно вытер руку платком.
— Запомни: чем лучше ты сейчас споешь, чем больше понравишься Арчилу, тем больше шансов у Касыма остаться в живых.
— Но ведь он не виноват, — вырвалась мольба из уст Нигяр. — Он думал, это — Худу написал.
Мир-Джавад захохотал, старательно подражая Арчилу.
— Худу попал под автомобиль, подтвердить не сможет.
— Когда? — удивилась, бледнея еще больше, Нигяр.
— Не попал, так попадет. Сегодня попадет, или завтра попадет. Свидетеля не будет… Ты ублажи пением Арчила, а меня ты знаешь, чем можно ублажить. И Касым будет жить, скоро вернется.
Нигяр почувствовала, как что-то в ней сломалось.
— Хорошо! Арчилу я спою… А тебя… тебя я ненавижу. Запомни: лучше — хозяин, чем раб.
— К Атабеку ты не прорвешься. Шеф инквизиции болен, и охрана в моих руках. Я сейчас вместо шефа.
— Да… да… — не слушая и думая о чем-то своем, машинально ответила Нигяр. — Я спою, а ты… ты меня скоро вспомнишь!
И она выбежала из гримерной… Мир-Джавад задумался. Он слышал, как зал встретил бурей аплодисментов и криков любимую певицу, слушал ее пение и думал. Ему не понравились слова Нигяр.
— Что она задумала?.. Что имела в виду? — тихо спрашивал он себя, но ответа дать так и не смог…
А Нигяр пела. Так хорошо она не пела никогда в жизни. Словно молила о пощаде Арчила. Зал, покоренный, замирал в тишине и взрывался аплодисментами, одобрительными криками, свистом. И сам Арчил уже ловил себя на мысли: не слишком ли он погорячился, и не отпустить ли ему мужа этой несравненной певицы, предварительно выпоров его розгами.
Мир-Джавад все время, пока ехал до дворца именитых гостей, думал над замыслом Нигяр, но решение не приходило.
Во дворце его уже ждала Гюли, не подозревавшая о своей участи. Стол был накрыт, и Гюли восхищалась его роскошью, удивлялась богатому убранству дворца и тараторила, тараторила без умолку. А Мир-Джавад молчал и даже не слышал Гюли, думая о своем.
После ужина увел ее в спальню, там налил два бокала шампанского, один из них протянул Гюли.
— Выпьем за нашего сына!
— Как в кино! — засияла Гюли, выпила вина и… бокал выпал из ее руки, а она сама мягко опустилась на толстый пышный ковер.
Мир-Джавад раздел Гюли, положил в постель Арчила, затем убрал все лишнее, что могло его выдать, и пошел встречать высокого гостя, все время думая о словах Нигяр.
— Что-то задумала, стерва, — мрачно вздохнул он, — глаз с нее нельзя спускать.
Распоряжение такое он уже отдал и теперь ждал донесений своих агентов. Они «ведут» ее, опекая каждый шаг.
Арчил приехал голодный, разгоряченный пением Нигяр.
— Достал? — жадно спросил он Мир-Джавада.
Тот кивнул в сторону спальни.
— Ждет с нетерпением! — и гнусно улыбнулся.
Арчил сел за стол, утолил голод, глотая почти не разжевывая, вытер жирные губы концом скатерти и побежал в спальню.
Все произошло, как и предвидел Мир-Джавад: Арчил, сняв туфли и штаны, полураздетый, бросился на Гюли и изнасиловал ее, хотя та не могла сопротивляться, а удовлетворив животные потребности, уснул рядом с ней. Рано утром встал и ушел в кабинет, просматривать бумаги, звонить в столицу по секретному телефону. О Гюли же он и не вспомнил.
Когда она проснулась и в ванной увидела свое тело, все в синяках и кровоподтеках, то долго рассматривала их и удивлялась: раньше за Мир-Джавадом такого не замечалось. Странным ей показалось и то, что она сразу сомлела от одного бокала шампанского…
Гюли оделась, с аппетитом позавтракала тем, что осталось от ужина Арчила, старый слуга не получил указаний накормить ее по первому разряду, и уехала на машине, специально ее ожидавшей, домой. Смутную тревогу, что случилось что-то не так, быстро прогнала. Из дому позвонила на работу Мир-Джаваду. Услышав его ласковый голос, сразу успокоилась.
Нигяр после концерта отправилась к подруге детства. Ада преклонялась перед ней и свято хранила все тайны, какие были у Нигяр. У подруги и отвела душу Нигяр. Долго и подробно рассказывала о случившемся, кляла Мир-Джавада и Худу-Эйшена, то вдруг начинала рыдать и проклинать себя, свою красоту, причину бед Касыма.
Подруга отпаивала ее валерьянкой, заваривала в джезве раз за разом кофе и слушала. У нее был талант слушать. Некрасивая, маленькая, она еще не знала мужчин, и они ей представлялись опасными чудовищами.
Всю ночь Нигяр пробыла с ней, а под утро отправилась домой, чтобы собрать вещи и ехать в столицу, выручать Касыма.
Когда Мир-Джаваду доложили об этом, что Нигяр ушла от подруги, он, взяв двух самых жестоких амбалов, навестил подругу Нигяр.
— Выкладывай! — рявкнул он на Аду, едва войдя в комнату. — Все выкладывай: о чем говорили с Нигяр, что она задумала, куда собирается ехать.
Ада молчала. Мир-Джавад кивнул своим головорезам. Те мгновенно сорвали с нее одежды и бросили на кровать. Мир-Джавад нехотя, с брезгливостью изнасиловал ее и отдал на растерзание амбалам. Но подруга сначала молчала, решив принять все муки, но Нигяр не выдавать, а затем потеряла сознание. Тогда Мир-Джавад, злобно усмехнувшись, шепнул пару слов амбалам. Те рассмеялись, схватили жертву и, положив животом на стул, крепко привязали к ножкам стула. Один из амбалов уехал, а второй принес из кухни ведро воды и окатил подругу. Та пришла в сознание. То ли от холодной воды, то ли от шока, ее стала бить сильная нервная дрожь. Мир-Джавад минут двадцать походил по комнате, пострелял мух, затем медленно подошел к Аде и носком сапога за подбородок поднял ее голову вверх.
— Рассказывай! Это только начало, пусть у конца, но ты скажешь все, здоровья, правда, может не остаться, подумай…
Ада молчала, но уже страх мелькал в ее глазах.
Приехал второй амбал. Вместе с ним в комнату вошел проводник с собакой. Огромный пес гордо всех оглядел и замер неподвижно у двери.
— Разверни эту дуру! — приказал Мир-Джавад.
Амбалы поспешно выполнили приказ. Ада с ужасом смотрела на пса, хотя пока не понимала происходящего. Пес равнодушно отвернулся от Ады. Ада тоже отвела взор в сторону.
— Смотри, смотри! Вижу, что понравился. Твой последний любовник, — похлопал подругу Нигяр по заду Мир-Джавад. — А я буду фотографировать, как вы сейчас полюбитесь, а потом разошлю всем твоим родным, друзьям, знакомым… Клянусь отца, не поскуплюсь, пусть разорюсь в пух и в прах.
А пес, словно понимая о чем идет речь, улыбнулся.
И подруга, обезумев, не выдержала, закричала, завыла, да так, что пес отпрянул, прижав испуганно уши. Мир-Джавад подал знак и пса тотчас же вывели.
— Хорошо, скажи только одно: к кому собирается Нигяр? Кто ей может помочь?
Мир-Джавад ласково и нежно поглаживал по спине Аду. Та успокоилась, затихла, только изредка вздрагивала.
— Ну, говори! А то придется опять привести красавца.
— К Гаджу-сану! — тихо прошептала Ада.
— Они разве знакомы?..
— Два года назад Нигяр была в столице. На концерте был Гаджу-сан. Тогда она и получила приглашение стать его любовницей.
— Так это ею увлекся Великий? — разочаровался Мир-Джавад. — Вот видишь, глупышка, твоя страшная тайна всем давно известна, я только имени не знал, а ты столько времени упрямилась. Не хорошо!
Мир-Джавад заторопился к машине, времени оставалось мало.
«Я бы погиб, — думал он по дороге, — не вырвись у Нигяр эта фраза, или продержись эта дурочка часом больше…»
У машины один из амбалов спросил его:
— Что делать с дурнушкой?
— В казарму! — коротко бросил Мир-Джавад.
Жертве был уготован печальный конец: быть распятой на солдатской койке. Да и солдат охраны Мир-Джавад проверял таким вот образом: тех, кто отказывался, — переводили в какую-нибудь глушь, тех, кто возмущался, убивали в «перестрелке с бандитами»…
В инквизиции Мир-Джавад велел доставить из тюрьмы отбывающую наказание известную воровку Бабур-Гани. Даже в серой тюремной одежде она выглядела актрисой, исполняющей роль заключенной.
— Несладко в тюрьме? — посочувствовал Мир-Джавад, улыбаясь.
— Ой, несладко, начальничек, один твой поцелуй скрасит беспросветную тоску, — запела воровка, почувствовав, что фортуна вот-вот ей улыбнется. — Дай ручку, касатик, погадаю.
Мир-Джавад протянул руку Бабур-Гани. Та, бросив опытный взгляд, вдруг побледнела и сравнила со своей рукой.
— Первый раз вижу, чтобы линии жизни были так схожи… И кресты, и островки…
Мир-Джавад внезапно выдернул руку.
— Некогда мне глупостями заниматься. Нужна твоя помощь.
— Все, что скажешь, сделаю.
— Если бы знал, сам сделал… Я дам тебе только объект, а как на него выйти, придумаешь… Сделаешь, получишь свободу и денег.
— С радостью соглашусь.
Нигяр задержалась дома. Вещи она быстро собрала, не гулять ехала, но, увидев фотографию Касыма, разрыдалась, бросилась на кровать выплакаться и не заметила, как уснула. Пусть и недолго спала, да время было упущено…
Выйдя из дома, Нигяр огляделась, но никто за ней не следил в открытую. Откуда ей было знать, что из-за занавески окна дома напротив ее внимательно изучает агент Мир-Джавада и тут же по телефону сообщает, в чем одета Нигяр, что у нее с собой…
Билеты до столицы в кассах продавались свободно, не то было время, чтобы по столицам разъезжать. Нигяр купила купе в международном вагоне целиком, хотелось побыть одной в пути. До отхода поезда оставалось полтора часа, возвращаться домой не хотелось. Нигяр села в зале ожидания на скамейку и закрыла глаза. Она молилась, чтобы Гаджу-сан не забыл ее, это была единственная возможность помочь мужу остаться в живых и на свободе.
— Лучше господин, чем раб! — повторила невольно вслух Нигяр.
— Красивая госпожа, — вдруг услышала рядом с собой Нигяр. — Можно вам оставить на минуту ребенка и вещи, пока я схожу в туалет?
Нигяр открыла глаза и увидела хорошо одетую миловидную интеллигентную женщину со спящим ребенком лет трех-четырех на руках. Нигяр кивнула головой и взяла осторожно у женщины ребенка. Та поспешно скрылась в туалете.
Нигяр никогда не имела детей и теперь, ощутив тяжесть теплого сонного детского тела, она с сожалением подумала, что им с Касымом именно этого не хватало. И опять слезы накатились на глаза…
…Прошло полчаса, а женщина не возвращалась. Нигяр забеспокоилась, не случилось ли чего-нибудь там с нею. Каждая минута ожидания вселяла в нее все большую тревогу, и, когда через двадцать минут мать ребенка не явилась, Нигяр обратилась к стоящему неподалеку полицейскому:
— Господин лейтенант, помогите, пожалуйста!
И она ему все рассказала: как к ней обратилась женщина с просьбой посмотреть за ребенком, как она спустилась в туалет и исчезла, до сих пор не вернулась, а ей нужно на поезд, и она не знает, что делать. Полицейский пристально смотрел на Нигяр, но ей казалось, что он ее не слышит. Она собралась было повторить свой рассказ, как вдруг полицейский взял из ее рук осторожно ребенка.
— Следуйте за мной! — сказал он коротко и пошел.
— А вещи! — воскликнула Нигяр.
Полицейский вернулся, отдал вновь ребенка Нигяр, достал из кармана кожаный ремешок, связал часть вещей, взвалил их на плечо, оставшуюся часть взял в руки.
— Пошли!
Нигяр, баюкая проснувшегося ребенка, пошла за полицейским. Он долго вел ее какими-то запутанными коридорами, закоулками, наконец привел в большую комнату, меблированную, как шикарный номер «люкс» в отеле Хилтон. За столом сидел полковник и разговаривал по телефону. Лейтенант щелкнул каблуками.
— Господин полковник, задержанная доставлена!
Полковник указал Нигяр рукой на стул, продолжая разговаривать по телефону; Нигяр недоуменно взглянула на лейтенанта, ей показалось странным слово «задержанная». Но лицо лейтенанта было тупо-беспристрастным, лицо робота, а не человека, поэтому Нигяр села на стул и стала ждать, когда освободится полковник. Тот изъяснялся на английском сленге, и Нигяр, знавшая язык, изредка ловила знакомые слова, но смысла речи не понимала. Тогда она стала рассматривать барскую обстановку комнаты: мебель карельской березы и красного дерева с бронзовой инкрустацией, вишневого бархата шторы и обивку стульев, подставец с китайским фарфором, старинным серебром и венецианским хрусталем.
«Шикарно живет транспортная полиция, — подумала Нигяр. — Не иначе, грабежи вагонов, что обсуждал весь город, дело ее рук».
Полковник бросил трубку и хмуро посмотрел на Нигяр.
— Такая молодая, такая красивая, неужели не стыдно воровать и грабить?.. — Полковник смотрел глазами убийцы. — А детей воровать — это самое страшное преступление.
— О чем вы говорите? — возмутилась Нигяр. — Зачем мне воровать? Это не мой ребенок, я все объяснила господину лейтенанту.
— И не твои вещи, и не твоя сумка… Ничего у тебя своего нет, а самое главное: совести у тебя нет.
Нигяр сорвалась и накричала на полковника:
— Как вы смеете? Вы прекрасно знаете, кто я такая… А если забыли, то вот мои документы…
Она открыла сумочку и ахнула: сумочка была ее, только на несколько секунд она выпустила сумочку из рук, положила рядом на скамью, когда брала ребенка, но содержимое сумочки было совершенно другим: толстая пачка денег в иностранной валюте, драгоценности.
Лейтенант, незаметно подкравшийся сзади, выхватил сумочку из ер рук и отдал полковнику. Тот вывалил на стол содержимое. Из сумочки, кроме валюты, драгоценностей и обычных женских принадлежностей, пудры, помады, зеркальца, гребешка, выпал паспорт. Полковник раскрыл документ, внимательно сличил фотографию на паспорте с оригиналом:
— Все правильно! Бабур-Гани! Знаменитая международная воровка… Когда я разговаривал по телефону, ты понимала, о чем говорю?
— Только отдельные слова, — тихо прошептала ошеломленная Нигяр.
— Вот, в телеграмме и сказано: знает иностранные языки, умеет принимать любое обличье, великая актриса.
— Да что вы говорите? Опомнитесь! Я — Нигяр! Позвоните Атабеку, он подтвердит.
— Буду я из-за всякой шлюхи беспокоить великого человека. Посмотри на фотографию, зараза!
И полковник швырнул паспорт Нигяр в лицо. Нигяр вскрикнула от неожиданности и от боли, паспорт ребром попал ей в бровь и упал на пол.
— Подними! — грубо рявкнул полковник.
Нигяр, оцепеневшая от ужаса происходящего, покорно, как автомат, подняла с пола паспорт, открыла его трясущимися руками и увидела свою фотографию, ту, которая была у нее в настоящем паспорте.
— Бабур-Гани, — медленно, почти по слогам прочитала Нигяр.
И паспорт выпал из ее рук на стол карельской березы со шлепком, показавшимся ей выстрелом, Нигяр огляделась, словно все, что она видела, было страшным сном, который должен вот-вот кончиться, стоит только проснуться.
— Если фотографии на паспорте недостаточно, могу пригласить твоих коллег, с которыми ты часто сидела по разным тюрьмам… Итак, что мы имеем: валюта, ворованные драгоценности, украденный ребенок и целый чемодан морфия… Полный джентльменский набор. И не надейся, что по совокупке пойдешь. Накрутят полную катушку, лет так на двадцать пять… Ащи! Выйдешь, совсем немного до пенсии останется. Это мне трубить еще целых пятнадцать лет… Да, заболтался я с тобой. Слушай, если ты выведешь нас на банду Гуляма, я тебе обещаю устроить побег, будешь на меня работать, никто тебя, клянусь, и пальцем не тронет… Ну, что молчишь?
Как ни странно, пока полковник говорил, Нигяр, сумела взять себя в руки.
«Пусть отправят в тюрьму, — думала она, — сошлюсь больной и попрошусь к врачу, умолю его позвонить Атабеку, и весь этот кошмар кончится…»
— Язык проглотила? Отвечай!
— Я вас уверяю, это чудовищная ошибка, — быстро заговорила Нигяр. — Я — не та, за которую вы меня принимаете. Женщина, что оставила мне вещи и ребенка, очевидно, та самая, кого вы ищете. Она и сумки наши обменяла, не знаю, правда, нарочно или случайно.
Полковник расхохотался.
— Я — не я, корова — не моя, моя хата с краю, я никого не знаю… Складно врешь, только все напрасно. Есть свидетели, видели тебя, как ты воровала ребенка. Ну, что на это скажешь?
И захихикал так противно и мерзко, что Нигяр чуть не вырвало, такой комок вдруг пошел по горлу, что с трудом удалось его подавить.
— Я не Бабур-Гани, я — Нигяр, — устало повторяла она, чувствуя, что начинает сходить с ума, губы зашептали строки из стихотворения: «…Огромный сумасшедший дом, где сумасшедшие восстали и горсть разумных заковали, назвав безумными притом»…
Полковник прислушался.
— Молишься, что ли?.. Молись, молись, меня не обманешь, меня не проведешь, знаю, какому богу ты молишься: богу наживы, скорее, черту. Ты что, меня за фрайера держишь? Бабур молится! Кому рассказать — смеяться в лицо станет, э! Не будь идиоткой, подпиши протокол, признайся…
Нигяр закрыла лицо руками и закричала:
— А-а-а! Негодяй, ты хочешь, чтобы я сошла с ума? Никогда! Подонок, сколько хочешь говори, что я — Бабур-Гани, день — ночью назови, красное — белым, все равно я буду стоять на своем… Все! Больше говорить с тобой не хочу и отвечать на твои гнусные вопросы не буду. Отправляй в тюрьму!
Она опустила голову и обхватила ее руками.
— Тюрьму заслужить надо! — вдруг услышала она очень знакомый голос, резко повернувшись, увидела стоящего у двери рядом с лейтенантом Мир-Джавада… Нигяр сразу все поняла.
— У-у! Баба болтливая! — простонала она про себя. — Угрожать надо, когда сила в руках, а сила у него… Это — смерть, а то и что похуже, от этого маньяка всего можно ожидать.
— Да, ты не ослышалась, — повторил, улыбаясь, Мир-Джавад. — Тюрьмой обычно пугают, а ты о ней мечтаешь… Конечно, там регистрируют всех. — Мир-Джавад движением руки удалил из комнаты полковника и лейтенанта. — И там выяснят быстро, что ты не Бабур-Гани… Эти остолопы решили тебя сломать, преподнести мне подарок, но я лучше себя знаю… Что так внимательно смотришь? A-а, я в парадной форме… Арчила провожал, он поехал в столицу. А за его спецпоездом ушел тот поезд, которым ты не поехала и никогда, может быть, уже не поедешь… Счастливец Арчил, скоро увидит наше солнце лучезарное — Гаджу-сана, а ты его не увидишь, ясно?
«Ясно! — подумала Нигяр. — До подружки добрался, Ада не выдержала».
Мир-Джавад еще что-то нудно говорил, но Нигяр его не слышала, уши словно ватой заложило, и единственная мысль заполнила все ее существо: «массивная пепельница из хрусталя, копия пепельницы Гаджу-сана, улучить момент, схватить и ударить по голове этого вампира, вурдалака, убить, убить, он столько горя людям принесет, сколько капель черной крови течет в его жилах, а уж там черный поток. Подойди, ну, приблизься же, молю тебя, заклинаю»…
Мир-Джавад действительно проводил только что Арчила, передал ему тайком в купе все взятые у сардара Али бумаги…
Арчил ласково потрепал Мир-Джавада по щеке:
— Надеюсь, все в одном экземпляре? Не ведешь двойную игру?
Мир-Джавад преклонил колено, как в рыцарских романах когда-то клялись вассалы своим сюзеренам в верности:
— Клянусь!
Арчилу это так понравилось, что он достал из ножен большой охотничий нож и лезвием дотронулся до плеча Мир-Джавада.
— Посвящаю в свои рыцари! Через неделю жду во дворце.
И протянул Мир-Джаваду другую руку, которую тот почтительно поцеловал…
Поэтому Мир-Джавад был счастлив и доволен собой: Атабека он провел, а птичка-Нигяр попалась в клетку.
— У тебя только один выход — покориться! — ворковал благодушно он. — Не только себя, Касыма спасешь. Гастроли устрою тебе по всему свету: Париж, Лондон, Берлин, Рим… Правда, в Риме взяли власть плохие люди — фашисты: людей мучают, бросают в тюрьмы, издеваются над ними, вчера нам лекцию читали, но в остальных городах пока спокой…
Нигяр мгновенно схватила пепельницу и нанесла удар по голове неосторожно приблизившемуся и ничего не замечавшему, словно токующий глухарь, Мир-Джаваду. Однако бессонная ночь, переживания, издевательский допрос ослабили ее силы и верность глаза, удар пришелся по касательной и лишь рассек кожу на голове Мир-Джавада. Он привычным, отработанным движением перехватил руку Нигяр, вывернув, выхватил пепельницу, а Нигяр швырнул на пол. На его резкий свист вбежал лейтенант с двумя амбалами и схватили Нигяр. Мир-Джавад жестом указал им на кровать. Лейтенант отрезал от мотка четыре конца веревки, и Нигяр крепко привязали к кровати…
Мир-Джавад достал из буфета бутылку спирта, смочил им носовой платок и продезинфицировал рану.
«Царапина, — подумал он, посмотрев на себя в зеркало, — вот и покорил, индюк надутый, чуть расслабился и „подставил“ себя. Торопилась, дура, отправить меня на тот свет, а поспешность нужна лишь при ловле блох».
Боль немного утихла. Мир-Джавад отпил немного спирта прямо из горла бутылки. Огонь побежал по жилам. Мир-Джавад почувствовал прилив сил и взглядом указал подручным на дверь. Те почти что выбежали из комнаты. Мир-Джавад подошел к Нигяр и долго смотрел на нее.
— Трудно в первый раз убить человека, не так ли?
Нигяр молчала, глядя на потолок. В углу потолка паук свил паутину, и в ней билась муха, а сам хозяин рывками приближался к своей жертве, рванет и смотрит, рванет и смотрит. Вот он прыгнул на нее, муха судорожно дернулась и затихла.
«И я так скоро, — с горечью подумала Нигяр. — В жизни мне не удалось ему отомстить, может, смерть поможет…»
Но до смерти ей было еще далеко.
Мир-Джавад бросил на ковер окровавленный платок, достал из кармана складной нож, раскрыл его и пощекотал кончиком лезвия шею Нигяр.
— Щекотно? — полюбопытствовал.
Нигяр молчала, безучастная ко всему. Мир-Джавад медленно, возбуждая себя, стал разрезать одежду Нигяр: сначала платье, затем комбинацию, лифчик, трусики. Отбросив лохмотья в сторону, он любовался ее обнаженным телом. Стал нежно целовать его, все страстнее, страстнее и овладел Нигяр, не раздеваясь совсем, пачкая сапогами белоснежное белье на постели.
Затем долго лежал на ней, борясь с желанием задушить ее тут же, на месте, чтобы она уже никому не дарила, в том числе и ему, такого блаженства.
Но Нигяр была не из тех, кого можно убрать когда захочешь и о ком никто никогда не спросит. Она звонила в столицу друзьям. Через день, не обнаружив ее в поезде, те поднимут на ноги всех, в том числе Атабека, а может, и Гаджу-сана. С ними шутить опасно. Арчил в таких делах не поможет, и, если Мир-Джавад не собирался закончить свою жизнь в подвалах инквизиции, ему следовало провести игру без единой ошибки…
А Нигяр задыхалась под тяжестью его тела, не делая даже попытки укусить Мир-Джавада, хотя такая возможность была: его плечо больно давило ей на грудь, а голая шея была так близко.
«Вот где твоя Голгофа! Вот где суждено быть распятой и умереть», — думала она и… ошибалась.
Мир-Джавад, вздохнув с сожалением, слез с нее, испачкав штаны, подошел к столу, открыл ключом нижний ящик и достал оттуда шприц и ампулы с морфием.
— На первый раз тебе достаточно одной, а то сразу загнешься, — сказал он с улыбкой, доброй и понимающей. — Я тоже не большой поклонник худых женщин, но у тебя тело, как у пятнадцатилетней. Что значит ни разу не рожать!
Намочив ватку спиртом, Мир-Джавад аккуратно протер руку Нигяр и привычным взмахом вогнал ей в вену иголку…
В Нигяр словно вновь вернулась жизнь. Краски заиграли на мертвенно-бледном челе, заблестели глаза. Нигяр вновь с гневом посмотрела на Мир-Джавада и метко плюнула ему в лицо.
— Негодяй! Подонок! Меня все равно найдут!
— Обязательно найдут, — потрепал ее шутливо за нос Мир-Джавад, — я им сам помогу тебя найти, только где бы ты думала? Думаешь здесь? И не надейся, не здесь, а где, сама догадайся, если ты такая умная.
— Боже, как я тебя ненавижу! Никогда не знала, что так смогу кого-нибудь возненавидеть. Я очень жалею, что не убила тебя.
— Не убила ведь, о чем говорить… Мне-то не о чем жалеть, да и такой возможности больше я тебе не предоставлю. И убивать тебя не стану…
Мир-Джавад торопливо достал другой шприц и влил себе кубик морфия. Рана на голове перестала свербить череп, ему стало так же хорошо, как в детстве, когда не было никаких забот и он целыми днями развлекался охотой на мух. Мир-Джавад вспомнил мать, последний раз он видел ее, когда она приезжала в часть, где он служил в армии. Она все время жаловалась, что сильно болит голова, и Мир-Джавад часто ловил ее блуждающий взгляд. Через полгода она повесилась, и Мир-Джавад так никогда и не узнал причины, побудившей ее к этому. Еще через полгода умерла бабушка, и Мир-Джавад остался совсем один. Тогда его опять пригрел дядя.
…Гяуров был добрый человек, но фантазер. Он считал, что тысячелетний опыт христианства, последователей пророка Мухаммеда или еще больший опыт поклонников Будды в переустройстве человеческой личности не показателен для его партии. Через десять лет, ну, от силы через двадцать, счастливый народ под руководством единственной партии в мире, имеющей право на существование, будет жить в раю. Как будут этому народу завидовать, как будут стремиться влиться в его светлые ряды. И не пройдет и пятидесяти лет, при жизни еще этого поколения знамена свободы будут развеваться над всем миром…
…Исмаил-паша тоже принял живое участие в судьбе сына своей любовницы, особенно, когда юноша взял его за горло, намекнув на совсем иное родство. Дильбер родила дочь, и Мир-Джавад, утверждая, что это дочь Исмаил-паши, отчаянно льстил ему, запугивая заодно гневом жены. Теперь Исмаил-паша угодливо кланялся при встречах, преданным взглядом напоминая, что это он первый помог встать Мир-Джаваду на правильный путь созидания и прогресса…
…После эйфории наступал спад, и Мир-Джавад зверел. Вот и сейчас он подошел к Нигяр и отхлестал ее по щекам.
— Это тебе, шлюха, за твое желание убить меня…
Затем искусал ее тело, понаставил на нем кровоподтеков и синяков, а возбудив себя и овладев ею, хлестал Нигяр по плечам металлической линейкой. Издевался над нею долго, старательно, изощренно. Изойдя, рухнул обессиленно рядом, прижался головой к ее теплому животу и нежно целовал его, ласково шепча:
— Любимая моя, ласковая.
Отдохнув, выпил глоток спирта и сразу злобно закричал на нее:
— А хочешь, еще десять человек на тебя напущу? На всю жизнь насытишься, все равно жить-то осталось мало…
Нигяр молчала, закрыв глаза, и только слезы лились из уголков глаз, смачивая волосы и подушку.
— И не мечтай, и не рассчитывай, я не такой дурак, из-под них ты живой не выберешься… Звери, э! Не поверишь, я сам иногда боюсь их. Как я понимаю дрессировщика: сегодня лижут руки, а завтра могут разорвать. Видишь, с кем приходится работать, а ты говоришь… Конец света, клянусь отца!
Мир-Джавад подошел опять к столу, достал две ампулы морфия. Поискал новый шприц, не найдя, взял старый.
— Так, увеличим дозу… Видишь, для тебя ничего не жалею, я за один день тебе волью свой месячный запас. Морфий лучше спиртного, дольше действует, мягче, а какой кайф ловишь, как только «ширнешься», не правда?
Нигяр молчала. Мир-Джавад тщательно протер спиртом другую руку Нигяр, вонзил в вену шприц и медленно ввел двойную дозу морфия…
Мгновенно исчезли страх, ненависть, боль, обида. Одно блаженство. Весь ужас растаял, куда-то отступил, рассосался, чтобы вернуться с удвоенной силой, как только перестанет действовать наркотик…
А где-то далеко шел поезд к столице, и в нем недолго пустовало одно купе. Сообразительный проводник уже через две станции пустил в вагон двух спекулянтов, едущих в столицу за товаром. Проводник, сверх платы за отдельное купе, взял с них натурой две бутылки коньяка и заперся в служебном купе, с удовольствием подтверждая старую истину, что счастье одного строится на несчастии другого, мир уж так устроен: не могут быть одновременно все счастливы, или все несчастливы одновременно. Может, если планета счастливо избежит столкновения с кометой, все будут счастливы, или мир погрузится в пучину войн и кровопролитий, тогда все будут несчастливы. Так ведь и война: кому — война, а кому — мать родна! Да и мазохистов, и мизантропов тоже хватает, а они все будут несчастливы тем счастливым избавлением от столкновения с кометой…
А в укромной комнате, затерявшейся в бесчисленных закоулках станции, откуда отправился в столицу поезд, над распятой несостоявшейся пассажиркой продолжал издеваться обожавший ее влюбленный Мир-Джавад. Через равные промежутки времени, согласно только ему понятным расчетам, Мир-Джавад вводил Нигяр толику морфия, так что Нигяр не выходила из прострации. Время от времени Мир-Джавад насиловал ее, время от времени поил горьким чаем с лимоном, когда у Нигяр пересыхали губы, и она отчаянно начинала их облизывать таким же почти пересохшим языком.
Мысли у Нигяр уже начинали путаться: потолок неожиданно исчезал, превращаясь в бесконечную синь неба, вырастали крылья, и Нигяр летела навстречу солнцу, долго и упорно, пока крылья не начинали дымиться, тогда Нигяр стрелой падала с высоты в теплые воды самого синего в мире моря и носилась наперегонки с дельфинами, а на берегу, среди пальм, стоял Касым в белом чесучовом костюме и смеялся, глядя на ее шалости. Он всегда смеялся, когда она шалила, даже переходя, сама того не желая, границы дозволенного, или, вернее, принятого, и никогда не злился и не кричал, он ни разу за все время их знакомства, встреч, семейной жизни не повысил голоса на нее. Как он ее любил, она на расстоянии чувствовала волны нежности, идущие от него, его любовь была для нее жизнью, ее любовь была его верой, а надежда сохранить такую огромную любовь никогда не покидала их…
Возвращаться на Голгофу, даже на секунду, с каждым разом становилось все тяжелее, и Нигяр с ужасом думала, что она уже ждет очередного укола, очередной дозы морфия, чтобы улететь в прошедшие года, единственные года, где она чувствовала, что живет, захлебываясь от счастья…
Поезд подходил к перрону центрального вокзала столицы. На перроне, как всегда, толпились встречающие, лихорадочно гадающие: какая нумерация будет у вагонов, с начала или с конца. В середине перрона стояли пожилая женщина с юной дочерью. Они встречали Нигяр, и их радостно возбужденные лица говорили о том, что они встречают любимого и близкого человека…
А Нигяр, одурманенная наркотиками, лежала на грязном топчане прокуренного насквозь опиумом и анашой притона. Ее привезли сюда тайком под утро, хозяин притона платил половину своих доходов Мир-Джаваду и исполнял отдельные «деликатные» поручения.
Мир-Джавад вызвал к себе хозяина притона, дал ему все необходимые инструкции, затем зашел к начальнику инквизиции.
— Шеф, мои люди вышли на след банды Гуляма, он должен быть сегодня в притоне на улице Свободы… Меня вызывают в столицу, вы слышали: готовится новая кампания…
— Слышал, слышал, ты уже руку набил, нетрудно будет.
— Как сказать, контингент опасный.
— Чего опасный?
— Контингент!..
— А!
— Шеф, притон надо брать немедленно, но тихо и незаметно, устроить там засаду, а вечером туда явится Гулям со своими убийцами, будет жарко.
Юсуф, шеф инквизиции, давно уже тяжело болел, операция его спасла бы, но он упорно отказывался ложиться на операцию, пока Гулям на свободе и не ликвидирован, у Юсуфа были личные счеты с этим бандитом: когда-то тот зарезал в драке его младшего брата.
Шеф инквизиции обнял Мир-Джавада.
— Лучшей новости для моего сердца ты не мог бы принести.
— Даже то, что вас переводят в столицу? — пошутил Мир-Джавад, втайне мечтавший об этом, чтобы занять побыстрее его место.
— Я не согласился на перевод, ты это знаешь, хочу умереть здесь, на родине.
— Шеф, ваша жизнь нужна грядущему поколению, вы обязаны ее сохранить, чтобы как можно дольше передавать свой бесценный опыт нам, вашим ученикам и последователям. Каждый мечтает иметь такого наставника.
Мир-Джавад низко, в пояс, поклонился шефу и ушел. Через полчаса он уже летел в столицу…
А к притону подъехали два черных автомобиля. Остановившись за квартал от дома, в огромном подвале которого, там когда-то хранили вино, и был устроен притон-опиемокурильня, инквизиторы вышли из машин и профессионально окружили дом…
Как пловец лежит на берегу, без сил, чудом выплыв из затягивающей глубины моря, темной и беспощадной, так и Нигяр лежала неподвижно, очнувшись от забытья на грязной обшарпанной койке. Она долго не могла понять: где она и что с ней. «Неужели все, что было, это — только страшный сон?» Разламывалась от боли голова, ныло тело, было так плохо и противно, что не хотелось жить. Нигяр приподнялась и осмотрелась, увидев с трудом в полумраке ряды коек, решила, что она попала в больницу.
«Я потеряла сознание на вокзале, меня отвезли в больницу. Какая радость, что все это — бред. Больница — это жизнь или смерть, но не те невыносимые муки, что виделись мне в бреду. Ад на земле, ужас ужасов», — думала она, и умиротворение сошло на ее душу.
— Доктор! — слабым голосом позвала Нигяр, чтобы удостовериться и до конца успокоиться.
К Нигяр подошел хозяин притона, «князь», как его все здесь почтительно называли, и он действительно был в прошлом князем и бежал из своей страны от гнева восставшего народа.
— А, очнулась! — сумрачно бросил он, задыхаясь от тоски и непонятных предчувствий. — На, возьми, потяни.
И князь сунул костяной мундштук кальяна Нигяр в рот. Нигяр послушно потянула в себя дурманящий дым: и сразу поняла, чем пропах спертый воздух, — опиумом. Голова вновь закружилась, огненные круги побежали перед глазами. И опять стало легко и спокойно. И опять Нигяр вернулась в тот ужас, о котором было подумала, что это — сон или бред. Явь, от которой нет спасенья.
Нигяр решительно встала с койки, бросила кальян и, шатаясь, пошла к выходу. Князь с усмешкой посмотрел на ее ватную походку и схватил Нигяр за руку.
— Куда ты, девочка? А кто мне заплатит за двадцать доз и шесть кальянов?..
Нигяр быстро и умоляюще зашептала:
— Ты получишь в десять раз больше, если выведешь меня отсюда или позвонишь Атабеку.
— Я маленький человек, девочка, — усмехнулся хозяин притона. — Мне нельзя звонить Атабеку. Ложись и жди, как наверху решат о твоей участи.
И князь швырнул Нигяр на койку, дал ей кальян, убедившись, что она обреченно курит, ушел, но через несколько секунд вбежал испуганный и разъяренный.
— Облава! — закричал он неожиданно писклявым петушиным голоском. — Линяй, братва!
Большинство лежащих проигнорировало истошный призыв, ввиду полной неподвижности и прострации, но несколько человек, только что явившихся, мучимые страстным желанием кольнуться или покурить, подобострастно бросились к князю. «Спаси, князь!», «Выведи!», «Придумай что-нибудь!», «Нас предали!» — слышались хриплые, обезвоженные голоса. Князь исчез на несколько секунд, а появившись, выкрикнул истерично, дрожа, словно от предчувствия гибели.
— Это конец, ребята! Подземный ход занят, дом окружен!
Испуганным наркоманам нужна была жертва. Один из них заметил сидящую на койке с кальяном в руке Нигяр.
— Новенькая! Это она их навела, бей ее!
Для взрыва достаточно искры. Жаждущему наркотика любой бред начинает казаться правдой. Толпа бросилась к Нигяр, сшибла ее с койки и стала топтать яростно и ожесточенно.
— Помогите! — закричала Нигяр от боли и ужаса.
Князь, незаметно раскрыв нож, всадил его ей в живот, воспользовавшись суматохой и тем, что нападавшие мешали друг другу. Второй раз князю ударить не удалось.
В подвал первым вбежал помощник начальника инквизиции, Арам. Он хорошо знал Нигяр, был ее страстным поклонником. Увидев на полу Нигяр и князя с ножом в руке, он дважды выстрелил князю в спину. Тот удивленно выпрямился, выронил нож, пробормотал «так не договаривались!» — и упал, как бревно, с тем же деревянным стуком и грохотом. Наркоманы в страхе отпрянули от лежащей Нигяр. Вбежавшие инквизиторы надели на них наручники и увели, а те и не думали сопротивляться, безучастно уже глядя на распростертые тела Нигяр и князя…
«Какая боль! Кипяток влили как будто… Мать, помню, рассказывала: женщины иногда так кричат от боли при родах, словно ножом низ живота режут. Вот и я, не рожая, испытала муки родов, не подарив новой жизни, увижу скоро старую смерть. На мне закончится мой род, не хотела рожать, боялась красоту испорчу и Касым меня разлюбит. А Касым молча страдал, но ни разу не сделал даже попытки уговорить меня родить ему ребенка. Касым тоже один в семье… Где он сейчас, любимый: в тюрьме мучается, или уже отправили на этот страшный и холодный остров… Но мы были счастливы. Мы были, и за то спасибо, аллах. Сделай так, чтобы муки нашего поколения не узнали те, кто придут в мир за нами»…
Помощник начальника инквизиции, майор Арам, влил Нигяр, с трудом разжав сцепленные от боли зубы, несколько капель коньяка. Легкий ожог, как ни странно, привел Нигяр на минуту в чувство. Она, как только обрела способность видеть, сразу узнала Арама, своего верного поклонника, и торопливо зашептала, боясь, что не успеет сказать главного:
— Меня убил… Мир-Джавад!.. Верьте мне, Арам, верьте, я в твердом рассудке и ясной памяти!.. И я знаю, что говорю… Это — чудовище!.. Он…
Нигяр умерла, даже не осознавая, что умирает, борясь до последней минуты со злом, как умела…
Засада сорвалась. Выстрелы всполошили не только собак в округе. Верные люди дали знать Гуляму, и он до конца дней своих молился за Нигяр, она спасла ему жизнь.
Юсуф, начальник инквизиции края, узнав о срыве операции, не слушая никаких подробностей, стал бесноваться, кричать, угрожать ослушникам. Резкая боль скрутила его живот, и «скорая помощь» увезла Юсуфа в больницу специального назначения, предназначенную только для самого высокого начальственного состава.
Помощник, вернувшись в инквизицию, понял, что опоздал. Мир-Джавад, как первый заместитель, получил на время болезни начальника инквизиции все бразды правления, и обращаться к нему с заявлением на него самого самоубийственно смешно, глупо и бесполезно. Майор решил обратиться через голову начальства и позвонил прямо к Атабеку, капо ди капо…
— Извините, экселенц, срочное дело, я звоню по просьбе вашей родственницы Нигяр.
— Кто вы такой? — удивился незнакомому голосу Атабек, майор звонил прямо по секретному телефону, связывавшему начальника инквизиции с капо ди капо.
— Помощник начальника инквизиции, майор Арам.
— А какое право ты, майор, имеешь звонить по секретному телефону?
— Исключительные события, экселенц!
— Плевать я хотел на твои исключительные события. Наглец, без разрешения использовать секретную связь. Нигяр просила? Жена государственного преступника? Знать ее не желаю. А тебе я накручу хвост. Все, что хотел мне сказать, доложишь первому заместителю, а уж он мне доложит. И больше мне не звони, а то вылетишь с работы, негодяй.
И Атабек бросил трубку, твердо решив наказать Мир-Джаваду на будущее: ни один посторонний не имеет права даже прикасаться к секретному телефону.
Поистине, если боги хотят наказать человека, они в первую очередь лишают его разума.
Майор Арам был неглупым человеком, и он сразу, как только положил трубку, понял, что погиб: вернется завтра-послезавтра Мир-Джавад, Атабек станет его ругать, что плохо берегут тайну секретного телефона, что всякие майоры звонят, передают глупые просьбы жен государственных преступников, Мир-Джавад отправит ненормального майора в подвал, где он через час от пыток превратится в седого старика, во всем признается и ночью будет расстрелян.
Арам плюнул на секретный телефон, подошел к сейфу, набрал комбинацию цифр, которую он запомнил, что значит тренированная память, когда помогал срочно открывать Юсуфу сейф, потребовались секретные данные, а они лежали в сейфе, а начальник инквизиции был совершенно пьян, как говорится: «не вязал лыка». Майор достал всю валюту и документы, в том числе небольшой список тайных агентов в соседней стране, положил все в небольшой кожаный саквояж, взятый здесь же, в сейфе, пробормотал сквозь зубы: «режьте друг друга, я в ваши игры не играю», спустился в гараж, взял самый мощный «линкольн» и помчался, не заезжая домой, к границе. Через несколько часов майор, воспользовавшись известным ему «окном» на границе, покинул пределы эмирата, а еще через сутки уже плыл на океанском лайнере, направляясь в далекую страну свободы и демократии. Крупная сумма в валюте и драгоценности, которые он неожиданно для себя нашел во втором дне чемодана-саквояжа, гарантировали ему безбедную жизнь, а документы и списки агентов давали слабую надежду на спасение, когда его все же найдут…
Только Атабек бросил трубку телефона и отошел к двери, как раздался опять звонок. Думая, что опять звонит нахальный майор, Атабек вернулся с твердым намерением задать ему головомойку. Но у стола Атабек замер навытяжку. Звонил правительственный белый телефон. Атабек почтительно снял трубку.
— На посту! — торжественно доложил он столице.
— Здравствуй, гном, чем дышишь? — услышал Атабек знакомый акцент.
Звонил Сосун.
— Ваше величество, счастлив и рад вас слышать! — почтительно залепетал Атабек, мгновенно вспотев так, что пот заструился по спине.
О мечте Сосуна воссоздать царство и короноваться знали только самые близкие и преданные помощники.
— Слушай, гном, начинаем кампанию!
— Всегда готов, ваше величество, войска распределены по квадратам, ждут только моего сигнала.
— Труби, гном!.. Да, твой вассал — стоящий человек, помнишь его отца?.. Ну, того, которого шлепнули из-за нас, а потом отрубили голову.
— Его сын — мой зять, ваше величество, как мне его не помнить.
— Тут на тебя кое-что поступило, так твой вассал за тебя горой, он, представляешь, доказал, что ты — святой человек. Я так понял, ты скоро летать будешь, крылья уже растут, или пока только под лопатками чешется?
— Чешется, конечно чешется, ваша правда! — умилялся Атабек.
— А чешется, в баню сходи, девочка пусть спинку потрет, — и Гаджу-сан тихо засмеялся, очень довольный своим остроумием.
— Обязательно последую вашему замечательному совету, мой вождь! — радостно засмеялся Атабек.
Гаджу-сан имел над ним почти сверхъестественную власть, и Атабек боялся его до одури и судорог.
— Может, забрать его у тебя? — прощупывал Атабека Сосун.
— Как велите, ваша милость!
— Ну, ладно, пусть пока лет десять у тебя послужит, опыта наберется, — милостиво разрешил Гаджу-сан, хотя Атабек даже в мыслях не держал перечить ему.
— Спасибо, учитель! — с душевным трепетом пропел Атабек.
Сосун положил трубку, а Атабек еще некоторое время вслушивался в короткие гудки, боясь ошибиться. Наконец, убедившись, что разговор окончен, бережно положил трубку на рычаг, как хрупкую драгоценность, и обессиленно рухнул в кресло, вытирая с лица пот.
— Какой я умный, какой предусмотрительный, — думал он о себе, — как я хорошо разбираюсь в людях: вовремя выдвинул Мир-Джавада, вовремя женил его на дочери… Теперь можно и дальше двигать, а старого бандита, начальника инквизиции Юсуфа убрать… Но этот вопрос только на согласование с Гаджу-саном.
Атабек прошелся по кабинету в лезгинке, аккомпанируя себе голосом: «ах, какой я молодец, как соленый огурец»…
Его дочь, войдя в кабинет, она одна могла войти без доклада, застыла удивленно у двери, настолько неожиданная картина предстала перед ней. Никогда за всю свою жизнь она не видела отца в таком состоянии возбуждения.
— Тебя, случайно, не назначили преемником Гаджу-сана? — спросила она насмешливо, сияя красотой, беременность, как ни странно, совершенно ее не портила.
— Лейла! Думай, что говоришь, — испугался Атабек, устало рухнув в кресло. — Не произноси имя господа всуе.
— О, прости, мой повелитель! Я и забыла: «алла иль алла, и Гаджу-сан пророк его»!
— Между прочим, ты тоже нашего роду-племени, в одной лодке с нами сидишь. Гнезда не пачкай! Что хочешь попроси, все дам. Твой муж — мне — сын!
— А я, стало быть, твоя невестка, а ты мне — свекор?
— Не остри, ты же знаешь, кто ты мне. Говори лучше, что хочешь?
Лейла подошла к отцу вплотную и, глядя неотрывно в глаза, словно гипнотизируя его, тихо, но твердо сказала:
— Хочу, чтобы ты вернул Мирзу из района.
— Ты с ума сошла! Хватит, что я скрыл все твои шашни от мужа, так ты теперь хочешь, чтобы я твоего любовника…
— Он — мой муж, — перебила отца Лейла, — я жду от него ребенка и хочу, чтобы Мирза был близко от меня, если нельзя нам быть с ним вместе.
Атабек вскочил с кресла и забегал по кабинету.
— Сумасшедшая, э! Ты представляешь, что будет, если, о, аллах, не допусти, твой муж узнает?
— А ему все равно. У него есть Гюли.
— «Гюли»! Любовница есть у каждого уважающего себя мужчины, но это не значит, что жена должна позволять себе то же.
— У них, между прочим, сын!
— Ну, и что? У меня, слава богу, ты тоже не одна.
— Свой ребенок на стороне, а чужой — свой законный?
— Не дерзи отцу! — побелел от ярости Атабек, он знал, что Лейла — дочь Арчила, но не знал, что и она знает об этом.
— Я тебя умоляю, — захныкала Лейла, — я не могу без него жить, мне надо хотя бы видеться с ним… Или я во всем признаюсь Мир-Джаваду! — закончила она неожиданно с угрозой.
— Хорошо, хорошо! Только никто не должен об этом знать, даже твоя самая близкая подруга, кстати, она завербована Мир-Джавадом, и каждое твое слово ему известно.
— Не может быть! — побелела Лейла. — А впрочем, может! Спасибо, что предупредил… Да, ты, наверное, еще не знаешь: Нигяр убили в притоне.
— Что? — удивился Атабек. — Сегодня мне был один звонок, сказали, от нее, а я не стал разговаривать. Жалко, хорошая певица была. Честное слово, искренне жаль. Мир-Джавад приедет, поручу ему во всем разобраться.
— Ты лучше волку овечку поручи.
— Не надо, не надо, э! Я тебя прошу! Нельзя так отзываться о своем муже, у вас скоро ребенок будет.
— Это не его ребенок.
— Я тебя умоляю, такой покорный муж тебе достался…
— Мне нужен не покорный, а любимый, — перебила Лейла отца, — впрочем, тебе этого не понять со своим гаремом… Ухожу, ухожу, больше не буду тебя злить, но завтра Мирза должен быть в городе, а я буду молчать, как индийская гробница.
И Лейла, поцеловав Атабека, выбежала, ликуя, из кабинета. Она не знала, что ее отец — Арчил.
— Что это ее понесло в притон? — думал о Нигяр Атабек. — Час от часу не легче: племянник — государственный преступник, его жена — наркоманка… Не на это ли намекал Сосун?..
И Атабек погрузился в раздумья, перебирая всех своих детей и родственников: кто на что способен и от кого какой ожидать выходки.
Нигяр похоронили, и на следующий день прилетел Мир-Джавад. Атабек в первый же день, после теплой торжественной встречи, пожурил зятя, рассказав ему о звонке майора, и велел ему разобраться заодно и с убийством Нигяр в притоне.
Через час уже Мир-Джавад был в инквизиции, и ему подробно доложили о происшествии в притоне. Мир-Джавад мысленно пожалел своего одного из лучших агентов и велел привести к нему майора… Когда ему через полчаса доложили, что майора Арама нигде не могут отыскать: его дома нет, а на службе он второй день не появляется, Мир-Джавад назначил комиссию для расследования преступлений и злоупотреблений по службе майора Арама.
Открыв сейф начальника инквизиции, для чего Мир-Джаваду пришлось срочно ехать в больницу к шефу, нашли его опустошенным. Звонок на границу все расставил по своим местам. Мир-Джавад срочно послал донесение в столицу, что помощник Юсуфа, начальника инквизиции края, оказался предателем, шпионом островов Океании, человеком главаря банды Гуляма: убил ценного агента, спас Гуляма, ограбил кассу инквизиции и сбежал за границу. О чрезвычайном событии доложили самому Гаджу-сану.
— Слушай, гном! — позвонил Гаджу-сан Атабеку. — Старый гангстер потерял нюх, пора списывать его в тираж. Я думаю, тебе это доставит удовольствие.
Под грабеж списали валюты в три раза больше, чем успел прихватить Арам, разницу Мир-Джавад честно поделил между членами комиссии по расследованию, не забыв выделить себе две доли.
Мир-Джавад, не зная об отношениях майора со своей женой, приказал арестовать ее и отправить в казарму охранки. Если бы он знал, какую радость доставил этим своим поступком сбежавшему, то отправил бы ее за границу, искать мужа, и она, несомненно, нашла бы. Ненависть чувствительней любви…
— Что делать с Бабур-Гани? — помощник Мир-Джавада беспомощно смотрел на шефа.
— Если я не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, ты получил четкие и точные указания… Я ждал, что ее не сегодня-завтра найдут, вернее, выловят из залива, все знают, что она любит купаться по ночам голой… Ребята могли бы поиграться с ней перед последним заплывом… Ты что, устал работать?
— Она заявила, что обладает сведениями, исключительно важными для вас, шеф, — не моргнув глазом, выслушал страшное обвинение помощник. — Вам решать, какие интересы для вас выше… Вы же сами меня учили, что ваши интересы для всех нас вопрос жизни и смерти.
Мир-Джавад внимательно всмотрелся в помощника.
«Кажется, я в нем не ошибся», — подумал и сказал:
— Молодец! Если сведения важные, получишь премию. Давай сюда красавицу…
Бабур-Гани вошла в кабинет Мир-Джавада медленно, важно, не выказывая ни малейшего волнения, хотя она сразу поняла, что может проиграть и умереть.
— Говори быстро, что ты хотела мне сообщить, мне некогда.
— Я тебя упрекать не буду в том, что ты приказал меня убить. Ты действуешь примитивно, а мог бы далеко пойти с моей помощью. Зачем тебе моя смерть? Я раскинула на картах, и вышло: наши линии переплетаются настолько, что мы оба возвысимся и оба упадем одновременно. Ты проживешь недолго после моей смерти.
Мир-Джавад рассмеялся, но что-то так сильно защемило сердце, что стало не до смеха.
«Ведьма! — подумал он злобно. — Раньше тебя сожгли бы на костре. Убить ее?.. Ха! А после ждать: сбудется или не сбудется предсказание?.. Действительно, зачем мне ее смерть? Болтать она не будет, баба верткая, все может…»
Бабур-Гани была одного возраста с Мир-Джавадом, молодая красивая женщина. У нее были такие добрые глаза. Но как они преображались при виде денег, золота и драгоценностей, какими жадными, жестокими и беспощадными они могли стать. Бабур-Гани верила в свою звезду и смело смотрела в лицо Мир-Джавада, ожидая его решения.
— Хорошо! — согласился Мир-Джавад после долгого молчания. — Будешь у меня работать. Дам тебе большой особняк в тихом переулке, поработаешь педагогом.
Бабур-Гани расхохоталась.
— Я могу научить только воровать.
— Переквалифицируешься, будешь учить маленьких девочек любви.
— Тяжелая и опасная профессия! — нахмурилась Бабур-Гани.
— У меня тоже тяжелая и опасная профессия. «Наши линии переплетаются» — твои слова. Не бойся, ты будешь хорошим педагогом.
— И у меня нет другого выбора… Прощай, свобода!
— «Свобода — осознанная необходимость»!.. В столице прослушал краткосрочные курсы ответственных работников инквизиции. Так что у тебя неосознанное влечение к свободе. Какая свобода в тюрьме? И ты правильно понимаешь, что у тебя нет другого выбора. Начнешь с сиротских приютов, а скоро я обещаю тебе товар бесчисленный: и девочек, и мальчиков.
— И мальчиков тоже?
— Не строй из себя целомудренную святошу.
— Цену набить надо!
— Смотря какой товар предложишь, можешь в золоте купаться.
— Что за клиентура?
— Не ниже замминистра, начальника управления, директора синдикатов.
— Другое дело. Честно говоря, я подумала, что агентурная сеть.
— Одно другому не мешает. Девчонки будут не только спать, но и микрофоны устанавливать, а если надо, то и яд в вино подбрасывать.
— Я работаю с половины.
— Договорились. Только помни, что ты работаешь только на меня. Ясно?
— Яснее ясного!
Особняк был выше всяких похвал. Дворец! Снабжение по высшему классу: еда и вино отменные. Бабур-Гани поняла, что наконец-то вытащила в жизненной лотерее выигрышный билет.
Отрабатывать она умела. В первую очередь Бабур-Гани объездила все сиротские приюты города и районов, отобрала в них всех красивых девочек и мальчиков. Как развращать, ее учить не надо было. Полное безделье, одни развлечения и удовольствия, деликатесы и немного вина. А за удовольствия дети расплачивались своим телом. Причем в развращенном сознании укреплялось убеждение, что это их ублажают… Ну, а потом… «Коготок увяз, всей птичке пропасть»… Потом приходилось и выполнять все, что требовали. Недовольных сажали в карцер, двоих мальчиков, попытавшихся сбежать, казнили на глазах у потрясенных товарищей по несчастью. Побеги прекратились; царило полное повиновение.
Бабур-Гани нашла себя, нашла свое дело и творила вдохновенно. Она разработала целую систему, согласно которой каждая из ее подопечных проходила три круга обучения: в первом круге невинные создания обслуживали крепких мужчин, во втором круге требовался уже немалый опыт, а к третьему кругу обслуживающий персонал подходил, будучи искусницами или искусниками в любви.
Через год Бабур-Гани установила полную монополию на обслуживание верхов. Тех метресс, кто пытался с ней конкурировать, она убирала с помощью Мир-Джавада, или так запугивала, что те отказывались от борьбы с ней и переходили на обслуживание второразрядных чиновников и других представителей власти, купцов, что снижало, естественно, существенно их доходы…
Атабек вызвал к себе Мир-Джавада. После горячей встречи, которую устроил своему зятю тесть, когда тот вернулся из столицы, Мир-Джавад перестал трястись от ожидания встречи с капо ди капо.
— Ты уже знаешь, что готовится выселение крепких хозяев в северные джунгли. Готовь списки.
Мир-Джавад почтительно поклонился и улыбнулся.
— У меня уже все готово, ваше высочество!.. За кого ты меня принимаешь, отец? Как только я услышал краем уха, что затевается, дал команду, и через год все списки были заполнены.
— Проверил?.. Нет ли там невинных? Может, счеты сводят?
— «Лес рубят — щепки летят»!.. Всех не проверишь, отец.
— Там могут быть наши, — поморщился Атабек.
— Аллах отберет наших от не наших!
— Хорошо! Действуй!
И Мир-Джавад стал действовать: все зажиточные хозяева были лишены всех прав, у них отняли землю, дома, хозяйства, а их, вместе с семьями, арестовывали и высылали в пустынные северные джунгли, где непривычные к суровому климату и ослабленные душевной тоской, почти все они поумирали от разных болезней, которые объединяла одна общая беда и несправедливость.
Озлобленные хозяева стали мстить. Полилась кровь. Потоки крови. Кровь рождала кровь.
Это устраивало правительство и развязывало ему руки: репрессии ужесточились, а страдали большей частью невинные, как с той, так и с другой стороны. И железнодорожные составы продолжали выбрасывать из своих теплушек сотни людей на маленьких затерянных в глухих джунглях полустанках. И не было им числа.
Гюли кормила Иосифа, он капризничал, не хотел есть, требовал, чтобы ему рассказали сказку или сплясали перед ним, на худой конец, чтобы спели песенку, а Гюли, сюсюкая, уговаривала своего самого лучшего мальчика на белом свете съесть хоть маленький кусочек.
В дверь позвонили. Служанка ушла на базар, поэтому Гюли пришлось самой открыть дверь. Открыв дверь, она от испуга закричала; перед ней стояла ее мать, но в каком виде: избитая, седая, измученная, в старом драном платье, грязная и уставшая до потери разума. Безумные глаза ее смотрели куда-то мимо, не узнавая собственной дочери.
Гюли охватил ужас, когда она увидела мать.
— Что случилось? Что с тобой сделали? — беспрестанно повторяла Гюли, любовь и жалость к матери разрывали ей сердце.
Теперь никто не дал бы ее матери сорок с небольшим лет, она выглядела на все шестьдесят. Гюли отвела мать в ванную, сама вымыла ее и плакала, глядя на ее тело, все в кровоподтеках и синяках. Мать безучастно смотрела на ее слезы.
Чистая, в новой одежде, которую ей принесла дочь, она села за стол и так жадно, давясь, как будто ее неделю морили голодом, стала есть, что Гюли забеспокоилась, не будет ли ей вредно, после голода, столько много. Но остановить мать у Гюли не хватило духа. Насытившись, мать приобрела способность речи.
— Мне надо поговорить с Мир-Джавадом. Устрой с ним встречу как можно скорей. Пусть остановит это безумие, пока не поздно… О нашествии турок или персов я слышала в школе, а теперь увидела хуже, когда свои ведут себя, как полчища Тимурленга… Меня, старуху, два раза насиловали отрядом, можешь себе представить, что они делали с другими семьями крепких хозяев. Ты помнишь Мариам?
— Помню, через дом жила, такая хорошенькая девочка.
— Она выросла за это время в красавицу. Эти изверги привязали ее к столу и насиловали, кто сколько хотел. Представляешь, голую к столу, даже мальчишки ее насиловали… Все у нас отняли: землю, дома, имущество. В наших домах поселили бездельников, пьяниц, а всех нас увезли в теплушках, в холодных, грязных, на север. По дороге я бежала, прямой путь размыло, повезли через город… Если спросишь, как я бежала, не смогу тебе объяснить… Столько времени живу как во сне… Да, твою сестру убили, задавило машиной. Когда нас распихивали по грузовикам, безумная толпа все сшибала на пути, дочь была у меня на руках, меня сбили с ног, и я выпустила ее из рук, рядом рванул грузовик… Ты никогда не слышала, как хрустят кости твоего ребенка. Ты — счастливая! А я слышала, этот хруст стоит в ушах, сводит меня с ума, не дает спать. Я и живу только для того, чтобы встретиться с Мир-Джавадом, сказать ему, что творят его люди в черных мундирах, эти отряды позорят святое имя инквизиции. Подонки! Надо открыть глаза твоему мужу. Устрой нам встречу.
Гюли устало и покорно вздохнула.
— У него другая жена, это во-первых. Во-вторых, он верит своим людям, как себе, и уничтожит любого, кто попытается ему «открыть» глаза. Выбрось из головы такие мысли, мама. Лучше я поговорю с Мир-Джавадом, и тебя оставят в покое.
— Я вложила все деньги в покупку земли, сама работала день и ночь. Муж тоже не бездельничал…
— Может, хватит тебе мужей? — рассердилась Гюли, вспомнив шофера.
— О чем ты говоришь, дочка? Творится страшное преступление, а ты о своих обидах. Дай мне хоть на десять минут увидеть Мир-Джавада, пусть остановит своих башибузуков.
— Хорошо, успокойся, я постараюсь устроить тебе встречу с Мир-Джавадом. Иди спать.
Гюли, бережно поддерживая мать, проводила ее в свою спальню, где та сразу же уснула, едва успев положить голову на подушку. Гюли смотрела на спящую и лихорадочно соображала, что же ей делать: влияние на Мир-Джавада никогда не было большим, а в последнее время упало почти до нуля, он обеспечивал ее всем необходимым, навещал сына часто, но ненадолго, иногда оставался и ночевать, но прежней страсти как не бывало.
В приемной кабинета Мир-Джавада за секретарским столом сидела молоденькая девчонка. По тому, как она нагло и независимо взглянула на Гюли, можно было понять, что девочка общается с шефом не только по служебным делам.
— Подождите! — нахально улыбнулась она.
Это было неожиданно для Гюли. Раньше она имела право проходить к Мир-Джаваду без доклада. Гюли села у окна. Как ей было все здесь знакомо, сколько раз она приходила сюда и после рождения сына. Но как только Мир-Джавад решил взять эту молоденькую шлюшку, он предложил Гюли оставить работу и посвятить себя целиком и полностью воспитанию сына.
— Женщина должна либо работать, либо рожать и воспитывать! — с апломбом заявил он ей.
С каким наслаждением Гюли выгнала бы эту красивую дрянь и заняла бы ее место, чтобы быть рядом с Мир-Джавадом….
Целый час прождала Гюли, прежде чем ей разрешили войти в кабинет. Ни одного упрека не высказала Гюли, но такая обида была написана на ее лице, что Мир-Джавад поспешил ей навстречу.
— Прости, дорогая, говорил со дворцом эмира. Верховный рвет и мечет, требует скорейшей ликвидации класса крепких хозяев, а у меня людей не хватает, по две смены работают, по четыре, от силы пять часов спят в сутки. Замотались совсем. Врагов не десятки, не сотни, не тысячи даже. Сотни тысяч.
— И все враги? — притворилась непонимающей Гюли. — Все землевладельцы?
— Земля — общественное достояние! — как на трибуне произнес Мир-Джавад. — Одна семья не имеет права ею владеть. Пусть объединяются, берут землю в аренду у государства, орудия производства, платят налоги…
— Налоги они и раньше платили… Что это я? — Гюли провела рукой по лицу. — Слушай, мать арестовали!
— Знаю, она жена одного из главных наших врагов, это мне доложили.
— Но она — моя мать и бабушка твоего сына.
— Свои личные интересы я всегда подчиняю нуждам страны… Я своей жизни не жалею, почему я должен щадить жизни врагов? Третий раз она неудачно выходит замуж, третий раз теряет мужа, бог, Действительно, троицу любит…
— Она не враг, пощади ее, спаси!
— Друзья не сбегают из-под стражи. Ты знаешь, где она? А, что я говорю, если ты здесь, значит, она у тебя.
Мир-Джавад позвонил по внутреннему телефону и послал машину и конвой за матерью Гюли, чтобы арестовать ее. Положив трубку, он вдруг чего-то испугался, позвонил домой Гюли.
— Это кто?.. Мир-Джавад говорит. Позови маму… Мама? Здравствуй, дорогая! Я за тобой послал машину, приезжай, поговорим.
Гюли засияла, услышав эти слова, но Мир-Джавад, положив трубку, озабоченно добавил:
— А то кричать будет, ребенка испугает.
У Гюли ноги стали ватными, она опустилась прямо у двери на ковер и безутешно зарыдала. Мир-Джавад подошел к ней.
— Поплачь, поплачь, это хорошо, сердце у тебя доброе, ты не представляешь, какие жестокосердные дети встречаются, удивляюсь, клянусь отца. В нашей стране так о них заботятся, все для них, все ради их, откуда такие берутся, э, ты не знаешь? Удивляюсь, э!
И Мир-Джавад погладил Гюли по голове, как маленькую…
Атабек сиял, был всем доволен, всеми доволен. Его и жена спросила:
— Ты что так сияешь, как новенький грош?
Атабек за ласковое слово подарил ей маленькую бриллиантовую брошь и нежно поцеловал в щечку. Он только что получил свою «львиную» долю из конфискованного имущества от Мир-Джавада. Но не это его так радовало, Атабек давно уже привык к подношениям и к дележу. Рано утром, когда все нормальные люди еще спят, позвонил Великий Гаджу-сан:
— Гном, держись крепче за что-нибудь тяжелое, можешь за свою голову, а то улетишь от радости, крылья-то выросли небось. Ты занял первое место по ликвидации самых опасных нашему гуманному строю врагов, — класса крепких хозяев. Молодец!
— Служу великому вождю! — радостно гаркнул Атабек.
Ему сразу представилось, как в большом зале дворца эмира старенький Икал вручает ему орден «Мудрой змеи». Заодно подумал и о том, откуда Гаджу-сан вытащил этого старого придурка, по слухам, чуть ли не из тюрьмы, но Атабек прекрасно знал, откуда появился Икал: Гаджу-сан на спор выкрал его из сумасшедшего дома.
Атабек был бодр и весел еще потому, что маленькая плутовка Клари согласилась принять большой подарок… И сегодня ночью…
— Как хорошо, — думал Атабек, поглощая вкусный обед, — быть вождем, пусть и не таким Великим, как Гаджу-сан, наш бог и учитель.
В разгар обеда пришел Мир-Джавад.
— Мне передали твой приказ, отец!
— Ащи, какой приказ? Ты что, с луны свалился?.. Приглашение, э! Понятно? Приглашение… Садись, ешь, пей, отдыхай, одним словом. Дело не уйдет. Уходит от нас только время, а с ним молодость, здоровье, а затем и желания… Самое страшное, когда уходит желание.
— Мое желание — благо страны!
— Хорошо говорить стал. Как вспомню, что всего несколько лет назад ты путал значения слов, приятно на душе становится: еще одного хорошего человека вырастил, благодарного к тому же.
Мир-Джавад слушал хвалу без угрызения совести, с каменным лицом, даже маленькое раскаяние не шевельнулось в душе. Может, за неимением души?
— Я твой должник, отец! Вечный должник!
— Это мне нравится. Твое уважение искреннее, радует.
Атабек движением пухлой маленькой руки выслал из комнаты слуг, затем спокойно сказал оставшейся жене:
— Тебе что, отдельное приглашение требуется?
Жена обиженно поджала губы, но беспрекословно встала и вышла из столовой. Мужчины остались вдвоем.
Мир-Джавад смотрел, ожидая, на Атабека. Тот смотрел на Мир-Джавада, оценивая. Долго смотрел и молчал. Наконец, медленно выговаривая каждое слово, сказал:
— Если выздоровеет начальник инквизиции, ты опять станешь заместителем и даже не первым, кампания завершается. А когда умрет сам Юсуф, один аллах знает, и кого он оставит вместо себя…
— Не должен выздороветь, значит! — хмуро откликнулся Мир-Джавад. — У тебя, отец, есть же среди хирургов друзья.
— Я сам в прошлом хирург.
— Извини, не знал. Так у тебя есть человек, который мог бы нам помочь?
— Я сам буду делать операцию, у меня свои счеты с этим старым гангстером.
— Его охраняют преданные ему, неподкупные люди.
— Твоя забота, придумай, как их заменить своими верными и неподкупными людьми.
— Придумаю, не беспокойся.
Мир-Джавад часто навещал начальника инквизиции в больнице, почти каждый день: приносил фрукты, докладывал о делах, просил совета. Юсуф души не чаял в своем заместителе и подумывал о том, чтобы оставить его на своем месте, после того как уйдет на пенсию. Кое-что о его денежных махинациях и многочисленных любовных связях он знал, но считал, что верность их общему делу, твердость в идеалах все искупает, да и сам он был далеко не святой. А в Мир-Джавада он верил.
В этот день Мир-Джавад пришел озабоченный и возбужденный. От Юсуфа это не укрылось.
— Случилось что-нибудь?
— В урочище Ош банда Гуляма появилась, — вздохнул Мир-Джавад. — Но взять ее трудно, людей не хватает.
Юсуф содрогнулся от ненависти к Гуляму и от боли в желудке.
— Бери всех, я разрешаю.
— Даже вашу личную охрану? — невинно спросил Мир-Джавад.
— В первую очередь! На них можешь положиться: все они верные мне люди и ненавидят Гуляма.
— Но они, как и я, в первую очередь служат вам, поэтому я покорно прошу, чтобы именно вы дали им приказ пойти на дело. Есть сведения, что банда уходит за кордон с большими запасами золота.
— Не дай ей уйти, прошу, как сына! Самое большее, через пять лет я уйду в отставку, и ты единственный кандидат на мое место, скажу тебе по секрету. Но уничтожь банду.
Верную приманку бросил Мир-Джавад, вернее не бывает. Всех людей отдал начальник инквизиции Юсуф из своей личной охраны, даже накричал на второго заместителя, который засомневался в разумности такого решения, и послал его со всеми на охоту за Гулямом. Не только смерть брата была причиной такой ненависти. Гулям до переворота сыграл с приятелем, а начальник инквизиции Юсуф был простым бандитом, скверную шутку: взял себе всю добычу от совместного ограбления банка, а подельщика сдал охранке Ренка. В тюрьме Юсуф и познакомился с Гаджу-саном, примкнул к движению, устроил побег, а после переворота гонялся за Гулямом, но безуспешно. Только тот знал, где находится золото.
Мир-Джавад, как всегда, лично готовил операцию. Он так увлекся этим делом, что последние мухи, нагло летающие возле него, могли безнаказанно садиться даже на стол.
На рассвете, когда осенний туман настолько густой, что в трех метрах ничего не видно, войска инквизиции перекрыли урочище Ош. Часовых сняли издали метатели ножей, каждый день недаром метали на тренировках пятикилограммовые ножи. Застигнутая врасплох банда могла быть уничтожена без единого выстрела.
Но выстрел прозвучал. После долго разбирались: с чьей стороны раздался первый выстрел. Большинство считало, что кто-то из воинов инквизиции не выдержал испытания давящей тишины и нажал на курок, но Мир-Джавад был другого мнения. И в официальные документы вошла его официальная точка зрения.
Перестрелка в тумане была интенсивной, но непродолжительной. Окруженные со всех сторон бандиты сдавались один за другим. Но это была не банда Гуляма. Когда рассеялся туман, подсчитали потери: у бандитов был один человек убит и трое легко раненные, а у войск инквизиции погибли два заместителя Юсуфа, вся его охрана и любимый помощник Мир-Джавада, преданный ему капитан. Этот поплатился за свое любопытство. Еще бой не закончился, а он, проявляя рвение, подбежал к Мир-Джаваду с двумя винтовками, захваченными у бандитов, и поделился открытием:
— Шеф, странно! Оружие у бандитов захвачено, оно вычищено и смазано, непонятно тогда, кто же стреляет?
Мир-Джавад взял обе винтовки, принесенные капитаном, и разрядил обе ему в грудь. В этот же день Мир-Джавад отправил на капитана в столицу наградной лист, представляя его к высшей награде страны посмертно. Он подробно описал бесстрашный подвиг капитана, своего помощника и лучшего друга, закрывшего своей грудью командира от предательских выстрелов в упор. Никто не спросил Мир-Джавада: почему же он не застрелил тех бандитов? Впрочем, ответ был бы один: выстрелили из-за угла и убежали. Все списали бы на туман.
И вновь грандиозная похоронная процессия растянулась на несколько километров, направляясь к аллее почетного захоронения. И вновь звучал оркестр, лились клятвы и прощальные слова, гремели прощальные залпы над свежими могилами…
У Атабека теперь были развязаны руки. Начальника инквизиции теперь охраняли доверенные люди Мир-Джавада. Главный хирург больницы, выполняя распоряжение Атабека, стал уговаривать начальника инквизиции Юсуфа согласиться на операцию желудка.
Начальник инквизиции колебался. Гибель заместителей и охраны потрясла его и насторожила. Правда, смерть одного из ближайших помощников Мир-Джавада вносила смуту и сеяла сомнение в выстроенной схеме: его изолируют, затем убирают.
Мир-Джавад окружил вниманием и заботой семью Юсуфа. Жена, навещая мужа каждый день, не могла нахвалиться такой заботой, расписывая: в каком замечательном особняке они сейчас живут, какую дачу им подарили, какие хорошие должности заняли дочь и сын. Подозрения начальника инквизиции меркли, тускнели и, наконец, рассеялись, словно туман в лучах горячего солнца.
И тогда Юсуфу устроили консилиум из светил отечественной медицины. Из столицы, по распоряжению самого Гаджу-сана, прилетели два академика и три доктора наук. Они профессионально осмотрели больного, изучили снимки, исследовали результаты анализов, мяли живот Юсуфа, просвечивая его рентгеновскими лучами. И все заявили в один голос, что операция, резекция желудка, необходима, возможна и совершенно безопасна. Откуда было знать начальнику инквизиции Юсуфу, что все их профессиональные голоса были на самом деле лишь подголоском одного голоса — Великого Гаджу-сана. Они прекрасно видели, что со своей язвой желудка, имея богатырское здоровье, начальник инквизиции Юсуф мог бы прожить еще двадцать лет без всякой операции, но им была дана четкая инструкция: позаботиться о сохранении здоровья старого борца, соратника Гаджу-сана и его друга, уговорить его лечь на операцию, и они старались, заботились. «Операция настолько пустяшная, что и говорить о ней стыдно». «Надо — значит надо»! «Через неделю вы будете на ногах и забудете о том, что вас когда-то мучили боли». Хор голосов, среди которых Юсуф различал и голос Гаджу-сана, успокоил начальника инквизиции, ему стало стыдно своих страхов, и он подписал свое согласие на операцию. Согласие жены Юсуфа не требовалось, но Мир-Джавад на всякий пожарный случай его тоже выцыганил. Больного стали готовить к операции, пичкать порошками и пилюлями, подавляя страх.
Ночью за ним пришли. Сонного переложили на каталку и повезли по длинным запутанным коридорам. Одно колесико каталки противно повизгивало, начальник инквизиции сквозь дрему тупо слушал это повизгивание, а воображение рисовало ему раскрытые ржавые двери пустых тюрем, заросших травой, лопухами, лебедой, где гулял лишь ветер, скрипя ржавыми воротами и дверями и гоняя пыль.
В огромной операционной, пустой и холодной, было мрачно и темно, как в склепе. Юсуф от холода очнулся от забытья.
— Включите свет, мы не в аду! — приказал начальник инквизиции.
Приказ был исполнен немедленно. Яркий свет разогнал возникшие было вновь страхи у Юсуфа. Начальника инквизиции переложили с каталки на операционный стол, ремнями крепко привязали руки к столу, каждую к своему ложу, так что со стороны начальник инквизиции выглядел распятым. В рот ему вложили загубник шланга от аппарата анестезии.
А рядом, в предоперационной, Атабек и Мир-Джавад тщательно мыли руки. Мир-Джавад следил за Атабеком и повторял все его движения. Одна из жен Атабека, в прошлом хирургическая сестра, ожидала окончания ритуала, держа в руках белоснежное полотенце. Атабек яростно тер щеткой руки, полировал ногти, смывал мыло горячей водой и вновь намыливал их.
Мир-Джавад не понимал такой чистоплотности далеко не чистоплотного человека, но, посмеиваясь про себя, он машинально повторял все движения шефа, или «отца», как все чаще и чаще Мир-Джавад его называл, поощряемый благосклонностью и одобрением.
После мытья они долго терли руки суровыми полотенцами, затем тампонами, пропитанными спиртом. Наконец, жена Атабека натянула им на руки резиновые перчатки, а на лицо повязала марлевые маски. Это был целый ритуал, священнодействие, обряд. Лицо Атабека бледнело и бледнело, что, как знал Мир-Джавад, являлось признаком чьей-то смерти.
Мир-Джавад с любопытством следил за ним. Лицо Атабека, скрытое марлевой повязкой, уже слилось с ней своим цветом. Мир-Джавад, пользуясь тем, что его лицо скрыто под маской, нагло ухмыльнулся, оставив только глаза серьезными.
«У Атабека, клянусь отца, лицо, как у моего наемного тайного убийцы, — подумал он. — Клянусь, э, зашьет в живот начальника инквизиции мину замедленного действия. Вот будет потеха, если взорвется на каком-нибудь митинге. Буду держаться на всякий случай от него подальше».
Атабек подал знак, и двери в операционную открылись, пропуская торжественную процессию. По другому знаку двое подручных Атабека залепили наглухо пластырем рот начальника инквизиции.
«Зачем? — мелькнула у него мысль. — А, что я паникую? Для чего, зачем? Чтобы трубка не вылетела, когда меня усыпят».
Юсуф увидел, как к столу подошли, неестественно держа руки, два хирурга и медсестра.
«Хирурги, как бандиты, прячут лица под масками, у тех и у других руки в крови, у хирургов, правда, смертность повыше», — мрачно подумал начальник инквизиции и вдруг застонал от дикой, пронзившей все тело боли.
— Вы забыли об анестезии, вы забыли об анестезии! — кричал Юсуф, а его крики застревали в плотных слоях пластыря.
И начальник инквизиции понял, что не забыли об анестезии, а просто его варварски убивают. И узнал по очертаниям своих убийц.
«Это — Атабек и Мир-Джавад!.. О, аллах, какой страшный конец ты мне уготовил… Как больно!.. Они бы сами не посмели… Значит, это Гаджу-сан. Прямо убить меня не захотел, струсил. И отдал в руки этим зверям… Зверям? А ты разве лучше? „Ищущий, да обрящет“!.. Скольких ты убил, зарезал, отравил, утопил, сбросил в пропасть. И все по приказу Гаджу-сана. Ты верил в него, как в бога, ты служил ему, как дьяволу. Ты продал ему душу… Боже! Пошли мне смерть! Как милости прошу! Нет больше сил терпеть эту страшную боль… Это боль всех жертв, боль их детей и родных вливается в меня… „Мой добрый великан“! — так звал меня Сосун. Я был предан ему, как собака, все исполнял, что бы он ни приказал… Хотя нет, не все! Я отказался убить его первую жену, не могу убивать женщин и детей. Ее убил Арчил… Вот почему он рядом с Гаджу-саном, а я всю оставшуюся жизнь проходил в подручных у Атабека, который так люто меня ненавидел. Он помнил, как и я, тот день, когда он струсил в бою и бежал. По решению высшей коллегии я должен был зарезать его… Как он тогда умолял меня, валялся в ногах, обделался от страха, и его, смердящего и мокрого, не приняла даже смерть, в последнюю секунду Гаджу-сан выхлопотал у руководства помилования трусу и изменнику. Атабек с огромной радостью потом помог Гаджу-сану убрать то руководство, после смерти единственного, как только Гаджу-сан прорвался к власти… Но почему? Какие есть муки на свете… Слепец! У тебя же вырвалась фраза, которую Арчил сразу понял. Что я тогда ему сказал? „Она пришла в сознание и сказала несколько слов“… Зачем ты ему выдал себя?.. Кого ты решил испугать? Арчил верно догадался, ЧТО она сказала! Его ни одна из жертв никогда в лицо не видела, удар ножом в спину лишал каждого такой возможности, то, что жена Гаджу-сана сразу не умерла, — случайность, даже не случайность, а не до конца зажившая рана Арчила, полученная в боях с войсками Ренка, дала о себе знать. Когда я пришел осматривать труп, она, не открывая глаз, прошептала: „…агент Ренка, он всех нас предаст“! Она умерла, а я похоронил эти страшные слова в глубине сердца и боялся о них даже думать. Зачем я ему сказал? Поэтому мне и подписали приговор. За мной будут другие. Страх зовет на помощь жестокость. Я — первый, но далеко не последний… Будьте вы прокляты! Я скажу в аду, что вы идете следом»…
Мир-Джавад впервые присутствовал на операции. Его мутило, пот обильно заливал лицо, но медсестра привычно вытирала его лицо тампоном. Многих убил в своей жизни Мир-Джавад и всех либо чужими руками, либо на расстоянии пулей или ядом. Не было привычки резать живую плоть содрогающегося от нестерпимой боли тела, и Мир-Джавад поражался, глядя на Атабека, весельчака и жуира, любителя женщин и вина, с какой легкостью он резал и зашивал, промывал и прижигал.
«Золотые руки, хирург — „божьей милостью“!» — мелькнула мысль у Мир-Джавада.
Он был на подхвате и скальпеля в руках не держал, его держали как зрителя скорее, чем как полноправного участника: подержать зажим, убрать тампонами кровь… Но иногда ему начинало казаться, что это режут его самого.
Мир-Джавад зажал себя в кулак, решив умереть, но слабости не проявлять, или мягкотелости какой-нибудь…
Атабек быстро и блестяще провел операцию.
— Теперь ты будешь жить сто лет! — сказал с усмешкой, зашивая последний стежок на ране.
Но начальник инквизиции края, старый гангстер Юсуф вытянулся в последней судороге и умер.
Такая дьявольская радость зажглась на лице Атабека, что Мир-Джавад выронил зажим на пол от испуга…
— Наконец-то он мертв! — довольно произнес Атабек. — Я мечтал о такой смерти для него, и моя мечта сбылась… Вчера Гаджу-сан подписал указ о твоем назначении начальником моей инквизиции, сын мой!
Мир-Джавад почтительно склонился перед Атабеком. Он вошел в башню для избранных, вступил в круг посвященных…
Васо приехал рано утром на дачу Мир-Джавада без предупреждения, с неофициальным визитом.
Из аэропорта позвонил человек Мир-Джавада и сообщил, что Васо приземлился на своем личном самолете. Мир-Джавад велел срочно, на лучшей машине, везти Васо к нему на дачу, и через час, в течение которого из первой попавшейся отары были уведены несколько молодых барашков для шашлыка и плова, а из государственных подвалов привезены бочонки с коньяком и шампанским, с лучшими винами, какие только ни производились в этом благодатном южном крае, старший сын Гаджу-сана был доставлен на берег самого теплого моря.
Пьяница, дебошир и потаскун в свои двадцать пять лет был уже генерал-полковником авиации, и поговаривали, что скоро Васо станет маршалом. С первого дня рождения его зачислили в авиаполк лейтенантом, и теперь Васо шутил, что он в любую минуту может уйти на пенсию.
Мир-Джавад, глядя на своего молодого друга, тоже записал своего сына Иосифа, сына Гюли, в бронетанковый полк лейтенантом, пусть служит, бегая по двору.
Васо о воинской дисциплине имел весьма смутные представления, летал, когда хотел и куда хотел, и был свободен во всех своих желаниях.
— Клянусь отца, смешная штука получилась! — выпив бутылку коньяка и наевшись плова с шашлыком до отвала, стал рассказывать Васо. — Недавно я встретил свадебную процессию. Счастливое лицо красавицы-невесты всколыхнуло в моем сердце нечто похожее на чувство. Недолго думая, я приказываю первому попавшемуся патрулю забрать жениха, арестовать его, затем предлагаю ошеломленной невесте свою помощь, сажаю ее в машину, якобы чтобы ехать к прокурору, и увожу на одну из папиных дач, там девочка прозревает, что прокурор и ее судья — это я, пытается бежать, я ее ловлю, почти горелки, правда, когда догнал, помял и порвал одежды невинности. Но невинной была только одежда. Нет, ты представляешь, что за нравы, какое падение, добрачные связи надо объявить вне закона.
— Это тлетворное влияние Запада! — вставил реплику Мир-Джавад.
— Может быть, но все равно нехорошо. Так разочаровался, так разочаровался, что больше недели ее не выдержал, выгнал. Надоела игрушка.
— А что стало с ней потом?
— Клянусь отца, я тебе что, армия спасения? Я и не думал об этом.
Мир-Джавад в ответ рассказал несколько своих скабрезных историй. Васо довольно хохотал, такая жизнь была ему по душе.
Выпив пару рогов шампанского, Васо захотел искупаться в море. Мир-Джавад попытался его отговорить, а когда тот упрямо и твердо заявил, что его намерение искупаться и поплавать непоколебимо, испугался, а ну как утонет, Гаджу-сан голову снесет за старшенького, любимца. Мир-Джавад дал команду, и вся команда, кроме часовых, на лодках стала сопровождать плывущего Васо, его высочество, генерал-полковника авиации. А тому было и невдомек, что под ним тянут рыбацкую мелкоячеистую сеть, и стоило Васо нырнуть, как он часто и делал, плавал как рыба, охрана тут же приподнимала сеть, готовясь вытащить в любой момент самый драгоценный улов, упустить который что упустить жизнь.
Но все обошлось благополучно. Выйдя из моря, протрезвевший Васо принялся пить водку, запивая любимым вином своего отца. Мир-Джавад с удовольствием смотрел на своего молодого друга. Их дружба вызывала удивление: двенадцать лет разницы в возрасте, да и Васо был Геркулесом по сравнению с Мир-Джавадом.
Сам Васо не мог понять, почему он так крепко привязан к Мир-Джаваду, почему дружит с этим, одним из самых жестоких слуг отца, почему его так тянет к этому вечно хмурому человеку. Но Мир-Джавад прекрасно знал, почему: Васо до двадцати лет был девственником, мать воспитала его в таком преклонении перед женщиной, что он боялся даже думать о близости с кем-нибудь из них, хотя недостатка в согласных не было.
Мир-Джавад привез с собой самую красивую из искусниц Бабур-Гани. Эта красавица даже в холодном сердце вызывала страсть и трепет. А когда она голая появилась в спальне Васо и овладела им целиком и полностью, Мир-Джавад одержал свою самую значительную победу. Сердце Васо заполнила безграничная благодарность к Мир-Джаваду. Васо зачастил к Бабур-Гани, стал там своим человеком, его научили всей любовной премудрости, и он стал первым наставником новеньких. Когда Бабур-Гани находила что-нибудь стоящее, она телеграфировала в столицу шифрованную телеграмму, и Васо бросал все дела и мчался к Мир-Джаваду.
Но сегодня он прилетел по указанию отца.
— Как по-твоему: Атабек был в курсе того, ЧТО знал умерший начальник инквизиции края, твой предшественник? — спросил Васо внезапно вместо очередного тоста.
Мир-Джавад всегда был готов сделать очередную пакость своему тестю.
— Спрашиваешь! Они же вместе боролись, — тут Мир-Джавад вспомнил подслушанный краем уха странный разговор Арчила с Юсуфом, начальником инквизиции. — Если ты имеешь в виду убийство жены Великого отца всех народов, то Атабек был на месте преступления вместе с моим бывшим шефом. — Мир-Джавад расхохотался. — Не поэтому ли он с таким наслаждением резал его тело, теперь он один остался хранителем тайны.
Васо захотел услышать историю с операцией, и Мир-Джавад долго с подробностями рассказывал о блестящих способностях хирурга Атабека. Васо смеялся, как будто ему рассказывали анекдоты.
Выпили бутылку шампанского за упокой души бывшего начальника инквизиции. Васо опять полез было в море плавать, но Мир-Джаваду на этот раз удалось его отговорить от заплыва. Окунулись и легли в тени фигового дерева на теплый песок.
Васо заскучал. Мир-Джавад любовно шлепнул друга по голой спине.
— Не кручинься, ясный сокол! Бабур-Гани приготовила тебе подарок: есть у нее новенькая, такая девочка, — закачаешься, клянусь отца!
— Надоели проститутки, Мир! — буркнул Васо. — Любящее сердце мне требуется и срочно, чтобы меня полюбили просто так, а не за то, что я без пяти минут маршал.
— Э, геноцвали, любят всегда за что-то: одних — за силу, других — за красоту, третьих — за талант, четвертых — за честность или правдивость, пятых — за деньги или положение… Издержки твоего положения: тебя никогда не полюбят за твою прекрасную душу, один я могу ее оценить.
— Ты верный друг, Мир, слушай, где ты научился так складно говорить? Ты с каждым днем становишься все образованней и образованней.
— Для тебя, мой красавец, тайны нет: любой уважающий себя начальник обязан иметь рядом с собой умного еврея.
— И у тебя такой есть?
— А как же! Он составил мне программу, по которой со мной занимается.
— И сколько ты ему платишь? Много?
— Самую дорогую цену я ему дал — жизнь!
Васо удивленно и непонимающе уставился на Мир-Джавада.
— Его приговорили к расстрелу, — пояснил Мир-Джавад. — По документам он мертв, об этом знает, поэтому и старается. Но я его хорошо кормлю, толстенькая девочка раз в неделю обслуживает бесплатно, да еще подбрасывает ему денег из своего заработка.
— Для чего ему деньги?
— У меня с ним уговор: вино и сигареты за свой счет, а какой счет может быть у покойника, толстушка его и содержит. А я поощряю благотворительность, где же иначе бедняге взять денег на вино.
— А какой интерес у толстушки? — замирая, спросил Васо.
— Я обещал ей его в мужья. Она — его дочь от первого брака, но ни он, ни она об этом не знают. А подсунул ему, как только он рассказал мне о Мольере, тот вроде тоже женился на своей дочери.
Васо застонал от смеха.
— Ты всегда мне расскажешь такое, что не поделиться с отцом просто нельзя… Слушай! — спросил он, ехидно улыбаясь. — А ты по-прежнему охотишься на мух?
Мир-Джавад потемнел, но заставил себя рассмеяться.
— Спрашиваешь! Конечно, дорогой, но уже реже, значительно реже, ты не представляешь, как много работы.
Тут он достал из кармана нитку резинки и ловко сшиб на лету большую зеленую муху, которая в поисках падали кружила над ними. Васо, как ребенок, захлопал в ладоши.
— Дай мне, дай, хочу!
Мир-Джавад протянул ему нитку резинки, а себе достал другую. Васо увлекся охотой, он то хохотал от удачного выстрела, то, затаив дыхание, подкрадывался к мухе почти так же, как первобытный охотник подкрадывался с каменным топором в руке к оленю, видно, природа человека не настолько изменилась, чтобы инстинкт не взыграл, даже таким иногда смешным, нелепым способом.
Через полчаса Васо, возбужденный, со сверкающими глазами, гордо высыпал «добычу» прямо на скатерть, расстеленную на песке, за которой они пировали.
— Посчитаем, кто больше настрелял «пернатых»!
Мир-Джавад внимательно следил за каждым удачным выстрелом Васо, и ему нетрудно было «подыграть» молодому другу и набить «пернатой дичи» на пару штук меньше. После подсчета Васо издал победный клич племени ин-гу и исполнил ритуальный танец северных шаманов.
— Я победил великого охотника Мира! — кричал он, бросая в небо горсти песка, что должно было означать салют в честь победителя.
Выпили за победу над мухами, затем за нового «великого» охотника, затем…
А затем Васо увидел бредущую по мелководью юную девушку лет пятнадцати.
— Это чья красавица? — хрипло спросил Васо Мир-Джавада.
— Ее трогать нельзя, она — провидица и гуру огнепоклонников, а по-моему, просто сумасшедшая.
— Никакая она не провидица, — обманщица! — хищно засмеялся Васо. — Если ты провидица, ты должна предвидеть, чем заканчивается моя встреча с тем, что мне нравится.
Девушка спокойно шла по мелководью, не обращая на мужчин никакого внимания. Изредка нагибаясь, она зачерпывала ладошками воду и бросала ее на солнце, любуясь сверкающими каплями. Эти движения были так изящны и грациозны, что Мир-Джавад невольно залюбовался ею, но, взглянув на сверкающие глаза Васо и на его раздувающиеся ноздри, понял, что беды не миновать, чертыхнулся про себя и, знаком подозвав начальника караула, велел ему позвонить в штаб охранных войск и вызвать подмогу: роту пулеметчиков.
А Васо уже шел наперерез провидице и, поравнявшись с ней, учтиво пригласил ее разделить с ними трапезу застолья. К его удивлению, девушка, не сказав ни слова, кивком головы высказала свое согласие и пошла спокойно с Васо, без всякого сопротивления. Васо не выпускал ее руки, словно боясь, что девушка исчезнет, улетит красавица волшебной птицей.
А девушка просто привыкла, что ей все поклоняются, все подчиняются и стремятся исполнить каждое ее желание. Она проголодалась и сочла естественным приглашение учтивого неизвестного, правда, от него сильно пахло вином, но провидица часто встречала и среди своих последователей мужчин с подобным резким и неприятным запахом.
Васо с удовольствием смотрел, как провидица утоляла голод, предложил ей выпить вина, но девушка отказалась, отведя его руку с бокалом шампанского. Мир-Джавад напряженно смотрел на эту безмолвную сцену, изредка бросая взгляды в сторону начальника охраны, который знаком его давно успокоил, что помощь затребована, но знака, что она уже прибыла, еще не следовало, и ждал развязки.
И она наступила. Васо подал девушке руку, помог провидице подняться и неожиданно другой рукой разорвал ей платье сверху донизу и свалил девочку на песок. Провидица ожесточенно сопротивлялась.
— Помоги! — сипло от натуги крикнул Васо Мир-Джаваду.
Мир-Джавад перехватил руки провидицы и, рванув их на себя, вдавил тонкие хрупкие руки девочки в песок с такой яростью и силой, что бедная девушка от боли потеряла сознание на какое-то время. Этого было достаточно, чтобы Васо овладел ею. Быстро утолив свою страсть, он поднялся, подошел к Мир-Джаваду и, перехватив у него руки провидицы, выдохнул:
— Твоя очередь, Мир!..
…Мир-Джавад вспомнил крытую галерею, где он в детстве охотился на мух. Как-то утомившись охотой, Мир-Джавад устроился у распахнутого окна и стал смотреть во двор. Во двор выходила одной стеной низенькая восточная баня с куполами на крыше. На эту крышу можно было легко попасть с лестницы дома, и с наступлением сумерек Мир-Джавад часто видел на крыше бани прыщавых подростков, подсматривающих через окна куполов за моющимися женщинами. Банщик охотился за мальчишками с длинной палкой, подкарауливая в засаде, и бил их беспощадно, разбивал в кровь спины, а то и головы. Родители жаловались на банщика в полицию, но банщик оправдывал свои действия тем, что моющиеся женщины недовольны, что за ними, голыми, подглядывают. Это было и правдой, и неправдой. Банщику по-настоящему нравилась охота на людей, а приманкой, самой сильной и действенной, всегда, во все века и времена были женские тела. Но однажды банщик с перепою принял за подростков крепких молодых парней, подглядывающих в разбитое оконце купола бани, огрел их длинной палкой и был за это нещадно ими избит. Парни отбили у него не только внутренние органы, но и желание охотиться на людей. Больше банщик на крыше бани не появлялся, чем немедленно воспользовались не только прыщавые подростки, но и солидные мужчины, отцы семейств, кому смертельно надоели до осточертения расплывшиеся, как квашня, жирные телеса законных супруг…
А днем крыша была местом прогулок кошек. Лишь во время созревания плодов тутовника мальчишки забирались на крышу бани днем, чтобы с нее легко перебраться на ветки огромного дерева, росшего вплотную с крышей… Сонная одурь одолевала Мир-Джавада. Солнце в полную силу раскаляло не только камни и асфальт, но даже воздух, изнемогая от жары, волнами стремился вверх в небо, стремясь достичь холодных слоев стратосферы… С лестницы на крышу бани спрыгнула молодая хорошенькая кошечка и стремглав помчалась к спасительному тутовнику, убегая от двух преследовавших ее огромных котов. За пару метров от спасительного дерева коты схватили бедную кошечку: один из них зубами вцепился ей в шею, а второй, пристроившись сзади, нагло ее изнасиловал. Когда насильник, довольный, отвалил, кошечка рванулась к тутовнику, но не тут-то было. Насильник перехватил ее шею зубами у державшего кота, а тот в свою очередь изнасиловал очаровательное создание. Закончив свое гнусное дело, коты отпустили кошечку, которая стремглав исчезла в зарослях тутовника. А коты, Мир-Джавад мог в этом поклясться, улыбаясь, стали обсуждать подробности удачной охоты, обмениваясь своими впечатлениями… В то время Мир-Джавад был не чужд чувства справедливости и сострадания, поэтому, желая наказать преступных котов, он бросился домой, схватил духовое ружье, подаренное на день рождения Исмаил-пашой, любовником матери, и хладнокровно влепил пульку одному из котов. Тот от боли подпрыгнул на метр и, издав истошный, почти человеческий вопль, исчез в зарослях тутовника. Второй кот с перепугу бросился в противоположную дереву сторону, и — Мир-Джавад влепил и в него пульку. Больше Мир-Джавад не видел на крыше бани этих котов…
И вот сейчас, насилуя беззащитное тело девчонки, Мир-Джавад невольно оглядывался, словно ожидал получить пулю в спину из ближайшего виноградника…
Когда провидица пришла в себя, друзья пили холодное молодое вино, закусывая жареным фундуком. Провидица с трудом, но без единого стона, без единой жалобы, без единого проклятья поднялась и медленно побрела, волоча ноги по песку, в сторону своего поселка. Мир-Джавад достал маузер.
— Живой ее отпускать нельзя! — произнес он тихо и прицелился в спину бредущей по песку девочки.
— Не трогай ее! — сдавленно крикнул Васо и ударил Мир-Джавада по руке. — Я не хочу! — и, словно устыдясь доброго порыва, засмеялся. — Любовниц не убиваю. Синяя борода, что ли?
— Может произойти бунт! — стал убеждать его Мир-Джавад.
— На то ты и поставлен, чтобы бунт пресекать!.. Восставших разрешаю убивать на месте! Фанатиков и поклонников чуждых нам учений жалеть нечего. «Если враг не сдается, его уничтожают»!
И Васо так радостно захохотал, что этот смех словно подстегнул опозоренную девочку, и она побежала, тяжело увязая по щиколотку в песке, но все так же без единого стона, крика, без брани и проклятий… Мир-Джавад с беспокойством смотрел ей вслед.
«Шлепнуть ее и все дела, — думал он, — не надо было целиться, взлет стреляю ведь не хуже, а убийство свалить на евреев, мол, кровь провидицы им понадобилась для мацы. Пусть друг друга режут, убивают, нам меньше работы».
Мир-Джавад перехватил взгляд Васо. Тот также смотрел вслед провидицы наполненными слезами, туманом и тоской глазами.
— Красивая какая! — пьяно всхлипнул он. — Взять ее в столицу, что ли?
Мир-Джавад погладил Васо по голове.
— Друг мой, ненаглядный, она тебя зарежет в первую же ночь.
— Зараза такая! — рассердился Васо. — А я к ней по-человечески… Пойди, догони и убей!
Но провидица уже исчезла в зарослях виноградников.
Мир-Джавад с трудом поднял захмелевшего Васо.
— Пойдем, дорогой, баиньки. Бабур-Гани целочку тебе привезла, любит она тебя, проказника. Утром будет чем заняться.
И Мир-Джавад потащил повиснувшего на нем Васо на дачу.
— А ты знаешь, что сказала первая жена отца перед смертью? — неожиданно трезво спросил Васо.
— Не знаю и не хочу знать! Зачем мне это? Я верный слуга твоего отца, твой друг, этого мне за глаза хватит. Кто меньше знает, тот больше живет, — рассмеялся Мир-Джавад.
Он действительно боялся как-нибудь неожиданно узнать эту ужасную тайну и высказал предположение, что Атабек ее знает, исключительно чтобы лишний раз напакостить тестю, всемогущему и непоколебимому, в надежде убрать его хоть когда-нибудь, другого способа он не видел.
— И правильно, — забормотал Васо, — не лезь туда, где тебе могут защемить нос, а то и ниже… Когда я учился в академии генерального штаба… Когда это было?.. Дай бог памяти… В позапрошлом году, или не… в позапозапрошлом, кажется, уже не помню… одна лапушка мне не давала, влюблена была в одного красавца… Тогда я с дружками подкараулил его возле ее дома, Ромео шел к своей Джульетте… К ней мы вошли вместе… Ромео тисками кое-что зажали, и он сам умолял свою ненаглядную Джульетту дать мне…
— Дала? — вежливо поинтересовался Мир-Джавад, который слышал эту историю в пятый раз.
— Спрашиваешь! — обиделся Васо. — Она его действительно безумно любила.
— В Испании когда-то существовал прекрасный обычай: начальник имел святое право спать с подчиненной ему девицей первым. Жаль об этом забыли…
— Введем! — пообещал Васо, укладываясь спать.
Мир-Джавад вышел в сад. На его свист подбежал начальник караула.
— Поселок окружен двойным кольцом, но семьи руководства поселка не успели предупредить, чтобы «сматывали удочки».
— На войне без жертв не бывает.
— Что делать с пленными?
— Пленных не брать!
— Когда начнем, шеф? — бесстрастно спросил начальник охраны, подошедший бесшумно из темноты, словно кошка скользнула.
— Пусть начнут они, — улыбнулся Мир-Джавад, — дайте им погулять и начальство пострелять. Ну, а затем…
— Что делать с оставшимися в поселке?
— Детей и девушек ко мне, остальных выслать на остров, поселок сжечь. Ясно?.. Всю добычу разделить.
В поселке вспыхнуло яркое зарево, за ним еще одно, это загорелись дома руководства поселком. Крики и вопли понеслись в черное небо, багрово отсвечивающее свет с земли.
— Началось! — крикнул начальник караула.
— Дайте им выйти из поселка на берег моря, они пойдут сюда лавиной. И пулеметами их, и пулеметами! — Мир-Джавад оскалился, недаром за глаза называли его «шакал»…
Со стороны поселка нарастал рев разъяренной толпы оскорбленных фанатиков, сметающей все на своем пути.
Но как даже самые страшные волны разбиваются о скалы, так и эта волна людского гнева, наткнувшись на перекрестный пулеметный огонь, лишилась своей силы и отхлынула назад, к поселку. Но и там перекрестный пулеметный огонь отбросил людей к морю, все бросились спасаться вплавь, рыбаки плавать умеют. Затаившиеся в черноте ночи катера береговой охраны включили свои мощные прожекторы, и вновь дождь свинца обрушился на беспомощных в воде огнепоклонников. Ни один человек не сумел спастись.
Поселок сожгли дотла. Мир-Джавад отобрал для Бабур-Гани молодых красивых девушек и детей, остальных сослали на далекий остров Бибирь. За ними разграбили и уничтожили все другие общины огнепоклонников.
Но провидица исчезла, так и не нашли… При таком мощном сыске это действительно было чудом.
«Одна страна, один вождь, одна партия, одна вера»!
Этот лозунг появился на стенах домов, на крышах, на бортах грузовиков, на сумках, майках и трусах. Женскую «недельку» теперь называли этим лозунгом, добавляя: «один муж, один любовник, один начальник»!
Гюли начала толстеть. Восточные женщины вообще склонны к полноте, особенно после родов, а полное безделье и малоподвижность еще более способствуют этому. За сыном, красавцем, весь в маму, Иосифом смотрели две няньки, получавшие зарплату по спискам осведомителей инквизиции. Гюли им принципиально не платила ни копейки. И те только им. Она просто ненавидела платить. Все ее боялись, угодливо кланялись при встрече, и Гюли обнаглела, обложила данью все лавки в своем районе, справедливо распределив поровну: кто, сколько и когда приносит… Еще Гюли любила брать в долг, естественно, без отдачи. Давали безропотно. Попробуй не дай, и завтра же, когда ты работаешь в поте лица, у тебя в квартире найдут беглого преступника, оружие, наркотики или просто запрещенную литературу. И ты можешь сколько угодно доказывать свою невиновность, приговор был всегда один: заключение на острове Бибирь, с полной конфискацией имущества. Дешевле давать в долг, пусть даже без отдачи.
Поначалу за молодой вдовой и любовницей большого человека пытались ухаживать. Один мальчик, сын состоятельного торговца, даже влюбился в нее и сделал ей предложение. Гюли обрадовалась, но обещала подумать и, дождавшись приезда Мир-Джавада, а он теперь приезжал не чаще одного-двух раз в месяц повидать сына, а оставался и того реже, заявила ему:
— Я хочу выйти замуж! Славный мальчик сделал мне предложение.
— Больше он тебе ничего не сделал? — мрачно пошутил Мир-Джавад.
Гюли расплакалась.
— Мне скучно одной, ты меня разлюбил, приезжаешь только к сыну, если раз-два в месяц меня и ласкаешь, то это так, по привычке. Может у меня быть своя жизнь?
— Нет, не может! — отрезал Мир-Джавад. — Занимайся воспитанием сына, ходи в театры, на концерты, бесплатно для тебя все, а ты дома сиднем сидишь. В конце концов займись благотворительностью.
— Я хочу иметь семью, настоящую семью, а не так! — взбунтовалась Гюли.
— Нет, будет так! — Мир-Джавад сбил Гюли с ног пощечиной, первая любовь не ржавеет, и ушел.
Через час славный мальчик, которому ничего не знавшие родители не успели объяснить о чужом праве, был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Монако и брошен в камеру к убийцам и грабителям. В первую же ночь они его изнасиловали. Изнеженный славный юноша сломался и свихнулся. Через неделю он с радостью подписал заранее подготовленный протокол допроса, в котором признавался в шпионаже не только в пользу Монако, но и Андорры, и Атлантиды. Вечная каторга уже ему казалась раем.
С тех пор молодые мужчины за версту обходили дом Гюли. А прекрасный Иосиф безнаказанно лупил своих сверстников, отнимал игрушки, вмешивался в чужие игры, рос обыкновенным маленьким деспотом.
Мир-Джавад разрешил принять предложение старика-миллионера, но после свадьбы миллионер врезался на своем автомобиле в дерево и, сплюснутый рулем и крышей автомобиля, долго и мучительно умирал, проклиная свой старческий маразм.
После этого и старики не решались обращать свой затухающий взор на красивую любовницу начальника инквизиции края Мир-Джавада.
Гюли тосковала и терроризировала весь район, а людям и переехать было некуда, переезды были запрещены, чтобы за каждым было легче следить. Где родился, там обязан был и умереть.
Мир-Джавад приставил к сыну охранника после того, как тот ударил ножом своего приятеля, проиграв ему в орлянку двадцать сентаво. Прекрасному Иосифу исполнилось уже десять лет, глядя на него, у любого, кто его близко не знал, замирало сердце, а губы шептали: «ангелочек».
А этот «ангелочек» пакостил всем и каждому в отдельности в школе, дома, на улице. Лишь три человека имели на него влияние: мать, которую он любил до поклонения, отец, которого боялся до судорог, и… телохранитель, которого уважал за чудовищную силу. При первой же встрече тот поразил мальчишеское воображение: сплел в косу три толстых железных прутка, затем расплел и сказал: «Всех твоих врагов так же могу». Иосиф почувствовал такую уверенность в себе, что тут же побежал во двор соседнего дома, где были мальчишки постарше Иосифа, и ударил ногой в зад силача Сабира, а тот, взглянув на телохранителя, ретировался.
Гюли, увидев молодого Геркулеса, сразу же занялась воспитанием своего сына, меняя при этом три-четыре раза в день наряды и украшения. А телохранитель в свою очередь заманивал красивую любовницу своего шефа огненными взглядами, но сам не делал ни единого шага навстречу, ждал, когда «созреет» и придет сама.
Гюли давно бы пришла сама, она по уши влюбилась в телохранителя, да страх потерять его все перевешивал. Знала, что никакая сила не поможет, если Мир-Джавад хоть что-нибудь узнает. Гюли ночами не могла спать, металась по постели от желания, а страх каменной глыбой лежал на ней. Гюли похудела, вновь превратилась в изящную девушку, похожую на прежнюю Гюли, никто бы не сказал, что ей уже двадцать шесть лет. Даже Мир-Джавад стал чаще приезжать к ней, а не только к сыну, но Гюли, так ждавшая его ласк раньше, теперь была к ним совершенно равнодушна. Она даже радовалась, если ненавистный любовник, отец ее ненаглядного Иосифа, не приезжал, занятый работой, любовницами, пьянками или вызовами во дворец эмира.
Наступило лето, как всегда, жаркое, душное и пыльное. Гюли с Иосифом переехали на дачу, на берегу самого синего моря. Мир-Джавад, как всегда, выделил им одну из своих пяти дач, если считать и две дачи жены.
И здесь, на лоне природы, Гюли потеряла голову от своей страсти. Как-то раз, когда Иосиф днем спал, она вошла в комнату охранника спросить его о чем-то и увидела молодого Геркулеса, лежащего на тахте в чем мать родила. Телохранитель молча смотрел на Гюли наглым беззастенчивым взглядом, но его плоть восстала на глазах ошеломленной Гюли. И она забыла все свои страхи. Что для нее была теперь смерть: узнать его и умереть, она была на это готова. И Гюли сбросила с себя одежду. Впервые она добровольно отдавала себя, к тому же любимому, впервые ее не насиловали. И только мольба вырвалась из ее уст: «аллах, ушли куда-нибудь Мир-Джавада, прошу тебя»!
И бог услышал ее.
Агент Мир-Джавада донес, что в среде военных брожение: ходят слухи, компрометирующие Великого вождя всех народов Гаджу-сана.
Все началось с того, что военный историк Берг, полковник генерального штаба, стал собирать материалы для докторской диссертации: «Тайная война Ренка против возмущенцев». В архивах полиции он ничего не нашел, что его несколько удивило, ни одного списка агентуры, ни одной платежной ведомости, ни одного донесения. Но в военном архиве он совершенно случайно увидел завалившуюся за стеллажи папку. Открыв ее, он с радостью обнаружил в ней документы жандармерии Ренка. Дело в том, что слух о том, что все документы жандармерии и полиции были сожжены перед бегством из страны Ренка, получил официальный статус. Можно было понять радость Берга, обнаружившего чудом сохранившуюся папку.
Папка по содержанию была малоинтересная: копии отчетов о внешнем наблюдении, копии счетов за фураж и провизию. Но когда Берг стал изучать очередной документ, он не поверил своим глазам: в его руках была, копия личного распоряжения Ренка не задерживать и не стрелять в человека по фамилии Гаджу-сан, кличка в подполье «Сосун». Документ не пояснял, почему Ренк щадил того, кого сейчас называли светочем человечества, но число, которым был подписан этот документ, говорило само за себя: в этот день были арестованы многие руководители подполья, повешенные через несколько дней на площади, после страшных пыток. Было ясно, что их выдали. Не знали только: кто?..
И теперь Берг знал: кто заплатил чужими жизнями замечательных людей за свое продвижение к власти и почему повстанцы терпели поражение за поражением, пока восстание не стало поистине всенародным, а часть войск Ренка не перешла на сторону восставших.
Разоблачение потрясло Берга настолько, что он решился на отчаянный шаг и совершил поступок, который был ему раньше просто немыслим: выкрал этот документ из архива, благо ему доверяли и не обыскивали при выходе. Круг его друзей был проверен многолетней службой, и Берг, не колеблясь ни минуты, собрал всех и огласил документ, сделав необходимые исторические дополнения.
Это вызвало шок. Когда способность говорить вернулась, у всех из груди вырвался вопль: «Смерть предателю»!.. Как люди военные, они понимали, что одними их силами Гаджу-сана не свергнуть, и стали вербовать сторонников в других армиях, в полках, стараясь увлечь в первую очередь столичный гарнизон. Заговор вовлекал все новых и новых лиц. Уже сил было достаточно, чтобы действовать, но заговорщики увлеклись вербовкой сторонников, и тайна перестала быть тайной.
Начальник штаба округа, болезненно-нервный человек, был женат на молодой красавице. Он влюбился в нее без памяти, встретив случайно в театре на премьере. В городе ходили анекдоты о его заботливости и внимании к молодой жене. Но он, как и многие мужья, не знал, что его красотка — воспитанница Бабур-Гани, а Мир-Джавад учил ее с двенадцатилетнего возраста мудрому искусству любви, с тех пор она и работала на него. Услышав, как муж простонал во сне: «Боже! Ужас какой: Сосун — предатель»! — она бросилась к своему благодетелю и работодателю Мир-Джаваду, щедро платившему ей не только за ласки…
А Мир-Джавад бросился в столицу, дав задание своему лучшему агенту узнать время и место очередной встречи заговорщиков. Та охотно согласилась: старый муж ей давно уже надоел ревностью, дом свой он переписал на ее имя, счет в банке был у них общий, так что она не видела никаких причин держаться за него.
Прибыв в столицу, Мир-Джавад поехал не в канцелярию Гаджу-сана, где ему обязательно надо было бы объяснить причину для незапланированной встречи с Великим, а во дворец эмира, к Васо. Стоило ему шепнуть на ушко, какая причина привела Мир-Джавада во дворец, как Васо немедленно пошел к отцу, и Мир-Джавад был немедленно допущен в святая святых, в курительную комнату, где на него сквозь густой табачный дым голландской марки «Капитан» смотрели желтые немигающие глаза отца земного шара.
— В каких кругах и на каком уровне ходят клеветнические слухи, вносящие смуту в здоровый и верный коллектив? — спросил он сразу о главном.
— На уровне полковых командиров и соответствующего уровня их ближайших друзей: все высокопоставленные лица, по моим первым сведениям.
— Все хотят стать генералами и министрами, и не понимают, что значительно легче потерять то, что имеешь, чем достичь то, чего хочешь, — с сожалением произнес Гаджу-сан. — У тебя хватит сил справиться с ними?
— Сил недостаточно, мой вождь!.. Скажу прямо и честно, — признался Мир-Джавад.
Он хотел выглядеть прямолинейным, но верным служакой.
— Со мной нечестно нельзя говорить, — пошутил Гаджу-сан, — если бы ты сказал, что хватит, не поверил бы, а у меня в окружении не работают те, кому я не верю… Возьмешь бронетанковую дивизию «Викинг» и бригаду десантников спецвойск, там один стоит троих, как минимум, а в максимуме больше.
— Ваше провидение спасет страну, государь! — осмелился Мир-Джавад.
Он рисковал головой, но Гаджу-сан принял как должное.
— Другого и быть не может. Разве допустимо ввергнуть эту прекрасную страну в омут раскола, раздора и анархии?
— Что делать с кучкой болтунов? — вытянулся в струнку Мир-Джавад.
— Выведай у них все связи! Любыми средствами! Я развязываю тебе руки и освобождаю от химеры совести. Ну, а затем я ими займусь.
Гаджу-сан встал, давая этим понять, что аудиенция окончена. Мир-Джавад вскинул в римском приветствии руку, рявкнул приветствие, повернулся и, чеканя шаг, вышел из комнаты.
— Как ты думаешь, справится? — спросил Гаджу-сан своего любимого сына.
— Не сомневаюсь! — Васо уже был пьян, пока его друг входил в доверие к отцу, он из фляги, которую носил всегда с собой и всегда полной, отхлебывал и отхлебывал потихоньку.
— Какой награды он попросит? — как бы размышляя вслух, поделился Гаджу-сан.
— Хочет занять кресло Атабека, — зевнул устало Васо.
— Не лишен воображения. Откровенно скажу: мне самому осточертели эти «старые бойцы», на словах они меня слушают, как оракула, а на деле — делают то, что хотят, считают себя равными, и даже Арчил, самый верный, самый умный, дорогой для меня человек, завел втайне от меня свою «фракцию», а все тайное всегда для меня становится явным…
— Атабек знает! Он тогда был вместе с Юсуфом возле раненой.
— Ах, хитрец, а мне сказал, что застал уже труп.
— Может, и Арчил притворяется?
Васо сказал это злобным голосом. Он люто ненавидел Арчила, тот был единственным во дворце, кто не лебезил, не унижался, а однажды дал Васо такую затрещину, когда сын вождя вселенной пытался изнасиловать его любовницу, что Васо кубарем пролетел метров пять и два дня после этого лежал в постели с головной болью. С тех пор жажда мщения не давала ему спокойно спать.
— Я сам разберусь, кто притворяется, а кто нет! — рассердился отец. — Иди, займись своими делами, ты слишком много пьешь, не забывай, что ты — мой наследник.
— Хорошо, буду пить меньше!
Васо легко давал отцу любые обещания, о которых забывал, как только была произнесена последняя буква. Поцеловал отца и оставил его одного…
Оставшись один, Гаджу-сан дал волю своей ярости.
— Гонители мои! Опять хотите превратить меня в изгнанника? — забыв, что в изгнанника его превращал когда-то Ренк.
Метался по курительной комнате, сбрасывая то одно, то другое, опрокидывая стулья и не поднимая их. Сбросив случайно со стола библию, замер, затем бережно поднял раскрывшуюся книгу и стал читать наугад вслух:
— Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его… Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые…
Гаджу-сан перевернул страницу.
— Возлюбленные: огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление Славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас: теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но и прославляй Бога за такую участь.
«Все стараются казаться не теми, кто они есть на самом деле… Тени прошлого хотят нарушить спокойное течение моей бурной жизни… Я уничтожил весь архив Ренка, истребил всех людей, которые могли бы знать о содержании архива, истребил всех людей, которые не знали, но могли знать от знающих, не читали, но могли услышать от читающих… А копия, значит, лежала себе и лежала в военном архиве, пока кто-то на нее не наткнулся… Полковые командиры, их родственники, друзья, родственники друзей, начальники и подчиненные… Что-то много получается, не пересчитался?.. Камень брошен, и движения кругов по воде не остановить. Ни секунды не сомневаюсь, что те, кому я поручу уничтожить своих врагов и их окружение, сами начнут уничтожать своих врагов в свою очередь… И сколько будет таких врагов?.. Миллионы?.. Мне очень нужны такие люди, как этот… сын человека, из-за меня которому отрубили голову… Ренк обещал, что только он будет знать, а сам разослал копии по всем городам. Все — лжецы, никому верить нельзя. Ненавижу! Этой страной можно править только кнутом и топором. Вся инквизиция в моих руках. Я превзойду Торквемаду. Жалкий дилетантишко: несколько десятков тысяч сжег, и все его с ужасом вспоминают, а в моей одной столичной тюрьме несколько тысяч человек ждут смерти… Я уничтожу тридцать три миллиона человек, по миллиону на год жизни Христа, а остальные будут меня славить и благословлять, мне будут молиться, а не богам… А для этого мне и нужны такие, как этот… сын человека, которому из-за меня отрубили голову. Много таких… Тогда сверну всем шею… Если единственный человек, которому я верил как самому себе, дает согласие встать вместо меня во главе государства, то остальные на все способны… Ах, Арчил, Арчил! Сердце мне разрываешь, друг… С тебя и начну»…
Когда Мир-Джавад вернулся домой, жена начальника штаба округа уже знала время и место очередной встречи, она сама и подсказала мужу: их дом, через два дня.
На следующий день в город вошли танки дивизии «Викинг». А десантники вышли на исходные позиции и ждали только команды. И когда заговорщики собрались у начальника штаба округа, чтобы назначить день выступления, его жена тайком открыла десантникам дверь черного хода. Все собравшиеся были мгновенно связаны, не сумев даже схватиться за оружие, чтобы погибнуть с честью в бою.
Подвалы инквизиции были забиты арестованными. Мир-Джавад дневал и ночевал на работе, лично пытая каждого, чтобы даже его палачи не знали страшной тайны, не доверял даже своей личной охране. Изуверскими пытками, не давая ни минуты отдыха ни жертвам, ни себе, Мир-Джавад сломал слабых заговорщиков. Посыпались фамилии и адреса. Связи шли через всю страну. Народная инквизиция, забросив все остальные дела, вот когда настоящие шпионы чувствовали себя в стране вольготно, занималась исключительно делом военных. Число арестованных росло как снежный ком: сотня тысяч арестованных выдавала две сотни тысяч, эти две сотни тысяч выдавали уже четыре сотни тысяч, арестовывали родственников и друзей, случайных знакомых, чьи письма или адреса обнаруживали при обысках у арестованных. Страну покрыли оспой огромные концлагеря. Остров Бибирь стал крупнейшим в мире лагерем смерти…
«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертию, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?.. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: „сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает“. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности»…
В дверь тихо постучали, затем она также тихо приоткрылась, и в щель ввинтился адъютант Гаджу-сана.
— Гимрия пришел!
Гаджу-сан оторвался от чтения.
— Раз пришел, зови!
— Нечего баловать! — с грубоватостью любимого слуги прошептал адъютант. — Пусть сидит, ждет и проникается!
— Ну, хорошо, пусть проникается, но не долее, чем пять минут, он мне нужен, — усмехнулся Гаджу-сан.
Адъютант выскользнул за дверь. Гаджу-сан вновь принялся за книгу, стал читать дальше.
«Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся»…
Гаджу-сан закрыл книгу, отложил ее в сторону и, глядя на карту страны, повторил вслух громко:
— Кого я люблю, тех обличаю и наказываю…
Проведя минуту с закрытыми глазами, он отдохнул от чтения, встал и позвонил в золотой колокольчик. Дверь открылась, и вошел Гимрия. Щелкнув каблуками, он отрапортовал:
— Государь! Мятеж подавлен!
— А мятежники? — быстро спросил Гаджу-сан.
— Висят на крючьях! — довольно улыбнулся Гимрия.
— На каких крючьях? — удивился Гаджу-сан.
— Для разделки туш, ваше величество!
— Показания дают?
— Наперегонки!.. Правда, не все, — честно признался Гимрия.
— С крючьями — твоя идея? — полюбопытствовал Гаджу-сан.
— Так точно, мой вождь! — гаркнул Гимрия. — А к ногам жаровню с раскаленными углями.
— Решительный! Я это запомню. Иди! — и непонятно было, чего больше в голосе Гаджу-сана: одобрения или угрозы.
Гимрия вышел из кабинета, а Гаджу-сан вновь раскрыл книгу: «Дела плоти известны; она суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют»…
Расправа над главарями заговорщиков была ужасной: вся сотня была распята по стенам столовой Гаджу-сана, где он под стоны и крики проклятий пировал с утра до вечера, насилуя жен и дочерей распятых. Вместе с ним буянила его ближайшая камарилья…
Все полковники, даже не имевшие никакого отношения к заговору, были расстреляны, половина их заместителей, та, которая не смогла доказать своей ненависти к начальству, и та половина генералов, чьи симпатии к расстрелянным были доказаны, также встали у стенки с завязанными глазами…
И ни одна часть не взбунтовалась, ни один человек не выступил в защиту своих отцов-командиров. Бесстрашие героев заплыло жиром страха. И те, кто вчера расстреливал своих боевых товарищей, завтра сами уже стояли и ждали последнего залпа. Армия была отдана в руки необразованных карьеристов, чей день начинался с молитвы Гаджу-сану, а заканчивался пьяными здравицами в честь отца родного…
Огромная муха нагло сидела в полуметре от Мир-Джавада. Сегменты ее выпуклых глаз невозмутимо поблескивали, а Мир-Джаваду было лень вынуть из кармана нить резинки и пристрелить нахалку. Тяжелая голова сильно болела, чуть ли не раскалываясь от вчерашней попойки.
Весь день Мир-Джавад ждал звонка из дворца эмира, пил минеральную воду, не решаясь даже взглянуть в сторону заветного шкафчика, где он держал коньяк и водку разных марок, в том числе: «Мартель» и «Курвуазье», одна рюмка которого принесла бы такое облегчение. Но нельзя! Великий вождь не должен был даже по телефону чувствовать запах крепких напитков, вождь пил только легкое вино и кровь своих подданных…
Уже наступил вечер, а звонка так и не было. Ночью вождь работал и ждать звонка от него было бессмысленно, навряд ли он вспомнил бы о каком-то Мир-Джаваде, хотя начальник инквизиции надеялся если не на благодарность за раскрытие заговора, то хотя бы на поощрение. А в этом молчании рушились все личные планы и амбиции, и надежды беспощадного слуги. Домой идти не хотелось, было выше сил видеть счастливое лицо жены, возившейся с дочерью, а точная копия его соперника почему-то раздражала в юных чертах.
Мир-Джавад с отвратительным настроением вышел из инквизиции, сел в персональный бронированный «кадиллак» и стал бесцельно ездить по городу, приводя в изумление шофера. У сквера имени любимого отца и учителя, где обычно по вечерам собирались проститутки, педерасты и сутенеры, Мир-Джавад неожиданно вышел и отправил машину в гараж…
Ему приглянулась красивая девчонка, сидевшая одна на скамейке, явно в ожидании клиента. Погрязшему в извращениях и вседозволенности Мир-Джаваду она показалась свежей и неискушенной, и, хотя она ему показалась такой, он знал и был уверен, что она продажная. И ему захотелось простой, деревенской истории. Так после изысканных яств тянет на простую пищу, и черный хлеб с маслом и брынзой, да с кружкой молока в придачу, кажется пищей богов…
Мир-Джавад подсел к девчонке и сразу спросил:
— Кого ждем? Клиента?.. Так он прибыл.
— Проваливай, я из «стольных»! — усмехнулась девчонка.
Мир-Джавад рассмеялся, он имел больше ста монет в минуту каждый день, независимо: ел ли он, спал или расстреливал людей. Молча он показал девчонке бумажник, набитый банкнотами, правда, умолчав, что они фальшивые. Расплачиваться фальшивыми банкнотами вошло у Мир-Джавада в привычку, шутка, достойная миллионера, так он считал. Тем более что они были сделаны так, что даже банк не мог отличить их от настоящих без сложного химического анализа. А при желании всегда можно было арестовать любого… или любую. Девчонка растаяла при виде такой кучи денег. С готовностью поднялась и предложила:
— Махнем к тебе или ко мне?..
— К тебе, только к тебе! — Мир-Джавад поднялся и подхватил красотку под руку.
— Можно разорить тебя на «мотор»? Или на поезде?
Девчонка, широко раскрыв глаза, гипнотизировала Мир-Джавада обаянием, молодостью и неотразимостью.
— Для тебя только такси, дорогая! — воскликнул Мир-Джавад, вспомнив фразу из зарубежного фильма, который он смотрел на закрытом просмотре, где собрались люди, призванные ругать все иностранное для тех, кто и в глаза ничего иностранного не видел.
Конечно, Мир-Джавад мог повести ее на одну из своих конспиративных квартир, где он встречался со своими секретными агентами, но они ему осточертели и приелись на работе, хотелось чего-нибудь свеженького.
Поймать такси было минутным делом. Ехали долго. Проезжали поселок за поселком, уже Мир-Джавад стал беспокоиться, не попал ли он в хитроумную ловушку, и ощупывать теплую рукоятку «вальтера», а конца пути все не было, только фары машины резали лучами черноту ночи. Наконец, девчонка показала шоферу, где надо свернуть, и сказала:
— Приехали!
Шофер остановил машину. Девчонка вышла, за ней следом Мир-Джавад, расплатившись с шофером, разумеется фальшивками. Такси развернулось и укатило в сторону города. Мир-Джавад огляделся. В черноте ночи слабо проглядывали домики поселка, рабочий поселок засыпал рано.
— Иди за мной! — тихо приказала красотка.
Мир-Джавад, ни секунды не сомневаясь, пошел следом за ней. Внезапно девчонка резко остановилась и, прижав палец к губам, прошипела:
— Тс-с! Замри!
И изящно указала на забор, тянувшийся вдоль улицы.
— Спрячься, чтобы тебя не видели, и жди!
И растворилась в черноте ночи. Мир-Джавад на всякий случай, ожидая девчонку, приготовил пистолет к бою.
— Ощущение, будто вступил в ад, — подумал начальник инквизиции.
Но кое-где горели окна, и ощущение было неполным… Девчонка скоро вернулась, чем-то расстроенная.
— Черт бы его побрал! Отчим дома, пьян в стельку, скандалит, ко мне нельзя.
Мир-Джавад притянул ее к себе.
— Ночь теплая, пойдем в сад!
— Там змеи, я боюсь! — прошептала девчонка, ощутив его.
— Глупая, ночью змеи тоже спят! — тоже перешел на шепот Мир-Джавад, лаская нежное податливое тело девчонки.
— Подожди, я принесу одеяло, постелить!
Девчонка выскользнула из объятий Мир-Джавада и исчезла в темноте, но не успел он остыть от возбуждения, как она появилась вновь, взяла за руку Мир-Джавада и, открыв незаметную для глаз калитку, ввела его в сад. Неподалеку, среди кустов роз, было расстелено толстое одеяло из верблюжьей шерсти.
— Гони монеты вперед! — распорядилась девчонка, снимая с себя всю одежду.
Мир-Джавад покорно отсчитал ей сотню фальшивых фунтов…
До утра девчонка демонстрировала чудеса своего искусства любви, причем делала это с душой, не так, как подопечные Бабур-Гани. Но когда Мир-Джавад пристроился к ней сзади на коленях, неожиданно на него насел огромный мохнатый пес, который попытался овладеть им. Мир-Джавад изловчился и, выхватив «вальтер», пустил три пули в голову пса. На выстрелы сразу залаяли собаки, захлопали истошно двери домов, раздались встревоженные голоса. Девчонка с ужасом обернулась, и даже в темноте на ее лице была видна печать смерти. Мир-Джавад мгновенно понял, чем грозит ему скандал, свидетели ему были не нужны, и он, ни секунды не мешкая и не сомневаясь, выстрелил девчонке в ухо и изошел в уже мертвое тело…
Затем привычно замел следы: навалил на голый труп девчонки мертвого пса… скрылся, не одеваясь, лишь прихватив одежду с собой…
Арчил докладывал Гаджу-сану о конфискациях, обстоятельно перечисляя суммы, поступившие в казну государства, описывал драгоценности и картины, поступившие во дворец. Сосун слушал его словно нехотя. Арчил заметил это и обиделся.
— Что скажешь, я плохо постарался? Какие сокровища тебе достал!
Гаджу-сан заговорил голосом проповедника:
— Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапываются и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше… Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать»…
Арчил хмыкнул и грубо прервал друга.
— Семинарию вспомнил? Стареешь, что ли? Ты знаешь, когда впадают в детство? А поговорка: «что старый, что малый», — тебе ни о чем не говорит?.. «Не собирайте сокровищ»… Как же!..
Арчил повернулся и ушел, даже не попрощавшись, а Гаджу-сан, сверкая желтыми глазами, злобно смотрел ему вслед.
Гаджу-сан не позвонил Мир-Джаваду не потому, что забыл о его существовании. Он помнил о нем, он все помнил. Но Гаджу-сан заканчивал плести паутину и не хотел отвлекаться на второстепенные дела…
Вождь планеты собрал все подробности романа Арчила с молодой женой одного из старых и заслуженнейших бойцов и теперь, изучая фотографии любовников, снятых в самых смелых позах, обдумывал: какие послать из них старому бойцу, а какие нет, чтобы пощадить старое больное сердце соратника. И решил послать все…
Гаджу-сан позвонил. Через секунду вошел секретарь.
— Пришел? — спросил Сосун.
— Ждет! — так же коротко ответил секретарь.
Гаджу-сан кивнул ему, и секретарь скрылся. Вошел кривоногий, маленького роста, весь заросший волосами горец.
— Давид, я долго не отдавал тебе Голиафа! — засмеялся Гаджу-сан. — Прости меня!.. Теперь твой час настал! Подойди поближе!..
Сосун с нескрываемым удовольствием смотрел на своего личного раба, служившего при нем палачом. Он убивал любого, не было для него никаких препятствий, не было охраны, он находил лазейку в любом тщательно охраняемом доме. А к Арчилу Давид питал необозримую ненависть: много лет назад тот совратил его несовершеннолетнюю сестру…
— Пошлешь эти фотографии старому бойцу. — Гаджу-сан отдал фотографии Давиду. — Дурак, думал, что старые заслуги спасут от молодых рогов… Сообщи ему, когда он может встретить Арчила в штаб-квартире без охраны и где: там, куда и цари пешком ходят.
— Он сумеет? — глухо спросил Давид.
— Не уверен! — Сосун подмигнул Давиду. — Разрешаю, но так, чтобы все подумали, что это он… Сумеешь?
Давид подумал и кивнул, с трудом сдерживая радость, гордо и зловеще.
Давид, недолго думая, принес фотографии старому бойцу и не менее старому мужу лично. Когда-то Давид с группой боевиков выручал его вместе с другими из камеры смертников. Старик занимал очень высокий пост, но встретил избавителя по-дружески, тепло и ласково.
— Жена дома? — спросил подозрительно Давид.
— К подруге уехала, та заболела, некому попить подать.
— Это хорошо, что ты один, разговор к тебе серьезный имею.
Долго пили чай с кизиловым вареньем, ни старик, ни Давид спиртного не употребляли, вспоминали родные горы, прекрасную юность… Расчувствовались… Давид достал из внутреннего кармана френча фотографии.
— Арчил ведет себя не по-мужски, друг ты мой старый! Смотри, какую гадость он показывает направо и налево…
И Давид протянул несчастному мужу фотографии. Старый боец в прошлом, а ныне несчастный, жалкий, старый муж держал дрожащими руками скабрезные фотографии, смотрел на них и ничего не видел, слезы туманили ему глаза, он безумно любил эту женщину, всю жизнь он воевал или работал, времени для любви не было. И вот, когда седина покрыла волосы, а морщины избороздили лицо, он утонул, весь растворился в этих детских глазах, в чуть смущенной улыбке красавицы, не замечая, что это лишь ширма, маска, за которой прячется наглая, холодная и расчетливая хищница…
— Тебе надо поговорить с ним наедине, без свидетелей! — распалял старого друга Давид.
— Зачем? — вздохнул, глотая слезы, рогоносец, роняя из рук на стол фотографии.
— Как, зачем? — изумился Давид. — Припугни его, чтобы отстал, не разрушал бы твое последнее счастье… Пистолет у тебя именной?
— Именной! — машинально подтвердил старый муж.
Он настолько был ошеломлен увиденным, что позы, которые он впервые увидел на этих снимках и о которых даже не подозревал, предстали перед ним как живые, и он еще больше возжелал свою жену, чья измена так больно отозвалась в его верном сердце.
— Покажи мне! — попросил Давид.
Старый боец, продолжая думать о своем, принес ему именной браунинг с приваренной к рукоятке золотой пластинкой, где восхвалялась его безумная храбрость, о которой поют песни.
Давид достал обойму, воспользовавшись растерянностью и рассеянностью старого друга, незаметно достал из нее один патрон, проверил механизм пистолета и, протянув браунинг другу, сказал жестко:
— Ты можешь встретить Арчила в штаб-квартире партии без охраны, когда он ходит в уборную, вот возле нее и подстереги его завтра. Как следует испугаешь, далеко бежать ему не придется.
— Зачем? — опять горько проговорил несчастный муж.
— За счастье надо бороться! Сбей с него спесь.
— Сомневаюсь, что это чему-нибудь поможет.
— А ты не сомневайся. Сходи и напугай полового гангстера.
— Хорошо, схожу!
И Давид ушел, не осознавая, какой «эффект домино» он вызовет, сколько костяшек упадет при падении первой, имя которой — Арчил…
«Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так — человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: „я только пошутил“… Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь — для жару и дрова — для огня; а человек коварный — для разожжения ссоры. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему; потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее; и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит управляемых им, и льстивые уста готовят падение»…
Арчил настолько уверился в своей незаменимости, в своем всемогуществе, в том, что Сосун ему всем обязан: жизнью, властью; а это действительно было так, именно этого Гаджу-сан и не мог забыть и простить, — что даже не помышлял об опасности. Ему единственному разрешалось сидеть в присутствии Гаджу-сана, обедать с ним за одним столом, говорить правду в лицо, так что ревнивцев он не боялся…
Поэтому, когда он встретил мужа своей любовницы у туалета, то не придал этому никакого другого значения, сердечно с ним поздоровался и заторопился по своим срочным надобностям.
— Подожди! — остановил его старый борец.
Глухая ненависть в голосе обманутого мужа так удивила Арчила, что он застыл у заветной двери.
— Слушай, дорогой! Бывают минуты, когда промедление — смерти подобно или, на худой конец, испачканным штанам, — укоризненно проговорил Арчил.
Обманутый муж достал из кармана френча, в котором ходили все сторонники Гаджу-сана, фотографии своей жены в объятиях ненавистного теперь соратника по борьбе и бросил их в лицо Арчилу. Это был очень эффектный жест, как в театре.
Арчил побелел от ярости: боль от удара острых краев фотографий напомнила сразу ему, как его долго и обидно били по лицу в жандармерии Ренка. (Офицер этот на свою беду живым попался в руки Арчила, и тот каждый день отрезал от него пятачок, заботливо перевязывал сам ему рану, а пятачок плоти скармливал на его глазах своему псу. И так день за днем, пока полусъеденный офицер не скончался в страшных муках.)
Арчил одним ударом сшиб старика с ног, подобрал фотографии с пола, долго их рассматривал с наслаждением.
— Что же ты их бросаешь, старый импотент? Сам не можешь, так посмотри, как это делают другие. Ты думаешь, что можно привязать к себе красотку особым пайком? Мужик ей нужен, старый член. Ты ей даришь только наряды, а я ей дарю радость… впрочем, не только ей. У тебя хорошая компания, старый… Предупреждаю, еще раз сунешься, твоя жена станет вдовой. Убирайся!
Старый боец, сидя на полу с окровавленным лицом, выхватил из кармана браунинг и навел его на Арчила.
Тот захохотал:
— Ну, давай, стреляй, старый высохший сучок! Вспомни про свой крючок и нажми свою мечту у браунинга, он, надеюсь, окажется покрепче.
Дверь туалета тихо приоткрылась, ровно настолько и на такой промежуток времени, чтобы пуля, вылетевшая из дверного проема, шлепнула Арчила в затылок. Удивление застыло у него на лице, и он рухнул с грохотом, будто старый дуб, к ногам обманутого им мужа. Кровь залила его щегольской френч, а переполненные мочевой пузырь и желудок выплеснули свое содержимое в галифе. Сразу же засмердело настолько, что старого бойца от омерзения и ужаса вытошнило прямо на голову второго человека в стране. Уже бывшего вторым…
На выстрел сбежалась охрана и скрутила несчастного рогоносца. Появившийся в суматохе Давид, сделавший вид, что он появился из комнаты, а не из туалета, взял из руки старого друга браунинг и спрятал его в свой карман. Старый боец и не думал сопротивляться.
Давид скомандовал охране:
— В машину! Я сам повезу его в инквизицию.
— Машины все в разгоне, один крытый грузовик остался во дворе, — встрял заведующий хозяйственной частью, выскочивший на шум и теперь не сводящий глаз со зловонного трупа Арчила. Радостных глаз. Он тоже был из одной компании рогоносцев.
— Заводи, болван! — рявкнул на него Давид. — Считаешь, что для этого убийцы нужен импортный кабриолет?
Заведующий хозяйственной частью побледнел. Уже в то время подобное обвинение пахло в лучшем случае тюрьмой, где он впоследствии и сгинул, поэтому заторопился выполнять указание…
Давид зашел в первый попавшийся по дороге кабинет и позвонил Гаджу-сану.
— Партайгеноссе! Наш общий друг и любимец Арчил, наш лучший боец за справедливость, пал от злодейской руки гнусного перерожденца. Я звоню из штаб-квартиры партии…
Даже не видя перед собой довольной улыбки Гаджу-сана, Давид так явственно себе представил ее, как если бы находился в кабинете Верховного.
— Привези этого убийцу ко мне! — спокойно приказал Гаджу-сан. — Если живым не довезешь, сам приезжай, расскажешь подробности.
Давид любой приказ Гаджу-сана понимал с полуслова, но такого ясного, открытого и четкого приказа до сих пор он еще не получал.
— Решать мне! — невольно проговорил вслух Давид свои мысли и испуганно оглянулся, но в кабинете никого не было.
Давид задумался: такого быстрого решения ему не приходилось еще принимать. Среди охранников появились инквизиторы из отдела инквизиции при штаб-квартире. И среди них Давид увидел своего племянника Карена. Инквизиторы привычно отобрали у охраны преступника и увели его во двор, где уже ждал приготовленный грузовик с брезентовым верхом, в этом грузовике обычно возили почту.
Давид шепотом отозвал племянника:
— Карен, иди за мной!
Карен безропотно пошел за дядей. Тот завел его в тот же пустой кабинет, откуда он только что звонил во дворец Гаджу-сану.
— Слушай меня, дорогой, внимательно! Поедешь со мной, вдвоем только поедем, не считая шофера и убийцы… Запомни: сядешь рядом с шофером, как только он свернет с проспекта ко дворцу, они все спрямляют там путь, рвани руль на себя и направь машину так, чтобы она задела об угол дома.
Племянник молился на дядю и верил ему, как богу.
— Может, врезать машину в дом? — прошептал он, обрадованный первым важным поручением дяди.
— Советы прибереги для своей девчонки! — тихо рявкнул Давид.
— Слушаюсь и повинуюсь! — стушевался Карен.
Как только они вышли во двор, Карен сел в кабину рядом с шофером, а Давид залез в кузов, где кроме «убийцы» находился конвой инквизиторов во главе с офицером.
— Великий Гаджу-сан приказал мне доставить убийцу во дворец.
Офицер конвоя с сомнением посмотрел на Давида.
— Что смотришь? Не ясно разве? Ты свободен, забери с собой ребят и сматывай удочки! — удивился Давид.
— Без мандата не имею права его отдать! — упрямо заявил офицер. — Голову снимут!
Давид расстегнул френч и рубаху под ним, достал из-за пазухи висевшую на толстой золотой цепочке золотую пайдзу с изображением глаза, где вместо изображенного зрачка был вставлен огромный бриллиант.
Офицер слышал и знал о существовании разных пайдз: медных, серебряных, золотых с определенными изображениями животных. Он даже видел многие из них, но не думал и не видел во сне, что он когда-нибудь встретится с человеком, обладающим высшей властью приказывать и повелевать, — с «Оком страны». Офицер, благоговея, преклонил колено перед Давидом и, свистнув солдатам, выпрыгнул из грузовика. Солдаты не видели пайдзы с изображением ока, но беспрекословно выпрыгнули вслед за офицером. Привычка повиноваться не рассуждая в инквизиции была доведена до автоматизма.
Давид со старым бойцом остались одни в кузове. Давид постучал в кабину, и мгновенно шофер погнал грузовик ко дворцу эмира.
— Ты правду сказал, что Сосун хочет меня видеть? — спросил с надеждой обманутый муж.
— Я всегда говорю правду, поэтому я — «Око страны»! — гордо ответил Давид. — Поэтому я и отослал конвой. Сосун сам решит, что с тобой делать. Пока ты не арестован…
— Давид! — горячо зашептал старый боец. — Ты уже однажды спас мне жизнь, рискуя своей, спаси и на этот раз… Я не виноват! Клянусь тебе, я не стрелял, выстрел был из туалета, его кто-то другой убил, я не стрелял, ты же знаешь, испугать только хотел… — взмолился несчастный.
— Все расскажешь Великому! — дружелюбно успокоил его Давид. — Он поймет… Между нами, ты убрал его лютого врага. Гаджу-сан простит тебя, я уверен.
— Не убивал я его, клянусь тебе! — убеждал Давида старый боец.
— Я тебе верю как никто другой! — ухмыльнулся Давид. — Просто, дорогой, пистолет сам выстрелил. Шучу, шучу!.. Оправдываться будешь перед прокурором. Ты первым делом убеди Великого, все ему расскажи. Все! Ты понимаешь меня?..
Старый боец не успел ответить, как резкий толчок сбросил их со своих мест, машина ударилась обо что-то. Давид каждую секунду ожидал его, всю дорогу он выверял по времени, благо до дворца эмира было недалеко ехать. К этому моменту он уже кастет подготовил с торчащими шипами и, как только машина зацепилась за угол дома, нанес сильнейший удар в висок старому другу. Тот умер, даже не вскрикнув. Далее Давид по заранее продуманному плану, достал из кармана завернутый в платок именной браунинг старого бойца и через этот же платок выстрелил себе в плечо и в кабину, между племянником и шофером. Через секунду шофер затормозил машину. Еще через две в кузов впрыгнул Карен с оружием в руках. Увидав в полутьме неподвижное тело старого бойца и окровавленного дядю, он замер, почувствовав, что произошло нечто, недоступное его понятию, и это добром не кончится…
— Что замер? — простонал Давид. — Помоги перевязать рану…
Карен взял протянутый ему дядей стерильный пакет, предусмотрительно захваченный Давидом, ловко перевязал, его выгнали со второго курса мединститута за абсолютную бездарность, только и научился перевязывать да уколы делать.
— Подними осторожно браунинг, заверни в свой платок, отпечатки пальцев не сотри смотри…
Племянник также безмолвно выполнил распоряжение дяди: разжал еще теплые пальцы убитого, судорожно сжавшие рукоятку пистолета, завернул браунинг в свой грязный платок и спрятал в карман.
— Молодец! — похвалил племянника Давид.
— Как же так получилось, — обрел наконец дар речи Карен. — Дорогой дядя, этот негодяй чуть не убил тебя!
— С машиной все в порядке?..
— Шофер голову разбил, сознание потерял, с трудом машину я остановил, тяжелый старик, пока тормоз нащупал, могли бы разбиться.
— Надень ему наручники, сам садись за руль.
— Ехать в инквизицию?
— Высадишь меня у дворца…
— Может, в больницу лучше, дядя?
— Делай, что говорю!.. — оборвал его Давид. — Высадишь, поедешь в инквизицию… Шофера в одиночку!
Карен бросился выполнять распоряжение своего любимого дяди, которого с детства обожал и от которого видел в своей недолгой жизни только хорошее.
Часовые у дворца многое видели, но такое не могли и предположить увидеть когда-либо. «Око страны», человек, которого приказано пропускать во внутренние покои Гаджу-сана в любое время дня и ночи, шел, шатаясь, в залитом кровью френче, большая часть которой, правда, была чужой. Начальник караула опрометью бросился к Давиду и, бережно поддерживая, довел до следующего поста, где передал с рук на руки своему коллеге. В таком виде он и предстал перед Отцом всех народов.
«Голова болит, ребра болят! — простонал шофер, открыв глаза и с удивлением глядя на наручники, сковывающие его руки. — Проклятые инквизиторы! Уже нацепили „браслетки“. А как я им докажу, что это их офицер устроил аварию?.. Молодой подлец! Как он ловко воспользовался тем, что я торопился и свернул слишком близко от угла дома. Впрочем, я никуда не торопился, привык срезать дорогу, все так ездят. Ему достаточно было крутануть баранку на себя, и машина „поцеловалась“ с домом… Зачем ему было это нужно? Или перепугался, хотел рвануть машину влево, а с перепугу рванул направо? А, что об этом гадать… Этот черт — от всего открестится, а я буду за все отвечать… С работы теперь выгонят, прав лишат, пенсии повышенной мне уже не видать… Где это я? В больнице, что ли?.. Нет! К себе забрали, проклятые… Значит, что-то случилось. Если преступник сбежал, все, хана!.. Засудят, скажут, что это я подстроил, дал ему возможность сбежать… А это — „вышка“!.. За Арчила многим головы поотрывают… Встречал я его, как он катал в машине жену этого убийцы… Многих он катал… Меня не помнит, а я с ним работал еще на юге. Каждую неделю на охоту возил… И каждый раз он ездил с новой секретаршей… Старый кот, откуда только силы берутся… Вот и „докотовался“!.. А этот, старый кретин, муж который… На пороге смерти ревность взыграла. Где подстерег, а, надо же! Сколько вони и грязи… Паны дерутся, а у холопов чубы летят… Только я чубом не отделаюсь. Снимут вместе с головой… Надо было мне соглашаться идти работать в штаб-квартиру?.. Идиот! За паек платить жизнью»…
«Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим»…
Гаджу-сан, увидав Давида в таком виде, крикнул, не закрывая библии:
— Немедленно врача!
— Со мной все в порядке, Великий! — спокойно ответил Давид.
Но по знаку Гаджу-сана секретарь срочно вызвал дежурного врача, прибывшего в кабинет через несколько секунд. Он сразу же начал обрабатывать рану у Давида, а тот ни разу даже не поморщился, чем вызвал восхищение врача, да и Гаджу-сана, искоса наблюдавшего за Давидом, отрываясь от чтения.
«Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: „не пожелай“.
Гаджу-сан с удовольствием посмотрел на Давида: в чистом новом кителе френча он выглядел даже красивым, несмотря на малый рост и кривые ноги, было в нем что-то от первобытных людей, дитя природы, никогда не скажешь, что уже сорок лет стукнуло, ни единого седого волоса, более верного слуги трудно было даже предположить.
— Какая будет официальная версия? — спросил Гаджу-сан у Давида, улыбаясь в густые усы.
— Шофер, сообщник, пытался освободить убийцу, устроил аварию. Преступник воспользовался случаем, набросился на меня, вырвал браунинг, два раза ему удалось выстрелить, ранить меня, а потом, в борьбе со мной, ударился виском об окованный железом угол скамьи и умер.
— Умно!.. А свидетели?.. Шофер, твой племянник… Что с ними делать?»
— Есть еще охрана штаб-квартиры, конвой инквизиции… Со мной будет человек десять…
— Здесь шутить можно только мне, Давид!.. Умирать собрался… Ты будешь мне нужен до конца жизни. Я тебе верю: ты единственный человек, который ни разу для себя ничего не попросил и не брал меня за горло…
— Как можно?
— Можно!.. Многие могут… Хочешь, отдам тебе племянника?
— Молодой, нельзя!..
— Почему?
— Влюбится — расхвастается, напьется — проболтается…
— И не жалко?.. — прищурив желтые рысьи глаза, спросил Верховный.
— Безумно жаль!.. Люблю мальчишку… Не знаю, как буду смотреть в глаза сестре…
— Да, дело большое задумали, друг!.. Лес рубят — щепки летят! В окружении врагов живем, дорогой!
И Гаджу-сан неожиданно даже для самого себя обнял Давида. Тот вздрогнул, как вздрагивает старый верный пес от неожиданной ласки хозяина…
Шофера разбудили ночью и потащили на допрос. Резкий свет мощной лампы жег глаза. Сидя на крепко привинченном к полу табурете, шофер с тоской ждал предъявленного обвинения в сообщничестве с убийцей, побоев, а то и пыток. Но вопросы, хоть и касались только убийства, звучали на редкость миролюбиво, буднично, шоферу предложили чаю с ежевичным вареньем, и он, отхлебывая, щурясь от блаженства, крепкого, хорошо заваренного, с любовью, чаю, так же буднично, словно в домашнем кругу, отвечал: кто непосредственно видел место убийства, из тех, кто там был, кто общался с убийцей, были ли посторонние лица на месте преступления, родственники какие-нибудь, знакомые, просили перечислить всех знакомых ему, друзей, дать подробную характеристику каждому из охраны, их родственникам и друзьям.
Шофер часто возил дрова, картошку и прочие продукты земли каждому, кто просил его об этом и давал ему заработать. Обладая хорошей памятью, он сыпал именами и адресами, стремясь оттянуть ту минуту, когда его самого начнут терзать из-за аварии, или, что значительно хуже, из-за побега убийцы. Но об аварии не было произнесено ни слова, а о побеге даже не заикнулись, чем очень удивили шофера. «Не иначе офицера прижали с этой аварией, — злорадно подумал он, — так ему, курве, и надо, не будет за руль хвататься, когда не просят»…
После допроса, длившегося часов пять, шофера отвели в столовую, вкусно накормили обедом, дали даже стакан водки, а затем вывели во двор, где уже урчал мотором его грузовик. Только за рулем уже сидел тот же самый молодой офицер инквизиции, который сыграл такую гнусную шутку с шофером, приведшую его в логово инквизиции и поставившую перед лицом смерти.
— Где тебя черти носят? — заорал офицер, едва увидев шофера.
— Я не из дома, кацо! — обиделся шофер.
— Великий вождь мира Гаджу-сан удостоил нас с тобой чести лицезреть, предстать перед его светлыми очами! — задыхаясь от счастья, продекламировал племянник Давида.
Шофер промолчал, но про себя заматерился: «мудак, чему радоваться? Может, тебе и светит орден, не иначе, а меня загонят на край земли, а то и на остров кинут, хорошо, если не в полосатом»…
Подгоняемый нетерпеливым Кареном, племянником Давида, шофер сел рядом с ним в кабину. Сопровождающий его конвоир хотел было снять с него наручники, но Карен заорал на него:
— Баран, с ума сошел? Дай ключ, во дворце сам сниму.
Конвоир с безмятежным лицом отдал ему ключ, повернулся и ушел. Карен включил зажигание, грузовик зачихал и поехал рывками. Шофер усмехнулся: «молодой осел! думает, водить машину легче, чем расстреливать людей. Лопух»!
Племянник Давида, выехав со двора инквизиции, выровнял ход машины и погнал ее, не обращая внимания ни на какие дорожные знаки. Но, свернув в узкий переулок, чтобы сократить путь ко дворцу, Карен злобно выругался и остановил машину: дорогу преградила повозка, запряженная парой быков. На повозке лежали полуприкрытые мешковиной уже освежеванные коровьи туши. Шофер почувствовал тошноту, увидев, как густо туши облепили огромные жирные мясные мухи. Они ползали, взлетали, садились…
Это ползущее месиво было последним, что увидел шофер в своей жизни. Сильный взрыв разметал и машину, с находившимися в ней шофером и племянником Давида Кареном, и повозку с возчиком, с быками, с коровьими тушами. И мухи пали жертвой своей страсти к крови. Все разметал в пыль сильный заряд мины, подложенной в машину…
Давид печально смотрел, как медленно разлетаются во все стороны обломки машины, повозки, клочья людей и животных. И среди этих клочьев были и бренные останки его любимого племянника, чьи мечты увидеть лично Великого Гаджу-сана так и не осуществились. Слезы текли, не останавливаясь, у него по щекам, и Давид даже не вытирал их… Тяжело вздохнув, он подал машину, из которой и включил радиомину, назад, прочь от беды, развернулся и поехал во дворец докладывать Гаджу-сану, что счет открыт.
Камень сброшен в воду, и первый круг начал свой неумолимый бег, страшный своей неотвратимостью, рождающий все новые и новые круги, стремящиеся за первым, пока не достигнут берега, не пройдутся волной по тверди, смывая все, что можно смыть, разрушая все, что можно разрушить, утаскивая и пряча обломки в глубине своих вод.
Охрану штаб-квартиры партии: тех, кто был на месте преступления, или просто в смене, и тех, кто их потом сменил, всех собрали вместе, посадили в автобусы и повезли за город, якобы ловить банду преступников, выдали им винтовки с патронами. Охранники недоумевали: не было еще раньше случая, чтобы «элиту», какой они себя считали, посылали на такую тяжелую и опасную работу…
В глубине леса, на опушке стоял каменный дом. Автобусы остановили за километр от него, и охрана цепью пошла окружать дом, безмолвный, смотрящий черными окнами, как мертвыми, пустыми глазницами. Как только цепь подошла к дому поближе, заговорили спрятанные пулеметы, как в доме, так и в лесу, расстреливая в упор обреченных, к тому же безнаказанно, практически безоружных людей, охрана была снабжена холостыми патронами…
На следующее утро все убитые были награждены боевыми орденами, а их убийцы были все отравлены и остались без наград. Той же ночью Давид угостил их французским коньяком…
Всего этого Мир-Джавад не знал. Хоть и был он во многое посвящен, но тайное тайных ему было недоступно. Полуизнасилованный псом, он стал еще больше лютовать. Иногда даже задыхался от ненависти к людям, тогда он брал вырезанный из газеты портрет Атабека и шел с ним в сортир и этим портретом подтирался. Это его, как ни странно, успокаивало.
И тут Гюли нанесла ему удар в один из редких его визитов.
— Ты такой видный мужчина, — сказала она с издевкой, — а жена тебе уже рога наставляет… Хочешь, дам адресок?
Мир-Джавад уставился на Гюли, словно впервые увидел ее. Атабек как-то после совещания заметил ему вскользь: «Гюли терроризирует целый район, грабит его по-черному, как меняются люди, как меняются!..»
Если раньше Мир-Джавад читал в глазах Гюли покорность и готовность любить, то теперь кроме наглости там ничего не было. Но Мир-Джавад чувствовал, что на этот раз она говорит сущую правду. Усмехнулся.
— Врагов вижу под землей, а внутреннего врага дома проглядел, — подумал он с непонятной горечью. — Ведь не люблю и почти не живу с ней… Чужое счастье костью в горле застревает… И не врежешь этой шлюхе, папочка прикроет…
Улыбнулся Гюли так, что она несколько оторопела, до того хорошо сыграл он равнодушие.
— Конечно, дай адресок, вдруг он мне может пригодиться.
Его спокойный голос враз испортил Гюли настроение.
— Зачем?.. Вижу, тебе на них наплевать с высокой горы.
И обиделась. Не получилось у нее стравить Мир-Джавада с Атабеком, чтобы он сломал себе голову. Никак ей не удается избавиться от этого сумасшедшего, чтобы выйти замуж за любимого Геркулеса, чтобы родить от него ребенка. Уже два раза пришлось подпольно делать ей аборт, а молодой любовник только посмеивался. Пыталась как-то Гюли навести его на мысль: убить Мир-Джавада, но только она намекнула на такую возможность, как получила такую затрещину, что искры посыпались из глаз.
— Чтобы я от тебя больше таких глупых слов не слышал! — заявил Геркулес. — Может, ты меня и действительно любишь, а может, хочешь «подставить», кто тебя знает, вас, женщин, сам черт не разберет. И для чего мне твои миллионы в могиле? А как умеет пытать отец твоего ребенка, я знаю лучше других, начинал с подручных палача. Я и так рискую головой. Ты что, дура, думаешь, Мир-Джавад один? И за него некому будет с нас спросить? Ты живешь хорошо, пока он в силе, запомни это, ненормальная! Я тебя удовлетворяю, ты мне хорошо платишь за это и будь довольна. Если надоел, честно скажи Мир-Джаваду, пожалуйся на меня, что я стал ленив, стал пить горькую, но и думать забудь где-нибудь, хотя бы во сне, произнести то, что ты мне сейчас сказала.
Гюли была ошеломлена не затрещиной, а его словами. Почти всегда молчащий Геркулес заговорил, как сивилла. Гюли стало так страшно, как никогда. Она узрела в искаженном страхом лице Геркулеса всю мощь той машины, которая зовется «государственная система»…
Мир-Джавад ненавидел жену еще больше, чем тестя. Что чужой человек, бог с ней, так всегда найдет повод, да еще при людях, чтобы хоть чем-нибудь унизить его: изъяны в образовании и в воспитании еще сказывались, никакой самый мудрый еврей, даже под страхом смертной казни, не сможет сделать чудеса и зачеркнуть всю прошлую жизнь. Ревности не было, просто Мир-Джавад уцепился за саму возможность насолить, отомстить ненавистной.
Вернувшись домой, он посмотрел внимательно на счастливое лицо жены, читающей книжку дочери, чьи красивые черты лица копировали того, кого Мир-Джавад готовился уничтожить. Лейла удивленно посмотрела на Мир-Джавада, у них существовал негласный уговор, согласно которому каждый приход на ее половину должен быть согласован с ней.
— Извини! Ты хочешь поехать на теплоходе по Средиземному морю: Греция, Италия…
— Я подумаю! — усмехнулась Лейла. — Мог бы мне позвонить по внутреннему телефону и спросить.
— Да! Как-то не подумал! Извини!
И Мир-Джавад уехал в инквизицию. Из кабинета он позвонил своему самому ловкому агенту Арутюну и назначил ему встречу на конспиративной квартире, срочно.
— Не в службу, а в дружбу! — сказал он как можно равнодушнее. — Сделай мне несколько фотографий моей жены. Кто ее охраняет?
Агент сразу понял, что хочется Мир-Джаваду. Фотографии лежали у него в кармане и ждали своего часа. Шантажировать ими было очень опасно, Арутюн это хорошо знал и придерживал их, не давая ходу. Теперь они пригодились. Достать их и с поклоном положить перед шефом было секундным делом. Мир-Джавад лениво их просмотрел и протянул руку агенту, тот молча положил в нее адрес Мирзы, любимого мужа-любовника Лейлы.
Мир-Джавад минут десять раздумывал: многое ставил он на кон, в первую очередь свою жизнь. Если дело примет огласку, Атабек воспримет его действия как вызов и уничтожит. Мир-Джавад прекрасно знал про «синдикат». Списки убийц из «синдиката» лежали в сейфе Атабека, только он знал эти фамилии, а этим асам уничтожить начальника инквизиции вместе с охраной ничего не стоило. Невелика птица, убивали и повыше рангом…
Но соблазн был так велик, что отказаться было никак нельзя, выше сил. Значит, надо было сделать все так тонко, чтобы «комар носа не подточил».
— Слушай, брат мой, внимательно: возьмешь негодяя один, как — это твое дело, привезешь на эйлаг, в мою охотничью избушку, я буду там заодно охотиться, может, архара свалю…
— Лучше его туда заманить! — сказал Арутюн. — На золотой крючок поймать ничего не стоит, Мирза ищет любой способ, чтобы заработать большие деньги…
— Замани его на золотой крючок… Его зависть гложет, наверное, что не может, как я, подарить дорогой подарок своей жене, вернее, моей… Или… Как это у нас получается?.. Теоретически — моей, а практически — его…
Мир-Джавад ждал реакции своего лучшего агента, но тот на то и был лучшим, хранил молчание, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Мир-Джавад оценил такое самообладание.
— Ты действительно лучший… Повышать тебя по службе не буду, ты на своем месте, а платить буду по высшей категории, — сказал он неожиданно теплым голосом.
Арутюн с достоинством поклонился, такой удачи он не ожидал: деньги были единственным его богом, кому он поклонялся всю жизнь, а повышения он боялся, как черт ладана, если когда и молился, так чтобы остаться в тени до конца жизни, а то вдруг узнают, что он был личным агентом Ренка и…
Предложить выгодное дельце Мирзе, действительному мужу Лейлы было нетрудно. Скорее — пара пустяков.
Мирза беспредельно страдал от своего неумения заработать деньги. Воровать он не умел, да и не хотел, и искренно верил, что, не став эстрадной звездой, популярным актером или литератором, можно заработать, имея два высших образования, большие деньги.
Агент Мир-Джавада представился Мирзе замдиректора по научной работе завода винно-водочных изделий из глухого района, где в горах стояло охотничье шале Мир-Джавада. Арутюн предложил Мирзе заключить договор на создание современной химической лаборатории для анализа продукции. Сумма, написанная им в договоре, затмила способность рассуждать и логически осмысливать ситуацию. Мирза химию знал так же прекрасно, как и многие другие науки, он все знал отлично, что ему приходилось изучать. Единственное, что ему не удалось изучить, — это жизнь. Лейла устроила его на работу, устроила, вернее, подарила квартиру, машину, мебель. А он лишь проклинал общество, в котором его знания так низко оплачивались, что он жил фактически на содержании своей жены, тайной жены, но он не подозревал, что без его согласия его развели, даже не сообщив ему об этом, а о том, что Лейла вновь вышла замуж, да к тому же еще девственницей, ему и в голову не могло прийти. Он считал, что так нужно, раз Атабек против их брака, то необходимо его скрывать, жить раздельно и видеться на короткий срок. Но он искренно любил свою жену, не зная, что она уже не его жена, и свою дочь, хотя почти не видел ее… И в душе его жила одна мечта: заработать большую сумму денег, чтобы купить Лейле бриллиантовое кольцо, хоть один стоящий подарок своей любимой.
Арутюн, бывший агент Ренка, а ныне лучший агент Мир-Джавада, все тонко рассчитал. Договорились держать договор в тайне, на этом настоял сам ученый муж. И через день, взяв отпуск за свой счет, тайком, даже Лейле Мирза ничего не сказал, ее любимый муж отправился в горы на машине Арутюна.
Впервые взору Мирзы предстала красота природы. До этого дня все как-то не получалось у него вглядеться в окружающий мир. Все некогда было: жадно овладевал науками, затем его охватила страсть к иностранным языкам… Он был единственным девственником в обширнейшем списке мужчин у Лейлы, и она почувствовала к нему такую нежность, что влюбилась. Внезапная любовь буквально ее переменила, настолько, что она женила Мирзу на себе и была с ним счастлива. Став пешкой и игре отца, она впервые растерялась, превращаться вновь в девственницу было оскорбительным для беременной женщины. Огражденная от всех, как ей казалось, напастей страшной властью отца, Лейла все же исхитрилась наладить свою семейную счастливую жизнь, а официального мужа в грош не ставила: он был и физически ей неприятен, и она избегала Мир-Джавада, а после рождения дочери их близость прекратилась совсем, если не считать нескольких случаев, когда пьяный Мир-Джавад грубо насиловал ее, брал, как берут девку под кустом. Целый день после этого Лейла сидела в ванной, ненавидя весь белый свет… Дорого бы заплатила она, чтобы получить компрометирующий Мир-Джавада материал. Вот когда она с огромным удовольствием натравила бы на официального мужа своего отца. Но Мир-Джавад работал чисто: все вольные и невольные свидетели его преступлений исчезали бесследно. Степь широка, без конца и края, а сколько в ней безымянных могил, один аллах знает…
Но Лейла ждала.
Когда машина подъехала к шале, к охотничьему домику Мир-Джавада, Арутюн пожаловался на усталость:
— Глаза у меня стали, как у совы днем!
— Такие мудрые? — пошутил Мирза.
— Такие беспомощные, — не понял юмора Арутюн. — И позвоночник болит, сиденье неудобное у машины. Будь другом, зайдем в этот шикарный охотничий домик, там у меня брат администратором работает, поедим, выпьем, дальше поедем…
— Ты решил со мной погибнуть? На этих горных дорогах и трезвому опасно…
— А пьяному горы по колено! — подхватил, смеясь, Арутюн. Держась за поясницу, он, охая, вылез из машины и довольно бодро засеменил к домику. Мирза тоже утомился в дороге, непривычен был к столь долгой езде на машине, это не на дачу к Лейле съездить, и охотно последовал за агентом Мир-Джавада к шале. Арутюн уже исчез за дверью, а охотника за большими деньгами ждал большой сюрприз: только он переступил порог шале, как из-за двери его оглушили ударом по голове. Били маленьким кожаным мешочком, наполненным крупным песком. Сбивает с ног и следов на голове не оставляет…
Очнулся Мирза на полу, связанный, с кляпом во рту и абсолютно голый. А перед ним сидел на стуле Мир-Джавад и с любопытством рассматривал его голое тело. Заметив, что Мирза очнулся, он дружески улыбнулся и сказал, обращаясь к своему лучшему агенту:
— Какое красивое тело! Античный бог!.. Слушай, родственник, раз мы вместе спим с одной женщиной, значит, у нас с тобой много общего… Жить хочешь?
«Родственник» согласно закивал головой.
— Тогда припомни, родной, что тебе наша общая жена рассказывала об отце, — продолжил Мир-Джавад и пощекотал охотничьим ножом живот Мирзы. — У-тю-тюсеньки! Припомни, детка, что-нибудь пикантное, компроментантное…
Мирза отрицательно покачал головой.
— Отказываешься? — удивился обиженно Мир-Джавад.
«Родственник» с безумным ужасом в глазах отчаянно затряс отрицательно головой.
— Ничего не знаешь? — разочарованно протянул Мир-Джавад. — Зачем тогда сюда приехал только?.. Обидел ты меня.
Мир-Джавад кивнул агенту, и Арутюн мгновенно привязал Мирзу к скамейке животом вниз, Мир-Джавад погладил соперника по голому заду рукой.
— Арутюн, хочешь мальчика? — предложил он агенту.
Арутюн рассмеялся.
— Благодарю за честь, шеф, я уже в том возрасте, когда и женщине приходится надо мной повозиться, прежде чем…
Мир-Джавад грустно вздохнул.
— Опять самое грязное дело мне достается, ну, никто не хочет мне помочь, бедный я, бедный, ай, аллах, оставил ты меня, обделил своей милостью…
Он выпил пару таблеток, которые в народе называют «бобровкой», их дают быкам перед спариванием, запил их стаканом десертного вина и через пять минут с брезгливостью на лице изнасиловал бедного мученика, приказав Арутюну:
— Сними «на память»!
Арутюн всегда был готов услужить шефу, и он с разных точек зафиксировал необычное совокупление двух сторон обычного семейного треугольника.
Мир-Джавад закончил гнусное дело и пошел в ванную. Когда он, чистенький и довольный, вернулся в комнату, Арутюна уже в ней не было, но Мир-Джавад даже не обратил на это внимание, он опять подошел к застывшему от ужаса, плачущему от стыда и боли вдвойне уже «родственнику».
— Я тебе понравился?.. Удовлетворил тебя? Только не говори мне, прошу тебя, умоляю, «нет»! Я этого не вынесу!.. Неужели придется еще раз тебя удовлетворять… Какой ты развратный! Слушай, есть идея: здесь, на эйлаге, много пастухов. Если хорошо попросишь, я их приглашу, даже заплачу, клянусь отца! А как ты думаешь? Хороший мужчина в наши дни очень дорого стоит. Да ведь ты и сам знаешь, наша жена из нас двоих оплачивала только тебя, так что можешь считать себя сильным и смелым мужчиной, а я останусь, ну, если не импотентом, то где-то близко к этому. Согласен?
Бедный ученый муж смотрел остекленевшими глазами, лишенными и проблеска разума. Первое же соприкосновение с суровой жизнью растоптало его, и он не выдержал издевательств, сошел с ума.
А Мир-Джавад лихорадочно соображал, как ему избавиться от опасного теперь «родственника». Очень ему хотелось оскопить беднягу и послать в подарок Лейле в заспиртованном виде, но… это значило бы «подставить» себя. Атабеку нетрудно, совсем нетрудно догадаться, чья это работа, что в свою очередь означало: сам Мир-Джавад проживет не более суток, своего тестя он очень хорошо знал и, утолив злобу, уже раскаивался в бессмысленном поступке.
Вздохнул Мир-Джавад: «никогда удовольствие не бывает полным»! — жаль ему было отказываться от такого замечательного плана, но жизнь дороже.
— Придется выбирать один из традиционных методов, малоинтересных: автомобильная катастрофа… Как ни жаль, придется и от агента избавиться, хороший, верный человек, а надо. Вместе поехали — вместе и погибать.
Только теперь Мир-Джавад заметил, что его лучшего агента нет в комнате. Выбежав из шале, он убедился, что агента нет, ушел Арутюн. Лучший агент потому и лучший, что всегда предвидит опасность и предотвращает ее.
— В горы ушел или на границу подался? — забеспокоился Мир-Джавад.
Он позвонил на границу, но затем раздумал сообщать о побеге агента, «светиться» самому тоже не хотелось; да и понимал он, что агент — не дурак, на границу не сунется, способность работать под любой личиной растворит его в массе, не найти. Ну, что ж, Мир-Джавад не особенно беспокоился тем, что агент может ему причинить какие-нибудь неприятности.
— Руки у самого в крови! — подумал он неожиданно злобно. — За службу верную Ренку — верная пуля…
Пришлось все делать самому. Мир-Джавад одел, как ребенка, застывшего от ужаса молодого ученого, посадил его рядом с собой в машину и повез к перевалу. Там был нужный ему поворот, который все звали: «пронеси, господи»! Вот здесь и суждено было закончить жизнь единственной любви Лейлы, дочери всесильного Атабека.
Мир-Джавад направил машину прямо в пропасть, выскочив в последний момент, когда до падения оставалось каких-нибудь три-четыре метра. Любил шеф инквизиции края пощекотать себе нервы. А Мирза, его дублер в постели жены, не обладал подобной реакцией и с застывшим взором смотрел, как быстро, невероятно быстро несется навстречу машине дно ущелья, пока сердце не смилостивилось над ним и не остановилось от ужаса и перегрузки…
Горе Лейлы было беспредельным. Она, как и все, поверила официальной версии о несчастном случае, появившейся после тщательного расследования, и у нее не появилось даже тени сомнения, тени подозрения о причастности Мир-Джавада к смерти Мирзы. Лишь Атабек спросил мимоходом:
— А куда тело шофера делось, не знаешь? — и пояснил, видя прекрасно разыгранное недоумение Мир-Джавада. — Мне доложили, что видели, как Мирза с каким-то пожилым мужчиной выехал из города, причем тот сидел за рулем…
Мир-Джавад внутренне напрягся, но, призвав на помощь самообладание и спокойствие, не задумываясь, нашелся что ответить:
— Если он сидел за рулем, то либо сгорел, либо успел из машины выпрыгнуть.
Атабек посмотрел в глаза Мир-Джавада очень внимательно, но если и были у него подозрения, то подтверждения им он не нашел, один лишь честный и преданный взгляд.
— Сгореть он не мог до полного исчезновения, скорее, успел выпрыгнуть из машины. Если остался в живых, то найдем… Ты тоже поможешь. Чьи люди раньше его найдут, тем — премия. Правильно я говорю?
Атабек дружески улыбнулся Мир-Джаваду, но тот тоже правильно услышал в словах Атабека угрозу и решил приложить все силы, чтобы найти агента первым.
Бабур-Гани была счастлива. Власть ее множилась не по дням, а по часам. С того памятного дня, когда она, находясь на волосок от гибели, спаслась, предложив свои услуги Мир-Джаваду и искусно запугав его своим пророчеством, прошло уже немало лет, и ни он, ни она не жалели об исключительно выгодной, как оказалось, сделки.
Публичные дома Бабур-Гани славились на всю страну. Она умела не только найти красивый товар, но и сделать его умным, умелым, незабываемым. Это было главным в школе Бабур-Гани: необходимо поразить мужчину в самое сердце, загнать туда так прочно занозу страсти, чтобы вечно ныла и напоминала о себе. Каждый клиент должен получить то, о чем мечтает, что жаждет найти в женщине: один — нежность, другой — жар, третий — невинность, четвертый — материнскую заботу… Да мало ли желаний возникает у людей, облаченных в тогу власти, страшных в своей уверенности и непоколебимых в своей правоте. И каждая ученица Бабур-Гани была достойна своей учительницы. А практику им преподавали Мир-Джавад, Васо и им подобные, даже тем, кого Бабур-Гани готовила в штат девственниц для развратных бонз партии национал-юнионистов.
Национал-юнионистская партия возмущенцев была единственной партией в стране. Ее устав был кораном и библией современности, все, что противоречило уставу, подлежало уничтожению, все, что не противоречило, но излагалось другим языком, другими мыслями, считалось лишним и также уничтожалось. Говорить и думать все обязаны одинаково. Неодинаковых уничтожали или прятали за колючую проволоку…
Такой порядок в полной мере устраивал Бабур-Гани, она первой догадалась выправить патент на отбор из тюрем, лагерей, детских домов, школ специального назначения детей и молодых жен врагов народа, а также имела право арестовывать тех, кому удалось скрыться от ареста инквизиции. Мир-Джавад деятельно помогал ей в этом. И Бабур-Гани процветала. Она открыла шикарный дом свиданий в столице, рядом со дворцом эмира, и филиалы во всех крупных городах страны. Деньги текли к ней рекой и, несмотря на то, что Мир-Джавад более половины дохода забирал себе, часть отдавая Атабеку, и приходилось давать «бакшиш» всем большим начальникам, Бабур-Гани стала одной из самых богатых женщин страны. И чем больше власти сосредоточивалось в ее руках, тем страшнее она становилась. Власть развращает, а ее тяготы редко кто несет с достоинством…
…Ночью Бабур-Гани проснулась от легкого шороха. Сунув руку под подушку, Бабур-Гани вытянула «вальтер» и взвела его на бой. Она видела в темноте, как кошка, так же и слышала, поэтому сразу же заметила ловко двигающуюся тень. Тень складывала в плетеную корзинку самые ценные вещи: старинную бронзу, хрусталь, серебро, небольшие картины, и Бабур-Гани с усмешкой отметила, что у вора хороший вкус, он отличал даже подделки и ставил их на место.
Бабур-Гани включила общий свет и наставила на остолбеневшего воришку пистолет.
— Поставь все на место, негодяй, при свете тебе легче будет это сделать, ты…
И здесь Бабур-Гани осеклась, привыкнув к яркому свету, она увидела, как красив юноша. Семнадцатилетний красавец с досадой посмотрел на пистолет, затем спокойно, не торопясь, все расставил по своим местам, так же бережно и аккуратно. Закончив расстановку, он равнодушно спросил:
— Мне можно уйти?
Бабур-Гани рассмеялась, так ее восхитила наивность юноши, а что это именно наивность, а не самообладание, она тоже сразу поняла, видела людей насквозь, опыт-то огромный.
— Садись за стол, авторучка у тебя в кармане, я вижу, лист бумаги возьми в ящике стола и все мне напиши: кто ты, кто послал, что делал в моем доме…
Юноша прервал ее:
— Нет, вызывай полицию!
Бабур-Гани вновь засмеялась и вылезла из-под шелкового одеяла, а так как она спала всегда голой, то юноша от ее ослепительной наготы остолбенел, в буквальном смысле этого слова. Тело Бабур-Гани не уступало иным двадцатилетним, несмотря на все сорок лет, она умела себя холить и знала, как сохранять молодость.
— Дурачок! — ласково сказала она юноше. — Я сама себе полиция, я сама себе прокурор, я сама себе суд. Садись и пиши то, что я от тебя требую, да ничего не бойся, это только для меня, никто не узнает…
Юноша колебался, очень ему не хотелось писать.
— И потом выбора у тебя нет: или ты напишешь то, что я от тебя требую, прошу, если тебе это хочется, или пристрелю на месте. Решай, красавчик!
Вор пристально посмотрел в глаза Бабур-Гани и прочел в них подтверждение ее словам. Заколдованный ее наготой и недвусмысленной угрозой, юноша сел за стол, достал бумагу и дрожащей рукой написал все, что она требовала, а голая Бабур-Гани стояла рядом и внимательно следила, чтобы он ничего не пропустил.
— Имя главаря банды укажи обязательно!
Как только юноша закончил признания, Бабур-Гани ловко выхватила у него из-под руки исписанный лист и спрятала его в свой сейф.
— Здесь он будет в полной сохранности!
Затем подошла к сидящему юноше поближе.
— Тебе не кажется, что неудобно быть одетым рядом с голой дамой? Раздевайся живо!.. Не стесняйся, не стесняйся.
Юноша медленно, стыдясь и краснея, стал снимать с себя одежду, а Бабур-Гани наслаждалась его замешательством, предвкушая очередное наслаждение. Юноша разделся до трусов и замер в нерешительности, заалев от смущения.
«Да он, кажется, девственник!» — с удовольствием подумала Бабур-Гани и решила «помочь» юноше.
— Повернись спиной!
Вор повиновался.
— Руки назад! — скомандовала Бабур-Гани, горя вся от желания.
Связать красавцу руки было делом нескольких секунд. Бабур-Гани быстро потушила свет, сняла остатки одежды с юноши и, дрожа от страсти, повалила его на ковер… Сколько раз в жизни ее насиловали, она уже и не помнила, но теперь она в первый раз сама насиловала и вдруг поняла, что это ни с чем не сравнимое удовольствие. Все пережитые ею насилия и унижения превратили ее в зверя.
Юноша действительно оказался девственником. Бабур-Гани почувствовала к нему необычную нежность, тело ее налилось юностью, молодостью, свежестью, а душа до краев наполнилась любовью и благодарностью.
Сколько времени Бабур-Гани наслаждалась мальчиком, она не запомнила, но когда зажгла свет, то увидела, что перестаралась, — юноша лежал без сознания. Бабур-Гани по-бабьи жалостливо запричитала, бросилась растирать ему грудь водкой, наконец, догадалась разжать ему стиснутые губы и влить немного водки в рот. И белый покров смерти сошел с его лица, молодость победила, юноша порозовел, вздохнул и… открыл глаза.
— Руки… больно… — еле слышно прошептал он.
Бабур-Гани быстро развязала ему руки и долго растирала их, нежно целуя и чуть слышно шепча:
— Любимый мой, ласковый мальчик!
Она сама была поражена, что в иссушенной зноем нескладной жизни душе забил внезапно родник любви. Перенеся юношу в кровать и заботливо его укутав, Бабур-Гани настолько залюбовалась юношей, что, решила оставить его у себя. Опасно, правда, при стольких юных подопечных, но она привыкла Держать ухо востро, да, впрочем, и не очень-то и заботилась как о своей верности, так и о том, что ее любовник изредка будет — ей изменять. А захочет ли он быть рядом с ней или не захочет, Бабур-Гани мало интересовало. Она решила его купить, а если не удастся, то запугать: у нее в руках его свидетельские показания, в которых он признавался в преступлении и называл имя главаря, на которого работал. И этот главарь, узнай он об измене, изрезал бы на кусочки не только ее красавчика, но и всех его близких, стоило только Бабур-Гани передать в полицию, где все продавалось и покупалось, признания юноши.
Юноша отличался красотой, но не умом и волей… Придя в сознание, закутанный как младенец, он вдруг горько заплакал от потрясения и обиды, и Бабур-Гани почувствовала с удивлением, что эти слезы разрывают ей душу. Перед ней был обиженный ребенок, которого нужно было срочно утешить и приласкать, а может быть, и дать конфетку.
— Не плачь, мой хороший! Как ты себя чувствуешь, мой малыш? — спросила она так ласково, как спрашивает только любящая мать.
— Голова кружится! — простонал юноша. — Белые мухи летают.
— Головка бо-бо, моя радость? Мой маленький, сейчас я тебя вылечу, чудо ты мое! — заворковала Бабур-Гани.
Она развила кипучую, несвойственную ей в таких делах деятельность: быстро сварила в джезве кофе, сделала вкусные бутерброды с черной и красной икрой, с белой и красной рыбой, с бужениной и копчеными колбасами, все украсила зеленью и помидорами, положила на поднос и понесла в постель своему молодому любовнику, своей новой игрушке. Покормила, попоила, утешила.
— Глупенький мой, ты такой сладкий, что я тебя никуда не отпущу, — шептала она ему прямо в ухо, любовно и шаловливо его покусывая, — будешь жить со мной, ни в чем тебе отказа не будет, у меня миллионы, и я еще красива, не правда ли?
Измученный организм после глотка водки требовал насыщения, красавчик с аппетитом стал поглощать принесенные яства, тем более что пробовал он их в первый раз.
— Как тебя зовут, мой хороший?
Юноша, на секунду оторвавшись от еды, прошептал:
— Бабек! — и зарделся от смущения.
— Ты слышал хотя бы половину из того, что я тебе здесь лепетала? — проворковала Бабур-Гани.
Бабек еще больше заалел и кивнул, не прекращая утолять голод, ибо голод был единственной побудительной силой, толкнувшей его в преступную шайку и приведшей в итоге в постель Бабур-Гани.
А стареющая разбойница с такой нежностью смотрела на юношу, что всякий, кто знал ее; удивился бы такому чуду, а кто не знал, умилился, глядя на эту идиллию.
Арутюн, агент Ренка в прошлом и агент Мир-Джавада, тоже уже в прошлом, был очень опытным агентом. Чудом избежав смерти, он изменил, насколько мог, свою внешность и скрылся в преступном мире, где давно заблаговременно наладил связи. Сын ювелира, он с детства разбирался в драгоценностях, поэтому без труда стал первым среди перекупщиков ворованных и награбленных ценностей. Этим он уже занимался давно, так что источник существования у него не изменился, правда, потеря доходов в качестве агента инквизиции его огорчила, но он не стал распространяться, что его уже ищут, как раньше он искал, а потерю в заработке решил компенсировать расширением дела, поэтому ему пришла на ум идея привлечь к сбыту Бабур-Гани. Арутюн прекрасно знал ее прошлое, он на нее и вывел инквизиторов в последний раз, и для Бабур-Гани закончилась карьера воровки международного класса и началась другая карьера. Агент решил заинтересовать ее участием в деле, предложив пятую часть доходов, чтобы подпольный публичный дом получил наконец официального подпольного поставщика.
Бабур-Гани пристально всматривалась в седого мошенника.
— Где-то я тебя видела, только не помню где, — думала она. — Ничего, я вспомню.
Если бы мог агент читать ее мысли, он бы и на пушечный выстрел не подошел бы к ней. Многие сами лезут в западню, а некоторые даже сами ее строят. Очень уж большие деньги, а Арутюну нужны были очень большие деньги, чтобы перейти границу и жить там, ни в чем себе не отказывая.
А Бабур-Гани никогда не упускала случая заработать, особенно крупно, а нарушения закона ее не волновали, всю жизнь она только этим и занималась, только это и делала.
— Забавно! — пропела, заигрывая с Арутюном по привычке, она. — Моим клиентам одну и ту же вещь придется оплачивать дважды.
— О, мадам! — обиделся Арутюн. — Я из семьи потомственных ювелиров, любая вещь, попадая в мои руки, становится неузнаваемой.
— Неузнаваемо хорошей или неузнаваемо плохой? — съехидничала Бабур-Гани. — Узнают эти вещи на моих девочках?
— Ваши подопечные в высший свет входят несколько своеобразно, когда на украшения обращают внимание не в первую очередь.
— Ну и что же? Мои девочки ничуть не хуже официальных жен по поведению, а воспитаны лучше. А мое воспитание стоит дорого, потому за девочек и должны платить, как за официальных, — гордо сказала Бабур-Гани.
— Истинная правда! — подольстил Арутюн. — Взгляните только на товар. Официальные жены оказались недостойными носить эти замечательные вещи, так распорядилась судьба…
— И мальчики Гуляма…
— О, мадам, не будем говорить о таких деталях… Заметьте, мадам, любая фабричная вещь из моих рук выходит как от мастера.
Бабур-Гани пристально рассматривала принесенные вещи. Она не разбиралась в тонкостях ювелирного искусства, но работа ей нравилась. На бывших владелицах эти украшения, стоимостью в десятки тысяч золотых, она не видела, ее, как и ее подопечных, в высший свет не допускали, несмотря на все богатство, поэтому она с таким злорадством и думала о тех, чьи украшения теперь будут носить профессиональные проститутки, а оплачивать мужья тех, кому Бабур-Гани страстно завидовала и все бы, или многое, отдала, чтобы быть среди них.
— Мне нравится! Цена только несусветная, дорого просишь за них.
— Но, мадам, ваши двадцать процентов, а у меня еще большие накладные расходы.
Бабур-Гани любила поторговаться, однако, прикинув, сколько она может получить за них с девочек, а те соответственно с любовников, согласилась и достала чековую книжку.
— Ни в коем случае, мадам, — испугался Арутюн, — вы меня погубите этим маленьким клочком бумаги, только наличными.
Бабур-Гани очень уж не любила платить наличными. Для этого надо было пойти в потайную комнату, открыть сейф, и всегда ее охватывал страх, что кто-то подкарауливает ее и убьет, чтобы ограбить. Чертыхаясь, она заставила страх исчезнуть, достала деньги, при этом непроизвольно обшаривая взглядом темные углы и поглаживая «вальтер», лежащий в кармане…
А Арутюн тщательно пересчитывал деньги, не обращая никакого внимания на недовольство Бабур-Гани.
— Не доверяешь?
— Что вы, мадам, конечно, доверяю. Просто деньги счет любят…
Мир-Джавад в поисках своего пропавшего агента Арутюна наткнулся на поразительный факт: оказывается, его бывший сосед Вазген, все еще живущий в своей старой комнате, единоутробный брат Арутюна, пропавшего агента, не желающего смириться со своей рабской участью и умереть во имя спокойствия своего господина.
Ради такого случая, возобновить приятное знакомство, и отправился Мир-Джавад на квартиру, где он родился и провел все детство и юность. Но в свою квартиру он даже не зашел.
Вазген превратился за это время в дряхлого старика, хотя лет ему было около пятидесяти, или чуть больше. Мир-Джавада он поначалу не узнал. Смотрел отчужденным взглядом, готовясь к смерти. От людей в черной форме с индскими знаками он, как и все, не ждал ничего хорошего…
— Привет, сосед! — насмешливо произнес Мир-Джавад.
Вазген пристально вгляделся в незваного гостя.
— Вырос, паук двуногий?.. — Теперь охотишься на людей? — спросил равнодушно, как будто вчера расстались.
— На мух, недорезанный, на мух! — засмеялся Мир-Джавад от радости, что наконец-то этот честнейший страдалец попал в его руки, уж теперь-то он заплатит за все подзатыльники, полученные в детстве.
В этот момент Мир-Джавад был действительно похож на двуногого паука, поймавшего свою очередную жертву.
— Рассказывай, сосед, если хочешь умереть вот в этой дыре, где твой брат?
Вазген покачал головой.
— У меня нет брата, я отказался от него еще в юности, он сотрудничал со всякими подонками рода человеческого, всех предавал. На кого он только не работал, последнее время, когда я его видел, на Ренка, а если ты его ищешь, значит, он и на тебя работал. Нелюдь, а не человек. Но я тебе ничем помочь не могу, у меня нет даже его фотографии…
И Вазген устало сел на стул, смирившись с тем, что жизнь подошла к концу, и где-то даже радовавшийся тому, что и его не минула мученическая чаша.
— Старый осел! — заорал Мир-Джавад. — Неужели ты думаешь, что мы этого не знаем или что нам негде взять фотографию твоего братца? Когда я тебя спросил: «Вазген, где твой брат»? — то не ждал ответа: «Я не сторож брату своему». Я предлагал принять тебе участие в охоте на эту жирную навозную муху. Он — твой враг и — наш враг. В этом наши интересы совпадают. Пошевели мозгами, сосед, я тебе даже те «щелля» прощу. Ты же знаешь его характер, привычки, чем он может сейчас заниматься, что он еще умеет, кроме того, что доносить и предавать. Дай нам направление, и мы будем глубоко рыть. Ты отомстишь за друзей, а я получу награду.
Вазген обреченно, но все же отрицательно покачал головой:
— Ты прав только в одном отношении, — я действительно буду рад увидеть своего брата на виселице, хотя моей матери это не понравится и в могиле… Но с тобой работать не буду, запачкаться боюсь…
Мир-Джавад ударил его сильно кулаком в лицо и разбил ему нос и губу. Кровь тонким ручейком заструилась вниз, пачкая рубаху.
— Своей кровью запачкался! — злобно сказал Мир-Джавад. — Возьмите этого высохшего правдолюбца и поместите в такой райский уголок, чтобы каждую минуту вспоминал о своем отказе.
Вазген неожиданно для всех рассмеялся:
— Я каждую минуту буду вспоминать твою разъяренную харю и не будет для меня лучшего утешения, чем то, что я отказался помочь такому палачу, как ты, пусть даже для того, чтобы казнить другого палача, моего единоутробного братца…
По знаку Мир-Джавада инквизиторы уволокли старика из комнаты, а Мир-Джавад стал лихорадочно рыться в комнате Вазгена. Дай ему такую возможность, предоставь хоть час, в детстве, он был бы рад до родимчика, а теперь он искал лишь нить к поиску своего возможного обличителя и виновника смерти, попади он раньше в лапы не к нему, а к Атабеку… Долго искал Мир-Джавад и нашел: в его руки попалась старая выцветшая фотография, мельком взглянув на нее, Мир-Джавад собрался было отбросить в сторону, как вдруг одна деталь на фотографии привлекла его внимание, и его враз осенило. На фотографии были сняты молодой мужчина и молодая женщина в турецкой одежде. Однако не турецкая одежда заинтересовала Мир-Джавада: его привлекло то, что мужчина демонстративно надевал женщине красивое ожерелье с драгоценными камнями в золоте.
Мир-Джавад хлопнул себя по лбу:
— Тупица! Его отец же был ювелиром!
Довольно хохотнув, он забрал карточку, положил к себе в карман, шепнув по дороге охраннику:
— Устрой большой шмон, все ценное ко мне.
Атабек нервничал. Ряды сподвижников Гаджу-сана таяли с каждым месяцем. Газеты радостно и злорадно вопили об очередном разоблачении перерожденца. Атабек стал посылать Гаджу-сану дани в два раза больше обычного, отрывая от своей доли, получал ответные благодарственные телеграммы, но… успокоения не испытывал. Трон его шатался, и Атабек все чаще задумывался: кто же его раскачивает? И иногда в последние дни, после гибели Мирзы, чувствовал, что родной зять старается, Мир-Джавад.
«Пригрел змею на своей груди, — думал он, — на своей дочери женил… Неблагодарный… И убрать сейчас опасно, с Васо дружит. Уберешь Мир-Джавада, а Васо шепнет отцу, что, мол, Атабек свидетелей убирает, скрывает что-то, замыслил против Гаджу-сана… На чем-то нужно поймать зятька… То, что это он убрал мужа дочери, не вызывает сомнения, доказать трудно, даже Лейла его не подозревает. Глупенькая, думает: если не любит, значит — не ревнует. И не ревнует, а злобу затаил, как узнал, не удержался, выплеснул, а злоба человека, обладающего его властью, ядовита. Все чисто сделал, следов не найти, боится меня, значит, пока. А шофера, чувствую, упустил, землю роет, найти пытается… Пытайся, пытайся, мои люди тоже ищут. Здесь уж, — кто вперед найдет, а уж там извини-подвинься: шкуру с тебя спущу в прямом, а не в переносном смысле этого слова… Негодяй! Неужели на мое место метит? Васо дорогие подарки получает, долю имеет во всех махинациях этого паршивца, а сам и гроша в кармане не носит и не тратит… Родственничек, черт бы его побрал! Открыл его, продвигал по службе… После смерти собирался оставить ему в наследство свой пост… Ждать не хочет. Сейчас никто не хочет ждать. Все сразу подавай… Жаль, в столицу вызывают, некогда голову намылить щенку, сорок лет каких-то, мальчик, а ждать не хочет. Ничего, приеду из столицы, разберусь. Пусть не думает, что у меня подвалы хуже».
Вот когда Арутюн, единоутробный брат Вазгена, бывший агент Ренка, бывший агент Мир-Джавада, почувствовал на себе — насколько мощный, хорошо разветвленный аппарат инквизиции в силах разыскать свою жертву… Не прошло и дня после обыска у Вазгена, а сообщник Арутюна, ювелир, зарабатывающий не столько изготовлением новых украшений, сколько переделкой ворованных, сказал ему, что «трясут» все ювелирные лавки. Арутюн сразу понял, что Мир-Джавад его «вычислил», а узнав об аресте Вазгена, в первый раз пожалел, что вымолил в тот страшный день жизнь брата, в тот день жестокости и ненависти, когда он, как пес на поводке, вынюхивал все новые и новые жертвы среди своего народа, своих собратьев. Тогда ему отдали брата, досыта поиздевавшись над ним, но Арутюн потерял часть своего заработка, своей награды. И до сегодняшнего дня Арутюн никогда не жалел о единственном приступе жалости, вызванном тем, что ему приснилась умершая мать, никогда не жалел о потере части награды, но сегодня он затравленно проклинал свое легкомыслие. «Бежать!» — мелькало у него в мыслях, а жадность шептала: «ерунда, вывернешься, подожди два дня, когда Бабур-Гани приготовит деньги, большие деньги, миллионы, их так просто не снимешь со счета, ты сдашь ей добычу из разграбленного ювелирного магазина, а Гулям обещал, если я загоню „дуван“, он меня с моей долей переправит за границу с контрабандистами, а уж там я нырну так глубоко, что сам черт не достанет»…
И жадность победила. Арутюн решил перехитрить Мир-Джавада и подождать два дня, пока Бабур-Гани не приготовит деньги, а главное, валюту для него. Вместе с драгоценностями, которые Арутюн накопил за время своего предательства, это давало ему возможность безбедно жить в каком-нибудь райском уголке у какого-нибудь теплого моря.
Чтобы себя обезопасить и провести судьбу, Арутюн решил так спрятаться, что даже у Атабека и Мир-Джавада не вызовет подозрения: в доме Мир-Джавада, вернее, на половине его жены Лейлы, дочери Атабека.
«Предложить ее подруге хороший подарок, а жизнь стоит того, чтобы за нее раскошеливаться, подруга его знает: изредка раньше он предлагал ей сделки, и та брала с него десять процентов. Бессовестно много, поэтому Арутюн и решил предложить Бабур-Гани двадцать процентов, с тем чтобы она ему отдавала пять, но зато это было единственное место, куда полиция не совала свой нос… Подруга не устоит, жадна больно, пригласит, это для нее пустяк, Лейлу к себе домой, наедине можно все рассказать и поставить условия».
Арутюн так и сделал… Подруга, увидев бриллиантовую брошь, награду за такую пустяковую услугу, сверкнула хищно глазами и села за телефон.
— Лейла, милая! Я так по тебе соскучилась… Ты совсем стала затворницей. Приезжай ко мне, родная моя, хочу показать тебе цацки, все из Парижа и недорого, хотя это-то тебе «до лампочки».
Положив трубку, она подмигнула агенту.
— Все о’кей, бизнесмен, через десять минут будет здесь, она как раз собиралась ко мне. «На ловца и зверь бежит»! — не так ли, падре?.. Плату забираю.
Действительно, через очень короткое время Лейла появилась у подруги. После обязательных объятий, поцелуев, уверений в преданности подруги занялись осмотром драгоценностей. Лейла на миг забыла о своей потере, о гибели любимого первого мужа, тайного любовника, отца ее дочери, расцвела на глазах, помолодела, стала даже красивой, как пятнадцать лет тому назад, когда Мир-Джавад увидел ее впервые в кабинете у Атабека, и тот, смеясь наглыми глазами, поведал о том, как она его безумно любит…
На продавца драгоценностей Лейла даже не взглянула, она просто не замечала таких людей, иногда, правда, какое-то красивое лицо привлекало ее внимание, но, как только она узнавала, что это «обслуживающий персонал», интерес сразу же пропадал к этому человеку. Лейла и не заметила, как по знаку Арутюна подруга исчезла из дома и она осталась наедине с этим мерзким с виду стариком, хотя агенту было всего пятьдесят и он еще имел успех у женщин определенной профессии.
Арутюн подошел к Лейле поближе и громко зашептал:
— Я знаю: кто и как убил вашего мужа, мадам!
Лейла от неожиданности выронила колье, которое в эту минуту примеряла, ноги ее ослабли, и она со стоном опустилась на турецкий пуфик, стоявший перед зеркалом.
— Кто вы? — слабым голосом спросила она, пристально всматриваясь в гнусное лицо, склонившееся над нею.
— Не важно, мадам! — с достоинством ответил Арутюн, видя, что не произвел на нее хорошего впечатления. — Если вы обещаете для меня укрытие на два дня у себя дома, я вам откроюсь и предоставлю факты в документах, в том числе в фотографиях.
Лейле в первую минуту захотелось вызвать свою охрану и арестовать шантажиста и выпытать у него все, что он знает.
— Не стоит меня арестовывать, — предугадал ее мысли Арутюн. — Я и так все, что знаю, открою вам, а укрытие мне необходимо, чтобы вашего единственного свидетеля не отправили к праотцам.
Лейла успокоилась, и жажда мести заполнила ей сердце: «кто бы он ни был, я заставлю отца арестовать его, пусть в болотах пожизненно торф добывает для электростанций».
И вдруг впервые страшное подозрение шевельнулось в голове, и она вцепилась в Арутюна мертвой хваткой, так торговка держит вора, слямзившего всю дневную выручку.
— Мир-Джавад? — хрипло прошептала она, пристально глядя Арутюну в глаза.
У агента так неожиданно и внезапно пересохло в глотке, что он не сумел ничего ответить, даже короткого «да» был не в силах вымолвить, и только кивнул утверждающе головой.
Лейла побледнела так, что исчезло всякое упоминание о ее несколько смуглой коже. Такой удачи она и не предвидела. Наконец-то ей представился случай расправиться с ненавистным официальным мужем. Лейла решилась сразу ехать к отцу. Мысль позвонить ему она почему-то отбросила: телефон мог прослушиваться.
— Поедешь со мной, в моей машине! — коротко приказала она и двинулась к выходу.
Арутюн преградил ей дорогу.
— В вашей охране есть человек Мир-Джавада! Я до утра не доживу…
Лейла задумалась.
— Ты знаешь кто?
— Это знают только двое: Мир-Джавад и агент.
Лейла решилась избавиться от охраны. Сев в машину, она приказала всем отправиться домой, и шоферу в том числе, она сама, мол, поведет машину.
— У нас приказ: не оставлять вас ни на одну минуту без прикрытия, — осмелился сопротивляться агент Мир-Джавада.
— Плевать мне на ваш приказ, я делаю то, что хочу, а хочу я сейчас, чтобы вы убирались домой, или к чертовой матери, если дома у вас нет.
Охрана вынуждена была подчиниться. Уходя, они все время оглядывались и замечали, что и Лейла пристально следит за ними. И как только охранники отошли на порядочное расстояние, такое, что разглядеть ничего уже было нельзя, в машину к Лейле юркнул какой-то мужчина, тщательно закутывая лицо, так что разглядеть его было невозможно. Машина сразу же рванулась с места и исчезла…
Агент Мир-Джавада, расставшись с коллегами, позвонил сразу же Мир-Джаваду и доложил о случившемся. К его удивлению, Мир-Джавад совершенно равнодушно отнесся к сообщению агента. И спокойствие его не было деланным.
«На….. ему на жену!» — понимающе подумал агент и отправился в притон, где до утра резался в буру.
А Мир-Джавад обрадовался, услышав, что его жена спуталась с кем-то и встречается с мужчиной на квартире своей подруги.
«Скоро же она забыла своего красавца, первого мужа, жгучую любовь. Все они такие!» — злорадствовал он.
Лейла со свидетелем опоздали к Атабеку всего на несколько минут: его срочно вызвал Гаджу-сан, и он, не заезжая даже домой, отправился на аэродром, где всегда ждал самолет, готовый улететь либо в столицу, во дворец эмира, либо бежать в любую нейтральную страну, где на секретных счетах верные люди держали для Атабека миллионы.
Лейла, узнав, что отец вернется только через неделю, испугалась и решила спрятать агента в таком месте, где Мир-Джаваду в голову не взбредет искать его: в своей спальне.
Мир-Джавад не придал значения донесению своего агента из охраны Лейлы, любовные шашни его официальной жены почему-то не интересовали. Он уже проклинал себя, что поддался минутному настроению и нанес преждевременный удар по Атабеку, убрав действительного мужа его дочери и тем самым подставив себя под удар. А что он незамедлительно последует, как только найдется единственный свидетель, он это ясно понимал.
И уже звонок его агента из охраны Атабека привел в ужас: Лейла с каким-то мужчиной, по описанию похожим на того, кто уехал с ней из квартиры подруги; и так же тщательно закрывавшим лицо, приходила к отцу, и то, что они разминулись всего на несколько минут, было чудом. Жизнь Мир-Джавада повисла на волоске: догадайся позвонить Лейла в аэропорт и… конец. Если Атабек и не прервет свой полет в столицу, то даст команду, и до захода солнца Мир-Джавад не доживет.
Кто был этот мужчина, Мир-Джавад понял сразу после второго звонка: это мог быть только разыскиваемый им и Атабеком агент Арутюн.
— Действительно, агент суперкласса, — лихорадочно соображал Мир-Джавад, — пойти на такой риск: сунуться в логово тигра, рискнуть головой… Слушай, а может, ты зря паникуешь? Может, Лейла хочет устроить своего очередного кота на тепленькое местечко?.. Чушь говоришь. Достаточно ей позвонить секретарю отца, все равно Атабек поручил бы ему. Нет, это — Арутюн, больше некому. Все ей рассказал, и Лейла потеряла голову от жажды мести, а ведь достаточно ей было позвонить отцу, и она застала бы его в кабинете, и через час я был бы трупом. Хорошо, что в ярости люди теряют голову. Удивляюсь, как это ей не подсказал этот хитрый Арутюн? Значит, и он боится, и на один верный ход у него приходится один неверный. Запомним!.. Да, но как же они могли встретиться у подруги? Придется с этой лахудрой по-своему поговорить… И Мир-Джавад стал действовать: первым делом, по его команде отключили все телефоны аэропорта, «по техническим причинам», оставив только правительственную связь и с инквизицией. Самых опытных сотрудников Мир-Джавад было направил следить за Лейлой, но, подумав, отменил свое распоряжение: Лейла до возвращения отца так спрячет агента Арутюна, что следить бесполезно, не отыщешь…
Мир-Джавад выбрал другой путь: его люди незаметно похитили, заманив в ловушку, подругу Лейлы и спрятали ее в загородной резиденции инквизиции. Для начала Мир-Джавад и его люди изнасиловали подругу, так опрометчиво согласившуюся из-за корысти помочь Арутюну, а затем Мир-Джавад показал ей набор инструментов для пыток, а в маленькой печке-калильне уже багрово отсвечивали раскаленные иглы и щипцы. Подруга Лейлы сломалась сразу, уже после насилия. Она была готова вспомнить любую мелочь и отвечала очень подробно на любой вопрос. Так Мир-Джавад узнал, что у Арутюна на руках богатая добыча из разграбленного ювелирного магазина на миллионы фунтов. Это его обнадежило…
Утопив подругу Лейлы в море, сымитировав несчастный случай, Мир-Джавад отправился в город. И по дороге его вдруг осенило: он вспомнил, что вчера у Бабур-Гани он встретил одну из своих воспитанниц с новой бриллиантовой брошью на груди. На его вопрос: «где достала»? — девочка доверчиво ответила: «мадам продает»! Мир-Джавад подумал вчера, что это обычное дело: женщины часто распродают либо надоевшие украшения, либо напоминающие им о тех, кто дарил их. Но сегодня все ему виделось уже в другом свете, и Мир-Джавад поехал сразу к Бабур-Гани, не заезжая в инквизицию.
Бабур-Гани ходила несколько ошалевшая и пьяная от счастья. Первый раз в жизни она полюбила не за деньги, не ради выгоды.
— Чем так озабочен, сокол мой ясный? — радостно встретила она Мир-Джавада. — Опять женушка любимая комарихой зудит? Все мы, бабы, такие: любим, так готовы распластаться половиком, хоть ноги вытирай, а не любим — всю кровь высосем. Дай жене полную свободу и не заглядывай к ней в спальню, может, помилует…
— Я к тебе не исповедоваться приехал! — прервал ее Мир-Джавад и усмехнулся. — У меня другая проблема.
— Так у меня для тебя целенькая козочка припасена, газель большеглазая.
— Я сам сейчас на мушке… Одна ошибка, и все пойдет прахом, шлепнут. А твоя жизнь связана с моей, не так ли, ханум? — Мир-Джавад, не мигая, смотрел на Бабур-Гани, словно пытаясь увидеть ее насквозь.
Та, наконец, почувствовала опасность.
— Говори! Все, что в моих силах, сделаю, узнаю. Деньги нужны?
— Ащи! Мне свои девать некуда… Вот если только бриллианты скупать, а?
Бабур-Гани заволновалась: неужели пронюхал о ее махинациях с крадеными драгоценностями. Мир-Джавад заметил ее волнение и без лишних слов схватил ее за горло железной хваткой, да так, что у нее глаза на лоб полезли.
— Говори, лярва, правду! Моей шкурой решила откупиться? Так знай: я и умирая тебя с собой прихвачу. Нельзя же, чтобы твое пророчество не сбылось…
И швырнул ее, как мешок, в кресло… Бабур-Гани, с трудом отдышавшись, пролепетала:
— Не губи!.. Все скажу… Жадность, будь она проклята, заманила. Отдам, отдам твою половину от сделки и впредь зарекусь тебя обманывать…
Мир-Джавад все сразу понял и без лишних слов показал Бабур-Гани фотографию агента. Та его сразу узнала:
— Он! Приносит мне товар, я плачу ему пять процентов со сделки, — запричитала Бабур-Гани.
— Меня не интересуют твои прошлые дела!
— Скажи, что? Сразу вспомню!
— Он обещал прийти?.. Смотри, обманешь, тут же убью, значит, мне не спастись…
— Обещал, обещал! — Бабур-Гани с трудом перевела дыхание.
— Товар у него на руках?
— У него товара на несколько миллионов, я обещала к завтрашнему дню приготовить.
— Какие деньги? — насторожился Мир-Джавад.
— Десятую часть валютой, да и я должна пять процентов из двадцати своих выплатить валютой.
— Достала?
— Достала!
— Какая хитрая, э! Самостоятельно работать научилась. За моей спиной можешь только любовников менять.
— Слушаюсь, господин!.. — покорно пролепетала Бабур-Гани. — Этот мерзавец бежать собрался, не иначе.
— Звонить будет? — с надеждой спросил Мир-Джавад.
— Нет! Я должна ждать его в течение суток.
Мир-Джавад схватился за голову.
— Как же, придет! Держи карман шире. Он теперь залег в таком месте, куда я и сунуться не могу.
— Ну, не в спальной же твоей жены? — пошутила Бабур-Гани, убедившаяся, что гроза миновала.
— Может, и в спальне! Не проверишь, — огрызнулся Мир-Джавад.
— Напрасно ты ее боишься, — успокоила Бабур-Гани. — Как бы она его ни спрятала, он найдет способ ее обмануть и придет ко мне. Верь, предчувствие меня не обманывало еще ни разу. Жди его здесь, сними внутреннее оцепление в городе, распусти слух, что уехал…
— А если он попытается смыться? — не верил Мир-Джавад.
— Обязательно попытается, только раньше придет за деньгами.
— А он и с товаром может бежать. Думаешь, за кордоном ему меньше валюты дадут, чем ты?
— Если бы мог, давно сбежал бы. Как будто ты сам не знаешь: что стоит перейти нашу границу. Слышала я твое выступление по радио: «граница на замке»!.. Отмычка не у каждого бывает.
— А если он нырнет на дно с такой кучей бриллиантов?.
— У его сообщников своя инквизиция, не хуже твоей, и он ее боится не меньше, отыщут на дне моря…
И Мир-Джавад согласился. Правда, у него не было другого выхода. Впрочем, шальная мысль раз у него и мелькнула: похитить Лейлу и отдать на растерзание своим псам, быстро все откроет, но… Великий Гаджу-сан проповедовал крепость семейного очага, сам уже в пятый раз был женат, четырех жен загнал в могилу… так что и в столице поддержки не будет, а крест поставят не только на карьере. Да и сколько тогда своих придется уничтожить?..
Арутюн тоже помнил, что с ним товара на несколько миллионов, и завтра ему надо получить деньги у Бабур-Гани, расплатиться с Гулямом, только тогда ему помогут и переправят тайными тропами через горы за кордон. Долго рассуждать, как выбраться из дома Лейлы, было незачем. Арутюн ясно видел, как белеет Лейла от страха, прислушиваясь к шагам, раздающимся в доме.
— Послушайте, ханум! Я не хочу подвергать вашу жизнь опасности, я уйду, только у меня к вам маленькая просьба: одолжите мне свой пропуск и значок на свободный проезд и проход, а взамен я оставлю вот эти бумаги и фотографии…
Лейла жадно вцепилась в фотографии, но Арутюн придержал их:
— Сначала значок и пропуск.
— Но ты сам просил меня об убежище! — обрела вновь царский тон Лейла.
— Но не в вашей спальне, мадам! — улыбнулся благовоспитанный агент.
— Это единственное место, куда мой муж не заглядывает, можете мне поверить, — с горечью, удивившей даже ее, призналась Лейла, и так ей стало жалко себя, что она всхлипнула, не стыдясь агента.
Арутюн был неумолим. Он решил обезопасить себя по-другому в ожидании каравана контрабандистов. А Лейле очень хотелось взглянуть на фотографии, но и расставаться с золотым значком и с вечным пропуском было жалко… Однако колебалась она недолго: чувство мести — самое сильное из чувств человека, как это он ни пытается скрыть…
— Хорошо!.. Но сначала покажи мне хоть одну фотографию, — потребовала Лейла.
— Только из моих рук!
Арутюн вытянул из пачки фотографий одну, самую нейтральную, где Мир-Джавад сидел в машине, а рядом с ним несчастный возлюбленный Лейлы.
— Там есть и интимные! — разжигал любопытство Лейлы агент.
Лейла горестно вздохнула и… принесла пропуск и значок. Арутюн так жадно их схватил, как будто ему подарили жизнь.
— У меня есть такое убежище, где сам черт не разыщет. Там я укроюсь на неделю, пока не вернется достопочтимый Атабек. Но без этих штучек мне туда невозможно добраться. Я вас благодарю, мадам!
Арутюн отдал все фотографии и бумаги, компрометирующие Мир-Джавада, и попросил Лейлу выпустить его через черный ход, для прислуги. Лейла быстро спровадила его, так как ей не терпелось рассмотреть подробно и пристально все документы…
Когда она просмотрела все фотографии, ей стало страшно.
— О, аллах, с каким страшным человеком свела меня судьба. Спаси!
Лейла вспомнила о счастливой жизни в столице и разрыдалась. Немного успокоившись, она поклялась, что умолит отца уничтожить это чудовище.
Жизнь Мир-Джавада действительно повисла на волоске.
А Мир-Джавад терпеливо ждал в засаде у Бабур-Гани прихода агента. Он снял все посты внутри города, распустил слух, что уезжает со всеми своими агентами на поимку важного государственного преступника в район, где тот, по имеющимся сведениям, скрывается. Поэтому, когда Арутюн выскользнул из дома Лейлы, он не встретил ни одного соглядатая, чьи мужественные, доброжелательные лица, чей теплый взгляд Арутюн безошибочно узнавал в толпе забитых, подневольных сограждан, разучившихся давно даже улыбаться. Но опытного агента в нем это насторожило и, отыскав в кармане двухпенсовую монету, Арутюн выбрал укромный телефон-автомат и позвонил Мир-Джаваду…
Трубку сняла обаятельная секретарша. Мир-Джавад не без основания, подозревал, что она работает на Атабека, и поэтому своим агентам запрещал даже голос подавать, если не он сам брал трубку, тогда включалось специальное устройство, полностью исключающее подслушивание. Но теперь Арутюн начхал на все запреты и довольно нахально, он чувствовал себя все же дичью, спросил:
— Где шеф?
— Кто говорит? — привычно подозрительно спросила секретарша, машинально включая магнитофон.
— Саид из канцелярии достопочтимого Атабека! — наглел дальше-больше Арутюн, искусно подражая голосу хорошо знакомого прихвостня Атабека. — Ты что, милая, друзей не узнаешь? Говори, куда твой шеф исчез?
— С чего хрипеть стал? — на всякий случай задала провокационный вопрос бдительная секретарша.
— Издеваешься? Не знаешь, когда хрипеть стал? Я завтра с тобой особо поговорю. Где шеф? — грубо рявкнул на нее Арутюн, боясь, что следующей проверки он не выдержит: мало ли каких интимных подробностей не сыщется у любвеобильной секретарши.
— Охотится за мухой в Орском районе, свору с собой забрал…
Арутюн, не слушая дальше, бросил трубку. Такой удачи он не ожидал: два дня только прошло, как он попросил одного из своих клиентов из Орского района распустить слух, что он там скрывается, и уже сработало, ищейки «клюнули»…
Ничего подозрительного Арутюн не заметил и перед домом Бабур-Гани. Встретил его печальный красавец, любовник Бабур-Гани, проводил в залу.
— Ханум сейчас придет! — тихо пропел он и удалился.
Арутюн положил на столик принесенные драгоценности в чемоданчике, сел поудобней в кресло и… тут же со всех сторон из окон и дверей раздались длинные автоматные очереди, изрешетившие агента и кресло вместе с ним.
А затем, в абсолютной тишине, даже собаки не лаяли в округе, испуганно забившись в конуры и в подворотни, раздались звонкие мерные шаги, и появился Мир-Джавад с автоматом в руках, он внимательно следил за обмякшим, залитым кровью агентом, но тот не подавал никаких признаков жизни. Следом за Мир-Джавадом появились два инквизитора, а за ними Бабур-Гани. Мир-Джавад жестом удалил инквизиторов. Те мгновенно исчезли, словно привидения…
Мир-Джавад, улыбаясь, смотрел на мертвого Арутюна: такая довольная улыбка бывает только у охотника после тяжелой изнурительной погони за редкой, хитрой и опасной добычей, вот она, у его ног, в Крови, но охотник испытывает лишь благостное ощущение достижения дели.
Бабур-Гани сделала несколько воздушных па вокруг кресла и поцеловала Мир-Джавада:
— Теперь ты спокоен, дорогой?..
Мир-Джавад, все еще не расставаясь с автоматом, подошел к мертвецу и обшарил на нем все карманы. Запачкался кровью, но в одном из них, в правом боковом, кожаной куртки, совершенно нетронутом пулями, неожиданно для себя обнаружил вечный пропуск и золотой значок с номером, который знал наизусть: это был номер Лейлы, даже у Мир-Джавада он был значительно больший…
Мир-Джавад торопливо, чтобы не заметила Бабур-Гани, сунул все в карман кителя полувоенного образца, в котором он, подражая Великому Гаджу-сану, ходил всюду, даже в публичный дом. Мир-Джавад сначала хотел скрыть от Бабур-Гани то, что дела принимают плачевный оборот, если Лейла решилась расстаться со своими атрибутами власти, значит, взамен получила нечто такое ценное, что согласилась даже отпустить агента, считая, очевидно, что он больше уже не нужен, но, взглянув на чемоданчик с драгоценностями, решил частично посвятить ее в свою неудачу. Мир-Джавад сразу понял, что такое могла получить Лейла взамен своих атрибутов, что теперь лежит у «милой» женушки в сейфе: фотографии, которые так опрометчиво поручил снять Мир-Джавад Арутюну.
— Гадина! — негодовал Мир-Джавад, сплюнув на труп агента. — Ты еще легко отделался, скажи спасибо… Взял бы тебя живым, был бы ты… — Мир-Джавад с наслаждением подумал, что «был». — Ладно, времени остается слишком мало…
На его свист появились два инквизитора. Мир-Джавад отдал им необходимые распоряжения: куда зарыть труп, чтоб случайно не нашли, и те послушно вынесли труп Арутюна вместе с креслом.
— Дуван я забираю с собой! — Мир-Джавад шепнул тихо Бабур-Гани.
— А моя доля? — заволновалась та.
— Твоя доля — это моя жизнь! — злобно зашипел ей на ухо Мир-Джавад. — Смерть этого шакала ничего не дала, подумай, чем мне это грозит… Чемоданчик забираю с собой в столицу, во дворец эмира. Новая жена Солнца мира коллекционирует драгоценности, а здесь есть все, что может удовлетворить ее аппетит: такой черный жемчуг, клянусь отца!..
— А что мне сказать этим людям? — испуганно зашептала Бабур-Гани, хотя в комнате, кроме их двоих, никого не было.
— Он приходил пустой, договариваться. Ясно?.. Ничего у него не было.
— Опасно, дорогой, не лучше ли отдать их долю?
— Я добычу не отдаю!.. Не бойся, приставлю к тебе охрану, носа не сунут, да и улик у них нет… Не дрейфь!
И Мир-Джавад, забрав все драгоценности, уехал в инквизицию.
Первое, что пришло ему в голову, это — позвонить Васо. Мир-Джавад так и поступил. Васо был на счастье дома.
— Дорогой! Рад тебя слышать! — загудел он пьяно. — Приезжай, ты мне нужен… Я тебе сутки уже звоню, а ты каких-то мух ловишь. Бросай пернатых ловить. Здесь по тебе такой зверь плачет: всем мухам мух!
— Ты мой единственный друг! — ожил Мир-Джавад. — Какой я тебе подарок везу, — закачаешься! Через три часа присылай в аэропорт машину. Встречай, принц! — польстил Мир-Джавад, прекрасно зная, что Васо уговаривает отца объявить его наследником престола.
В последнее время в печати стали появляться странные статьи: их авторы, где намеками, а где и прямо, в лоб, доказывали, что престолонаследие — прогрессивная форма правления в условиях постоянной борьбы с эксплуататорским классом…
Мир-Джавад помчался в местный аэропорт, где его уже ждал подготовленный к полету самолет. Во время полета у Мир-Джавада мелькнула мысль: «не отдать ли действительно бандитам Гуляма причитающуюся им долю, — но потом он здраво рассудил, что они потребуют в таком случае все, как компенсацию за смерть своего человека, а так „ищи-свищи“! Кто докажет, что драгоценности у него?»
И Мир-Джавад переключился на свои радужные надежды, связанные с Васо. Через три часа он был уже в аэропорту столицы, в так называемом «дворцовом», здесь имели право приземляться только личные самолеты высокопоставленных слуг и соратников Гаджу-сана. Машина уже его ждала. Васо не поленился и сам приехал за своим другом, а неподалеку стоял бронированный кадиллак охраны.
Когда садились в машину, Васо покосился на чемоданчик.
— Аппаратура?
— Стоимостью в несколько миллионов фунтов! — пошутил Мир-Джавад.
— Серьезно, э!.. Скажи, что пошутил! — удивился Васо, у него никогда в жизни не было ни гроша в кармане, при том, что его счет в банке имел много нулей, да они, эти деньги, Васо были и не нужны: он получал все, что только душа ни пожелает.
— Клянусь отца! — Мир-Джавад завидовал такой беспечности друга, для Васо цена была только в его желании, а препятствий не было, и он просто не знал таких понятий, как «купить» или «продать», а тем более «заложить».
Все действия Васо характеризовались двумя понятиями: «хочу» и «не хочу». Единственным препятствием для него была только воля его отца: великого, непобедимого, могучего и всемогущего Гаджу-сана. Эта воля доставляла Васо непереносимые страдания, хотя он и не знал, что это так называется, просто пока это было его единственным неосуществимым желанием. Однако Васо делал все, чтобы уговорить и убедить отца, не брезгуя применять для этого ни подлог, ни подлость, ни подкуп…
Атабека Васо ненавидел. Однажды Васо подслушал, как Атабек чернил Васо в глазах отца, причем делал это, как всегда, умело, оставаясь сам в стороне, так что Васо только ждал удобного случая, чтобы уничтожить ненавистного врага, преграждающего ему дорогу к власти. И этот случай, как ему казалось, представился: Атабек остался единственным свидетелем смерти матери Васо, и Гаджу-сан знал это. Слишком многим был обязан Гаджу-сан Атабеку, этот груз благодарности так тяжело давил на плечи учителя всех стран и народов, что сил нести его дальше уже не было…
Вот почему Васо и вызвал своего друга и тайного врага Атабека Мир-Джавада. Но разговора не начинал. На немой вопрос Мир-Джавада, посмеиваясь, сказал:
— Посадил в машину, привезу домой, а там уже стол накрыт: ешь, пей, забудь печали…
По приезде Мир-Джавад первым делом раскрыл чемоданчик с драгоценностями. Васо ахнул и с удивлением посмотрел на друга:
— Черт побери! Неужели самому Атабеку дорогу перешел? Его человека шлепнул? Кого, рассказывай…
— Мужа Лейлы! — открылся Мир-Джавад.
— Не смеши, дорогой, сам себя шлепнул? А кто мне драгоценности показывает, призрак? Как интересно…
Мир-Джавад пристально всмотрелся в Васо и убедился, что тот действительно ничего не знает, глаза аж загорелись от любопытства. И Мир-Джавад рассказал другу историю своего брака, своей ненависти и мести с такими подробностями, что Васо стонал и плакал от смеха, изредка вскрикивая сквозь слезы: «не может быть… клянусь отца… неужели смогли зашить»?..
Отсмеявшись, Васо с интересом посмотрел на Мир-Джавада и совершенно серьезно, без тени улыбки сказал:
— Сегодня наши интересы пересеклись, дорогой друг! Знай ты это, не привез бы такой знатный выкуп за свою жизнь. Раз привез, дари! Давай отберем уникальные вещи для моей очередной мачехи, отца надо уважить, люблю его, скажу тебе прямо, да, сегодня утром он спросил о тебе, все помнит… Ты уж не обессудь, но твой рассказ я полностью, со всеми подробностями повторю ему, такой защитник своей чести будет иметь успех у поборника нравственности, представляешь, он стоит за верность, правда, больше жен боится Великий, что ему рогов наставят…
Мир-Джавад побелел, слушая такие вольности по адресу вождя и учителя. Васо его успокоил:
— Не бойся, меня не прослушивают!..
Он ошибался, его тоже прослушивали. Начальник инквизиции страны Гимрия поручил только одному человеку, преданному и проверенному, следить за каждым шагом Васо, да что там за каждым шагом, за каждым словом, но весь полученный обильный материал прятал в сейфе, до лучших времен. Довольно поблескивая очками в тонкой золотой оправе, Гимрия копил это богатство, чтобы не дать Васо уговорить отца назначить его своим преемником. Этой чести Гимрия добивался для себя. Атабек ему тоже мешал, вот почему он был рад маленькому заговору Васо и с удовольствием негласно пытался ему помочь.
Васо закрыл чемоданчик:
— Давай есть, пить!
Аппетит у обоих был волчий, они и ели, как волки, жадно глотая огромные куски, никакие переживания и волнения на аппетит не распространялись… Ели долго, пили много. В перерыве между тостами Васо рассказывал похабные анекдоты, сколько ни пил, не хмелел…
Когда Мир-Джавад откинулся в изнеможении, на подушки, Васо подмигнул ему:
— На каких это мух ты все время охотишься?
— На двуногих! Не поверишь, такие нахальные попадаются.
— Хочешь, я покажу тебе настоящую охоту?
— Хочу! — с готовностью откликнулся Мир-Джавад.
Он решил полностью отдаться на волю Гаджу-сана, только учитель имел право помиловать своего ученика, поэтому во всем потворствовал и его сыну.
Васо позвонил по внутреннему телефону и вызвал машину… Когда два друга, шатаясь, но совсем немного, вышли из дворца эмира, их уже ждали две машины, одна — с охраной…
Машины медленно двинулись по центральной улице.
— Высматривай дичь! — засмеялся Васо. — Выбор здесь, в столице, богаче, чем в ваших аулах.
Мир-Джавад сразу понял, о какой дичи идет речь, и стал высматривать на улицах хорошеньких девушек. Но при вечернем свете было трудно что-нибудь разглядеть. Видно, Васо и сам понял, что трудно, хотя машины и ослепляли ярким светом фар прохожих. Мир-Джавад уже успел заметить, что женщины и девушки, если они не уродины, убегают сломя голову, едва увидев эти две машины.
— Видно, мальчик часто охотится! — подумал Мир-Джавад.
— Поезжай к школе, где мы потеряли тогда ту красотку! — приказал Васо шоферу.
— Какая школа? — удивился Мир-Джавад.
— Вечерняя, для ремесленников, — пояснил Васо. — Днем они работают, а вечером получают минимум образования.
Возле школы было пусто, очевидно, шли занятия. Васо положил руку на плечо шофера, и тот привычно выключил фары машины. Охрана последовала их примеру…
Васо посмотрел на часы:
— Скоро занятия кончатся…
Один из охранников вышел из машины и прошел в школу, старинный особняк, бывший дом сановника Ренка, превращенный в школу, стоял в небольшом тупике, вокруг возвышались дома современной чудовищной архитектуры, № единственный выход на улицу был теперь загорожен двумя машинами, практически перекрывавшими школу. Затемненные окна машин не давали возможности разглядеть кого-либо внутри. Было что-то мрачное в этих двух длинных силуэтах, черных и беспощадных, словно посланцы ада, притаившиеся в засаде, почти слившиеся с наступающей ночью…
Васо, очевидно, хорошо изучил расписание занятий во всех школах: через несколько минут в здании школы зазвонил колокольчик, возвещающий о конце занятий. И буквально через мгновение двери школы распахнулись, выпустив на волю самых нетерпеливых, ожидающих конца занятий с самой первой их минуты учеников. Юноши и девушки, смеясь и балагуря, выпархивали из школы, как из клетки птицы, но смех и гомон сразу же смолкал, как только они замечали стоящие машины, чья давящая чернота угнетала и так не гармонировала с весельем.
Васо равнодушно пропускал эти стайки, да и Мир-Джаваду, избалованному красотками Бабур-Гани, тоже никто из проходивших не приглянулся в тусклом свете редких фонарей. Но вот последняя самая многочисленная группа школьников вывалилась из дверей школы, и Васо весь напрягся, как хищник перед нападением. Увидев ту, кого он так нетерпеливо ждал, Васо крикнул:
— Пошли!
Шофер ослепил дальним светом фар группу ребят, охрана последовала его примеру и повторила маневр. Все вышли из машин. Когда ослепленные поначалу школьники заметили фигуры в длинных черных кожаных пальто, то бросились обратно в школу, но кто-то уже заботливо закрыл двери школы изнутри, и Мир-Джавад мог бы поклясться, что это сделал тот агент охраны, который вошел в здание школы незадолго до окончания уроков.
— Не двигаться! — приказал Васо оцепеневшим от страха подросткам.
Те сбились в кучу, завороженно глядя на черных удавов, подползающих все ближе и ближе… И не было кроликам пощады.
В этой группе было на кого посмотреть, кем полюбоваться. Васо первым делом указал на юную красавицу, которую, как понял Мир-Джавад, он когда-то упустил. Двое охранников схватили девушку за руки и, несмотря на ожесточенное сопротивление и крики о помощи, поволокли в машину Васо. Остальные тупо молчали, не делая даже попытки помочь той, кем буквально несколько минут назад восхищались, кого боготворили. Мир-Джавад в свою очередь указал на двух красивых скорее своей молодостью и юностью девчонок. Эти обреченно не сопротивлялись и молча, покорно шли к машинам. Еще четырех без всякого шума забрала в свою машину охрана. Фары погасли, и два черных чудовища медленно, словно насытившись до отвала, развернулись и не спеша покатили в свое логово, переваривать жертвы…
А оставшиеся ребята еще какое-то время стояли в жутком оцепенении, подобно скульптурной группе, затем, стряхнув с себя эту жуть, все бросились в полицию и, перебивая друг друга, стали рассказывать дежурному о столь наглом похищении. Один из ребят умудрился даже запомнить номер машины Васо и истерично кричал:
— Задержите их, они не могли далеко уйти, сообщите номер постам.
Дежурный полицейский, старый добрый служака, один из немногих из оставшихся в живых полицейских Ренка, из-за того, что в те черные времена спас жизнь нынешнему начальнику полиции, по-доброму посмотрел на ребят и сказал ласково, жалея:
— Идите домой, птенцы! Ваше счастье, что сегодня я дежурю… Завтра ваши девочки будут вновь с вами, если не в целости, то в сохранности… А будете шуметь: они не вернутся, а вы, будете много болтать, исчезнете на просторах родины чудесной. Идите с богом!..
И ребята, стыдясь смотреть друг на друга, тихо разбрелись по домам…
А Васо с добычей вернулся к себе, в свое крыло дворца эмира. Там уже по-новому были накрыты столы такой разнообразной снедью, что девчонки ахнули, но не все: пассия Васо даже не взглянула на еду, а на лице ее было написано такое отвращение, что всякий, кто увидел бы на таком прекрасном лице такую муку, сжалился бы над ней. Всякий, но не Васо, он-то не был «всяким»… Две девочки быстро освоились, как только убедились, что их привезли не в тюрьму, а на пирушку. Они бойко представились: «Свела», «Ила», — и стали пробовать, вернее, хватать все, что было на столе. Третья, их подруга, добыча Васо, с презрением смотрела на них. Свела заметила этот взгляд.
— А ты, Оя, чего кочевряжишься? Расплачиваться все равно придется. А как гласит древняя поговорка: «если насилие неизбежно, то надо получить от него максимум удовольствия»!
— Шлюхи! — выругалась неожиданно Оя.
— Если хочешь быть «жертвой», — будь ею! — невозмутимо отпарировала бойкая Свела. — А мы гульнем!.. Наливай, атаман!
Мир-Джавад налил ей полный бокал водки, и Свела выпила его так, как будто всю жизнь только этим и занималась, после чего стала жадно утолять голод, приговаривая:
— Мировой закусон!.. А то я быстро «скапустюсь»… И «вырублюсь»!
Ою Васо чуть ли не силой усадил за стол рядом с собой, налил ей бокал самого лучшего вина, какое только есть в мире и о котором она даже не слышала, однако Оя осталась совершенно безучастна к ухаживаниям Васо. А Васо, не замечая ее ледяного вида, все подкладывал и подкладывал ей в тарелку лакомые кусочки и деликатесы, о которых она также не подозревала и не слышала в своей жизни.
— Ешь, дорогая, пей, ты представить себе не можешь: какие драгоценности я тебе приготовил, вот этот… ювелир, — Васо засмеялся своей шутке, — утверждает, что они стоят миллионы, а у меня в кармане, клянусь отца, как говорит мой лучший друг, никогда не было и гроша…
— На что же вы все это купили? — недоверчиво спросила Ила, обводя глазами роскошный стол.
Ила, как только села за стол, стала трогательно ухаживать за Мир-Джавадом, она, кстати, сразу отказалась от предложенного ей бокала вина, тихо шепнув ему: «пить не буду, не заставляй, а то мать убьет»…
Васо хрипло рассмеялся этому наивному вопросу:
— Мне все дают, клянусь отца, все добровольно дают, как сегодня Оя мне подарит свою любовь…
— Не жди! — резко оборвала его Оя.
Васо опять рассмеялся и демонстративно выпил вино из бокала Ои.
— Придется пить и за тебя тоже, но я тебя так люблю, что вынесу и это двойное бремя…
Васо посмотрел на Мир-Джавада и на девочек.
— Мир! Тебе не кажется, что у нас есть что-то лишнее?
Мир-Джавад привык играть в подобные игры.
— Не у нас, а на нас!
— Ты ананаса хочешь? — дурачился Васо.
— А ню! — подыгрывал ему Мир-Джавад, включая пластинку с быстрой джазовой музыкой. — Раздеться хочу, вернуться к первобытному строю, общнуться с природой!
И Мир-Джавад стал разоблачаться, расстегивая рубашку. Свела мгновенно включилась в игру:
— Эх, гулять так гулять!
И так быстро разделась, что Мир-Джавад успел снять с себя только рубашку. А голая Свела, танцуя, хлопнула мимоходом по затылку Илу:
— Давай, подруга, работай, не мне же одной отдуваться.
Ила, покраснев, стала медленно, стыдясь, раздеваться, но все же умудрилась раздеться вместе с Мир-Джавадом, правда, тот все еще оставался в плавках.
— Ты что, джигит! — подковырнул Васо. — Тряпочку не снимаешь, боишься девочек напугать? Чем только: плюсом или минусом?
— А ты чего сам не раздеваешься, начальник? — съехидничал Мир-Джавад. — Не иначе, у тебя на заднице неприличная картинка выколота: голубки… целуются.
Свела пьяно захохотала и бросилась раздевать Васо, игриво прижимаясь к его лицу полной грудью, необычной для ее возраста.
— Нет, нет! Я не такая! — пьяно орал Васо, попутно машинально лапая Свелу. — Я паду только после Ои, джентльмен всегда и везде пропускает вперед даму первой…
Свела бросилась к Ое.
— Давайте поможем все вместе этой недотроге раздеться, а я завтра расскажу ее парню о всех прелестях, да со всеми подробностями…
Оя влепила Свеле такую пощечину, что та кубарем покатилась по ковру. Но эта вспышка отчаяния, словно отняла все силы у Ои, и, когда Мир-Джавад стал помогать Васо раздевать пленницу, она не шелохнулась. Сидела каменным изваянием, молча и отрешенно, без единой слезинки, без единого стона или крика, с застывшими глазами. Мир-Джавад удивился ее прекрасному телу…
Веселье продолжалось. Свела, будто и не получала затрещины, прыгала и бесновалась, время от времени хватая со стола лакомые кусочки и пробуя того или другого вина. А Ила кружила по комнате не в такт музыке, изредка глядя призывно на мужчин. Но Васо смотрел только на Ою, и каждый, кто в эту минуту взглянул бы на него, мог бы сказать: «какой хороший человек»! Так нежно и влюбленно смотрел на свою жертву Васо…
Затем, хлопнув себя по лбу, Васо выбежал из комнаты и через минуту вернулся, неся знаменитый чемоданчик с драгоценностями, с теми, конечно, что он оставил себе, долю своей мачехи Васо уже успел отправить с нарочным перед поездкой на «охоту». Но и его доля была великолепной. Свела с Илой завизжали от восхищения, бросились рассматривать драгоценности, с горящими от жадности глазами. Васо их отстранил довольно грубо и стал наряжать голое тело Ои, как дети наряжают елку под рождество или на Новый год где-нибудь в бедном доме, у них воображение превращает дешевую мишуру в сокровища пещеры Али-Бабы. А здесь Васо обращался с дорогостоящими безделушками, каких трудно было встретить в сокровищницах королей, как с игрушками. Он навесил на Ою два бриллиантовых колье и одно изумрудное, с десяток цепей, золотых и платиновых, с кулонами и без, на ее пальцы надел не менее сорока колец со всеми драгоценными камнями, которые обрабатывает человек, а так как уши Ои не были проколоты, то Васо все драгоценные серьги повесил, вернее, нацепил на водопад Оиных волос. Все сверкало, переливалось, но… не могло затмить Оиной красоты и всего лишь оттеняло ее, Свела завистливо вздохнула:
— Везет же некоторым!
Мир-Джавад обнял своих голеньких простушек, поймав выразительный взгляд Васо, и увел их в отведенную ему спальню, где с удивлением убедился, что они обе невинны, хотя в их девственность было трудно ему поверить, если судить по их поведению, после чего крепко заснул…
Через четыре часа он проснулся, будто его толкнули, с одной единственной мыслью: дело, ради которого он прилетел в столицу, еще не продвинулось ни на шаг вперед, а месть Атабека не будет медлить, уж это Мир-Джавад хорошо знал, сам был такой… Бесцеремонно растолкав своих случайных партнерш, он погнал их в ванную и одеваться. Правда Ила сделала попытку увлечь Мир-Джавада в постель, но у того неприятная мысль разбудила такие страхи, что молоденькие девчонки показались ему чуть ли не дешевками с панели. Шлепнув Илу по голому заду, он рявкнул:
— Государственные дела ждут!..
За завтраком они сидели втроем: ни Васо, ни Оя, ни драгоценности не появились. Мир-Джавад опять налил полный стакан водки Свеле, и та вылакала его с большим удовольствием, непринужденно и даже с некоторой грацией, а на еду набросилась с такой жадностью, словно неделю постилась, а то и голодала.
Мир-Джавад увидел на ковре у стула, за которым сидела Оя, кровавое пятно. Девчонки тоже обратили внимание на него.
— Нашу недотрогу наконец-то немножечко тронули, пустили и ей кровушки, так что мы теперь с ней сестры по крови, — злорадствовала Свела, на которую сразу же подействовала выпитая водка. — Слушай, атаман! У меня есть подружки не хуже этой сломанной ломаки. Могу познакомить. Под мужиком еще не побывали, гарантирую, да и где им бывать-то, все же живут сам-пять в одной клетушке, а в квартире еще человек сорок, — в уборную очередь — полдня простоять…
Она еще что-то говорила, но Мир-Джавад перестал слушать.
— Еще одна конкурентка Бабур-Гани, — усмехнулся он, — способная, стерва, контакт наладить не помешает, пригодится…
Ни Васо, ни Оя все еще не выходили к столу, и Мир-Джавад стал уже тревожиться, не столько за друга, сколько за свое существование, как вдруг услышал, что подъехала машина, и через пару минут вошел Васо, один, без Ои, но был веселым и довольным.
Мир-Джавад решил, что не мешало бы заняться и его делами, и бесцеремонно выпроводил девчонок, сунув каждой по сотенной и записав адрес Свелы, договорившись, что он выберет день, а она познакомит его со своими кадрами… Вернувшись в залу, Мир-Джавад застал Васо лежащим на ковре, прижавшись лицом к кровавому пятну.
— Ты что, спятил? — испугался Мир-Джавад.
— Влюбился! — Васо блаженно и мечтательно улыбнулся.
— Мало, что ли, у тебя было девственниц?.. Вставай с пола, простудишься… Куда ее дел? — поинтересовался Мир-Джавад.
— Домой отвез, куда еще! С матерью познакомился, учительница, представляешь? Оя — гордая девочка, не хотела брать драгоценности, ни за что не хотела…
— Ты бы Свеле предложил, эта бы не отказалась! — пошутил Мир-Джавад. — Девочка далеко пойдет, если не остановят.
— Я мать Ои уговорил…
— Взяла?
— На хранение только…
— Это как «на хранение»? Без права продажи, что ли?
— Пока Оя не одумается и не возьмет себе.
— Думаешь, она согласится?
— Уверен! Все они одинаковы…
Васо бодро встал с ковра, выпил бокал вина, который Ила оставила на столе нетронутым, и стал с аппетитом есть.
Мир-Джавад осторожно намекнул:
— Ты меня вроде не девочек воровать приглашал?
— Не «воровать», дорогой, воровство — это риск, а мне достается все без хлопот, отдают добровольно, ну, в некоторых случаях «добровольно-принудительно».
— Извини, неудачно выразился. У нас так женщин воруют: «добровольно-принудительно»… Ты мне сказал, что я тебе очень нужен… Горю от нетерпения!
— Здесь гореть не нужно, здесь нужна как раз трезвая, ясная голова. Холодная, но не замороженная, — пошутил Васо.
— Для вас сделаю сверх того, что в моих силах! — преданно произнес Мир-Джавад.
— Ты меня, как эмира, на «вы» уже называешь? — совершенно серьезно, изучающе глядя, спросил Васо.
— Великий Отец наш, и ты, его сын, для меня больше, чем все эмиры вместе взятые, — также серьезно ответил его друг.
— Я тебе единственному верю, как себе. — Васо вздохнул. — Ты слышал: вассал отца, Мирсен, своего сына назначил наследником…
— Но ты не согласился бы! — пошутил Мир-Джавад. — Тебе это на руку: если вассал может себе такое позволить, то господину — сам бог велел…
— Атабек! — с ненавистью выдохнул Васо.
— Что, Атабек? — с готовностью подхватил Мир-Джавад.
— Мешает, сука! А отец к нему прислушивается, пока! — подчеркнул последнее слово Васо. — Что это такое, тебе, надеюсь, не надо объяснять?.. Это значит, что он может уговорить отца отдать ему и тебя, и меня.
— Ну, Великий Гаджу-сан сына-то ему не отдаст! — пошутил Мир-Джавад, а у самого сердце заскрипело от страха. — «Ну, как действительно, — подумал он, — Атабек уговорит Гаджу-сана сделать ему маленький подарок…»
— Нам надо его сдать первыми! — вкрадчиво шепнул Васо.
— Как мы его сдадим?.. Сил не хватит. Сколько ни «клепали» на него, ничего не помогает, сам видишь, Гаджу-сан еще больше приблизил мерзавца к себе, — уныло затараторил Мир-Джавад.
— Говорю тебе, приблизил, чтобы глаз не спускать… Один бы раз, разочек ему споткнуться, хотя бы, так загремит, что костей не соберет, а я ему помогу, постараюсь подтолкнуть…
— Что, по-твоему, надо делать? — по-деловому поставил вопрос Мир-Джавад.
— Устрой у себя маленькое восстание или, на худой конец, бунт… И затопи его в крови. А остальное я беру на себя…
— Легко сказать: «устрой»!.. Наш народ боится сейчас собственной тени, кто будет бунтовать… — устало произнес Мир-Джавад.
— Неужели у тебя нет людей? Ведь можно и сымитировать…
— Есть у меня один человек: провокатор «экстракласса»…
— Здесь все должно быть «экстра»! Отец не должен догадаться, что это наших рук дело.
Васо разлил бутылку коньяка в два фужера. Молча выпили, пожелав взглядами каждому успех. Но оба в него пока мало верили…
Лейла, не дождавшись звонка Арутюна, а перед уходом он обещал ей позвонить, как только доберется до своего убежища, испугалась и стала сама названивать отцу. Но Атабек участвовал в бесконечных заседаниях, совещаниях, пленумах, беседах и в своем дворце практически не появлялся, а если и появлялся, то в таком состоянии, что ни охрана, ни секретари беспокоить его не решались. А Лейла по телефону боялась говорить о сути своего дела, не желая рисковать. Она ведь с детства росла в этом гадюшнике и знала, что выяснить: кто на кого работает, кому за кем поручено следить — невозможно, вот почему Лейла решила лететь в столицу со всеми полученными документами и там уже требовать расправы над ненавистным ей мужем-садистом. Боясь всего, даже проверенной прислуги, она потребовала приставить к ней максимально увеличенную охрану. Но даже под защитой столь увеличенной охраны она не чувствовала себя в полной безопасности до тех пор, пока не увидела отца перед собой.
Атабек очень удивился, увидев дочь в своем кабинете. Но еще больше удивился, когда она бросилась к нему на шею, разрыдалась, что-то хотела сказать, но только отдельные звуки, из которых нельзя было ничего понять, удавались ей. Атабек вспомнил ее далекое детство и вновь ощутил себя молодым отцом, и стал, как и тогда, много лет назад, утешать ее:
— Не плачь, девочка, родная моя, ягненочек кучерявый, газель быстроногая: убежишь от всех несчастий, огорчений, не догонит серый волк, зубами щелк, вытри слезки драгоценные, вместо них я отсыплю тебе жемчуга розового, жемчуга белого, жемчуга желтого, жемчуга черного, все перламутром переливается, хозяйке маленькой покоряется…
Как сразу раньше успокаивалась Лейла, и, вместо слез, смех струился из ее глаз. И теперь она перестала рыдать, только вместо смеха ярость и гнев сменили слезы.
— Ты должен уничтожить Мир-Джавада! — закричала она так громко, что Атабек прикрыл ей рукой рот.
— Не кричи так, я не глухой!
— Этот негодяй убил моего мужа, отца моей дочери, а твоей внучки.
— У тебя разве есть доказательства? — попытался утихомирить дочь Атабек, удивленный столь неожиданным оборотом.
Лейла швырнула на стол пакет с бумагами и фотографиями.
— Можешь полюбоваться делами своего ученика!
Атабек был ошарашен. Он долго, молча рассматривал фотографии, читал бумаги со свидетельскими показаниями Арутюна, а Лейла следила за выражением его невозмутимого лица и жадно курила. Атабек, мельком взглянув на нее, отметил про себя, что до сего дня она при нем не осмеливалась курить.
Атабек вздохнул с сожалением:
— Эх, раньше бы эти документы, — подумал он, — на один бы день раньше, а теперь…
— Не веришь глазам своим? — перебила ход его мыслей Лейла.
— Свидетеля хорошо спрятала? — спросил у дочери Атабек.
Лейла смутилась.
— Он ушел и… исчез, — виновато проговорила она. — Взял у меня пропуск и значок, сказал, что у него есть надежное укрытие, обещал позвонить. Звонка я не дождалась, испугалась, потому я здесь.
— Если не позвонил, значит, возможны только два варианта: либо он получил вечное убежище, где его никто, кроме Мир-Джавада не найдет, либо ему удалось удрать за границу, что, впрочем, маловероятно.
— Ты считаешь, его могли убить?
— Скорее всего! — Атабек спрятал документы в свой личный сейф. — Мир-Джавад здесь, гуляет с Васо.
— Мне сказали, что он в районе. — Лейла от ненависти побледнела.
— Мне тоже, но он здесь, однако, а это может означать только одно: свидетель мертв. Теперь Мир-Джавада так просто не возьмешь.
— Но ведь есть фотографии, показания агента! — возмутилась Лейла.
— Для любого смертного — это приговор, — усмехнулся Атабек. — Но вчера принят указ о подчинении всей инквизиции центральной власти, и я в одиночку не могу решать вопрос о наказании. Кроме меня, есть теперь Гимрия, а над ним Великий.
— Неужели он так и останется безнаказанным? — зарыдала Лейла.
Атабек ласково погладил ее по голове:
— Гаджу-сан стал прислушиваться к моим советам. Сегодня же покажу ему все материалы. Он только сегодня утром мне сказал: «своих беречь надо»!.. Пусть полюбуется, как инквизитор расправился с моим ближайшим родственником…
— Если бы ты его раньше признал своим родственником, — вздохнула горестно Лейла.
— Не переживай! Мир-Джаваду недолго осталось жить в любом случае. — Атабек чмокнул дочь в щеку. — Оставайся во дворце, здесь безопасней, а я во дворец эмира поехал.
Атабек ушел, а Лейла вдруг почувствовала такую усталость, что, не раздеваясь, рухнула на диван и мгновенно уснула…
…И приснился ей сон: она стала маленьким эльфом и летает среди прекрасных, дивных цветов, перепархивая с одного на другой, а вокруг много других эльфов, их серебристые прозрачные крылья сверкают в лучах солнца, отсвечивая яркими красками цветов, а запах нектара вызывает спокойствие, все есть и больше ничего не надо, наслаждение и восторг от жизни; рядом с ней летают ее дочь и первый муж, единственная любовь; что может быть совершеннее полета, когда крылья приравнивают их к ангелам, такие крылья не выдают первому встречному, вон сколько желающих летать копошатся муравьями на земле, среди грязи и смрада, но подавляющее большинство из них так ни разу и не узнают в своей примитивной жизни, что значит это чувство, — чувство полета; а избранные — это особые, поэтому их и зовут — «эльфы», а не «муравьи»; крылья — редкость, на всех не хватит, вдруг Лейла видит стоящего, как скала, Мир-Джавада: он ловил, словно мух, эльфов, отрывал у них крылья и бросал их на землю, где они беспомощно барахтались на земле, в грязи, пожираемые муравьями; Лейла закричала от ужаса: Мир-Джавад поймал ее любимого мужа, оторвал у него крылья, воткнул ему в зад соломинку, расщепил ее и бросил несчастного на землю, а Лейла слышала, как противно визжит в полете расщепленная соломинка, но помочь ничем не могла, потому что увидела, как огромная рука Мир-Джавада схватила ее дочь, Лейла полетела стремглав к ней на помощь, но… тут же проснулась, вся покрытая липким потом, тяжело дыша, еще не понимая: где она и что с ней произошло…
«Нельзя спать одетой! — подумала она. — Одежда стесняет ток крови… Что же это мне снилось? Что же?..»
Атабек ехал на совещание особо узкого круга. Скряб, правая рука Гаджу-сана, предупредил, что будет так называемая «семерка». Атабек мрачно подумал, что от прежнего состава осталось менее половины: Сосун, Атабек и Ворилло, бывший командующий первой бронетанковой дивизией «Викинг», потоками крови заливший недовольство в армии, дурак и трус, но Гаджу-сан ему верил, а это лишь было теперь гласным.
— Арчила убили, троих обвинили в заговоре и расстреляли. Кто следующий? — Атабек передернулся, лицо его исказилось. — А кто пришел? Гимрия — садист и наркоман, сам лично пытает противников, в его руках люди сознаются в таких вещах, что читать смешно, а Гаджу-сан верит или делает вид, что верит… Скряб — улыбающийся карлик, дебил недоразвитый… Кагач — брат пятой жены Сосуна… Да еще Жанд, выдумавший теорию произвола, как будто до нас не было Маккиавелли, говорят, книжка этого хитрого человека все время под рукой у Сосуна, — мрачно думал Атабек, — изучает… Все государи — бандиты, но не все бандиты становятся государями, а уже четвертое поколение забывает, что основатель династии был обычным кровопийцей… Мало мне своих хлопот, так Лейла требует головы Мир-Джавада, этого сумасшедшего ревнивца. Носил, носил рога, да и растерзал ими… Бедный красавчик, не думал, не гадал, что сладкая любовь обернется рогом в зад. Опасно иметь в любовницах жену начальника инквизиции края… А может, это проба сил?.. Скорее всего. Пригрел змею на груди! Что ж, отрубим ей голову прежде, чем она сумеет ужалить. Как только приеду, займусь. Конечно, некоторое время выжду, чтобы Васо не пускал пену, а потом… мои снайперы не стреляют мимо… Но Великому надо сказать, заручиться молчаливой поддержкой. Он, правда, сам мастер жен убивать, но очень не любит, когда убивают мужей или любовников… Васо меня тоже беспокоит: Мирсен-убийца подал дурной пример, назначив сына своим преемником. Хорошо, что Великий считает себя действительно Бессмертным… А не сделать ли проще: вызвать Коку с оптикой, пусть поохотится. — Атабек внезапно испугался своих крамольных мыслей. — Дурак! Охотиться в царском заповеднике, — быть повешенным!.. Пусть живет… пока! Уже недолго осталось… Гуляй, гуляй, воспитанник!.. Я тебе покажу, как на благодетеля руку поднимать… Слушай, а что это я на нем глаз остановил?.. Этот болван Исмаил-паша навел: «верняк, верняк»!.. Впрочем, действительно был, да быстро перерос, самостоятельности захотел. Я и Исмаил-пашу убил за такое: самостоятельно захотел сделать два миллиона, обвел вокруг пальца, пусть теперь его тень бродит вокруг Чертова пальца…
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне»…
На совещании «семерки» царили улыбки и сладкие слова. Ненавидевшие друг друга, стремившиеся встать после Гаджу-сана в строй первым, они зорко следили друг за другом, всегда готовые предать, но чаще оказывающиеся преданными. Гаджу-сан всегда пользовался этими распрями, и, умело разжигая ненависть и зависть, он давал часто другому то, что больше всего жаждал получить его соперник, и сочувственно говорил обделенному:
— Понимаешь, замучил просьбами, проклятый, но ты не бойся, я тебе тоже что-нибудь хорошее подброшу…
И действительно подбрасывал, только то, что жаждал уже третий, и все повторялось сначала. И все в душе ненавидели друг друга, но сразу объединялись, когда дело касалось общих интересов, а тогда исчезали, зачастую и те, кто был даже необходим Гаджу-сану.
И сегодня они собрались для объединения, почему и царила гармония. Необходимо было срочно решить: что делать с бывшим Великим инквизитором Кирпиком. Гимрия срочно заменил Кирпика на посту Великого инквизитора, потому что стали известны вырвавшиеся в запальчивости слова Кирпика: «окружение предателей»!..
Гаджу-сану услужливо донесли, и Великий решил, что больше не нуждается в услугах Кирпика. «Так он и до меня доберется»! — пошутил Сосун, и Кирпика отправили на хозяйственную работу. Но тоска по огромной власти изнурила его и толкнула на немыслимую авантюру: он предъявил ультиматум Гимрии, считая его, что было не лишено основания, виновным в своем падении, в своей отставке, и потребовал, не больше, не меньше, уступить ему обратно пост Великого инквизитора, в противном случае, в случае отказа, грозил, опубликовать за границей документы, порочащие Гимрию…
И вот «семерка» собралась, чтобы решить этот вопрос. Каждому из соратников Гаджу-сана, конечно, очень хотелось убрать Гимрию, но Кирпик был неуправляемым фанатиком, к тому же гомосексуалистом, а каждый из присутствовавших любил женщин, только это их и сближало, они часто уступали друг другу своих любовниц и даже рекомендовали познакомиться со «стоящей», конечно, только на их взгляд…
Атабек ненавидел Гимрию не менее других, но лучше чувствовал настрой Гаджу-сана и уже принятое им решение.
— Насколько я понял, в случае ареста Кирпика документы будут опубликованы в прессе наших заклятых врагов, так давайте не будем арестовывать Кирпика…
Дюжина удивленных глаз вперилась в Атабека, а он, ничуть не смущаясь, продолжал:
— Но, если Кирпик случайно, я подчеркиваю: «случайно»! погибнет в автомобильной катастрофе, мы устроим ему торжественные похороны в почетной аллее.
— Какая разница, дорогой, — поморщился Гимрия, — сдохнет он у меня в подвале или на свежем воздухе, все равно документы-то опубликуют…
— А что за документы, Гимрия? — лукаво спросил Гаджу-сан, попыхивая своей неизменной трубкой.
Гимрия растерялся, но ненадолго.
— Я вам докладывал, учитель!
— Я-то все знаю, ты лучше, партайгеноссе, своим расскажи, здесь все твои друзья… — весело подтрунивал Великий Учитель.
Гимрия побелел от унижения. Сосун ему явно давал понять, что он переоценивает свою персону, свою значимость, а Гимрия боялся Отца народов, как собака палку. Вот и сейчас он ощутил, что ему немедленно нужна хорошая доза наркотика, поэтому он холодеющими губами торопливо пробормотал:
— Я сейчас отдам распоряжение, чтобы мне привезли копии!
И вышел, шатаясь, из кабинета Гаджу-сана. Оставшиеся злорадно не улыбались лишь потому, что улыбался сам хозяин кабинета, а чему только он улыбался, это никогда невозможно было понять, поэтому у остальной «пятерки» лица оставались совершенно серьезными…
Гаджу-сан с удовлетворением смотрел на вышколенную им команду, где все ненавидели друг друга, а потому и были в его полной власти.
— Ты хорошо говорил, Атабек! — перешел к делу Гаджу-сан. — Но что нам даст такая смерть шантажиста?
— Убийство вызовет газетную шумиху за границей, а вы, вождь, объявили, что все враги из вашего окружения уже уничтожены, остались только друзья, смерть после ареста это не то же, что несчастный случай на дороге, каких много в любой стране, даже и в не такой свободной, как наша, большого шума не вызовет, а я к тому же уверен, что Кирпик не успел переправить документы, слишком уж быстро его сняли с поста Великого инквизитора.
— Если он не успел переправить, может, действительно стоит его отправить в подвал Гимрии? — неожиданно спросил Скряб, пристально глядя на Атабека. — Там этот хулиган нам все расскажет.
— Арест — всегда шум! Зачем нам это? — упрямо повторил Атабек.
— Рациональное зерно есть в предложении моего друга Атабека, — поддержал Атабека Гаджу-сан, — пусть он избежит подвала, куда препроводил всех своих врагов, хотя это и лишает справедливость законного возмездия. Я думаю, необходимо начать игру с гнусным перерожденцем, чтобы внушить ему, что мы принимаем его условия, и в то же время приложить все усилия, чтобы достойно подготовить выполнение задуманной операции… Я высказал только свое мнение, друзья, вы имеете законное право большинством голосов принять и другую резолюцию… но, кто за то, чтобы принять мое скромное предложение, прошу поднять руку.
Все дружно проголосовали за предложение Гаджу-сана, и тут явился бодрый Гимрия, успевший кольнуться, с обещанными бумагами.
— Товарищи могут быть свободными! — закончил сборище Гаджу-сан. — Партайгеноссе Атабека прошу остаться, — и насмешливо спросил. — Гимрия! Где это ты бродишь, когда твои друзья решают твои же проблемы? — и жестко добавил: — Выйди за дверь, зайдешь попозже!..
Гимрия опять побелел, но послушно, как наказанный мальчик, вышел вслед за всеми, стараясь не замечать веселых искорок в глазах партайгеноссе. У всех интерес к его документам пропал, хотя каждый дорого бы заплатил, чтобы иметь их в своем сейфе…
Как только они остались вдвоем, Гаджу-сан пригласил Атабека сесть рядом с ним, долго молчал, глядя в окно, углубившись в свои думы. Атабек не сводил глаз с него, не решаясь прервать молчание вождя, и почтительно ждал, когда его Великий друг, снизойдет к нему обратиться.
— Как здоровье, гном? — неожиданно начал Гаджу-сан.
— Ваше величество! Сил много, и все, чтобы верно служить вам, — дрожащим от волнения голосом проникновенно ответил Атабек.
— Как ты смотришь на то, чтобы я тебя назначил своим преемником? — Гаджу-сан впился взглядом в Атабека.
Атабек чуть было не потерял сознание от открывшейся вдруг перспективы, но от счастья не умирают, а чувство самосохранения заставило его вымолвить другое:
— Я счастлив и горд, что мой вождь обратил свое драгоценное внимание, свой взор на преданность его слуги, но я, клянусь аллахом, и не думал об этом, каждое утро, вместо намаза, я молюсь, чтобы аллах дал бессмертие Великому Гаджу-сану, и я уверен, даже убежден, что мои мольбы доходят до бога: ваши юношеские глаза, мой повелитель, стройный и крепкий стан, твердый и ясный голос, — все говорит мне об этом, мои молитвы не напрасны, но каждая ваша мысль для благодарного человечества — подарок небес, и не мне ее дополнять или убавлять…
Гаджу-сан улыбнулся в густые усы и жестом оборвал поток красноречия Атабека. Опять долго всматривался в него, но кроме беспредельной преданности и верности в глазах и готовности умереть за него тут же, на месте, крупными мазками набросанных на лице, ничего не прочел.
«Вышколил их, сам уже запутался: кто есть кто!» — мелькнуло сожаление у Великого Интернационалиста.
Атабек ждал продолжения разговора, душа его ликовала и пела: «мой час! мой час»! — но ни одна черта внешне не отразила его внутреннего состояния…
— Ты, я вижу, хочешь попросить о чем-то меня? — нарушил молчание Гаджу-сан. И кивнул одобрительно головой, мол, разрешаю. Атабек решил воспользоваться случаем, достал фотографии, привезенные Лейлой, и робко положил их перед вождем и учителем, умолчав об имеющихся у него свидетельских показаниях агента Арутюна, иначе придется признаваться, что Мир-Джавад обошел своего учителя и первым добрался до свидетеля…
По тому, как брезгливо рассматривал Сосун эти гнусные фотографии, было видно без слов, что Гаджу-сан осуждает подобные мерзости.
— Разве Мир-Джавад педераст? — разочарованно спросил Гаджу-сан.
Потеряв голову от стольких удач сразу, Атабек потерял чувство контроля и допустил ошибку: ему надо было подумать и сказать: «да»! И Мир-Джаваду пришел бы конец, второго Кирпика Гаджу-сан не потерпел бы. Но Атабек машинально сказал: «нет»! И лишь потом спохватился, стал чернить Мир-Джавада, однако слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. И Гаджу-сан уже с подчеркнутым безразличием отбросил фотографии от себя. Но строго сказал:
— Ты прав, гном, наказать его надо, и мы со всей строгостью, своей отцовской властью его накажем, ты в это дело не вмешивайся, тебе неудобно: один муж твоей дочери убил другого мужа твоей дочери… У тебя разве две дочери официально?..
— Одна! — пришлось ответить Атабеку.
Гаджу-сан прекрасно знал, сколько всего детей, официальных и неофициальных, имел Атабек, и Атабек прекрасно знал, что Сосун это знает, и Сосун прекрасно знал, что Атабек знает, что ему все известно… Каждый играл в свою игру по своим правилам, не посвящая в них другого. Атабек мог теперь с полным основанием сказать, что убить Мир-Джавада стало неизмеримо труднее, но… и у Атабека были убийцы экстра-класс, их он берег и выпускал на сцену лишь в крайне редких случаях. И такой случай наступил: Атабек понял, что ему уже наступают на пятки, и, если не он уберет Мир-Джавада, то тот его уберет. Осуществление своего замысла Атабек решил приурочить к возвращению домой, в родные пенаты. Очень уж ему вскружило предложение Гаджу-сана голову. «Стать преемником Великого — это не хухры-мухры»! — подогревал себя Атабек, и мысли его возносили на еще большую высоту. Да и сопутствующие предложению факты говорили сами за себя: бесцеремонное унижение Гимрии на глазах у всех и отсутствие Васо, хотя он почти всегда, когда трезв, разумеется, присутствовал на заседаниях «семерки». Все это говорило о серьезности намерений Гаджу-сана, и Атабек, решив отложить исполнение своего приговора Мир-Джаваду, сделал вторую ошибку…
Гаджу-сан взял со стола фотографии и спрятал их в свой сейф, расположенный в столе, в правой тумбе. И Атабек не посмел, сказать, что он еще не успел снять с фотографий копии. Гаджу-сан движением руки разрешил ему удалиться, и Атабек, почтительно поклонившись, неслышно вышел из кабинета.
Едва он вышел, как из другой двери кабинета вошел Васо.
— Опять подслушивал? — недовольно спросил Гаджу-сан.
— Знать — это уже половина победы! — нахально заявил Васо, он был верен себе и никогда перед отцом не оправдывался.
Впрочем, именно за это качество Гаджу-сан его не только любил, но и уважал. «Невоздержанный, хулиган, но — честный мальчик»! — часто повторял Гаджу-сан, оправдывая перед собой сумасбродства сына.
— Ты знаешь, как меня зовут? — ошеломил Гаджу-сан неожиданным вопросом сына.
— Ты это к чему? — подозрительно спросил Васо.
— Ты не ответил на вопрос!
— Конечно, знаю! Могу перечислить все твои имена, клички и титулы! — надерзил Васо.
— Даже если ты знаешь весь список, могу тебя уверить, что Мирсеном я никогда не звался! — подчеркнул Гаджу-сан.
— Чем я хуже этого сопляка Ира? — заныл противно Васо, поняв отца с полуслова.
— Не ты хуже Ира, я лучше Мирсена! — улыбнулся Сосун. — Его соратники прекрасно знают, что Мирсен, в случае чего, не остановится перед казнью своего старшего сына, а мои псы нюхом чуют, что единственный человек, кого я не смогу поставить к стенке, — это ты… Выводы сделать нетрудно.
— Поэтому ты и решил сделать своим преемником своего лютого врага?.. Или он что-то знает и шантажирует? Так не проще ли его убрать? — перешел в атаку Васо.
— Пока не за что! — вздохнул печально Гаджу-сан.
— А если я тебе дам повод, ты уберешь его? — давил на отца Васо.
— Ты, что ли сумеешь «подставить» эту старую лису? — засмеялся Гаджу-сан.
— Мир-Джавад это сделает для меня, впрочем, и для себя тоже.
— Твой друг делает, но только не тех, кого следовало бы. Вот, полюбуйся! — и Гаджу-сан достал из сейфа стола порнографические фотографии и бросил их на стол перед сыном.
Васо стал их тщательно и с удовольствием рассматривать, хихикая и причмокивая.
— Ты знаешь конец этой истории, а хочешь, я расскажу тебе начало? — заинтриговал отца Васо.
Гаджу-сан насторожился, всем своим видом показывая, что он согласен, и лишь прирожденная деликатность не позволяет ему вслух высказать свое согласие.
Васо красочно, со всеми мельчайшими подробностями передал отцу новую историю Лейлы и Меджнуна, обсасывая скабрезные детали, особенно хирургического характера. Гаджу-сан смеялся до слез, а отсмеявшись, опечаленно вздохнул:
— Если бы они могли так и старика превращать в юношу, я бы их озолотил, — и уже другим, более мягким тоном приказал: — Приведи этого гомика.
— Что ты, отец, — обиделся за друга Васо. — Мир-Джавад — наш человек: кот еще тот!
— Зови своего кота, я его поглажу против шерстки!
— Гладь, только прошу: хвост ему особенно не накручивай, — пошутил Васо и поспешил в приемную, где томился в ожидании его старый друг…
«Ио, мой Ио! Слава Иисусу Христу, очнулся, выпей молочка… Три дня и три ночи без сознания, святой отец соборовал тебя уже, а ты обманул смерть, перехитрил ее, какой у меня мальчик молодец, сто лет будешь жить, сто лет царствовать… Выпей, выпей! С медом молочко… Вот, молодец, мой мальчик. А теперь поспи! Хочешь, я почитаю тебе твои любимые притчи?.. „Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд: удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся перед лицом царя, и на месте великих не становись; потому что лучше, когда скажут тебе: „пойди сюда, повыше“, нежели когда понизят тебя перед знатными, которые видели глаза твои“… Заснул, мальчик мой, любимый. Спи, набирайся сил. И я досплю подле тебя: три дня и три ночи глаз не смыкала, от смерти тебя обороняла… Спи!..»
Атабек, увидев в приемной у Гаджу-сана Мир-Джавада, поразился всеведению вождя.
«И это знает! Хотел бы и я знать: кто из моих людей работает на него, да разве у профессионалов узнаешь что-либо… — подумал Атабек, демонстративно не обращая никакого внимания на Мир-Джавада. — Сидит, разбойник, потеет от страха! Трясись, трясись! Накрутит тебе хвост отец родной всем народам, будешь знать, как издеваться над отцом собственной дочери…»
Мир-Джавад, тихий, и покорный, как ягненок, робко подошел к Атабеку, почтительно низко поклонился:
— Аллах хранит вас, отец родной, позвольте ничтожному первым поздравить вас с заслуженным назначением, успех — достойный только великих, орлу летать выше всех, всем остальным божьим птахам покоряться ему со смирением…
Атабек протянул ему один палец, который Мир-Джавад осторожно поцеловал, и, не сказав ни слова, вышел из приемной, а затем и из дворца. Он почувствовал вдруг страшную слабость и головокружение. О таком успехе он и не мечтал. По дороге домой он снова вспомнил о Мир-Джаваде.
«Простить что ли этого молодого негодяя? — думал он. — Мальчишка, э! Сорока еще нет, или есть… Надо у Лейлы спросить… Да, его простишь, а дочь потеряешь… Впрочем, поскольку Гаджу-сан взял дело в свои руки, есть отговорка, можно будет какое-то время потянуть с убийством, а там, глядишь, и Лейла смилостивится, женское сердце отходчиво… Ладно, погодим, убить его я теперь всегда успею. Наследник Великого Вождя — это вам не хухры-мухры!..»
Васо, выглянув в приемную, встретился взглядом с Мир-Джавадом и, едва заметно, кивнул головой. Мир-Джавад глубоко вздохнул, словно перед прыжком в воду со скалы, да не изучив дна, и пошел в кабинет Гаджу-сана, предстать перед ясными очами вождя, любимого всеми детьми мира…
Гаджу-сан разбирал бумаги на столе и не обращал ни малейшего внимания на застывшего по стойке «смирно» Мир-Джавада. Так и стоял полчаса, не шелохнувшись, Мир-Джавад. Уже муха, привлеченная новым неподвижным предметом, закружила возле его лица в поисках пищи, выискивая удобную площадку для посадки, а глаза Мир-Джавада пристально следили за ее полетом. Мир-Джавад незаметно и неслышно дул на муху, пытаясь отогнать назойливую пришелицу движением воздуха, но наглая муха была вне пределов воздушного потока, а потому не обращала никакого внимания на жалкие попытки лишить ее законного обеда. Наконец, решив, что покрытый потом лоб — самая лакомая часть этого столба, муха вцепилась в него лапками и забегала по лбу, насыщая свою утробу. А Мир-Джавад стоял и терпел, хотя ему еще никогда так не хотелось, до боли, до сладострастия, достать из кармана резинку и выстрелом в лоб расплющить негодяйку на месте…
Васо, по обыкновению подслушивающий у двери, вошел в кабинет, обеспокоенный затянувшимся молчанием. Только тогда Гаджу-сан посмотрел на стоявшего столбом, с мухой на лбу, Мир-Джавада.
— Значит, на мужчин перешел?.. Что, так женщины надоели? — ехидно, с издевкой спросил Гаджу-сан. — Как же ты так опростоволосился? Фотографии оказались в чужих руках… Насколько я понимаю, кроме меня, еще трое ознакомились с этой порнографией?
И Гаджу-сан сделал паузу, ожидая ответа Мир-Джавада. Тот, как конь, мотнул головой, отгоняя назойливую муху, проглотил слюну и хриплым от волнения голосом отчеканил:
— Предавший меня агент убит, ваше величество! Остались двое…
— Надеюсь, женщин ты простишь? — вспомнил о своей убитой жене Гаджу-сан. — Да! А ты сам-то видел эти гнусные снимки?..
Замечание вождя относительно женщин не оставляло сомнения у Мир-Джавада: Атабек — липовый наследник, а значит, все еще в числе смертных…
— Агент украл у меня фотоаппарат, я не успел проявить!
— А ты что, знаешь, кто эти двое? — деланно удивился Гаджу-сан, подходя к Мир-Джаваду.
— Разумеется! Агент обменялся фотографиями с моей женой на ее золотой значок и пропуск… А второй — Атабек! — с ненавистью сумрачно вздохнул Мир-Джавад над своей ошибкой.
Гаджу-сан впился, подойдя вплотную, в него желтыми рысьими глазами:
— Говори честно, негодяй! Метил в Атабека? Ему был вызов?
Мир-Джавад заранее обдумал всевозможные вопросы и упреки, «проиграл» разные варианты ответов: он готов был рассказать о своем понятии чести семьи, и борьба за сохранение семьи тоже была бы подана во множестве вариантов, но такое обвинение он не обдумывал даже со своим больным воображением. Надо было срочно отвечать, молчание всегда расценивалось Гаджу-саном как признание своей вины и неспособность находить быстрые решения, поэтому, недолго думая, Мир-Джавад пошел «ва-банк».
— Мой повелитель, ничего не скроется от вашего мудрого взора! Все было именно так, как вы сказали, но делал я это скорей подсознательно, и вот почему: Атабек недостаточно почтительно относится к вашему величеству; сколько раз я заставал его развалившимся в кресле, с расстегнутой ширинкой сидит, в то время как разговаривает с вами, мой вождь, по телефону, зевает, стучит по столу, вы догадываетесь чем, мой повелитель, и я, хотя и обязан многим Атабеку, очевидно, не могу ему простить даже малейшего умаления вашего достоинства… Но это только мелочи, главное: погибший на операции мой предшественник на посту начальника инквизиции края что-то знал об участии, может, только косвенном, Атабека в мятеже. Атабек сам делал ему операцию и распорядился заклеить ему рот…
— Себе заклеить? — сыронизировал Гаджу-сан.
— Простите, вождь, неточно выразился… Начальнику, конечно. Делал он ему операцию, кажется, без наркоза, а меня заставил ему ассистировать, хотя я в этом деле совершенно ничего не смыслю. Возможно, что Атабек — великий хирург, но мой предшественник умер на столе.
Васо решил подыграть другу. Вытаращив от ужаса глаза, он завопил:
— Клянусь отца, я первый раз слышу! Отец, ты действительно великий вождь, если одним взглядом, как раскаленными щипцами, вытаскиваешь такие признания…
Гаджу-сан, гипнотизируя, продолжал, не мигая, смотреть пристально на Мир-Джавада, так удав смотрит на кролика.
— Атабек просил твоей головы! — наконец, нехотя произнес Учитель. — У тебя есть неделя, столько, сколько еще продлятся заседания. Если у меня будут основания не отпустить Атабека, я тебя прощу. В противном случае у Атабека будут развязаны руки. Можешь идти!
И пристально смотрел вслед, как Мир-Джавад, чеканя шаг, будто на параде, вышел из кабинета.
— Он все сделает, как надо! — прошептал отцу Васо, неслышно подкравшись сзади, но Гаджу-сан не слушал.
— Настал черед гнома! — думал он. — Дольше всех продержался из тех, кому я очень многим обязан.
И стал разжигать свою погасшую трубку.
«„А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов“. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит»…
Кирпик затеял опасную игру и сам это понимал. Но желание вернуть прежнюю власть пересилило чувство страха и опасности, чувство самосохранения. Еще он надеялся, что Гимрии будет стыдно рассказывать Гаджу-сану о своих шашнях с малолетними, десяти — двенадцати лет девочками, и он добровольно подаст в отставку. Фотографии, которыми обладал Кирпик, были омерзительнейшими. Желание затмило рассудок. Наивный Кирпик не мог понять, что его пощадили за огромные заслуги в расправах с военными, а вообще, с этого поста добровольно уходят лишь в могилу. А ценность работника такого ранга определяется количеством компрометирующих документов. Очень уж Кирпику хотелось опять стать хозяином жизни и смерти десятков миллионов людей…
Гимрия предложил Кирпику миллион в твердой валюте и заграничный паспорт. Но не деньги толкнули Кирпика на эту немыслимую авантюру, и он с возмущением отказался. Беспокоило его лишь одно: Кирпик не успел переправить документы за рубеж, и хотя они были спрятаны так надежно, что ни один человек, кроме Кирпика, не знал о существовании тайника, некоторое беспокойство все же было.
Кирпик, довольный тем, что «поймал» Гимрию, забыл о круговой поруке, о законе молчания. Документы совершенно случайно попали в его руки в тот злосчастный день, когда Гаджу-сан вызвал его и сухо сказал:
— Слушай, ты вместе с военнообязанными уничтожаешь и тех, кто давно в отставке, и тех, кому до службы в армии еще несколько лет. Я такой команды тебе не давал, перегибы мне нежелательны. Поэтому народ решил тебя от должности освободить, или отстранить, как тебе больше нравится… Сдай немедленно мне ключи от сейфов.
Ошеломленный Кирпик не в силах был вымолвить ни слова, отдал ключи от сейфов, где хранился весь набор компрометирующих актов на всех соратников Гаджу-сана, и уехал на новое место службы, далеко от столицы, имея в кармане лишь порнографические фотографии Гимрии… И как неслыханную удачу Кирпик воспринял весть о назначении на место Великого инквизитора Гимрии. Однако целых три года Кирпик не мог решиться на шантаж, но властолюбие — неизлечимая болезнь, единственная болезнь, которой рады…
И вот сломленный Гимрия приехал утром к Кирпику и признал себя побежденным.
— Скоро я найду удобный повод и подам в отставку! — сокрушался он.
А Кирпик, словно токующий глухарь, ничего не видел и ничего не слышал. И не уступал.
— Нет! — говорит. — Давай сейчас!
— Сейчас неудобно! — уговаривал его Гимрия. — Подожди, хотя бы съезд партии эмира пройдет.
— Нет! — уперся Кирпик. — Давай сейчас!
И ножкой топает, грозится. А Гимрия, естественно, бледнеет и, заикаясь, умоляет Кирпика:
— Подожди!..
Но Кирпик неумолим. И считает, что он на правильном пути. И в тот же день, словно подтверждая это, ему звонит Гаджу-сан.
— Слушай, Кирпик! Гимрия принес сегодня мне справку от врача: у него лейкемия, просит отпустить с поста Великого инквизитора полечиться. Придется тебе, дорогой друг и товарищ, оставить свою легкую службишку и вновь взвалить на себя, на свои сильные плечи ярмо государственных забот. Я уверен, что ты сделал правильные выводы из нашей последней беседы.
— Великий!., да я… — зашелся от радости Кирпик. — Умру скорее, чем уклонюсь хоть на волосок от ваших прямых указаний… Как скажете, так и будет…
— Приезжай! — милостиво разрешил Гаджу-сан и повесил трубку.
А Кирпик несколько минут вслушивался в короткие гудки, не решаясь положить трубку. Только теперь он убедился, что победил Гимрию, и все вокруг так закружилось перед глазами от радости, что Кирпик опустился прямо на ковер возле телефона.
Собраться в дорогу для него было делом быстрым, слуг много. Из тщеславия, взыгравшего вдруг в нем, он чуть было не взял с собой фотографии, изобличающие Гимрию, но вовремя спохватился.
«Я еще успею позабавить Светлейшего этими фотографиями», — верно подумал он.
И уехал в столицу на собственной машине, буркнув недовольно под нос: «надеюсь, это последняя поездка на собственной машине, когда я сам себе шофер»…
Он великолепно водил машину. По недавно построенному шоссе ехать было одно удовольствие, гудроновое покрытие даже слегка амортизировало, вести машину было легко и приятно. Навстречу шла колонна новеньких, только с завода, грузовиков. По включенным фарам можно было догадаться, что идет перегон порожняка. Колонна двигалась на малой скорости, впереди шоссе было до горизонта пустое, и Кирпик, не сбавляя скорости, мчался мимо колонны, торопясь к обещанной награде.
Внезапно из-за хвоста колонны выехал огромный самосвал и, решив, очевидно, обогнать колонну, помчался прямо в лоб Кирпику. Тот от неожиданности забыл даже нажать на тормоза, так на полном ходу и врезался, лоб в лоб, в самосвал. Удар был настолько сильным, что машина Кирпика сложилась гармошкой, контакты сирены, которой были снабжены все правительственные машины, замкнулись в жуткий рев, словно Кирпик с машиной образовали одно страшное чудовище, и оно, раненное, кричало от жуткой боли. Водитель самосвала выскочил из кабины и удрал в лес.
Но Кирпик уже всего этого не видел, как не видел и тех торжественных своих похорон по высшему разряду, когда в почетном карауле у гроба, возвышающемся на постаменте Центрального дома культуры инквизиции, стояли по очереди все высшие руководители страны, и даже сам Гаджу-сан постоял у закрытого наглухо гроба, куда были положены вырезанные автогеном бренные останки бывшего Великого инквизитора, и подумал:
— Не по грехам такая легкая, мгновенная смерть!..
В доме Кирпика, под видом ремонта, произвели большой шмон: вскрыли полы и стены, и в бетонированном погребе обнаружили тайник, в котором и хранились в стальном ларце фотографии Гимрии и еще другие, менее важные, но все же представляющие для Гаджу-сана некоторый интерес.
Мир-Джаваду ничего не оставалось делать, как лететь домой. Уже по дороге на аэродром и в полете он начал обдумывать детали того плана, о котором он мельком упомянул в разговоре с Васо. Приземлившись, Мир-Джавад сразу же поспешил в инквизицию, не заезжая домой. В отдельном сейфе, строго засекреченном даже от своих заместителей, Мир-Джавад держал список своих самых ценных агентов. И среди них был председатель союза горняков Шеффер. Чтобы пробиться на этот значительный пост, Шеффер во время подавления мятежа пришел к Мир-Джаваду и предложил ему сделку: он будет его агентом, а Мир-Джавад уберет все руководство профсоюза. Мир-Джавад сразу согласился, правда, умолчав о том, что это сделать ему слишком легко, все старое руководство профсоюза, в том числе старый друг и сподвижник Гаджу-сана, были приговорены, но кроме Мир-Джавада пока об этом никто не знал. И Шеффер стал председателем, а старое руководство профсоюза исчезло в глубине острова Бибирь.
И вот теперь, как считал Мир-Джавад, настало время расплаты. Шеффер должен был спасти Мир-Джавада, иначе Мир-Джавад поклялся прихватить Шеффера на тот свет.
На телефонный звонок ответил сам председатель. Услышав голос Мир-Джавада, Шеффер чертыхнулся в душе, но льстивый голосок его налился медом:
— Как здоровье, дорогой? Что скажешь хорошего?
— Встретиться надо! — отбросил лирику Мир-Джавад.
— Где? — скучно спросил Шеффер.
Последнее время связь с Мир-Джавадом начала его уже тяготить, и он задумывал переметнуться на сторону Атабека, но предшественник Шеффера был из отряда Атабека, и только боязнь повторить его судьбу удерживала пока председателя профсоюза горняков.
— Может, в ресторане посидим? — предложил Шеффер, любивший сытно поесть.
— Не дури! — грубо приказал ему Мир-Джавад. — Приезжай ко мне на дачу. Поздней осенью побережье всегда пусто. Да, хочу тебя предупредить, чтобы явился один, без своей многочисленной свиты.
— А не опасно ли? — засомневался мнительный Шеффер.
— Опасно для тебя не слушаться! — пригрозил Мир-Джавад.
И вновь Шеффер тоскливо подумал, что пора переметнуться… Но Атабек был пока в столице, а от этого маньяка, как называл шефа Шеффер, пахло смертью.
И председатель профкома союза горняков сел за руль личного роскошного «кадиллака» и поехал на встречу.
— Тигра дергать за хвост лучше, когда он спит в клетке! — так успокаивал себя Шеффер во время довольно долгой дороги.
Но всякой дороге приходит конец, и председатель профсоюза увидел перед собой главную дачную резиденцию Мир-Джавада, стоившую по завистливым свидетельствам два с половиной миллиона долларов или в любой, другой твердой валюте.
Мир-Джавад, пока поспевал обед, водил его по даче, как это принято в лучших домах, а председатель рассыпался в похвалах. Вот только несколько удивился, когда увидел, что на стол накрывают охранники, а из прислуги никого нет.
— Однако! — заволновался Шеффер. — Предстоит очень важный разговор. Конфиденциальный! — не удержался и вставил свое любимое слово неисправимый болтун.
Был один из последних теплых дней, и поэтому стол накрыли в саду. Но как только Мир-Джавад и Шеффер сели за стол, председатель понял, что не только поэтому: охранники предусмотрительно отошли на такое расстояние, когда их было видно, но им не было ничего слышно.
— Прислуги нынче нет! Ухаживай за собой сам!
Мир-Джавад наполнил деликатесами тарелку до верху, налил себе водки, выпил и стал жадно есть, нисколько не заботясь о госте. Но тот и сам последовал примеру хозяина, и несколько минут за столом царило молчание, прерываемое лишь позвякиванием столовых приборов, хрусталя да почавкиванием двух любящих хорошо поесть мужчин.
Насытившись, Мир-Джавад первым делом посмотрел, на месте ли охрана, не подслушивает ли кто.
— Хорошо сидим? — спросил он гостя, торопливо доедающего последний кусок.
Тот с набитым пищей ртом промычал что-то, похожее на «хорошо», и закивал согласно головой.
— А ты знаешь, что нас с тобой могут через неделю застрелить? — продолжил, улыбаясь, Мир-Джавад.
Шеффер поперхнулся и долго кашлял, запивая вином застрявший поперек горла кусок.
— Шутите, шеф? — спросил он, откашлявшись.
— Ни капельки! Нам с тобой осталось жить ровно неделю!.. Если… — и Мир-Джавад многозначительно промолчал.
— Что если? У меня жена, дети, кто их будет кормить? — с надеждой взмолился Шеффер.
— Если — это если! — усмехнулся Мир-Джавад. — Надо устроить небольшую заварушку.
— Восстание? — побелел от страха Шеффер.
— Тоже мне предводитель рабов нашелся! — презрительно протянул Мир-Джавад. — Зачем восстание? Считай, что я от тебя такого слова не слышал… Слушай, дорогой, ты заставляешь меня совершать должностное преступление: как начальник инквизиции я обязан тебя арестовать… Да, именно, обязан! Но не буду… Поднимешь рабочих на демонстрацию протеста, соберешь тысячи, чем больше, тем лучше, и поведешь их в город: с лозунгами, славящими Великого Гаджу-сана, с его портретами, со знаменами…
— А повод какой я им придумаю? — взмолился Шеффер. — Повод-то должен быть?
— Если повода нет, то его организуют… Например: завтра же исчезнут продукты, послезавтра не привезут зарплаты рабочим, а ты и твои люди будете говорить, что это Атабек специально вызывает недовольство, интригует против отца родного, Гаджу-сана, и призывайте их к мирной демонстрации протеста.
— Трудно будет, шеф! И не опасно ли? Я все силы трачу, чтобы заставить рабочих смириться со своим положением полурабов, говорю, говорю им, что это временные трудности, мол, потерпите, а скоро рай наступит. Не получилось бы худа! — заюлил Шеффер.
— Не юли! — жестко отрезал Мир-Джавад. — Знаешь, кто сказал: «после нас хоть потоп»?.. Нет? И я не знаю, одно ясно, что из окружения Великого Гаджу-сана, неглупый человек, сразу видно… Ты делай свое дело, а я буду делать свое, если оба культурно постараемся, то оба будем живы. Понятно?
— Понятно-то понятно, но если народ не пойдет «качать» права? — тихо, как бы про себя, прошептал Шеффер.
Но Мир-Джавад его услышал.
— Тогда ты первый отправишься к аллаху вестником, что вскоре последую я.
Мир-Джавад встал и пошел в дом.
— Холодно что-то стало, скоро зима… О! — вспомнил Мир-Джавад. — На зиму и ссылайся, а я еще прикажу увезти топливо. Голодные и холодные пойдут, только ты уж постарайся. И не вздумай бежать, о жене и детях подумай, я за тобой пригляжу на всякий экстренный случай.
И, не прощаясь, Мир-Джавад ушел в дом. Председатель профсоюза топтался на месте, не зная: следовать ли ему за Мир-Джавадом или ехать на рудники, организовывать демонстрацию. И, словно читая его мысли, из дома донесся повелительный окрик:
— Поезжай! Нечего тебе тут делать, работай!
Шеффер, проклиная тот день, когда он связался с инквизицией, поехал сразу на рудники, причем гнал автомобиль с такой скоростью, что дело не раз повисало на волоске, но на дорогах в ту пору было мало машин, а те, что встречались, проявляли удивительное понимание ситуации и уступали дорогу.
На руднике первым делом Шеффер собрал всех своих членов профкома.
— Какие настроения у рабочих? — спросил прямо, по-деловому, за что его и ценили.
— Спичку поднеси — взорвется! — отозвался первый заместитель председателя.
Посыпались возмущенные реплики:
— Люди недовольны!
— Временные трудности ожесточили их!
— Говорят, что сейчас хуже, чем было при Ренке!
Шеффер насторожился.
— Кто такое говорит, — враг! Бери его на заметку, сколько раз я буду вам, олухи, повторять, — прорвалась злоба у председателя.
— Да записал, что толку, работать становится все труднее и труднее, рабочие нас считают предателями.
— Вот мы им и докажем, что не предатели, а защитники! — обрадовался Шеффер.
Удивленное молчание повисло в воздухе кабинета председателя профсоюза горняков. Это слово здесь слышали и произносили впервые.
— Что замолчали? Не верите? — улыбнулся Шеффер. — Готовьте мирную демонстрацию во славу Великого Гаджу-сана. Пойдем в город требовать свои права. Не для того боролись, чтобы жить сейчас хуже, чем при Ренке.
— Правду говоришь, председатель! — неожиданно произнес пожилой рабочий, сидевший обычно на всех заседаниях молча. — Если пойдем все, должны будут прислушаться, а то только говорят, что наша власть, на самом-то деле права голоса мы и не имеем.
Председатель улыбнулся.
— Ну, уж если наш молчун заговорил, мы их заставим прислушаться к нашему голосу… На какое число назначим демонстрацию? — забеспокоился Шеффер. — Может, на девятое ноября?..
— Чем раньше, тем лучше! — утвердил пожилой рабочий.
Все с ним согласились и единодушно проголосовали за резолюцию, призывающую рабочих к демонстрации протеста.
Как только Шеффер остался один, он позвонил Мир-Джаваду.
— Шеф, полный успех!
— Успех приходит после завершения, а ты пока только в самом начале, — устало внушил Мир-Джавад. — Поведи колонну более короткой дорогой через речку Шарпе.
— Но эта дорога старая и узкая, — попробовал возразить Шеффер. — Мы растянемся на несколько километров…
— Грандиозно! Это будет величественное зрелище. Хотелось бы мне посмотреть, как это будет выглядеть, взлететь в вышину, чтобы с высоты птичьего полета охватить взглядом всю картину, — заливался Мир-Джавад, а когда надоело, рявкнул: — Короче! Это — приказ, а приказы, как тебе это известно, не обсуждают.
Переговорив с Шеффером, Мир-Джавад немного успокоился и вновь почувствовал прилив сил. И поехал к самому верному слуге Атабека полковнику Ширали. «Беспощадный» Ширали был гордостью Атабека, но глуп, как пробка, и, подобно всем недалеким людям, считал себя очень умным человеком. Понять, что Мир-Джаваду что-то от него нужно, не составляло для него труда, и мысль об этом наполнила Ширали гордостью, мол, его-то на мякине не проведешь.
Так как Мир-Джавад был родственником Атабека, то Ширали и отнесся к нему подобающе: принял его по самому высокому разряду, угощал и льстил, льстил и угощал, а сам все думал: «по какому поводу нагрянул столь высокий гость?» Командир «дикой» дивизии и не подозревал о последних важных событиях, когда решались судьбы и Атабека, и Мир-Джавада, и самого полковника Ширали. Наконец, гость приступил к делу, ради которого он и явился.
— Мои мальчики раскопали сегодня: горняки собираются многотысячной колонной идти в город, выражать недовольство. Против Атабека между прочим.
— Я их не пущу в город! Какой дорогой пойдут, не узнали твои? — важно, соблюдая достоинство, процедил Ширали.
— Мои все знают! Дорогой через Шарпе. Ты мне на всякий случай дай своих джигитов, пусть плетками поработают.
— Там я на всякий случай пулеметы поставлю.
— Делай, как считаешь нужным, ты — хозяин! — почтительно откланялся Мир-Джавад. — Приехать к тебе на помощь?
— Я сам с усам!
— Ты уже решил, где их встретишь?
— Обижаешь, дорогой! — гордо, любуясь сам собой, ответил Ширали. — Лучшего места, чем на повороте дороги, после моста через Шарпе, нет. Вокруг неприступные стены скал. Остановим!
— Только прошу, без кровопролития! — взмолился Мир-Джавад. — А не то Атабек с меня шкуру спустит и на барабан пустит.
Мир-Джавад предупредил Ширали, зная, кому он это говорит: Ширали никогда не упускал случая сделать ближнему пакость, а уж ближнему высокочтимого Атабека, кому он завидовал самой черной завистью… Мир-Джавад был в нем уверен, да и в своих молодцах не сомневался. Весь следующий день он провел, тщательно подготавливая каждую деталь, предусматривая любую мелочь. Как он и обещал Шефферу, с рудников вывезли тайно все запасы продовольствия и топлива, а зарплату задержали. Озлобление рабочих и их семей достигло такого предела, что Шефферу стоило большого труда сдерживать гнев обездоленных масс, направить его в мирное русло предстоящей демонстрации, а не разрушать рудники и не браться за оружие, к чему призывали некоторые буйные головы.
— Мы девятого утром пойдем требовать своих прав мирной демонстрацией, — до хрипоты кричал Шеффер. — Наш отец родной Гаджу-сан не знает, я уверен, о наших бедах. Больше того, я уверен, что администрация рудников скрывает наши требования и от местного руководства. Подождите, и я уверен, что мы победим!
«Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты, и показывай срамоту, — обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою»…
И рано утром девятого ноября тысячи рабочих семей с малыми детьми на руках, некоторые, из тех, что постарше, тоже увязались со взрослыми, растянувшись длинной колонною, со знаменами, лозунгами, с портретами Гаджу-сана, двинулись с гор в город. Шеффер повел колонну старой дорогой через ущелье Шарпе, по которому протекала одноименная речка, с узким мостом через него.
Как только колонна перешла через мост, авангард пытался остановиться, увидав за поворотом цепь индейцев чеч-ин и гу-ин, «дикушей», как называли в народе солдат из «дикой дивизии». Но многотысячная колонна, те, кто шел сзади, не подозревая о появившемся препятствии, давили на передних с такой силой, что они хоть и медленно, но продолжали движение вперед.
Лязгнули затворы винтовок, раздалась короткая команда, офицер взмахнул рукой, и короткий резкий залп разорвал воздух. Стреляли вверх, для острастки. Но Мир-Джавад послал на скалы несколько своих снайперов, и они по той же команде выстрелили, их выстрелы смешались с залпом солдат, и офицер с тремя рядовыми упали на дорогу мертвыми. Ширали решил, что стреляли рабочие, и приказал открыть пулеметный огонь по колонне. Убитый офицер был племянником Ширали, и он, вне себя от горя и гнева, приказал стоявшему в резерве танку выйти на исходную позицию и открыть огонь.
Колонна была настолько плотна, что практически каждая пуля находила свою цель, свою жертву. А танк открыл огонь и из пушки. Это была страшная бойня. Колонна продолжала ползти вперед, пока задние не поняли, наконец, что стреляют по колонне, не остановились и не бросились бежать вспять в горы, в рудники, сшибая и давя, обезумев, слабых и детей, кто падал, встать не успевал, по нему проходила лавина, втаптывая в пыль дороги.
Все, кого колонна выдавила в район моста через речку Шарпе, были уничтожены. Многие, пытаясь спастись от пуль и осколков, бросались сами в речку или бросали своих детей, но мелководный Шарпе едва скрывал под водой острые обломки скал, и несчастные разбивались о них. Крики ужаса и проклятия слились в один нечеловеческий вой. Люди наивно закрывались портретами Великого Вождя и Учителя, надеясь, вероятно, что в изображение святого отца всех стран и народов солдаты не осмелятся стрелять. Но пули дырявили изображения непобедимого с еще большей легкостью, чем укрывающихся за портретами людей. Матери своими телами пытались закрыть детей, но снаряды, выпускаемые из пушки танка, разрывали на части одновременно и матерей, и детей.
«Ад поднялся на землю и поглотил ее. Смола и огонь воцарили, сжигая и пачкая белизну ангелов и золото солнечных лучей… Мрак и туман, мрак и туман! Отказалось небо от нас. Мы проклятые дети матери Вселенной, убившие и себя, и природу, и прошлое, и настоящее, и будущее. Забыты все десять заповедей, выстраданные людьми и данные нам небом, дьявол ввел свои законы, горе нам, горе, нет нам прощения и нет нам пощады. Пошли душу мою грешную в ад, боже, на земле страшней»… — кричал сошедший с ума от своей вины Шеффер, пока пуля снайпера не прервала его жалкого существования…
А на скалах, рядом со снайперами, уютно расположились два кинооператора, снимавшие происходившее побоище. Это были лучшие кинооператоры, которым мог доверить право на съемку Мир-Джавад. И он мог быть довольным. Снятые кадры потрясали.
Мир-Джавад смотрел их в просмотровом зале и тихо радовался необыкновенной удаче. Теперь было что показать Гаджу-сану…
И Мир-Джавад полетел в столицу.
— Что привез? — встретил его Васо.
— Материальчик — пальчики оближешь! — гордо сказал Мир-Джавад.
— Клянусь отца? — передразнил друга Васо. — В коробках что? Фильм привез показывать? Если порнографический, отцу не показывай, не поймет…
— Этот он поймет! Страшный документ… Обедать перед просмотром не рекомендую… — пошутил над любителем плотно поесть Мир-Джавад.
— А после наверстать упущенное можно? Слушай, я уже есть захотел… Как только мне говорят: «нельзя!» — так мне сразу же этого хочется, — пожаловался на слабость Васо.
— После просмотра не захочется! — тихо произнес Мир-Джавад, странно передернувшись…
Васо повел Мир-Джавада к отцу. Но охранник Мир-Джавада с коробками не пропустил. Тщетно Васо доказывал охраннику:
— Это кинопленка, понимаешь?
— Нельзя! — тупо повторял охранник.
— Ты, дурень, понимаешь хотя бы, что такое «кинопленка»? — рассвирепел Васо.
— А нам без надобности! — также тупо повторял охранник. — Только с коробками не пропущу. Приказ!
Мягко говорил охранник, без злости, почти на одной интонации… Васо рассмеялся:
— Ты хоть знаешь, кто я такой?
— А нам без надобности! — не глядя даже на Васо, так же тупо сказал охранник. — Пропуск есть — проходи! А с коробками не пущу. Приказ!
— Да оставь ты его в покое, — устало вздохнул Мир-Джавад. — Сходи лучше к начальнику караула и выпиши пропуск на коробки, а я тебя здесь подожду. Время только теряем.
— Не боись, друг! Время еще есть: прошло только четыре дня, а тебе даны семь, — рассмеялся Васо. И пристально посмотрел на охранника. — Ты отличный сторожевой пес. Я тебя запомню!
И пошел искать начальника охраны, звонить с поста ему тоже не разрешили. Но первым делом Васо заглянул к отцу. Его возбужденный и радостный вид привлек внимание Гаджу-сана:
— У тебя на лице все так и написано: твой друг спас свою голову. Посмотрю, какой ценой. Если «баш на баш», то он далеко пойдет.
— Пленку я еще не видел, но Мир-Джавад есть перед просмотром не рекомендовал, — ухмыльнулся Васо.
— Так он что, мне фильм привез о похождениях Атабека? — засмеялся Гаджу-сан.
— Тогда бы он рекомендовал смотреть его, сидя за хорошим столом. Да и тебя он настолько боготворит, что не осмелился бы привезти порнографию, зная твое отрицательное отношение к ней.
— Логично, логично! — похвалил сына Гаджу-сан. — Ты умнеешь, мой мальчик. Где этот фильм с твоим другом?
— Сторожевой пес держит. Пленка в коробках, а у него приказ.
— И ты его не убедил? — удивился Гаджу-сан. — Так я этого пса сделаю начальником личной охраны.
— На этом посту должен быть умный и гибкий человек! — поежился Васо, вспоминая тупую рожу охранника.
— Умный, согласен, но только не гибкий, чтобы и нашим, и вашим, — покачал укоризненно головой Гаджу-сан.
— Позвони, а то мы и так много времени потеряли, — заканючил сын.
Гаджу-сан позвонил, нажав кнопку секретного звонка. И словно чертик из табакерки, из-под земли вырос начальник охраны.
— Пойди с сыном и все устрой! — приказал Гаджу-сан. — Да! Кто у тебя на первом посту стоит сейчас? Приведи его ко мне завтра…
В просмотровом зале они сидели втроем. Операторы оправдали возложенные на них надежды. Господствовал только внутрикадровый монтаж, навеки воедино связавший палачей с жертвами. От крупного плана Ширали, сверкавшего от возбуждения налитыми кровью глазами, камера переходила к общей давке, а от разорванного на куски ребенка впивалась в обезумевшие глаза матери. Даже немые кадры, казалось, кричали от ужаса, сходили с ума от этого ада, сошедшего на землю, обличали и звали отомстить. Когда камера стала показывать длинным планом, как рабочий ползет по дороге в сторону солдат, волоча за собою собственные кишки, и грозит кулаком солдатам, Васо, который не внял предостережению Мир-Джавада и плотно перекусил, пока ленту подготавливали к просмотру в проекционной, а в просмотровой ждали, когда соизволит Великий Вождь оторваться от государственных дел, выскочил опрометью из зала, но до туалета добежать не успел и выпростался прямо в коридоре, и долго судорожные звуки сопровождали показ немых, но кричащих ужасом кадров…
Экран погас. Гаджу-сан обернулся резко и стремительно. С любопытством посмотрел на Мир-Джавада, на его преданностью дышащее лицо, вгляделся в его верный взгляд. Мир-Джавад знал, что теперь решается его судьба. Гаджу-сан еще с минуту помучил его молчанием, затем одобрительно сказал:
— Хорошая, чистая работа!
И Мир-Джавад почувствовал, как тогда в детстве, когда он тонул и, уже захлебываясь, все же выплыл на поверхность, как говорится, на последнем дыхании, облегчение. А Гаджу-сан решал что-то и как будто прикидывал: справится Мир-Джавад с этим или нет. Мир-Джавад почтительно ждал, когда вождь прервет молчание, а сердце его замирало от предчувствия чего-то очень хорошего, такого, о чем даже мечтать страшно.
— Тебе осталось выполнить еще одно очень важное задание! — улыбнулся отеческой улыбкой Гаджу-сан.
— Каждое ваше задание для меня всегда самое важное! — вскочил на ноги и застыл Мир-Джавад.
— Сиди, сиди! Что, как горный козел, скачешь? — милостиво разрешил Гаджу-сан.
И Мир-Джавад послушно сел… на самый краешек кресла и застыл в ожидании слов вождя.
— Я могу его отстранить на время от поста, пока будет работать комиссия по расследованию этого вопиющего преступления против человечества, — с болью в голосе проговорил Гаджу-сан, не называя даже, кого он собирается отстранить, это было и так всем понятно.
— И куда вы, ваше величество, его назначите? — задыхаясь от удачи, спросил Мир-Джавад.
Гаджу-сан лукаво улыбнулся в пышные усы. Он любил, когда его понимали с полуслова.
— Поставлю пока заведовать охотничьим хозяйством, оно порядком подзапущено, — вздохнул вождь, любивший когда-то охоту на медведя.
— А я вам выгоню медведя! — посулил Мир-Джавад.
— Видишь, как ты хорошо понимаешь свои обязанности. Только не промахнись, а то загрызет! — пошутил Гаджу-сан, но глаза его не шутили. — Уходи, сейчас сюда придут соратники…
Мир-Джавад бесшумно выскользнул за дверь. Паркет перед дверью был уже чист, и полотер, стараясь бесшумно, затирал воском большое белое пятно, оставленное желудочной кислотой Васо. Услышав гулкие шаги соратников Гаджу-сана, Мир-Джавад поспешно нырнул в кинопроекционную и оттуда, в щелочку двери, наблюдал, как они заходили один за другим в просмотровый зал. Среди них был и Атабек, которому все другие соратники уступили право зайти в просмотровый зал первому.
— Псы признали нового вожака, ничего, сейчас старый накрутит вам хвосты! — ухмыльнулся Мир-Джавад.
И дождавшись, когда зайдет последний, на цыпочках побежал по коридору к Васо. Разыскал он его во дворцовом буфете, где Васо пил «киндзмараули», свое любимое вино. Увидев Мир-Джавада, он кисло улыбнулся и позвал его:
— Иди сюда, иди сюда, я тебя побью! Друг называется, так «подставил», думал, что кишки лезут наружу, как у того…
— Я тебя предупредил!
— Пить будешь?
И Васо налил в другой хрустальный фужер рубиновое вино, посмотрел на игру света в бокале и протянул Мир-Джаваду:
— Такую красоту пьешь!
Мир-Джавад вылакал вино залпом, как пьют обычно воду люди, умирающие от жажды, не чувствуя ни вкуса, ни букета. Васо демонстративно отставил от него бутылку:
— Нечего, как воду, хлебать! Тебе, в таком состоянии, лучше пить водку или коньяк… Эй, ты! Принеси бутылку марочного!
Буфетчик мгновенно выполнил пожелание сына владыки, Мир-Джавад достал портмоне, чтобы расплатиться за коньяк, но Васо отстранил его руку:
— Ты мой гость, дорогой!.. Эй, ты, запиши, на мой счет.
И буфетчик, вздохнув, списал бутылку в убытки от боя…
А в просмотровом зале вновь испытывали нервы, теперь уже у соратников Гаджу-сана. А сам он смотрел уже не на экран, а на лица, искал хоть в одном из них тень сочувствия или искры сострадания, но все оставались невозмутимыми, каменными идолами, даже лицо Атабека ничего не выражало: ни страха, ни досады.
— Политики! — усмехнулся Гаджу-сан.
После просмотра все продолжали так же невозмутимо смотреть уже не на экран, а на лидера, Великого Гаджу-сана, словно умные, хорошо вышколенные псы в ожидании слова хозяина. Что прикажет: науськает, так разорвут любого, пусть это будет хоть один из них.
Гаджу-сан не спеша набил трубку табаком из выпотрошенной сигареты, не спеша ее раскурил, затянулся и… молчал. Эта тишина напоминала затишье перед бурей. И она последовала.
— У меня нет слов, чтобы выразить ту степень негодования, ту боль и муку, которые охватили меня, когда я просматривал эти материалы. Два героя-оператора, рискуя жизнью, под пулями и снарядами, проявили незаурядное мужество и сняли вопиющую жестокость, которой я бы никогда не поверил, если бы не увидел своими глазами. — Гаджу-сан опять раскурил трубку, погасшую во время его тирады. — Скряб, подготовь указ о награждении этих героев высшими орденами!
— Посмертно! — неожиданно для всех добавил Атабек. — Простите, Учитель!
И вновь минуту стояла мертвая тишина.
— На воре шапка горит! — засмеялся Гаджу-сан. — Да, друзья! Мирную демонстрацию расстреляли войска, которые мы доверили человеку, почти ставшему моим преемником. Мирную демонстрацию с лозунгами, со знаменами, с портретами. Слушай, Атабек, они так решетили мои портреты, словно хотели меня убить.
Это уже было столь серьезным обвинением, что отмалчиваться дольше, — все равно что признавать свою вину.
— Дозволь, вождь, мне немедленно выехать на место и разобраться! — пытаясь сохранить достоинство, ответил Атабек. — Я уверен: произошла чудовищная провокация, и я разберусь, кто истинный виновник, кто ее устроил…
— Разобраться надо, ты в этом прав! — задумался Гаджу-сан. — Мы немедленно создадим комиссию, и она должна разобраться: кто истинный виновник… Скряб, я тебе поручаю, немедленно собери самых порядочных людей, чтобы уже сегодня комиссия была на месте… А ты, Атабек, пока отдохни. Я на время отстраняю тебя от исполнения всех твоих обязанностей, в том числе и от поста моего преемника.
Это было настолько неожиданно, что у всех присутствующих, как говорится, «глаза на лоб полезли». В том числе и у Атабека. Но он первым пришел в себя.
— Это означает, что я под арестом? — спросил спокойно, буднично.
— Под домашним, дорогой, только под домашним. — Гаджу-сан встал и похлопал по плечу Атабека.
Тот побледнел и тихо произнес:
— Если вы считаете меня виноватым, то, надеюсь, я заслужил один патрон?
Гаджу-сан схватил его цепко за плечо:
— Если ты виновен, мы будем судить тебя и сами найдем для тебя много патронов. А до решения комиссии носа не высовывай из своего дворца… Впрочем, если ты будешь сильно тосковать по работе, я найду тебе какое-нибудь легкое дело.
— И что это будет за работа? — горько спросил Атабек. — Дорожку перед кабинетом подметать?
— Напрасно, дорогой, обижаешься! — улыбнулся ласково Гаджу-сан. — Потом, запомни: всякая работа почетна, а свободный труд на благо общества — есть первейшее завоевание нашей революции, за которую и ты боролся, не щадя сил… Можешь идти! Я подумаю, чем тебя занять…
Атабек с трудом поднялся на ватных ногах и вышел из просмотрового зала. У входа его уже дожидались конвойные с автоматами.
— Нет, вы посмотрите, какой гордый! — обиделся Гаджу-сан. — Его люди стреляют в мои портреты, а я должен терпеть… Пойдемте, друзья, поговорим в кабинете…
И все направились за вождем вслед, соблюдая табель о рангах: кто первый, кто второй, кто третий… Только теперь третий стал вторым, и очередь сдвинулась.
«Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывши очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: „жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне“…
„Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня“! — Атабек ходил по комнатам дворца, словно волк в клетке. — Постарел, видно. Решимости поубавилось, медленно соображать стал, о гуманности стал думать, о всепрощении… Не иначе, это дело рук Мир-Джавада. Но это — полбеды. Кто стоит за ним, — вот в чем вопрос, этот секрет разгадать бы. Если это только инициатива моего дорогого родственничка, то, как всякая инициатива, она будет наказана… А вот если у него есть поддержка Гаджу-сана… Молчаливая поддержка… Придется выложить все свои козыри… Ах, Ширали, Ширали, как же тебя, старого волка, так просто провели? Обвели вокруг пальца, как какого-то сосунка. А я на тебя, сукин ты сын, надеялся… Кто, интересно, повел рабочих?.. Да, мне же докладывали, что новый председатель союза горняков видится с Мир-Джавадом. Я не придал этому значения, думал: проходит как свидетель по делу о прежнем руководстве профсоюза. А он стал агентом Мир-Джавада… Первый ход ты выиграл. На ниточке висел, а выиграл. Теперь моя очередь… Эх, был бы я теперь дома, все бы организовал как надо. А сейчас что делать?.. У меня связаны руки. Домашний арест для меня не выгоден. Правда, на Ширали я могу положиться, а вот другие… Не согласиться ли мне на любую работу, улучу момент и свяжусь со своими. Они — не дураки, должны понимать, что мое падение — это их падение. Даже Лейлу ко мне не пускают, а она рвалась, кричала на охрану, глупая, не понимает, что на них кричать бесполезно, их убивать надо. Далеко мои мальчики, они бы уж организовали побег, комар носа не подточил бы… Может, Лейла догадается сама позвонить Ширали?.. Нет, не догадается. Она из тех, кто думает, что булки на деревьях растут. С детства ни в чем не знала отказа… Почему я развел ее с первым мужем?.. Он не был мне нужен… А Мир-Джавад помог мне убрать сильных противников и смотрел мне в глаза, как верный пес… Змеей оказался, змеей, а я его еще хотел пощадить. Ну уж нет!
Дай мне только вырваться на волю, ты сдохнешь в камере под моей конюшней от голода. Долго будешь умирать, негодяй!»
Мир-Джавад пил с Васо коньяк, когда его вызвал к себе вновь Гаджу-сан. Мир-Джавад так испугался, когда получил приказ явиться, что вместо того, чтобы отставить фужер с коньяком, он его залпом выпил и еще больше испугался: вождь не терпел пьяных. Васо достал из ящика буфета мускатный орех.
— Возьми мускатный орех и жуй всю дорогу, отец не переносит запаха коньяка…
Мир-Джавад охотно последовал его совету. Весь путь по коридору он жевал свою пряную жвачку и так увлекся, что не заметил, как оказался перед дверью кабинета Гаджу-сана. Делать было нечего, Мир-Джавад поморщился и проглотил жвачку, не плевать же перед кабинетом светлейшего.
Гаджу-сан, увидев его, отложил в сторону бумагу, над которой работал.
— Привези мне срочно тех двух героев-кинооператоров, что сняли такой интересный материал.
Мир-Джавад замялся, а потом побледнел.
— Что случилось? — Гаджу-сан пытливо смотрел на него.
— Моя вина, светлейший! Не уберег героев, люди Ширали подложили мину под автомобиль, на котором они ехали на мою дачу, где я их собирался укрыть. С ними погибла и моя охрана, которую я к ним приставил… Я в горе, что не в силах выполнить ваше поручение!
Гаджу-сан недовольно посмотрел на Мир-Джавада. Тот слышал о таком взгляде вождя и задрожал от страха, проглоченная жвачка полезла обратно, и Мир-Джаваду стоило большого труда не опозориться перед Гаджу-саном.
— Боится, — значит, уважает! — подумал Гаджу-сан, заметив его животный страх.
— Простите, ваше величество! — жалко пролепетал Мир-Джавад.
— Люди Ширали, говоришь? Что ж, привези мне Ширали, с ним поговорю: как это он додумался стрелять в мои портреты, кто его, негодяя, подучил и уговорил…
Мир-Джавад рухнул на колени, а затем распростерся ниц:
— Не достоин я быть вашим слугой, не предугадал простого желания, казни меня, сошли меня на остров Бибирь, мой бог, мой повелитель, не могу я исполнить и этого пустяка, не предугадал я и этого желания, Ширали успел застрелиться в своем кабинете.
— Вот как? — удивился Гаджу-сан. — Слава богу, что он у тебя не взорвался в очередном автомобиле, порчи государственного имущества во второй раз я бы тебе не простил… Если у тебя случайно и Атабек испортит номенклатурную единицу вместе с автомобилем, я из тебя форшмак сделаю… Вставай, хватит отдыхать, разлегся, понимаешь, здесь, а кто работать будет. Иди!
Мир-Джавад понял, что прощен, и, пятясь, выскользнул за дверь. А Гаджу-сан смотрел ему вслед и думал:
«На месте Атабека он, может быть, будет как раз, посмотрим, как он справится с последним поручением… Но приближать к себе, пожалуй, не стоит, а то в автомобиле неуютно станет ездить… Васо с ним дружит, вдруг тот ради сына на все пойдет?.. Смешно, у Мирсена, моего вассала, сын и мысли не имеет о власти, а становится наследником, а у меня сын спит и видит, как бы ему половчее меня спихнуть и самому поцарствовать, да, может быть, не станет преемником никогда… Опять будет в стране разброд: брат на брата пойдет войной, сколько сподвижников, столько будет и претендентов на трон… Нет, Васо, слабый ты человек, весь в мать, она тоже не выдержала, видите ли, я убил ее школьного друга. А если этот друг был неподкупен и мешал мне, как никто другой, так что я должен был делать? Ни одна из жен меня не понимала, старший сын — алкоголик, младший — слабоумный… Божье наказание за грехи наши…»
Его размышления прервал вошедший секретарь:
— Ваше величество! Атабек нижайше просит о свидании.
— Узнал зачем? — недовольно поморщился Гаджу-сан.
— Не говорит. Желает открыться вам и только вам. Его слова.
Секретарь, почтительно склонив голову, ждал решения вождя. Гаджу-сан долго молчал, курил трубку, затем выколотил пепел в большую хрустальную пепельницу и вновь набил трубку.
— Хорошо! Я его приму, в память о нашей совместной борьбе… Никак не могу привыкнуть к мысли, — Гаджу-сан тяжело вздохнул и закурил, — что твой лучший друг — преступник… Человек, которому я хотел передать бразды правления после моей смерти, надеюсь, не близкой, вдруг оказывается не тем, за кого себя он все время выдавал… Тяжело, очень тяжело!..
И Гаджу-сан вновь обиженно вздохнул и рукой взмахнул секретарю, чтобы звал…
Через некоторое время Атабека привезли под строгой охраной. Так его и в кабинет ввели, а Гаджу-сан, не в пример тем дням, когда они не раз беседовали наедине, не предложил ему даже сесть, а стражу не отослал.
— Могу я поговорить наедине с тобой? — глухо спросил Атабек.
— Ты мне пока не товарищ! — прервал его бесцеремонно давний друг и соратник. — Ты должен обращаться ко мне на «вы» до тех пор, пока не очистишься от всех подозрений.
— Слушаюсь! Могу я поговорить с вами наедине? — переключился Атабек, не моргнув глазом, даже не обидевшись.
— Нет, не можешь! От моей охраны у нас с тобой секретов нет.
Атабек молча снес и этот удар.
— Если есть что сказать, говори, если нечего, — отдыхай! — все тем же холодным тоном продолжил бывший друг.
— Я не могу без работы сидеть, ничего не делать! — произнес Атабек, решившись, тихо и с отчаянием. — Без дела трудно, хоть что-нибудь делать дайте…
Гаджу-сан встал из-за стола и стал неторопливо ходить по кабинету, усмехаясь своему предвидению и безошибочному знанию людей, его окружавших.
— Хорошо! — сказал он значительно теплее. — Назначу тебя на время работы комиссии главным лесничим. И самой первой твоей обязанностью будет подготовка великой охоты на медведя и на волков… Гости со всего света понаедут, ты уж не ударь лицом в грязь.
У Атабека все запело в душе.
— Я тебе устрою охоту, — подумал он злорадно, — и медведя-зятька, и волков — его дружков растерзаю, «мама» сказать не успеют.
— Поедешь на север сегодня, — продолжил Гаджу-сан, будто не замечая, что творится на душе у Атабека, прекрасно все понимая, о чем может сейчас мечтать пленник. — Но только, извини, с тобой поедет моя охрана. Не буду тебя обманывать, боюсь, что ты сбежишь, или еще какую-нибудь глупость выкинешь, а мои будут тебя охранять от самого себя…
Только теперь Атабек понял, что проиграл и жизнь его действительно висит на волоске.
— Слушаюсь и повинуюсь! — машинально сказал он фразу, раньше слышимую им, и вышел под охраной из кабинета.
В тот же день он уехал готовить грандиозную охоту для вассалов, высокопоставленных гостей Гаджу-сана.
«Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти»…
Атабек пал!.. Эта мысль приятно грела всех соратников Гаджу-сана и порождала в них самые тщеславные мечты. «Свято место пусто не бывает». И каждый из соратников дал команду своим сторонникам активизироваться: хвалить своего повелителя и обливать грязью соперников.
Гимрия, потерявший покой после возвышения Атабека, воспрянул духом и сразу же тайно, переодевшись и загримировавшись, поехал к своему другу детства Геору.
Геор был инвалидом, неудачное падение с турника еще в школе приковало его навсегда к креслу-каталке, лишило возможности двигаться вообще, поврежден был спинной мозг. Геор из-за своей жалкой участи возненавидел все человечество. Впрочем, жалкой ее назвать было бы не совсем правильно, не совсем справедливо. Геор закончил заочно юридический факультет и считался одним из лучших знатоков международного права.
Но один лишь Гимрия хорошо знал своего друга, был единственным, кто подогревал его ненависть к обществу своими рассказами о человеческой низости, подлости, трусости и жестокости. Геор за это и любил Гимрию, был его советчиком, консультантом, мозговым центром. Это советы Геора привели к возвышению ничтожного Гимрии, и они оба знали это, и, как ни странно, оба были довольны: Гимрия, сознавая свою ничтожность, в то же время не считал Геора соперником, инвалида, прикованного к коляске навек, а Геор удовлетворялся своим умственным превосходством, считая, что руками Гимрии он мстит обществу.
Гимрия принес Геору его любимые конфеты «Вишня с ромом» и «Грильяж в шоколаде», а также блок сигарет «Честерфильд». Геор, как всегда, даже не поблагодарил Гимрию, видно было, что он на него за что-то очень сердит. Тот это сразу заметил.
— Чего дуешься? — спросил с несвойственной ему прямолинейностью.
— Ты кого ко мне посылаешь? — заорал на Гимрию Геор. — Нет, ты скажи: кого ты ко мне посылаешь?
Гимрия удивился, никак не мог понять, взять в толк: о чем это он.
— Ты это о чем? — так и не поняв, спросил он.
— Удивляешься, да? Посылаешь ко мне халтурщицу, неумеху, да еще к тому же смеется: что, говорит, ты со мной делать будешь, в шашки играть? Я ей: «это не я, это ты должна со мной делать»… А она, сука, смеется…
Гимрия, наконец, вспомнил, что послал Геору одну из своих любовниц, и рассмеялся.
— Было бы о чем говорить, не та — так эта, сегодня же пришлю тебе мастерицу, ублажит тебя…
— Не хочу другую, пусть эта придет и сделает все, за что ей заплатили! — заупрямился Геор.
Гимрия понял, что придется уступить, ему, правда, стало жалко девочку, он послал ради смеха ее к Геору.
— Успокойся, дорогой, сегодня ночью она будет делать все, что ты захочешь, да ты бы и сам все ей объяснил, все-таки опытный педагог.
— Неудобно! — буркнул, покраснев, Геор. — Я стесняюсь.
— Ладно, я сам проведу с ней урок! — улыбнулся приятной мысли Гимрия. — Но чтобы в живых тебя оставила!
— Уговорил!
Геор сразу же успокоился, изменился: стал веселым и довольным. Открыл принесенные конфеты и стал их поглощать одну за другой и, пока не съел последнюю, не успокоился в своем аппетите. Затем, также любовно глядя на Гимрию, распечатал блок сигарет, достал неторопливо одну пачку, открыл ее, ловко вытащил сигарету и жадно закурил.
— Достань из буфета бутылку коньяка, жажда мучает после сладкого, — приказал он Гимрии.
И тот, с улыбкой, говорящей, вот, мол, приходится удовлетворять все прихоти балованного ребенка, пошел и принес коньяк. Геор, опять не угощая, в одиночестве выпил залпом фужер коньяка и с досадой произнес:
— Э, черт, все конфеты слопал!
— Сам слопал, а на черта сваливаешь! — пошутил Гимрия.
Геор закурил еще одну сигарету, прикурив ее от предыдущей.
— С чем пожаловал? — спросил по-деловому.
Гимрия понял, что Геор готов работать.
— Дело щекотливое, друг! Чувствую я, что перестал быть нужен Великому так, как это бы мне хотелось… Представляешь, шутит, что скоро надобность в инквизиции отпадет, последнего преступника он лично помилует, и его будут показывать в цирке… Или еще хуже: что он возьмет на себя нелегкие заботы Великого инквизитора. Боюсь я его до колик!
Гимрия умолк, моля взглядом о помощи. Геор задумался.
— Самый действенный метод, чтобы показать и доказать Сосуну твою значимость и необходимость, — это продемонстрировать ее на нем, — со значением произнес Геор.
Гимрия ничего не понял.
— Ты не можешь сказать как-нибудь проще?
Геор пожал плечами.
— Конечно, могу, только и тебе изредка не мешает пошевелить мозгами, — и Геор от второй сигареты прикурил третью. — Слабые сигареты, чтобы ощутить вкус, штуки три надо выкурить… «Галуаз» принесешь следующий раз, а лучше пришли сегодня ночью с этой чертовкой…
— О деле, о деле говори! — взмолился Гимрия.
— Я и говорю о деле, чего ты дергаешься, как будто за хвост кто держит… Кирпика кто убрал?
— Люди Атабека! — опять потерял нить размышлений Геора Гимрия. — Я же тебе все это рассказывал!
— Не все! — прервал его бесцеремонно Геор. — Ты, например, не сказал самого главного для меня: исполнители в столице или улетели на родину?
— Здесь они! — Гимрия никак не мог сообразить: для чего Геору понадобились агенты Атабека. — Им приказали остаться.
— Понятно! — Геор желчно улыбнулся. — Готовил участь Кирпика своему зятю, как его там кличут-то?.. Мир-Джавад?
— Слушай, иди ко мне работать, генерала дам! — восхитился Гимрия.
— Я и так на тебя работаю!.. Или ты на меня! — хитро улыбнулся Геор.
— Но все же я тебя не понял! — вернулся к главному Гимрия.
— Имитация покушения на твоего обожаемого вождя! — коротко объяснил Геор.
Гимрия смертельно побледнел, ноги у него стали ватными, и он, как подкошенный, рухнул рядом с Геором в кресло. Обильный пот выступил у него на лице.
— Ты что, Геор? — с трудом произнес он дрожащими губами. — Об этом подумать страшно…
— Не серди меня, Гимрия! — закашлял Геор. — Я всегда знал, что ты — трус, но не до такой же степени!
— До такой! — вырвалось у Гимрии.
Геору стало жаль его.
— Бедный шалунишка! По твоим рассказам, как ты орудуешь у себя в подвалах, я о тебе составил другое мнение, прошу не разрушай его.
— Ащи! Что ты сравниваешь? Там они — в моей полной власти, а здесь — я в его! — признался Гимрия.
— Дурак! Кто тебя просит стрелять в вождя? Ты обделаешься при одной мысли об этом… Но застрелить напавшего заговорщика ты сумеешь, надеюсь? — раздраженно воскликнул Геор.
— Ты думаешь, так все просто? — вздохнул обреченно Гимрия. — Где я тебе возьму заговорщика? Из подвалов нельзя, следы приведут ко мне, агентов — еще хуже…
— А кто тебя просит подставлять под пули своих? Ты изловчись чужих работать на себя… Ты меня слушай, дурачок: твое возвышение — это и мое возвышение, твое падение — это и мое падение. Так что считай, что я работаю на себя. Выполнишь то, что я тебе нарисую, Атабеку хана, а ты — преемник! Устраивает?..
Серьезный тон Геора приободрил Гимрию, а перспектива стать преемником Гаджу-сана заставила превозмочь панический страх.
— Слушай внимательно! Возьмешь только одного своего агента…
И Геор долго, со всеми подробностями, раскрывал свой план покушения на Великого Вождя и Учителя…
Гаджу-сан любил торжественные приемы. Своих приближенных он уже хорошо изучил, а районное начальство знал хуже, и на расширенных приемах изучал лица и характеры тех, кто обязан был на местах проводить его политику, его строгую линию. И очень часто после больших приемов кто-то взлетал наверх, а кто-то падал так глубоко вниз, что и не видно, и не слышно было его иногда. Но такие взлеты и падения, стремительные и вызывающие зависть, были все же редки. Гаджу-сан большей частью просто тренировал свою память и умение психоаналитика.
Вот и сегодня, на торжественном приеме по случаю годовщины разгрома военного мятежа, были все командиры армий и дивизий, весь цвет новой армии, созданной лично Гаджу-саном, где каждый человек проходил строгое собеседование с самим вождем.
Гаджу-сан, привычно обведя взглядом верноподданные лица, неожиданно увидел выпадающее из общесчастливого сообщества лицо. Гаджу-сан сразу вспомнил этого генерала: начальника штаба армии Центра. Растерянность на его лице и нескрываемая боль в глазах насторожили Гаджу-сана, и он, ни секунды не раздумывая, подошел к генералу. Но тот настолько был сам в себе, что не заметил приближения вождя, пока он сам не обратился к нему:
— О чем задумался, генерал? — улыбнулся ласково Гаджу-сан. — Может, о новом заговоре?..
И так яростно сверкнули его желтые глаза, что находившиеся поблизости другие генералы поспешили убраться на безопасное расстояние.
Но генерал не испугался.
— Моя верность вам, ваше величество, доказана! А думаю я о своем несчастном сыне, о том, что ему осталось жить несколько дней…
— Рак? — смягчился Гаджу-сан, уважая чужое горе.
— Хуже! Его приговорили к смертной казни.
— Заговорщик? — вновь насторожился Гаджу-сан.
— Что вы, ваше величество! Я своему сыну дал достойное воспитание! Первое слово, которое он произнес младенцем, — было ваше имя!
— Значит, убийца?
— Увы, мой вождь!
— Расскажи!
Генерал прослезился от такого проявления заботы, достал платок и вытер глаза.
— Я не буду пытаться убедить вас, мой вождь, что мой мальчик не виноват. Я прошу вас, ваше величество, только о снисхождении, о вашей известной всем порядочным людям гуманности…
— Не тяни кота за хвост, рассказывай!
— Мой мальчик влюбился. Глубина его чувства могла смело поспорить с глубиной океана, а жар его сердца не уступал солнцу. Умница, закончил университет… Дело шло к свадьбе. Ее родители были на седьмом небе от счастья, еще бы, такая выгодная партия. А эта развращенная западным искусством пианистка перед самой свадьбой дает ему «от ворот поворот». Столько продуктов мы уже закупили… Но не в продуктах дело. Она заявила, что любит другого… И мой мальчик не выдержал столь жестокого обращения, сорвался: завлек ее в свою машину, которую я ему подарил, и отвез на кладбище… Ну, и там…
— Что там? Выкладывай все, с подробностями.
— Изнасиловал ее и разрезал на куски, а потом развесил на ветках дерева…
— И это все? Ты мне честно говоришь?
— Как перед богом!
Гаджу-сан внимательно вгляделся в него и поверил. Найдя взглядом генерального прокурора страны, он поманил его пальчиком, и убеленный сединами генеральный прокурор со всех ног бросился на зов.
По иронии судьбы, при Ренке этот генеральный прокурор, тогда еще молоденький товарищ прокурора, свое первое обвинение на своем первом процессе выдвинул именно против Гаджу-сана и потребовал для него длительного тюремного заключения, ссылаясь на то, что более циничного убийцы мир еще не видел. Гаджу-сан тогда был потрясен его великолепной речью, его эрудицией, страстностью и честностью. Как только Гаджу-сан пришел к власти, он велел отыскать этого прокурора, поговорил с ним час, а убедившись, что этот человек готов на любое преступление, назначил его генеральным прокурором страны.
— Послушай, дорогой, — обратился к прокурору Гаджу-сан. — У нашего общего друга и товарища большое горе, а горе друзей должно быть и нашим общим горем… Как ты считаешь, можно помочь нашему товарищу?
— Ваше величество, я только краем уха слышал об этом преступлении. Но я совершенно с вами согласен, что прокуратура и суд предвзяты и, я бы сказал точнее, слишком субъективно подошли к решению этого вопроса, не увязав его с нуждами страны в высокопрофессиональных кадрах…
— Короче, — перебил прокурора Гаджу-сан, — можно надеяться, что несчастный влюбленный будет жить и трудиться на благо нашей замечательной родины.
— Через час он будет отдыхать в своей постели, ваша честь!
— Как видишь, генерал, нет ничего на свете, что могло помешать восторжествовать справедливости. Ну, а сыну твоему мы подберем невесту, на которую у него рука не подымется.
— Ваш верный слуга в неоплатном долгу у вас, мой повелитель…
— Пока заплатишь семье убитой штраф.
— Я с ними договорюсь, государь!
И генерал почтительно поцеловал, в порыве благодарности, руку Гаджу-сану. Тот был очень доволен своей добротой и своим чувством справедливости.
Устав от торжественного приема, от излияний верности, благодарности и почтительности, Гаджу-сан решил поехать на дачу. Когда он спустился к машине, то во главе охраны увидел Гимрию и очень удивился. Великий инквизитор, как простой начальник охраны, сопровождает своего вождя на дачу.
— Землю роет! — усмехнулся Сосун. — Атабека отпели, теперь каждый будет лезть из кожи вон…
Гимрия сел в машину Гаджу-сана и немедленно открыл окно.
— Вы любите свежий воздух, светлейший!
Гаджу-сан действительно любил свежий воздух, вернее, он не переносил запаха бензина, он раздражал его, напоминая грубо, что когда-то светлейший, в то время как его выгнали с последнего курса семинарии за то, что он совратил молоденькую крестьянку, пришедшую на исповедь, работал черпальщиком на нефтяных промыслах, пока не вошел в группу заговорщиков, где очень скоро выдвинулся, благодаря своей жестокости, хитрости и беспощадности.
Но теперь его раздражала угодливость Гимрии, назойливая и смешная.
— Убрать его из машины или не надо? — думал Гаджу-сан. — Ладно, пусть едет, а то разрыв сердца у него произойдет, хотя я сильно сомневаюсь, что у этого человека, что по себе уже сомнительно, есть сердце…
Кавалькада машин помчалась по городу, перестраиваясь через определенные промежутки пути на ходу. Четыре совершенно одинаковых с виду бронированных лимузина, способных выдержать не только пулеметный обстрел, но и взрывы небольших мин. Прохожие останавливались и глазели, завороженные этой мрачной кавалькадой, пытаясь разглядеть и угадать: в какой машине едет вождь, чтобы потом рассказывать внукам до самой смерти, что он видел Великого Вождя и Учителя.
Когда машины поравнялись с небольшой толпой зевак, из толпы кто-то выстрелил в машину, где ехал Гаджу-сан. Гимрия мгновенно закрыл своим телом Гаджу-сана и, выхватив «вальтер», открыл наугад огонь по стрелявшему. Из машин охраны открыли пулеметный огонь, который скосил всю толпу вместе со стрелявшим.
Гимрия отдал приказ по радиотелефону, и через несколько минут инквизиция перекрыла все улицы и арестовала всех оказавшихся на всем пути следования Гаджу-сана людей… Инквизиция была завалена работой, пришлось срочно вызывать отпускников и пенсионеров. Гимрия торжествовал: он прикрыл Непобедимого своим тщедушным телом, он убил с первого выстрела заговорщика, он раскрыл очередной заговор. Под пытками несколько человек сознались в том, что они должны были стрелять в обожаемого всеми народами отца планеты. Пистолеты им всем были подобраны, они их опознали при свидетелях, отпечатки пальцев полностью совпали с отпечатками на рукоятках, все улики налицо, никуда не денешься. Пообещали сохранить всем им жизнь и сносные условия заключения, они и сознались, одурев от пыток, от нечеловеческих мук… А на суде их всех приговорили к смертной казни и в первую же ночь повесили…
— Вот видишь, как все просто? — ликовал Геор, поедая конфету за конфетой: трюфели, виноград с коньяком. — Взял агента Атабека, его пистолет… Так мало деталей, а какой большой результат… Правда, погиб твой агент, который стрелял из этого пистолета…
— Это уже издержки производства! — благодушно ответил Гимрия.
— Зато ты на коне!.. Сосун изменил свое отношение к тебе?
— Изменил!
— Атабеку крышка?
— Крышка!
— Надеюсь, ты еще не потерял его пистолет?
— Ты меня совсем за мальчика держишь, — обиделся Гимрия. — Да! Я перевел на твой счет крупную сумму…
— Это хорошо! — засмеялся Геор. — Главное, что ты не задумал меня отравить конфетами…
Гимрия криво усмехнулся, такая мысль мелькнула у него утром следующего дня после покушения, но он хорошо знал своего друга, знал, вернее, чувствовал, что тот все их разговоры тайно записывает и отсылает по своим каналам, о которых Гимрия ничего не знал, как ни пытался выследить, за границу.
— Обижаешь, дорогой! Мы с тобой, как ты сам говоришь, повязаны одной веревочкой. «Куда ты, туда и я, вместе — дружная семья», — скаламбурил Гимрия.
— Молодец, что хоть это ты понимаешь! — похвалил его Геор.
Атабек поехал на север готовить охоту на медведя и на волков. Скорее можно сказать: его повезли под охраной выполнять полученное задание Гаджу-сана. Вся земля на севере уже была покрыта глубоким снегом, но вездеход преодолевал шутя даже лесные дороги. Атабек поймал себя на мысли, что он всю дорогу углубляется в воспоминания о собственной жизни.
— Постарел, значит, — думал он, — неужели остаток лет придется провести в этой ссылке?.. Хотя, если вспомнить историю, то многих можно насчитать рухнувшими с еще большей высоты и закончившими свою жизнь вот в таком изгнании, в лучшем случае. Как холодно!.. Мой ласковый юг, благодатный мой край, я и не подозревал, что так люблю тебя, что так буду тосковать при одной только мысли о том, что придется жить вдали от тебя. Так вот что такое — ностальгия: когда вспоминаешь каждый прожитый день и кажется, что не было лучше… А что не будет… Об этом страшно даже подумать. Жить среди этих снегов, лежащих на земле по пол года, среди этих бескрайних лесов, когда день надо ехать, чтобы увидеть человеческое жилье, люди хмуры и замкнуты, улыбку редко можно увидеть, пьют спирт стаканами и дерутся до увечий. Жить день за днем под бдительными взглядами охраны, от которой не сбежишь.
Атабек посмотрел в зеркало, висящее над ветровым стеклом, на тупые, ничего не выражающие лица охранников, но глаза на этих тупых лицах были зоркими и подозрительными…
На следующий же день Атабек развил кипучую деятельность. Он умел работать, правда, давно уже за него все делали другие люди, а он ими только руководил. Теперь надо было делать все самому, и Атабек старался и за страх, и за совесть. Страх не покидал его с той минуты, когда он увидел на экране изуверские кадры.
«В наше время мы такими приемами не пользовались, — думал Атабек. — Мы имели хоть какие-то рамки дозволенности. Этим, нашим наследникам, наплевать на все запреты, рамки и принципы. Страшное поколение. Но вслед за ними придет поколение еще страшней, и рухнет мир от вседозволенности…»
А за совесть Атабек работал потому, что где-то в тайниках сознания еще теплилась надежда на прощение. И хотя он и ясно понимал, что если Мир-Джаваду были развязаны руки, а то, что это дело рук Мир-Джавада, что все он задумал и подготовил, было совершенно ясным для Атабека, а это означало только одно: Гаджу-сан решил избавиться от него… Только вот каким путем? Оставят ли навечно в ссылке или охота на медведя и волков обернется и охотой на него. Один случайный выстрел, конечно, по ошибке… И еще одни пышные похороны у Стены плача, скоро там не останется свободного места… Но пока есть надежда, человек живет ею… Поэтому и Атабек старался не осрамиться перед гостями и устроить им охоту на славу.
Егеря выследили берлогу матерого медведя и окружили флажками волчью стаю. Атабек вызвал старшего егеря и грозно сказал:
— Голову откручу самолично, если упустите!
И егеря караулили теперь день и ночь, чтобы стая не вырвалась из оцепления. В глубинку весть о падении Атабека еще не дошла, да и об этом знали пока лишь два десятка, в лучшем случае. Поэтому и смотрели с благоговением егеря на человека, чьи портреты висели в одном ряду с другими каждый праздник на стенах домов или стояли вдоль дорог, и внимали ему трепетно и безо всякого возражения.
— Шутка ли сказать! — шептались егеря. — Одного из наиглавнейших людей прислали… И с положенной охраной: ишь, звери, глаз не сводят с начальника, ну, прямо цепные… Не иначе, знатная охота ожидается. Гостей понаедет видимо-невидимо. Попируем, вкусного у них — тьма… Говорят, из-за границы приедут, чтить Отца-батюшку!
И старались изо всех сил.
Днем на небо сошло знамение. Заволновалось небо, яркими цветными волнами заходило, искрами заметалось, лучами засверкало. Испуганно завыли волки в лесу, а в деревне им вторили все собаки, да и люди невольно просматривали свою жизнь, искали грехи, находили их в великом множестве, каялись и молились о спасении живота своего.
Атабек вышел на крыльцо и помрачнел от предчувствий. Долго он стоял и смотрел на неспокойное небо, всматриваясь в грозное предзнаменование, но только собрался было зайти в дом, уже повернулся и взялся за ручку двери, как дикий вопль, вырвавшийся из десятка глоток, привлек опять его внимание, и он взглянул на небо. То, что, Атабек увидел, заставило вылезти его глаза из орбит, он почувствовал, как волосы его на голове зашевелились и поднялись. Никогда еще в жизни, даже перед Гаджу-саном, Атабек не испытывал такого страха, такой беспомощности, ужаса и одиночества такого.
С небес на грешную землю и на живших на ней грешников смотрело огромное Око. Небесный взгляд вызвал такой панический ужас, что люди заметались, засуетились, забегали из стороны в сторону, сталкиваясь друг с другом, сшибая друг друга с ног, но, разбегаясь до определенного предела, они вновь стремились друг к другу, в одну кучу, их влекла какая-то непреодолимая сила, и так без конца.
Атабек смотрел на эту фантасмагорическую картину, чудовищную и необъяснимую, и не мог сдвинуться с места, сверхъестественная сила парализовала его волю…
Все исчезло так же внезапно, как и появилось… И наступила тишина. Люди в изнеможении попадали на землю там, где их застало освобождение от чуда. Атабек почувствовал такую слабость в ногах, что не в силах был даже войти в дом, и опустился на крыльцо. Его сердце так сильно билось, словно стремилось выскочить из груди и улететь. Так бьется попавшая в сети птица, безнадежно, но до тех пор, пока есть силы. Впрочем, изнеможение и слабость исчезли быстро, все прошло, как будто ничего и не было. Люди, подымаясь с земли, недоуменно отряхивались, стыдясь смотреть друг на друга. Более заразительного чувства, чем паника, у человека нет и не будет. Она возникает быстро, как степной пожар, и несется с той же бешеной скоростью…
Атабек ушел в охотничий домик, комфортабельно оборудованный для приема именитых гостей, даже с царской роскошью, и лег на диван. Мысли путались, он никак не мог сосредоточиться на одной. Это уже походило на отчаяние.
«Это даже не остров святой Елены, это огромная могила, белая зимой и зеленая летом, где мне, может быть, суждено еще долго влачить свои жалкие дни, несчастные уже от одних только воспоминаний, — сказал Атабек себе честно. — И это молчаливое присутствие стражи за стеной, когда чувствуешь их взгляды, не видя их самих. Тюрьма, если не по форме, то по содержанию»…
Комиссия работала быстро, решение было заранее подготовлено единогласно. Сторонников Атабека в комиссию не включили. Честно и скрупулезно изучили показания тысяч горняков и тех единиц из руководства профсоюза, кому посчастливилось остаться в живых, солдат и офицеров «дикой дивизии». Несколько десятков толстенных томов, заполненных протоколами осмотров и свидетельскими показаниями, стали убедительным доказательством тщательной работы добросовестной комиссии. И в этой горе документов незаметными остались показания мальчика и его деда, где они утверждали, что видели незадолго до расстрела четверых мужчин на отрогах скал, окружающих ущелье, и что именно со скалы раздались первые выстрелы в солдат. Комиссия забрала на всякий случай их с собой, а также офицера, случайно оказавшегося свидетелем приезда Мир-Джавада к Ширали. Этот факт тоже мог пригодиться в будущем, если не видят в нем настоящего…
Гаджу-сан, ознакомившись с выводами комиссии, больше всего обрадовался трем найденным свидетелям, велел их поместить на одну из своих многочисленных дач, хорошо кормить и еще лучше стеречь.
— Пусть только попробует этот зятек не выполнить моего важного задания! — усмехаясь, думал Великий.
А трое свидетелей, после бедности и нищеты, поражались великолепию и богатству, куда их неожиданно занесла судьба. Старик даже подумал, что будет рад, если смерть явится за ним в этот прекрасный мир, о котором старик только слышал маленьким мальчиком, когда старая, совсем старая соседка, бывшая в юности наложницей наместника эмира, рассказывала ему о жизни во дворце, а малыш считал ее рассказы сказкой, чудесной, но сказкой. И вот теперь он очутился в этой сказке, понимал, что это ненадолго, и молил смерть явиться за ним в этот рай, потому что возвращаться обратно в смрад и нищету было еще обиднее. К мальчику были приставлены лучшие учителя, поражавшиеся одновременно его способностям, той легкости, с которой он усваивал материал, и невероятной, вопиющей бездарности его прошлого обучения, когда, казалось, делалось все, чтобы вырастить очередного идиота, с искаженным восприятием действительности. А офицер получил все то, о чем мечтал в своей серой казарменной жизни, наполненной удушающей жарой, пылью и потом: обильную пищу, обильную выпивку и веселых представительниц самой древнейшей профессии.
Атабек с утра чувствовал себя отвратительно. Что-то томило его, какая-то непонятная тяжесть на сердце, настроение дурное, все вокруг раздражало. Вечером должны были приехать Гаджу-сан с гостями, и хотя Атабек был готов к приему знатных гостей, в число которых еще так недавно входил и Атабек, не было радости, только ощущение, что все труды даром, все зря и не отпустит его Гаджу-сан, и вечно гнить Атабеку в этой забытой богом и людьми дыре, выть с волками, если те уцелеют после великой охоты. И такая тоска накатывала, что хотелось бежать куда глаза глядят, но только знал он, что ему охрана не даст сделать и шагу.
«А, интересно! — думал он. — Если я побегу, будет стрелять охрана или нет?.. Смотря какие инструкции получила. Вряд ли будут стрелять, правда, если они быстро бегают, то догонят и накостыляют шею, они ведь тоже, в свою очередь, отвечают за меня головой… Искушение велико, однако что бы не попробовать… Рискну! Золотая пайдза при мне, недалеко, километров пять всего, военный аэродром. Если до него добраться, то можно потребовать самолет, золотому знаку все обязаны подчиняться, нельзя не повиноваться символу власти светлейшего… Это мой единственный шанс на спасение. А иначе завтра утром будет охота не только на медведя и на волков, но и на меня. Рискну! „Риск — благородное дело“!..
Атабек хорошо все продумал и составил план действий. Выйдя к завтраку, он не стал есть тяжелую горячую пищу, после которой хочется спать и далеко не убежишь, желудок не пустит. Выпил только чашку крепкого кофе, съел бутерброд с ветчиной. Когда уходил, вытащил незаметно для охраны две плитки американского шоколада из буфета, на всякий случай, если ему удастся убежать, то от радости, он это хорошо знал, проснется тут же голод, и две плитки шоколада как раз его и утолят.
Любой правитель — актер! А ближайшее его окружение — актеры вдвойне, им приходится играть сразу на двух сценах, где неспособных в лучшем случае выгоняют на пенсию… Как играл Атабек больного, — это нужно было посмотреть. Высший класс актерской игры, за который дают звание народного артиста страны. Но у Атабека звание было намного выше, и, чтобы его вернуть, надо было пробежать всего пять каких-то километров лесом, до аэродрома, желательно без сопровождения охраны.
— Надо еще раз осмотреть оцепление! — сказал он охранникам. — Не хочется вылезать из дома, плохо себя чувствую, а надо. Гости сегодня вечером приедут, так что собирайтесь, посмотрим: все ли в порядке, все ли на местах…
Охранники, как всегда, молча оделись и пошли запрягать лошадь в сани. Конечно, они лично не участвовали в этом, это делали слуги, но охрана проверяла каждую мелочь, искала оружие, или переписку, недозволенную Атабеку.
Пока они ходили, Атабек тоже внимательно изучал комнаты. И в гостиной увидел небольшую статуэтку Будды, вылитую из чистой меди, прекрасная старинная работа. Атабека озарила новая мысль, и он, воровато оглядевшись по сторонам, прислушиваясь, не идет ли кто, схватил хищно статуэтку и сунул ее в меховую рукавицу.
Когда вошел один из охранников и доложил, что повозка готова, Атабек сидел одетый у камина, делая вид, что ему очень холодно и что он настолько болен, что и одетый дрожит от озноба. С таким трудом он поднялся и пошел, что даже Гаджу-сан, видя его в таком состоянии, пожалел бы его.
— Аллах, ты видишь, как мне плохо! Но долг — прежде всего! — сыграл на публику Атабек и поехал осматривать посты оцепления.
Один из охранников правил лошадью, второй сидел рядом с Атабеком, и от него веяло таким жаром, что мороз, казалось, градусов на десять снизился в сторону нуля. Ехали быстро и молча. Атабек продолжал искусно разыгрывать больного, если не смертельно, то очень опасно, и так искусно, что у охранников на их тупых и непроницаемых лицах появилась некая озабоченность, вернее, беспокойство: как бы вверенный им знатный пленник не „отдал концы“.
Поэтому, когда Атабек, остановившись у дальнего поста, попросил одного из охранников осмотреть оцепление и переговорить с загонщиками, все ли в порядке, предупредить, что сегодня вечером приедут гости, а завтра начнется охота, ни у одного охранника не возникло и тени подозрения: маленький, старенький Атабек был не опасен даже одному из них, любому. Сидевший рядом с Атабеком охранник вылез из саней и пошел проверять пост оцепления.
Атабек, дрожа, якобы от озноба, закутался в шубу с головой. Охранник, сидевший впереди, взглянув на закутанного Атабека, перестал за ним следить, достал сигареты и закурил. А в это время Атабек следил за ним в специально оставленную щелочку в шубе и, улучив момент, хватил что есть силы охранника по затылку медной статуэткой Будды. То ли многовековая история была весома, то ли действительно статуэтка была увесистой, но удар получился блестящий: охранник, не пикнув, свалился с саней, а Атабек, вцепившись в вожжи, хлестанул лошадь и, дико завизжав, погнал сразу в лес по узкой дороге, которая, как он знал, выводила на шоссе, ведущее к аэродрому, недаром он так хорошо выполнял свои обязанности и разведал заодно что к чему. Сзади хлестанул выстрел, второй, но Атабек уже углубился в лес, и теперь деревья надежно укрывали его от пуль.
Атабек хлестал и хлестал лошадь и радостно смеялся.
— Удалось, удалось! — кричал он на весь лес и хохотал, хохотал. — Я всегда был удачливым!..
Атабек торопился. Ему нужно было успеть проехать эти длинные, слишком длинные пять километров быстрее, чем охранник успеет добраться до ближайшего телефона или до рации и сообщить начальству о побеге важного поднадзорного. Что он будет спешить спасти свою голову, Атабек не сомневался, поэтому и выжимал из единственной лошадиной силы все, что эта сила могла дать…
Выстрел прозвучал так тихо, что Атабек его и не услышал. Только лошадь на полном скаку рухнула на лесную дорогу, а Атабек по инерции вылетел из саней в глубокий сугроб… Когда он, яростно чертыхаясь, ругаясь матом и бранясь, выбрался из сугроба, то увидел Мир-Джавада, стоящего в нескольких шагах от него с пневматическим ружьем в руках, а за ним, на дороге, билась лошадь, силясь встать, она ногами взрыхляла лишь снег.
Мир-Джавад подошел к лошади, оглянулся на замершего Атабека, сунул дуло ружья лошади в ухо и спустил курок. Тихий хлопок, и лошадь вытянулась в последней судороге, а Мир-Джавад вернулся к ожидавшему смерти Атабеку.
— Жаль животное, — пояснил он. — Не могу видеть, как мучаются лошади, собаки, кошки. Пришлось пристрелить… Помню, раз в детстве увидел: на собаку упал с крыши камень, большой такой, от трубы, наверное, откололся кусок, и перебил ей хребет, представляешь, задние ноги у нее мгновенно парализовало, ползет бедняжечка и скулит, ползет и скулит, я целый день, целый вечер и полночи ревел, как маленький…
— Взял бы и вылечил! — насмешливо произнес Атабек, обреченно и отчаянно. — Кормил бы парализованную, на худой конец.
— Что ты? — удивился Мир-Джавад. — Она не выжила бы, но я ей помог: тем же камнем, что перешиб ей хребет, я размозжил ей голову, чтобы не мучилась.
Атабек побледнел.
— Ты меря тоже пристрелишь, чтобы не мучился? — спросил он так тихо, что Мир-Джавад едва расслышал.
— Скажу тебе честно: пристрелил бы с огромным удовольствием!
— Кого я породил, воспитал! — воскликнул Атабек, простирая руки к небу., — Ты слышишь, аллах, этого клятвопреступника?
— Ты меня породил, а я тебя убью! — засмеялся Мир-Джавад. — У одного большого иностранного писателя так написано.
— Неблагодарный! Я взял тебя в семью, женил на дочери…
— С ребенком в пузе! — засмеялся страшно Мир-Джавад. — Шуми, шуми, рассержусь, пущу тебе пулю в живот, раздену и брошу на съедение волкам, по-моему, это будет лишь справедливостью: ты им назавтра смерть уготовил, а они тобой сегодня закусят, помирать не так голодно будет… Правда, если я тебя пристрелю, Великий голову с меня снимет за самоуправство, так что черт с тобой, — живи… А жить-то хочется?
Неожиданно был задан этот вопрос, и Атабек не ждал его, но мгновенно ответил:
— Хочется!.. Хотя здешнюю жизнь назвать жизнью трудно.
— Но все же — жизнь! А ты, дурак старый, под пулю полез и наши головы под пулю подставил, если бы тебе удалось убежать, — с ненавистью заорал на Атабека Мир-Джавад.
— Что жаждет жизни, — бежит от смерти!.. Закон жизни! Что жаждет смерти, — стремится к ней! — Атабек горестно вздохнул.
— Руки назад, гном! И кругом на сто восемьдесят градусов! — скомандовал Мир-Джавад.
Атабек повиновался. Он чувствовал себя, будто бы из него вынули жизненный стержень, он лишь по привычке не рассыпается на части, а ходит еще по земле.
Мир-Джавад крепко связал ему руки приготовленной заранее веревкой и в рукавице нащупал статуэтку Будды. Сдернув рукавицу, он достал из нее статуэтку и стал с, интересом ее рассматривать.
— А-ай-ай, гном! При твоих-то миллионах и воровать государственное имущество, а использовать произведение искусства в качестве кастета — неэтично!
— А что это такое, ты знаешь хотя бы?
— Так, смутно!.. А теперь марш на повозку!
Атабек с трудом влез на повозку, ноги скользили, были словно неживые, а Мир-Джавад только насмешливо, наблюдал за ним, не делая ни малейшего движения, чтобы помочь ему. Атабек пыхтел, пыхтел, но о помощи не попросил, сам справился, гордость помогла.
Мир-Джавад связал Атабеку и ноги, а затем крепко прикрутил его к повозке.
— Теперь не убежишь! — с нескрываемым удовольствием шепнул он Атабеку на ухо. — Да, скажи мне, дорогой, куда это ты бежать собрался на одной лошадиной силе? А?.. Молчишь? Молчи, молчи, сам знаю, давно догадался: на аэродром намылился… Всех за дураков держишь, клянусь отца, один ты — умный, да?.. Старый дурак! Я с тебя ни на секунду глаз не спускал, эти двое из охраны светлейшего — камуфляж…
— Каким словам научился, вспомнить только, как ты разговаривал пятнадцать лет назад, когда я тебя пригрел, змей ты этакий, на своей груди. Подумать только: всего неделю назад я мог тебя растереть в порошок и сдуть, а теперь вот я в твоей власти…
— Это меня больше устраивает, чем наоборот!
— Впрочем, не в твоей, а твоего хозяина, ты — только бульдог, вцепившийся мертвой хваткой.
— Не собачься!
— Ио Сосун, вот кто решает мою судьбу. Я — последний из его друзей-соратников, но ему соратники не нужны, ему нужны бульдоги, как ты, таксы, как Скряб, овчарки, как Каган, и доги, как твой Гимрия, Главный инквизитор. Я один напоминал ему о том времени, когда он был не богом, а простым смертным, подчинялся и моим приказам и командам, и я только один знаю, сколько он убил своих товарищей…
— Клевета!
— А хочешь, я расскажу тебе, как он убил вторую жену, первая от него сбежала, спуталась с одним красавцем, не чета этому уроду рябому, Арчил потом ее убил, по приказу своего шефа, а красавец где-то влачит жалкое существование. Сосун поэтому и первого сына не признает, считает, что не от него, и он правильно думает, ты понимаешь, почему Васо — старший сын. Это только его вторая жена была идеалистка, увлеклась им, как же, в ее глазах он был борец. Свобода! Равенство! Братство!.. Сколько дураков попадалось на эту удочку в мировой истории, — не счесть… Так хочешь?..
— Зачем? — лениво зевнул Мир-Джавад. — Мне Васо и так все рассказал: напился до одурения, видно, надо было ему выговориться кому-то, а мне он доверяет полностью… Он уже маленьким любил прятаться в спальне за портьерой и подсматривать, что это там взрослые делают в постели… В тот день его мать слишком настойчиво требовала освободить ее школьного друга из тюрьмы, ручалась за него головой, Великий решил ее попугать, выхватил браунинг и закричал: „уходи! или я за себя не отвечаю“!.. А она ударила его по щеке… Ну, а светлейший случайно нажал на спусковой крючок…
— Я застал ее еще живой, — удивился Атабек, — но она мне ни слова не сказала из этого, только прошептала: „случайность, я неосторожно взяла пистолет“… — и умерла… Ты, наверное, не знаешь, что ее друга в тот же день освободили, дали ему крупную сумму денег и выслали за рубеж. Где-то живет до сих пор, на другом континенте.
— Нет, не знал, и Васо не знает… — Мир-Джавад усмехнулся гнусно и таинственно. — Васо с тех пор боится женщин.
— Хорошее было время! — вздохнул Атабек и выдохнул… — Ну, где твои шавки, дворняжки? Везите меня назад, проголодался я!.. Слушай, у меня в кармане же две плитки американского шоколада, давай поделим…
Мир-Джавад достал из кармана дохи Атабека две плитки шоколада, разломил одну плитку на дольки, половину вложил в рот Атабеку, другую половину съел сам, затем, не дожидаясь, когда Атабек доест свою половину, открыл вторую плитку и стал жадно грызть ее. И успел съесть половину, пока Атабек жевал и глотал забивший ему весь рот шоколад. Оставшуюся половину Мир-Джавад также разломил на дольки и стал скармливать по одной Атабеку.
— Никто не знает, что я здесь, так что придется вместо твоей лошади впрягаться мне.
— Ничего, я тебя вез многие годы на своем горбу! — опечалился Атабек.
— Ты знаешь, кажется, есть и другой выход!
Мир-Джавад впрягся вместо лошади, обрезав постромки, и потащил повозку, но не вперед, а назад, толкал ее и толкал, а Атабек, глядя на его налитое кровью от напряжения лицо, недоумевал, что за спектакль разыгрывает его зять.
Мир-Джавад остановился.
— Снег глубокий, тяжело толкать, все-таки я не лошадь.
И Мир-Джавад ушел от повозки в лес. А через некоторое время Атабек услышал мерный стук топора.
— Заметил дровосека, — подумал Атабек. — Здесь, кажется, заготавливают дрова для каминов в охотничьих домиках… Приведет его и впряжет вместо лошади.
Подумать о том, что Мир-Джавад умеет обращаться с топором, было настолько дико и нелепо, что эта мысль и не пришла Атабеку в голову. Но Мир-Джавад не возвращался, а стук топора раздавался так близко, равномерно и звонко, что Атабек, спрятавшийся от холода в доху с головой, решил выяснить причину столь долгого отсутствия Мир-Джавада. И он вынырнул из дохи, насколько его пускали веревки, крепко держащие его и притягивающие к повозке, и посмотрел в ту сторону, куда ушел Мир-Джавад…
И он увидел его. Мир-Джавад, голый по пояс, рубил топором толстенное дерево, росшее у самой обочины. Атабек в первый момент даже и не понял: для чего ему это нужно. Но, прикинув взглядом высоту дерева и мощь его ветвей, закричал что есть силы:
— Ты что делаешь, безумец? А если на дорогу упадет?
И услышал в ответ:
— Обязательно упадет, подожди пару минут!
И Атабек понял, что наступили последние минуты его жизни. Несколько секунд он яростно рвался из объятий крепкой веревки, но эти объятия были столь прочны, а узлы, завязанные специальными приемами, не ослабевали. И Атабек обреченно застыл, и только взгляд его неотступно, завороженно следил, как вздрагивает верхушка дерева и осыпается с ветвей снег, отдавая каждому удару топора дань. Мир-Джавад умело орудовал топором, так умело, что Атабек тоскливо подумал: „и этому научился!“
И воспоминания нахлынули жаркой волной и вытеснили холод из его груди.
„Давай поспорим, что я пересижу тебя в воде“! „Сейчас или летом“? „Конечно, сейчас! Летом такая жара, что можно жить в воде“. „Пошли, Ио!..“ Сколько они сидели в холодной, почти ледяной воде, Атабек уже не помнил, да это было и не важно, помнил только, что оба выскочили из воды одновременно, посиневшие от холода и выбивающие барабанную дробь зубами… „Я победил“, — кричал Ио. „Ничья“! — кричал Атабек, и это было правдой. Но уже к вечеру все население городка, состоявшее из христиан и мусульман, знало о том, что Ио победил Атабека. Христиане, довольные, хвалили своего, мусульмане ругали своего. А Ио, хитро посмеиваясь, похлопывая Атабека по плечу, учил премудрости: запомни, кто первый сказал, тот всегда прав, а второй, что бы он ни говорил, всегда оправдывается будто, поэтому он не прав. „Кто смел, — тот два съел“»! «А что „два“? — наивно спросил Атабек. „Не знаю! Наверное, два обеда“, — отвечал простосердечно вечно голодный Ио. „Но это же ложь! Разве твоя религия учит лгать?..“ Ио засмеялся: „…И как человеку быть правым перед богом, и как быть чистым рожденному женщиной. Кто родится чистым от нечистого? Ни один“… „И ваш бог прощает ложь?“ „Истинно говорю вам: будут прощены сыном человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению“… — и добавил серьезно: „а ты в мечети хулишь Дух Святой, поклоняешься ложному богу и гореть тебе в вечном огне“…
Верхушка дерева дрогнула, Атабек увидел, что Мир-Джавад, отбросив топор в сторону, уперся длинным и прочным шестом в дерево и что есть силы толкает его на Атабека. Дерево трещит, но тоже изо всех сил сопротивляется, тоже хочет жить, словно зная, что смертию смерть несет, стонет, но держится, борется с Мир-Джавадом, но и для того эта борьба — борьба за жизнь, и он напрягает все силы, чтобы окончательно сломить подрубленную топором пружину дерева, и дерево, сопротивляясь до последнего, все же с каждым нажимом поддается на волосок, все больше теряет сил с каждым рвущимся от напряжения волоконцем, а их-то уже мало осталось, жизнь большинства из них обрублена топором, и сама громада дерева, вся его тяжесть, всё против этого отчаянного меньшинства, с каждой секундой они теряют все больше и больше своих защитников, и уже недалеко та критическая точка, когда масса дерева легко сломает слабое, по сравнению со всей тяжестью дерева, сопротивление и, лишенное корней, рухнет точно туда, куда хочет этот отчаянно упрямый человек.
„Хочешь, я обращу тебя в свою религию?“ — спросил как то Ио. „Нет, давай, лучше я тебя сделаю правоверным мусульманином!“ — сопротивлялся Атабек. „Я первый предложил. Давай так: я тебе прочитаю всю Библию, и если ты не обратишься в мою религию, в мою веру за это время, то ты будешь мне читать Коран, может быть, я стану правоверным суннитом“. „Я — шиит!“ — обиделся Атабек. „Один черт… Слушай, а правда, что у вас половину… отрезают? Больно, наверное“… „Кожу немного отрезают, — терпеливо объяснял Атабек, — этим кольцом крайней плоти я обручился с аллахом“. „Слушай, значит, ты — еврей! — воскликнул обрадованный сделанным открытием Ио. — Моя мама так их и ругает: „обрезанные““!.. Атабек разругался и подрался с Ио, смертельно обидевшись, что его, правоверного мусульманина, сравнили с евреями. Но на следующий день они опять помирились, дня прожить друг без друга не могли. „А долго ты будешь мне читать свою Библию?“ — спросил Атабек друга. „Жизни хватит! — утешил Ио. — Так говорит моя бабушка“. „А моя мама учит меня читать Коран“. „Я первый, мы же договорились! Слушай: „В начале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод. И стало так…““
Атабек застывшими глазами смотрел, как дерево, в туче серебристой пыли от слетающего с ветвей снега, наклоняется к нему все ближе и ближе, тянуло к нему свои тяжелые ветви, словно умоляя о прощении…
„И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды…“
Дерево стонало и плакало, и стон его разносили по лесу другие деревья: беда, беда идет, вступила в пределы леса вековечного.
„И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся и птицы да полетят над землею. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни; и стал человек душою живою…“
Дерево сильно покачнулось, казалось, что оно вот-вот упадет, но в последний момент все же выпрямилось, насколько ему позволил Мир-Джавад, почувствовавший на мгновение страшную усталость.
„Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть…“
Атабеку показалось, что у дерева открылись глаза и слезы хлынули ручьем.
„Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет… От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли…“
А лес безмолвствовал. Не возмущался, не кричал, безмолвно смотрел на смерть брата своего, на мученическую гибель, на смерть, что должна была принести смерть другому…
„Он, Бог, есть прежде всего и все Им стоит… Ибо Им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое“…
Часть не может долго сопротивляться целому. Дерево покачнулось в последний раз и с громким криком и треском, заставившими затрепетать все близрастущие деревья, рухнуло на дорогу, раздавив повозку вместе с привязанным к ней Атабеком. И встречный крик с земли: „Ио!“ — смешался с криком падающего дерева. И еще несколько раз дерево падало на дорогу с жалобным криком, и все так же ему навстречу рвался все тот же истошный крик: „Ио!..“
Мир-Джавад быстро оделся.
— Радикулит бы не схватить! — подумал он сразу. — Мокрый весь, зато положил-то дерево, как по струночке, недаром столько дней тренировался, чуть самого деревом не зашибло…
Теперь предстояло самое трудное: разрезать веревки, державшие Атабека, и уничтожить их…
Мир-Джавад долго стоял, курил специально захваченные папиросы с анашой, не решаясь подойти к повозке, своими руками впервые приходилось делать грязную работу, до этого случая для черновой работы всегда находились подручные. Все же, когда подействовала анаша, он заставил себя подойти к повозке. Разрезать веревки, привязывающие к повозке тело, было бы минутным делом, если бы не одна деталь: было трудно найти в этом месиве то, что было когда-то руками или ногами. Мир-Джаваду пришлось снять рукавицы, чтобы их не запачкать, но руки-то нельзя уберечь, и, когда, наконец, Мир-Джавад отыскал веревки, разрезал их и с трудом выбрался из-под ветвей дерева на обочину, с его рук и с веревок, которые он держал, капала кровь. Мир-Джавад старательно зарыл подальше в сугробе вещественные доказательства, тщательно вычистил снегом руки и только облегченно вздохнул, избавившись от омерзительной работы, как его, неожиданно даже для него самого, вывернуло наизнанку, шоколад, которым его угостил Атабек, пропал даром. Но эта разрядка принесла облегчение. Мир-Джавад обтер снегом лицо и почувствовал себя свободным и счастливым, предвкушение награды за редкую удачу наполнило его такой радостью, что он стал смеяться: тихий смех все усиливался, все возрастал и возрастал, пока гомерический хохот не потряс своим кощунством небо, а лес не ответил ему эхом…
Вечером приехали гости, веселые, оживленные, предвкушавшие славную охоту. Мир-Джавад, с горестным видом, но пряча глаза, доложил Гаджу-сану о „несчастном случае в лесу“. Гаджу-сан кивнул на кресло, мол, можешь садиться:
— Садись и рассказывай все! Все подробности!
Мир-Джавад рассказал Великому все подробности: как он терпеливо наблюдал за Атабеком, как заметил, что тот изучает путь к аэродрому, и решил выждать, когда рискнет совершить побег, а все это время тренировался валить деревья точно по линейке именно в то место, которое выбрал… Гаджу-сан терпеливо слушал, с интересом наблюдая за волнением Мир-Джавада.
— Волнуется! — думал Гаджу-сан. — Не знает, что получит: мозговую кость или пинок в зад. Вышколенный пес, а волнуется. Вот он — новый человек, о котором я мечтал в те далекие годы, когда царили вокруг слюнтяйство всепрощения, понимания и терпимости…
Но все чаще Гаджу-сану приходилось отбрасывать неоднократно приходившую на ум мысль, что поколение будущего все более начинает напоминать поколение средневековья, времен Тимурленга, хромого садиста, хоть в те времена маркиз де Сад еще не писал свои бредни воспаленного ума, потому что жил гораздо позже.
— Хорошо! — начал Гаджу-сан, внимательно выслушав Мир-Джавада. — Ты — ловкий малый, и я о тебе подумаю… Где он?
— В сарае! — сразу понял Мир-Джавад, о чем идет речь. — Останки сложены в гроб, ловко у них получилось: замазать, подкрасить, и можно хоронить в открытом гробу…
— Что подмазать? — переспросил Гаджу-сан. Он думал в это время о детских годах, проведенных с Атабеком, и не понял, потому что половины не слышал. — Так что?
— Лицо! Забелить, подпудрить, сойдет, правда, череп восстановить не удалось, но мы его закроем цветами и лентами…
— Слушай! — перебил его Гаджу-сан. — Избавь меня от малозначительных деталей… Теперь к делу: никому ни слова! Мой друг не обидится, если полежит в дровяном сарае несколько дней, я надеюсь, что там достаточно холодно. До тех пор, пока не закончится охота, не уезжать же гостям из-за этого трагического недоразумения. Некоторые издалека приехали, пусть отдохнут…
— Будет как вы скажете, ваше величество!
— Внимательно слушай: дерево упадет в самом конце охоты!
— Понимаю, светлейший!
— Иди и молись, чтобы все прошло благополучно!
Мир-Джавад выскользнул из комнаты Гаджу-сана.
На следующий день началась охота. Вначале решили затравить медведя. Встали-то поздно, почти всю ночь пили за здоровье Отца всех народов земного шара, гон волков устраивать времени не остается, зимой темнеет быстро. Да и выстрелы могут всполошить медведя, и он уйдет.
Сытые, опохмелившиеся, довольные, с винчестерами в руках, гости готовы были убивать, эти хозяева жизни жаждали крови. Никогда еще ни один медведь в этих краях не удостаивался столь великой и высокопоставленной армии преследователей…
Выгнать медведя оказалось довольно сложно: зверь не реагировал ни на лай собак, ни на шум людей, ни на пальбу, спал себе мирно и сосал лапу. А тут на тебе: выходи умирать. Но его упрямство не остановило егерей: не выгонят медведя — их выгонят, выбора не было. И егеря стали выкуривать лесного жителя из собственной берлоги. Такова жизнь: счастье одного строится на костях другого!
Разъяренный медведь так быстро выскочил из берлоги, что гнавшие в берлогу дым егеря не успели убежать в сторону, и огромный зверь мощными ударами лап открыл счет начавшейся кровавой охоте. Медведь был столь громаден, что вооруженная толпа маленьких и больших царьков в страхе подалась назад. Один Гаджу-сан да стоявший чуть поодаль Мир-Джавад с несколькими инквизиторами остались перед медведем.
Мир-Джавад не решался стрелять, Гаджу-сан в запальчивости мог вместо медведя застрелить его на месте, и Мир-Джавад это прекрасно знал, но, с другой стороны, если медведь покалечит вождя всего прогрессивного человечества, Гимрия растерзает Мир-Джавада в подвале инквизиции… И Мир-Джавад зорко следил за Гаджу-саном и за медведем, то за одним, то за другим.
А Гаджу-сан, сжав зубами свою неизменную трубку, давно уже погасшую, также внимательно следил за приближающейся горой мускулов и толстых костей, которые пулей не перешибешь, неудачный выстрел может только подстегнуть зверя к яростной атаке, поэтому и приходилось выжидать, чтобы стрелять наверняка. И такая возможность представилась: медведь, озадаченный неожиданным препятствием на пути, противником, не пожелавшим уступить ему дорогу, поле битвы, угрожающе заревел, широко раскрыв утыканную кривыми кинжалами пасть, и пошел на врага, вдвое меньшего по величине, но в тысячу раз больше по могуществу.
Гаджу-сан быстро выстрелил несколько раз в пасть медведя, целясь в ярко-красный язык. Мир-Джавад из своего бесшумного ружья почти неслышно поддержал владыку, и медведь, ужасно закричав, как смертельно раненный человек, сделал еще шаг и рухнул к ногам некоронованного императора. Это произвело столь внушительное и величественное впечатление на окружающих, что толпа вассалов восторженно завопила: „виват! виват Великому!..“ А Гаджу-сан, бросив на руки подскочившего Мир-Джавада уже ненужное ружье, не спеша набил трубку табаком и закурил под приветственные крики покорных царьков…
За вечер и часть ночи восхищенная толпа вассалов оставила от медведя лишь шкуру, которую опытный мастер тут же обработал и отправил во дворец эмира, где другие опытные мастера вставили в пустые глазницы два огромных изумруда, и отныне каждый, кто бы ни входил в кабинет, встречал как бы напоминанием раскрытую страшную пасть распластанного медведя, лежащего у камина. Кости и внутренности отдали огромным псам, тем, кто остался жив после опасной атаки на хозяина леса. Жадно урча, они сожрали бренные останки своего лютого врага, словно мстили за ту участь, которой они могли быть подвергнуты вместо своих павших в лесу собратьев. Под жареную медвежатину лились реки шампанского и другого вина, водки и коньяка, и непрерывно звучали здравицы в честь Непобедимого, Мудрейшего, Светлейшего…
На следующий день опохмелившихся гостей повезли охотиться на волков. Для каждого было заранее припасено место, свой номер. Естественно, что самое лучшее место, номер первый, было у Гаджу-сана, но он от него внезапно отказался и поманил к себе Мир-Джавада, а когда тот примчался со всех ног, спросил:
— Далеко то дерево?
Мир-Джавад сразу же сообразил, о каком это дереве идет речь, что имеет в виду светлейший.
— Близко! Но это в стороне от гона волков.
— Значит, гоните в ту сторону! — приказал Гаджу-сан. — Я так хочу!
И все быстро завертелось: номера переставлялись, флажки меняли район оцепления, к загонщикам помчался нарочный с приказом изменить направление гона, и на все про все ушел только час. А за это время Мир-Джавад отвел Гаджу-сана к тому дереву, что своей смертью послало смерть. Выпавший за ночь снег закрыл все следы преступления. Гаджу-сан не поспевал за Мир-Джавадом, так быстро тот шел к знакомому месту.
— Подожди!
Мир-Джавад остановился. Запыхавшийся Гаджу-сан, догнав Мир-Джавада, ехидно сказал:
— Я знаю, что преступника всегда тянет на место преступления, но чтобы с такой силой, впервые вижу, да и возраст у меня не тот, не угнаться за тобой…
Мир-Джавад склонился перед вождем.
— Простите, ваше величество, только рвение и стремление вам угодить виной.
— Показывай дорогу!
И Мир-Джавад пошел сзади Гаджу-сана, почтительно указывая дорогу. Через несколько минут принесли со старого места утепленный помост для вождя. Закутанный в теплые шкуры, он злорадно посматривал на начинающего замерзать Мир-Джавада.
— Помост на том же самом месте установили?
— Я проследил, Великий! Именно на том самом… Разрешите согреться, ваше величество? — рискнул обратиться к Гаджу-сану Мир-Джавад, не успевший опохмелиться утром, дел было много.
— Выпей, только немного! А то куст за волка примешь…
Мир-Джавад достал плоскую серебряную флягу с коньяком, отвинтил поспешно стаканчик, дрожащей рукой наполнил его и одним глотком опустошил жадно и торопливо, но даже в такую минуту не забыв крикнуть: „ваше здоровье, ваше величество!“
Гаджу-сан с завистью посмотрел на него.
— Почему, дорогой, мне не предложил выпить?
Покрасневший от выпитого коньяка Мир-Джавад мгновенно побелел как смерть.
— Но… Я… Вы… Коньяк! Васо мне говорил…
— Всего, что говорил тебе мой сын, а твой друг, я не знаю, но в каждом правиле есть исключение: не могу же я пить свое любимое вино на десятиградусном морозе. Наливай!
Мир-Джавад, предварительно обмыв тщательно стаканчик за неимением воды коньяком, поспешил исполнить приказ. Гаджу-сан медленно выцедил коньяк, наслаждаясь не только градусами, и о чем-то задумался. А Мир-Джавад, как ни хотелось ему еще выпить, стоял рядом с открытой флягой в руке, не решаясь взять у вождя пустой стаканчик…
„Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется; иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым: потому что злой не имеет будущности, — светильник нечестивых угаснет… Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними: потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний… Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума“…
„Сколько же я знал его?.. Трудно подсчитать, столько воды утекло… Мы с детства ненавидели друг друга и не могли прожить друг без друга ни дня. Когда я жил в семинарии, он каждый день приходил и тоскливо, как брошенная собака, смотрел на окна, а я всегда находил повод, чтобы улизнуть из семинарии и увидеться с ним. Увидеться, чтобы разругаться вдрызг и поссориться, но назавтра он вновь приходил, и мы мирились… Сколько раз я пытался обратить его в свою веру? Столько же, сколько он пытался обратить меня в свою. А когда я работал на промыслах, он, ненавидя самый запах нефти и керосина, приехал и работал рядом со мной, и мы опять ругались каждый день… Что это было: ненависть, доведенная до любви, или любовь, доведенная до ненависти?.. Один раз он спас мне жизнь, один раз я ему спас жизнь. И верил ему, как себе, и подозревал во всех интригах… Наконец, ненависть победила, но с его смертью куда-то исчезла, и осталась любовь… Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть „земля крови“… В книге же Псалмов написано: „да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем“; и: „достоинство его да приимет другой“… Приимет, обязательно приимет… Этот убийца, с которым я пью коньяк из одного стакана, и приимет… Ишь, застыл с флягой в руке, не осмеливается взять стакан из моих рук. Атабек не церемонился бы наедине, впрочем, как сказать, последние годы он стал меня люто бояться, видел, очевидно, во мне своего убийцу… Так и не согласился тогда со мной, что Иуда предал Христа. „Подставили, — говорит, — твоего Иуду, что-нибудь у него купили, а слух пустили, будто заплатили за предательство. Ведь предатели сами не вешаются, их, случается, вешают, а сами никогда. Так что настоящий предатель остался безнаказанным“…
Гаджу-сан посмотрел на Мир-Джавада. Тот преданно ловил взгляд повелителя, выражая всем своим видом готовность сделать все, что он ни пожелает.
— Слушай, ты почему не берешь стакан?
— Как я осмелюсь нарушить ход ваших мыслей, государь! Вы — это государство, а мы — это преданные слуги и покорные всегда… Этот, — Мир-Джавад скосил глаза под помост, — не понимал…
Гаджу-сан неожиданно заорал на Мир-Джавада:
— Ты много понимаешь, олух царя небесного, награбил миллиона два, человеком себя почувствовал?
— Если ваше величество считает эти два миллиона награбленными, я в любой указанный день сдам их в казну светлейшего.
И Мир-Джавад бросился в ноги Гаджу-сана.
— А вот похоронишь родственника и передашь… и не два, а три!
„При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякого благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми“.
— Разрешите пять миллионов? — взмолился Мир-Джавад, он уже понял, что речь идет о его возможном назначении на пост Атабека.
И Гаджу-сан понял ход его рассуждений и молча кивнул, соглашаясь с назначенной ценой. И протянул Мир-Джаваду стакан. Мир-Джавад взял дрожащей рукой стакан, хотел налить в него коньяк из фляги, но не сумел, так сильно дрожали руки от возбуждения. В это время начался гон, и Гаджу-сан приготовился стрелять, а Мир-Джавад, воспользовавшись тем, что повелитель смотрит в другую сторону, выпил прямо из фляги. И дрожь отпустила, как ни странно. Мир-Джавад успокоился.
— Только бы нас теперь волки не растерзали! — взмолился он. — Сделай так, аллах, чтобы охота прошла удачно!
Где-то в стороне захлопали частые выстрелы, видно, стая пошла по намеченному ранее пути. Гаджу-сан грязно выругался:
— Опять эти… все напутали!
Мир-Джавад был готов провалиться от стыда сквозь землю, как вдруг показалась группа волков: старая опытная волчица уводила свое молодое потомство в сторону от выстрелов одним лишь ей известным путем, подсказанным опытом и инстинктом.
Волчица почуяла скрывающихся за поваленным деревом заклятых врагов, а может быть, и почуяла кровь, засыпанную выпавшим за ночь снегом, и повела волчат прочь, прикрывая их своим телом. Гаджу-сан выстрелил в нее и попал с первого же выстрела, но волчица продолжала бежать, подставляя под пули, предназначавшиеся ее волчатам, свое мощное тело. Она бежала так же ровно и быстро, как будто это не в ее боку одна за другой открывались все новые и новые раны.
Гаджу-сан, ошеломленный и немного испуганный, отбросил в сторону ружье.
— Заколдованная! — прошептал он тихо и так же тихо, будто молился, продолжил: — И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад, огонь ходил между животными, и сияние от огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных — и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их…
Волчата скрылись в густом перелеске, где пули их уже не доставали, они вырвались из оцепления, и волчица сразу же рухнула как подкошенная.
Гаджу-сан облегченно вздохнул:
— Слава богу! Я уже было подумал — „знамение“, а это — обычная материнская любовь!
Мир-Джавад был также ошеломлен увиденным, да и вид охраны, расположившейся неподалеку, оставлял желать лучшего. Необычное всегда вызывает растерянность.
— Прислать вам шкуру во дворец, Светлейший? — Мир-Джавад старался не глядеть в лицо вождю и не показывать свою растерянность.
А дать понять Гаджу-сану, что увидел на его лице растерянность, значило поставить на своей карьере крест.
— Не надо! — глухо ответил Гаджу-сан.
А про себя подумал, что она будет напоминать ему малоприятные минуты, пережитые им здесь, когда он впервые в жизни растерялся.
— Закопай в лесу! — велел он уже спокойным и четким голосом.
Охота завершилась этим чудом…
А вечером объявили о случайной гибели Атабека. И опять по стране был объявлен траур, и черные флаги повисли на стенах домов, и черные рамки обрамили первые страницы газет. Именем погибшего от „несчастного случая“ героя битвы за свободу и независимость были названы: улица, пароход и паровоз… Торжественное шествие завершилось вновь у Стены плача, а после прощальных слов гроб так быстро, просто мгновенно, закопали в могилу и забросали землей, как говорится, никто и глазом моргнуть не успел, что вызвало у некоторых злорадные усмешки и шутки: мол, поскорее закопать, а то вдруг вырвется, выскочит да расскажет о „несчастном“ случае.
После похорон, в тот же день, Мир-Джавад был вызван в кабинет Гаджу-сана. Переведя на счет светлейшего пять миллионов, Мир-Джавад не боялся, а, напротив, ждал этого вызова, но все же ужасно волновался: он шел за своим маршальским жезлом, отныне золотая пайдза с изображением тигра, а то и ока вселенной, будет висеть на его груди, вызывая и страх, и трепет, и самую черную зависть. Врагов прибавится, а друзей… Друзей никогда и не было, кроме Васо.
Гаджу-сан встретил его благожелательно, указал на стул и, улыбаясь, как всегда, своим мыслям, спросил:
— Хочу с тобой посоветоваться! Как по-твоему: кого мне следует назначить на освободившуюся должность Атабека?..
И посмотрел, как кошка смотрит на мышь, своими желтыми немигающими глазами. Мир-Джавад почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, но он уже научился владеть лицом и, хотя лоб его покрылся испариной, на лице не дрогнул ни один мускул. Да и о характере Отца Вселенной ему многое успел порассказать Васо.
— Ученик не может советовать Учителю! — твердо и с достоинством ответил Мир-Джавад, отчеканивая каждое слово. — Дело Ученика — повиноваться! Учителя — решать! Любое ваше решение будет мудрым и законным!
— Не забудь этого, — одобрил Гаджу-сан. — А то и на тебя найдется свой Мир-Джавад!
Мир-Джавад понял, что назначение состоялось, вскочил со стула и вытянулся во фрунт:
— Ваше величество! Времена Атабеков прошли. Он был последним соратником, отныне у вас могут быть только послушные слуги…
Гаджу-сан потрепал ласково Мир-Джавада по щеке.
— Хорошо сказал, мальчик! Поезжай и служи!
И „мальчик“ на пятом десятке лет почтительно поцеловал протянутую руку вождя и вышел, твердо чеканя шаг, восходя на вершину своего могущества.
Такого жаркого лета не помнили даже старожилы. Пятьдесят градусов по Цельсию в тени, и ни облачка на небе, да и небо стало походить на линялую тряпку, бывшей когда-то голубой материей.
Все, кто мог, сидели на дачах у берега моря или в горах. А несколько человек из тех, кто имел дачи и у моря, и в горах, и на берегу царских дач на острове Рым, сидели в приемной наместника и ждали прихода нового гауляйтера. Ждали и боялись взглянуть друг на друга: от былой сплоченности не осталось и следа, каждый готов был предать другого, всех бывших друзей, вместе взятых.
Человек, которого они еще только полгода назад не замечали, стал их властелином: и тел, и душ. Первый раз он решил собрать всех их вместе, это была первая встреча, назначенная им.
Жара и духота, а все окна закрыты наглухо, а каждый из присутствовавших был одет в приличный черный костюм-тройку из ангорской шерсти, а расстегнуться нельзя, не говоря уж о том, чтобы снять хотя бы пиджак, а вдруг внезапно войдет гауляйтер и застанет в таком несерьезном виде, расценит как неуважение, ужас, что будет. От пота рубашки намокли, но ни один из присутствующих не мог первым предложить открыть окно, а вдруг не так поймут…
Старый Пишка сомлел и, сидя в кресле, задремал. За долгое „сидение“ у „кормления“ он научился спать не только сидя, но и стоя, за что и получил кличку „слон“. Голову откинул на спинку кресла, которое занял первым, как только вошли в приемную, а теперь вдруг сомлел и тихо похрапывал, широко раскрыв рот.
Не только жара и духота донимали бывших верных друзей Атабека. Словно ангел протрубил и послал на грешников полчища мух, огромных, жирных, зеленых с синевато-стальным отливом, наглых и бесстрашных, жара и духота на них не действовали, а может, и действовали, но густой запах человеческого пота будоражил, манил, дразнил. Голодные, жаждущие пищи мухи взбесились, атаковали целыми семьями этих двуногих в строгих черных костюмах, издающих такой чудесный аромат. А тут еще старый Пишка сомлел в кресле, и его потное лицо стало объектом питания, по строго соблюдаемой очереди.
Когда в приемную неожиданно вошел Мир-Джавад, все растерялись и замешкались на секунду, а Мир-Джавад мгновенно увидел спящего Пишку и огромную зеленую муху, ползающую по его губе у самого края раскрытого рта. Мир-Джавад прижал к губам палец и так зловеще тихо прошипел: „тс-с-с“! — что все замерли в тех позах, в которых это „тс-с-с“ застало их: кто только лишь оторвался от стула, кто в полусогнутом положении, кто застыл столбом, а кто и сидя, в своем стремлении встать со стула.
Мир-Джавад достал из кармана резинку и, подкравшись, метко сбил муху прямо Пишке в рот, тот, причмокнув, проглотил ее. Гауляйтер свирепо оглянулся на готовых зааплодировать и засмеяться подчиненных, и они замерли в еще более нелепых позах. А Мир-Джавад ждал, терпеливо ждал, когда другая муха с щеки переберется на губу. Как только осатаневшая от жадности муха поползла по губе, Мир-Джавад метко сшиб и эту прямо Пишке в рот. И опять тот, причмокнув, проглотил ее. Довольный собой, Мир-Джавад не стал ждать, когда третья муха переползет с глаза Пишки на губу, и бесцеремонно расквасил ее на месте обитания.
Одуревший от страшной боли Пишка вскочил с места, но наткнулся на вытянутую руку Мир-Джавада и с разбитой губой рухнул обратно в кресло… Тонкая струйка крови потекла по подбородку.
— Вот и первая кровь! — удовлетворенно подумал Мир-Джавад и расхохотался.
Все послушно захохотали вслед и захлопали в ладоши. Раздались одобрительные крики:
— Браво! Браво! Браво!
Одуревший Пишка ничего не соображал от боли и духоты, закрыв лицо руками, взмолился:
— Не бейте меня! Я старый, больной!
— Да кто тебя бьет? — искренне удивился Мир-Джавад. — Муха тебя укусила в глаз, ты вскочил и наткнулся на мою руку, я собирался прогнать муху, чтобы не беспокоила твой сон…
— Извините, шеф, я виноват!
— А ты действительно старый и больной! Все слышали? — и Мир-Джавад грозно обернулся к шайке Атабека, оставшейся без предводителя.
— Так точно, светлейший! — громоподобно гаркнул самый молодой из шайки, а все остальные угодливо закивали.
Мир-Джавад быстро прошел в кабинет, махнув у дверей рукой:
— Следуйте за мной!
Шайка, соблюдая установившуюся иерархию, прошмыгнула, один за другим, в кабинет, а последний тщательно прикрыл за собой дверь.
Мир-Джавад сел в кресло Атабека и опять ощутил необычный прилив сил и энергии, и с презрением посмотрел на стоящих перед ним почтительно склоненных приближенных Атабека, с которыми ему предстояло работать. Еще полгода назад они его не замечали, он был для них простой исполнитель воли Атабека, а значит, всей их группировки, слуга, которому приказывали убивать и арестовывать. Его и за политика не считали, а следовательно, и не опасались. „Каким образом он их сумел обскакать?..“ Каждый задавал себе этот вопрос и находил лишь один ответ: „в падении Атабека таится внезапный взлет Мир-Джавада“… И каждый боялся за свою жизнь.
Мир-Джавад, в свою очередь, бесцеремонно рассматривая их, молча прикидывал: кого надо оставить, кого придется оставить, кого можно будет, как Пишку, отправить на покой проживать награбленное, в стороне от дел, а кого и уничтожить…
— Гурама и его шайку в первую очередь. Как смотрит, э! Клянусь отца, он уже прикидывает сроки, когда меня можно будет отравить. „Великий отравитель“! Когда-то, в молодости, он оказал важную услугу Гаджу-сану: лечил его покровителя и учителя. Нашел Мудрый у кого лечиться, этот лекарь для начала заразил его сифилисом, а уж затем лечил его успешно мышьяком и в год загнал Мудрого в могилу. Услуга была так велика, что лекаря оставили в живых, вопреки всем правилам Отца народов, лишь услали подальше с глаз, следить за Атабеком. Но мой бывший тесть купил его возможностью творить любые дела безнаказанно… Ну, ничего! „Дело врачей“ мы организуем быстро. Есть у меня на примете в свите Гурама одна смазливая шлюха, бегает к Бабур-Гани, мальчиков развращает и обучает, если судить по тем снимкам, что принесла мне Бабур-Гани. А мне и нужен „разоблачитель“ из ближайшего окружения Гурама, думаю, что ближе, чем его любовница, мне не найти… И начальника полиции Сабита придется убрать, нечего делать: породнился с Гурамом… Подожди, подожди! А кем был Сабит до своего поступления в полицию?.. Столяром! Интересная идея мелькнула!
Никто из подчиненных не осмелился прервать размышлений нового повелителя. Все преданно смотрели на него и ждали новых распоряжений.
— Долго с вами я говорить не буду! — заорал неожиданно для себя Мир-Джавад. — Некогда, работать надо! Вы-то известные бездельники!.. — и так же неожиданно перешел на шепот. — Вот в этом сейфе хранятся папки с вашими делами: кто сколько наворовал, кто кого убил, даже кто с кем спит, кто предпочитает мальчиков, кто девочек, а кто предпочитает заниматься онанизмом… Вседозволенности, какая была при моем тесте, мир его праху, больше не будет. Мне многое не нравилось в стиле его правления, но… „о мертвых: либо хорошее, либо ничего“… Выберем второе. Я думаю, у вас вопросов ко мне не будет!.. Нет?.. И прекрасно!.. Тогда у меня к вам есть предложение: место каждого из вас стоит миллион, кто сегодня не внесет на мой счет номер один в центральном банке эту смехотворно маленькую сумму, завтра может на работу не выходить… Договорились?..
Пишка расплакался:
— Светлейший! Это же все, что я имею, на что я буду жить на старости лет?..
— „Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу“…
— Это из Ветхого Завета, светлейший! — осторожно заметил чиновник по связям с мечетями. — А наш народ придерживается Корана, Истинно правоверный придерживается законов Адата…
— Я сказал вам слова Великого Отца земного шара! А он для меня выше Старого и Нового Заветов, Корана, Адата, Торы и всех превращений Вишну. Гаджу-сан — наш аллах, а я — пророк его! И попрошу присутствующих об этом не забывать. О сейфе тоже помните… Идите, идите! Разит от вас псиной и мочой. Пишка, мыться каждый день, утром и вечером. Впрочем, ночью и вечером страдают ваши блудницы, а днем ко мне являться чистенькими, тем более что это совершенно безопасно: я не гомик.
Все подчиненные вышли подавленные и пришибленные из кабинета, а вслед им Мир-Джавад громко кричал:
— Не забывайте о сейфе!
О таком повелителе осиротевшая банда Атабека и не помышляла. Атабек сам любил пожить и давал другим, а этот — удав, кости переломает и проглотит. „Быстрее перевести на его счет деньги, — каждый только об этом и думал. — Половина-то, а то и больше, остается. Сыты будем — не помрем, живы будем — наживем!“
Один Пишка не смог пережить потерю награбленного. Он был настолько никчемен, что и воровать не умел, хватал, что уж совсем плохо лежало или что подавали „на бедность“. Так и не сумел Пишка себя переубедить, смириться с потерей состояния.
Черт с ней, с этой должностью! — вдруг радостно подумал он. — Не отдам я последнее!“
И почувствовал такое облегчение, что решил не выходить завтра же на работу, взять заключение у своего врача, что он при смерти, и быть при смерти как можно дольше, до самой смерти, но денег не отдавать…
Мир-Джавад блефовал с сейфом. Ключей от сейфа у Атабека не нашли, кроме него комбинацию цифр никто не знал, а замок был столь сложным, что самому открыть его нечего было и стараться. Лучшие специалисты по взлому сейфов, которые отбывали сроки наказания в тюрьмах страны, были доставлены из мест заключения, каждому из них, в случае успеха, была обещана, кроме денег, свобода, самое дорогое, что есть у человека, иногда даже дороже, чем жизнь. Но все было тщетно. Что в сейфе хранилось, Мир-Джавад об этом мог только догадываться, но там хранились списки лучших агентов Атабека… Мастера взлома предлагали вырезать замок автогенным аппаратом, но Мир-Джавад отказался: пламя могло повредить самое ценное, ради чего затевалось это дело: списки агентов. Мир-Джавад не боялся этих людей, знал, что без приказа они не убивают, просто ему нужны были эти высочайшего класса профессионалы.
И он решил дождаться, когда в его руки попадет взломщик экстра-класса. Об одном из них ходили легенды, и Мир-Джавад дал команду инквизиции подключиться и помочь в поисках полиции и перетряхнуть весь уголовный мир, но этого мастера достать…
Мир-Джавад вызвал к себе архитектора, проектировавшего дворец наместника. Контора архитектора находилась рядом со дворцом гауляйтера, и он прибыл через несколько минут.
— Слушай, строитель светлого будущего, расскажи мне все о дворце!
Архитектор сразу понял наместника:
— Вас, светлейший, наверное, интересует то, что скрыто от глаз? Я захватил с собой секретные чертежи… Вот, извольте, ваша светлость, взглянуть: здесь потайной ход, под дворцом протекает горная речка, заключенная в бетонную трубу, отсюда можно насосом поднимать наверх воду в случае осады дворца…
— Это все я давно знаю! — перебил его Мир-Джавад. — Ты что, забыл, что Атабек был моим тестем, и к тому же я охранял его и отвечал за его жизнь… Ты мне вот что скажи: можно ли из моего кабинета, вот из этого, сделать спуск к реке?
— Трудно, но можно! — задумался архитектор. — Колодец, конечно, в него скобы вбить… Но, ваша светлость, этим путем выбраться невозможно, у реки сильное течение, а уровень воды так высок, то вплавь не добраться, труба помешает.
— Ты меня не пугай! Я плавать не собираюсь… Составь лучше проект, подумай, сколько тебе нужно людей…
— Но те, кто будет строить, могут проговориться! — испугался архитектор.
— Мертвые секретов не имеют! — усмехнулся Мир-Джавад.
Архитектор побледнел. Мир-Джавад злорадно смотрел на него и молчал. Затем позвонил начальнику полиции Сабиту.
— Сабит, зайди ко мне, посоветоваться надо!
Сабит обомлел: не было еще в истории случая, когда бы наместник обращался за советом к начальнику полиции. Но делать было нечего, и Сабит поехал к гауляйтеру.
— Чего испугался? — успокоил архитектора Мир-Джавад. — Не бойся, дурачок, ты будешь жить. Сейчас приедет начальник полиции, отправишься с ним в управление тюрем, отберешь двоих, которые тебе подойдут для этого дела.
Архитектор продолжал трястись от страха.
— Да не бойся ты, говорю! — повторил Мир-Джавад. — Мне невыгодно тебя убивать, сразу все поймут… Будешь молчать, будешь жить! Подожди в приемной!
Архитектор на дрожащих ногах едва выполз из кабинета. И тут же явился Сабит.
— Я весь внимание, светлейший!
— Внимание тебе понадобится! — ласково улыбнулся ему Мир-Джавад. — Поедешь с этим дурачком, что ожидает в приемной, отберешь двух нужных ему людей для работы и до окончания работы глаз с них спускать не будешь, карауль и следи, чтобы они ни с кем не общались. Кроме тебя некому доверить такое важное дело. Ты уж постарайся, пожалуйста!
Сабит замер от восторга и радости.
— Заметили, заметили тебя, наконец! — гордо подумал он. — Это первый шаг к возвышению! Если его светлость потребует от меня голову Гурама, а он его непримиримый враг, то выдам его: наркотиками торгует, — раз; подпольный абортарий устроил, — два; взятки берет за все, что только можно, — три, освобождает от воинской повинности, от судебного преследования, от брачных обязательств. Э! Перечислять, времени не хватит день прожить. За все, значит, за все!
Поблагодарил Сабит Мир-Джавада, пал перед ним на колени, пол лбом припечатал у его ног и, не вставая, пятился, пятился, пока не оказался за дверью. Но в приемной он гордо выпрямился и, кивнув милостиво архитектору, чтобы следовал за ним, отправился выполнять самое важное в своей жизни поручение…
Возвышение Мир-Джавада Гюли восприняла как свое собственное: ее особняк был полон гостей из льстецов и подхалимов, возвеличивающих ее, словно царицу Савскую, превозносивших ее поблекшую красоту, как нечто непревзойденное, а ее житейский ум, как мудрость. А Гюли льстило, что у нее есть собственный двор. Никто бы сейчас и не узнал в ней ту деревенскую девчонку, изнасилованную и принявшую участие, помимо своей воли, в грязной политической игре.
Дом, полученный когда-то от старого так называемого мужа, она давно продала, он ей напоминал о трех покойниках: фиктивный муж, шофер-насильник и ее родная мать, сгинувшая в северных джунглях. Целый квартал огромных многоэтажных каменных домов стал ей теперь принадлежать одной, в одном из домов ее квартира занимала целый этаж, но затем этого ей показалось мало, и она на награбленные деньги, которые ей добровольно продолжали все нести, отгрохала столь величественный особняк, что он стал соперничать с дворцом гауляйтера.
А Мир-Джавад только посмеивался, видя жалкие попытки деревенщины казаться отпрыском древнего рода, аристократкой в тринадцатом поколении.
При Гюли уже был неотлучно ее красавец Геркулес. Не в силах скрывать больше своей страсти, она, тем более что ждала ребенка, пришла к Мир-Джаваду и рухнула ему в ноги.
— Не могу я так больше: пощади или убей! Ты меня давно уже не любишь, приезжаешь только к сыну, мне трудно одной, дай команду моему охраннику, пусть он женится на мне!
И тут ею овладел столь животный страх, что она, как в детстве, закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть. К ее удивлению, Мир-Джавад не только не стал ее бить, а тут же позвонил по телефону, вызвал Геркулеса и коротко ему приказал:
— Женись! Разрешаю!
— Слушаюсь и повинуюсь, светлейший!
— Может, Иосиф поумнеет, а то связался в семнадцать лет со старухой…
На что мгновенно пришедшая в себя Гюли ответила:
— Зато она не наградит мальчика заморской болезнью. К красоткам Бабур-Гани еще успеет…
Совсем мало времени понадобилось Гюли, чтобы прибрать к рукам своего ненаглядного красавца Геркулеса, от которого вскоре родила дочь. А Геркулес так был уверен в себе, когда женился, что потом долго удивлялся, как это могло случиться, что Гюли из рабыни мгновенно превратилась в повелительницу, в абсолютную монархиню. А все было проще простого: Гюли, получив в мужья своего ненаглядного, стала относиться к нему как к одной из самых своих удачных сделок, удачных покупок, а хозяин вещи — всегда прав. „Не тот прав, кто больше прав, а тот прав, у кого больше прав!“ — любила она говорить при каждом удобном и неудобном случае.
В ее руках был капитал, который она ссужала под чудовищные проценты, каменные дома и целый район данников, а в руках Геркулеса только сила, которой Гюли тоже пользовалась, как и своими данниками.
Но больше всего на свете, даже больше, чем власть и деньги, Гюли любила своего сына, единственного красавца на всем белом свете Иосифа. И ростом, и красотой он пошел не в отца, а в деда, отца Гюли. Избалованный матерью и отцом Иосиф рос настолько наглым и беззастенчивым, бесцеремонным и бессовестным, так терроризировал всех окружающих в школе и на улице, что друзей у него не было, а были одни прихлебатели, „свита“, как он их называл. В этой „свите“ подобрались мерзавцы, как на подбор, один к одному. И не было на них управы.
В школе Иосиф учился откровенно плохо, а учителя ему ставили по всем предметам „десять“, высший балл. Иосиф принципиально стоял у доски, когда его вызывали, и молчал, упрямо и упорно, а учителя отвечали за него уроки, сами себе задавали наводящие вопросы и сами себе отвечали на них, а класс втихомолку потешался. Это действительно было очень смешно, когда из любого положения пытаются найти выход. От Иосифа требовалось только одно: ходить на занятия. Здесь мать была неумолима: „ходи, радость моя, — говорила она нежно, — сам не заметишь, как что-нибудь узнаешь, слушай и запоминай, а отвечать не обязательно. Ты рожден, чтобы повелевать, а не отвечать за что-то перед кем-то, а кому нести чего куда научит жизнь“… И Иосиф сидел на занятиях, слушал, запоминал, но, хотя все знал, принципиально не отвечал. Так он стал кумиром в классе, приводил в восторг соучеников, которые пользовались тоже некоторыми поблажками учителей: у кого поднимется ставить плохую оценку нерадивому ученику, после того как недрогнувшей рукой только что поставил „десять“ Иосифу. Да и класс, где учился сын светлейшего, не мог быть не самым лучшим в школе классом.
Полиция изнывала от тоски, не зная, как расценивать погром, учиненный в кондитерской лавке Иосифом с дружками: как грабеж или как детскую шалость, тем более что являлась Гюли и почему-то платила за понесенные убытки. А Гюли платила, потому что Иосиф отказался от охраны, и ссориться с малоимущими торговцами было опасно, могли и зарезать.
Когда Иосифу исполнилось пятнадцать лет, он стал засматриваться на девочек. Гюли заволновалась и срочно пригласила к себе в гости супругу старого квартального надзирателя, молодую и красивую шлюшку. Нисколько не смущаясь, Гюли прямо заговорила с ней о деле:
— Послушай, милочка! Я надеюсь, ты не откажешься от молодого любовника?
Молодая супруга поняла ее с полуслова.
— О, мадам! Если вы разрешите мне стать рабой вашего сына, я буду ему верна.
— Это я и хотела уточнить… У тебя много любовников?
— О, мадам! К сожалению, ни одного.
— Не может быть!
— Увы! Мой цербер приставил ко мне двух старых теток, а они сами прошли огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы, их не проведешь.
— Но ко мне он, надеюсь, тебя отпускает?
— Да, мадам, но тетки ждут меня в автомобиле, а одна из них, я больше чем уверена, караулит у черного хода вашего дворца.
— Это меня устраивает. С мужем тоже это время не живи.
— Но как?
— Я тебе сейчас дам справку, что тебе запрещено заниматься любовью полгода, а потом продлю ее.
— О, мадам! Когда мы начнем? — сгорая от нетерпения, проговорила неудовлетворенная супруга.
— Да прямо сейчас! Скоро мой сыночек придет из школы. Я его покормлю и отправлю к тебе. А ты разденься догола и жди его перед зеркалом.
— Как скажете, мадам! Я вам верю! — блеснула хищно глазами надзирательша.
Как они договорились, так и Сделали: Гюли заставила Иосифа плотно поесть.
— Тебе понадобятся силы, мой милый мальчик!
— Зачем мне сила, мама, меня и так все боятся!
— Я тебе приготовила игрушку, где страх лучше не испытывать.
— Ты говоришь загадками! Мне игрушка? Ты спятила, мать!
— Сын! Как ты можешь так непочтительно обращаться к своей матери. Я же тебе не какая-нибудь шлюха подзаборная!
— Ащи, ма! Не пили мне мозги!
— Хорошо, пойдем со мной!
И Гюли повела сына к комнате, где его уже дожидалась молодая женщина. Быстро и неожиданно втолкнув сына в комнату, она заперла дверь на ключ. Но голой женщиной, стоящей перед зеркалом, Иосифа было трудно испугать.
Таким образом Гюли решила отвлечь Иосифа от безобразий, творимых им со своей „свитой“. Но Мир-Джаваду почему-то не понравилось, что его юный сын связался со старухой, хотя этой старухе было всего двадцать пять лет.
Сабит с архитектором недолго подбирали себе искусных мастеров. В ближайшей тюрьме им удалось найти сразу двух нужных людей. Труднее было провести их незаметно в кабинет Мир-Джавада. Но Сабит быстро вышел из затруднительного положения: он одел мастеров в женское платье, а на голову паранджу. Это привлекало большее внимание, чем если бы Сабит их раздел догола, но довольному своей хитростью Сабиту доказать что-нибудь было невозможно, да архитектор и не пытался этого делать, даже если бы ему пообещали полную безопасность. Сабит тихо шепнул мастерам:
— Кто пикнет хоть слово, пристрелю на месте!
Тон его был таков, что мастера прониклись и затрепетали.
Мир-Джавад на время „ремонта“ освободил кабинет, а Сабит с мастерами поселился там безвылазно. Архитектор срочно изготовил проект, а опытные мастера по этому проекту, работая по восемнадцать часов в сутки, с короткими перерывами на обед и другие потребности, пробили к реке колодец, большой и удобный, вбили в стену колодца прочные скобы, над ним установили потайной люк, пол полностью отремонтировали, и люк практически не был в нем виден, установили панели из красного дерева с позолоченной бронзой. Вот когда Сабит вспомнил свое умение, прежнюю квалификацию, забыл на время, что он начальник полиции, и с наслаждением отводил душу, работая столяром-краснодеревщиком.
Наконец, архитектор пригласил Мир-Джавада принять работу. Быстрота, с какой был сделан колодец и потайной люк, удивила Мир-Джавада, но качество потрясло.
— Вот что значит: пообещать свободу, кроме денег! Каждый работает тогда не за страх, а за совесть.
Мир-Джавад отдал распоряжение по внутреннему телефону, и рядом с кабинетом, в комнате отдыха, устланной коврами ручной работы и заставленной мягкими оттоманками и пуховиками, восточная роскошь устраивала Мир-Джавада, поэтому здесь он приказал ничего не менять, слуги разостлали на низенькой банкетке бархатную скатерть малинового цвета и заставили ее изысканнейшими яствами и напитками. Мир-Джавад снизошел до того, что сел рядом с рабочими-мастерами и пил с ними за их „золотые руки“, и ел вместе с ними плов из общего блюда, когда каждый запускает пятерню в гору риса, обложенного кусками молодого жареного барашка, даже иногда ухаживал за ними, наливая в их хрустальные фужеры вино, водку или коньяк. Мастера чувствовали себя как в раю, изредка поглядывая то на стол, то друг на друга, словно спрашивая: не снится ли им все это.
Мир-Джавад встал из-за стола, но, когда мастера попытались последовать за ним, удержал их на месте.
— Сидите, друзья! Ешьте, пейте! Восстанавливайте силы, они вам еще пригодятся. Денег у вас теперь будет куча, самое время жену подыскивать, а без сил вашим женам нужны будут только ваши деньги, а не вы сами, а сильных мужчин они будут искать на стороне. Сабит, за мной!
И перешел из комнаты отдыха в кабинет. Сабит, как послушный пес, бросился за ним, только что хвостом не вилял. В кабинете Мир-Джавад долго тренировался, открывая и закрывая люк, убедившись, что механизм работает надежно, оставил люк открытым и приказал Сабиту:
— У тебя подходящий вес. Полезай, проверишь скобы, если твою тушу выдержит, то меня тем более. Полезай и проверь до самой воды.
Сабит поторопился выполнить указание начальства и полез вниз, прыгая на каждой скобе, чтобы проверить получше ее прочность. Как только его макушка поравнялась с полом, Мир-Джавад вытащил из кармана короткую резиновую дубинку, залитую внутри свинцом, и ударил изо всех сил Сабита по макушке. Сабит без единого крика полетел вниз, и только всплеск воды от падения тела как бы ахнул от ужаса, нарушив тишину колодца.
А Мир-Джавад закричал:
— Ко мне, на помощь!
И через несколько секунд из комнаты отдыха выскочили архитектор с мастерами. Мир-Джавад, при их появлении, заглянул в колодец и крикнул:
— Держись, Сабит! Сейчас тебя поднимут! — и, обернувшись к застывшим мастерам, рявкнул: — Что застыли, истуканы, ваш начальник сорвался со скобы, может, скоба не выдержала, быстрее полезайте за ним.
Испуганные мастера, чуть ли не на плечах друг у друга, полезли в колодец. Когда голова второго мастера скрылась в колодце, Мир-Джавад достал из-за пояса скрытый рубашкой пистолет с глушителем и выстрелил ему в затылок. Мастер полетел камнем вниз, и скоро всплеск воды удостоверил, что и эту жертву приняла река. Мир-Джавад заглянул в люк и увидел, как первый мастер, словно матрос на вантах, быстро и ловко спускается по скобам и почти уже достиг воды. Мир-Джавад почти не целясь выстрелил и тяжело ранил. Тот страшно закричал, судорожно цепляясь изо всех сил за скобу, но силы оставили его, и мастер разделил участь предыдущих жертв. И вновь река с судорожным всплеском приняла дань.
Мир-Джавад посмотрел на архитектора. У того от страха отнялись ноги, и он, как подкошенный, рухнул на ковер, чувствуя, как предательски быстро намокают штаны. Мир-Джавад закрыл люк, замаскировал его ковром и подошел к архитектору.
— Шелудивый пес! — заметив огрех, завопил Мир-Джавад. — Ковер испортил. Это — исфаганский, стоит дороже тебя… Негодяй! Твой гонорар я удерживаю на ремонт ковра, долго будешь помнить, что мое слово твердо, как скала. Испугался, баран! Пошел прочь! И помни про свой язык!
Архитектор попытался было встать, но ноги отказывались слушаться его, и он пополз из кабинета, оставляя за собой мокрый след. Мир-Джавад позвонил. Тут же вошел секретарь. Состояние архитектора его не удивило, он и не такое видел, умел молчать, а за его бесстрастность и умение ничему не удивляться, ничему и никогда, Мир-Джавад испытывал к нему даже тень уважения.
— Замени ковер! — коротко приказал наместник.
Секретарь мгновенно исчез, и через несколько минут внесли другой ковер, еще лучше и краше, и дороже, чем прежний, который сразу же свернули, протерли пол, побрызгали французскими духами, а дурно пахнувший ковер унесли в чистку.
А Мир-Джавад сидел в это время в комнате отдыха и допивал оставленное вино из фужеров Сабита и мастеров.
— Интересно, какие у них были мысли? — размышлял гауляйтер. — Ну, Сабита понятны, можно и не пить из его бокала: готов был предать Гурама. И меня также предал бы при случае, ты — предатель по натуре, Сабит, и лучше было бы тебе оставаться краснодеревщиком, смотри, какие чудесные панели сотворил… А вот мастеров мысли интересно узнать… Так, у этого одно на уме: удрать подальше, чтобы не нашли, умный какой… А у этого?.. Одни женщины на уме, много женщин и все разные: рыжие и брюнетки, блондинки и пепельные, русоголовые и… все оттенки… Какие бы деньги ни получил, все бы промотал в два счета…
Мир-Джавад налил вина в свой бокал.
— Теперь возьмусь за Гурама, а то скоро есть и пить станет опасно…
И он стал разрабатывать план по уничтожению Гурама и всех его сторонников.
„Исчезла! Оя исчезла!“ — Васо не находил себе места. Даже с Гимрией на время помирился, чтобы тот ему помог. Гимрия клятвенно обещал помочь, приложить все усилия, отыскать беглянку, но даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Ему было очень выгодно держать Васо в напряжении, отвлечь его от борьбы за престолонаследие.
Гимрия, после организации покушения, стал одним из первых вельмож, любимцем Гаджу-сана. Великий не забыл, как Гимрия, рискуя собственной жизнью, закрыл его от пуль террориста грудью, пусть даже в бронированном автомобиле. И Великий инквизитор лелеял в душе сладкие надежды стать наследником, а его друг Геор умело подогревал эти надежды. Геор уже давно советовал Гимрии организовать еще один, последний, приступ белой горячки у Васо ибн Гаджу-сана, но у Гимрии волосы дыбом встали от одной мысли, настолько кощунственной она ему показалась, чтобы причинить хотя бы малейший вред Отцу вселенной.
А Васо страдал, он действительно не мог забыть Ою. Другие женщины, даже девственницы стали вызывать у него раздражение. Искусниц Бабур-Гани он обозвал шлюхами и, напившись как-то, сильно поколотил, — да так, что они оставались месяц без дополнительных заработков. И только в обществе Мир-Джавада, свидетеля его первой „встречи“ с Оей, Васо находил некоторое утешение…
Бродя бесцельно по дворцу, Васо зашел раз в кабинет отца. В полумраке, хотя наступили сумерки, свет в кабинете не горел, он разглядел неподвижное тело отца: он откинулся в кресле, и глаза его были закрыты. Васо сразу вспомнил, как отец ему сказал: „если я умру, то только в этом кабинете, сидя в кресле, и никто без вызова не сможет ко мне зайти, кроме тебя одного, запомни это“. Поэтому Васо, испугавшись, с криком бросился к отцу, но тут же зеленые глаза вождя сверкнули даже в полумраке, словно взгляд совы.
— Сын мой! Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои: потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — темный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином; которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно; впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное; и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: „Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же“…
Васо съехидничал:
— В тебе погиб первосвященник, ты здорово умеешь находить нужные места в библии, неужели заставляли всю наизусть учить?
— Я слышу в твоей непочтительности боль души, и это меня радует! — не ответил на вопрос сына Гаджу-сан. — Если в тебе пробудилось лучшее, возьмись за ум, прекрати пить, у тебя уже один приступ белой горячки был… Неужели ты всерьез думаешь, что престолонаследником может быть законченный алкоголик?.. Кстати, за последнее время ты ни разу не говорил со мной об этом.
— А какой смысл говорить с тобой? — обиделся Васо. — Ты смотришь в рот этому вруну Гимрии, кормит меня, сукин сын, одними обещаниями, и слушаешь только его…
— Он, а не ты закрыл меня своей грудью от пуль! — укорил сына Гаджу-сан. — Не забывай об этом.
— В бронированном автомобиле это легко сделать. Ты никогда не задумывался, почему все нападавшие были убиты?
Гаджу-сан резко и недовольно сказал:
— Такие обвинения выдвигают, имея серьезные улики на руках. Не пользуйся тем, что ты мой любимый сын!
— А нелюбимый — не сын?
— Васо! Это удар ниже пояса!
— А ниже пояса только в этом и участвует. А улики я тебе достану, я знаю, к кому мне обратиться за помощью…
— Обращайся! — внезапно успокоился Гаджу-сан. — Можешь передать тому, к кому ты будешь обращаться, что я им доволен. Поступления увеличились вдвое, неужели Атабек столько крал?.. Да, заодно узнай у него деликатно: почему это все так боятся вызова к нему в кабинет? И почему люди умудряются заходить к нему в кабинет, но забывают оттуда выходить? Расщепляет он их на атомы, что ли? Или распыляет? Или превращает в пар?.. Может, ему пора давно государственную премию давать за это научное открытие?
Васо рассмеялся и пообещал.
В кабинет Мир-Джавада действительно стали ходить, как на плаху: то ли помилуют, то ли нет. Многие были свидетелями, как в кабинет входили совершенно здоровые, жизнерадостные люди, а обратно не выходили. Иногда один за другим: заходили и исчезали. Но так было, правда, редко, когда Мир-Джаваду нужно было ликвидировать какой-нибудь клан, вырезать его целиком. А светлейшему задавать вопросы было как-то неудобно, неудобно в том смысле, что один, который рискнул задать такой богопротивный вопрос, ответа так никому и не рассказал, сам исчез. А через некоторое время Мир-Джавад наивно спрашивал:
— Слушай, э, клянусь отца, давно не видел Махмуда!..
Или черта лысого, или дьявола косого. Слушал подобострастные ответы: мол, этот исчез, тот пропал, третий растворился. И удивленно качал головой:
— Клянусь отца! Пройдоха всех перехитрит. Главное в профессии вора — вовремя смыться!
Так исчезли один за другим все сторонники Атабека, те, на которых нельзя было положиться. А через несколько дней море нехотя отдавало, выбрасывая на берег, голый распухший до неузнаваемости труп со смертельной раной в затылке, но узнать его не было уже никакой возможности, а море свято хранило свои тайны. Черев некоторое время армия спасения получала очередной комплект для бесплатного распространения среди нищих: черный костюм, черные туфли, белую рубашку и красный галстук…
Остался один Гурам. Как ни ненавидел его Мир-Джавад, а трогать боялся, пока. Но подошло время, и Мир-Джавад решил попытать счастья. И вызвал, не в кабинет к себе, конечно, а к Бабур-Гани любовницу Гурама.
Таян, любовница Гурама, увидав вместо юного мальчика, девственного и желанного, Мир-Джавада, старого козла, обомлела, но быстро оправилась от смущения и стала поспешно раздеваться.
Мир-Джавад расхохотался:
— Уймись, нечистая сила! Я объедками Гурама не пользуюсь… Хочешь посмотреть, на чем подрабатывает твой старик?
Когда Таян увидела порнографические снимки, почти такие она немало встречала в своей жизни, но первый раз на снимках было ее тело, да в таких позах, — Таян побледнела и чуть не лишилась сознания. А Мир-Джавад поспешил ее успокоить:
— Мои друзья выкрали у Гурама негативы, и теперь они хранятся в моем сейфе. Зайди, если хочешь, завтра сюда в это же время, я тебе их подарю.
— Бесплатно? — не поверила Таян.
— А ты мне взамен подаришь заявление, в котором опишешь полный перечень преступлений Гурама: кого и когда он отравил… Да, самое главное: укажи обязательно, что он замыслил отравить Отца земного шара Гаджу-сана и меня, его верного слугу.
Бедная развратница не знала, на что ей решиться: она и боялась Мир-Джавада, и не хотела терять Гурама, он ей все прощал, все ее похождения. Первым желанием Таян было отказаться и обо всем рассказать Гураму. Но и это самое первое желание тут же подавил страх, родивший последующее желание выжить во что бы то ни стало. Таян сразу поверила Мир-Джаваду, что негативы в его руках, знала, что Гурам ее не снимал, а снимали тайно здесь, у Бабур-Гани.
Мир-Джавад, заметив ее колебания, решил добить ее:
— Представляешь, что будет, если эти и другие фотографии будут продаваться завтра на всех перекрестках? Э! Понимаешь?.. Конечно, ты сможешь меня легко убедить, что Гурам тебя простит, не разлюбит, но не будет же он охранять тебя день и ночь. А я твердо знаю, что толпа фанатиков, правоверных, что с них возьмешь, во главе с твоим дядей, побьют тебя камнями. Скажу тебе по секрету, — неприятная смерть!
И Таян решилась на предательство, тут же убедила себя, что Гурам ей порядком уже надоел, и тут же вырвала у Мир-Джавада такую цену и столько благ за предательство, что он только присвистнул. Но вынужден был согласиться с ее требованиями.
На следующий день Таян принесла Мир-Джаваду требуемое заявление с полным перечнем действительных и мнимых преступлений Гурама, но отпечатанное на пишущей машинке. Мир-Джавад внимательно перечитал, а затем, швырнув ей обратно список, ехидно спросил:
— Что это такое, объясни!
Таян так сильно обиделась, что слезы ручьем хлынули из ее глаз, крупными горошинами падая на стол.
— То, что вы хотели! Больше я ничего не знаю. Я же выполнила все ваши требования!
И Таян зарыдала во весь голос.
— Все разве? — также ехидно продолжил Мир-Джавад.
— Все! — прорыдала Таян. — Я ведь и про вас написала, и вождя всех народов не забыла!
— Орден тебе за храбрость! — И Мир-Джавад заорал на нее. — Заткнись! Плевать я хотел на твои слезы. Я тебе приказал написать от руки, а не напечатать. Сиди здесь и пиши, пока не напишешь, никуда не уйдешь. Напишешь, пойдешь к мальчику, оставили его для тебя. Ясно?
— Ясно, светлейший! — обрадованно залепетала предательница. — А я уж испугалась, вдруг что-то напутала.
Мир-Джавад ее оставил в комнате, прислал ей бумаги и чернил с ручкой, а сам занялся своей любимой работой: развращением несовершеннолетних… Через три часа ему доложили, что работа Таян закончена. Мир-Джавад отправился к ней и стал сравнивать написанное с напечатанным.
— Вот это уже похоже на доблестный гражданский поступок, в котором отсутствует формальный облик равнодушия, — и он показал на машинописный вариант.
Написанное от руки придает живую, искреннюю форму честному содержанию.
И спрятал листки исписанной бумаги, а также машинописный вариант в свой маленький свинцовый чемоданчик, вынув оттуда обусловленную плату. Таян жадно пересчитала деньги и, спрятав в сумочку, нагло улыбнувшись, добавила:
— Светлейший! Я надеюсь на вашу защиту» и надеюсь, что вы не забудете остальных пунктов нашего договора: во-первых, дом Гурама со всем содержимым — мой, я ему его отработала…
— Да, да! — отмахнулся Мир-Джавад. — И дом, и прочие мелочи: орден за храбрость, там, хорошую должность… Ащи! Все, о чем договаривались, будет, клянусь отца!
Таян, со счастливым лицом от удачной сделки, выплыла из комнаты, нагло виляя бедрами, направляясь к своему очередному маленькому кумиру, а Мир-Джавад, глядя ей вслед, со внезапной, необъяснимой злобой подумал:
— А не отдать ли ее в казармы? Навилялась бы там досыта!
Но, все рассчитав, решил, что она нужней на предстоящем грандиозном процессе. Невидимые глазу зубчики следствия завертелись, передвигая стрелки процесса все ближе и ближе. Сначала были арестованы мелкие исполнители. В подвалах инквизиции у большинства, при виде орудий пыток, развязывался язык, а у меньшинства вызывали красноречие такие страшные пытки, словно вновь вернулись времена владычества османов, чьи мастера пыточных дел считались до сего времени непревзойденными, вобрав в это изуверское искусство достижения Византии и Китая, монголов и американских индейцев. Обличая более крупных исполнителей, мелкота выторговывала себе жизнь участием в процессе в качестве свидетелей. Исполнители рангом повыше выдавали своих работодателей. Так, ступенька за ступенькой, подошли к организаторам преступлений и к их главарю Гураму.
Забрав заявление любовницы Гурама и протоколы допросов, Мир-Джавад полетел в столицу, ко дворцу эмира, просить разрешение на арест. Без санкции Гаджу-сана Гурама арестовать он не решался.
Первым делом Мир-Джавад заручился поддержкой своего единственного друга Васо.
— На ловца и зверь бежит! — обрадованно закричал Васо, увидев Мир-Джавада. — А я к тебе собирался, клянусь отца!
Внимательно изучив документы, Васо пообещал Мир-Джаваду полную поддержку.
— Я думаю, ради друга могу один раз соврать отцу и сказать, что у меня был не приступ белой горячки, а просто Гурам меня отравил… Но услуга за услугу!
— Всеми силами готов тебе помочь, но в пределах моей власти Ои не существуем, я говорю!
— Знаю! Это — моя боль, и помочь мне может только Гимрия, а он, негодяй, меня ни в грош не ставит, сам хочет стать наследником престола. Слушай, у меня к тебе просьба!.. Да, пока не забыл: отец, узнав, что я собираюсь к тебе, велел передать, что доволен твоей работой, но он в затруднении: присваивать тебе государственную премию или нет…
— За что? — удивился Мир-Джавад. — Впрочем, Великий всегда прав: если он задумал наградить, перечить ему никто не будет, и я — первый.
— Он говорил мне, что ты изобрел какой-то способ распыления людей в воздухе, и ждет: когда же ты представишь ему открытие века. Вся наука будет тебе благодарна.
— Ничего не понял, клянусь отца!
— Это в том смысле, что в твоем кабинете люди стали исчезать: как заходят, — все видят, а как выходят — нет.
Мир-Джавад рассмеялся.
— Скажешь тоже! Научное открытие!.. Все очень просто: под дворцом протекает заключенная в трубу река, мой кабинет на первом этаже расположен, сделал колодец, ну, остальное ты и сам понимаешь.
— Нет, не понимаю! Последнее время я стал какой-то рассеянный, Ою не могу забыть.
— Найдем твою красавицу!.. Так вот, остальное все очень просто: вызываю недовольного мною в кабинет, демонстрирую ему потайной люк и прошу оказать услугу, спуститься к воде и достать воды из речки, мои цветы пьют исключительно свежую речную воду, затем проявляю отеческую заботу о подчиненном, чтобы он не испачкал костюм или не замочил его паче чаяния, предлагаю раздеться догола, все знают, что я не гомик, раздеваются охотно, даю ему в руки пустую бутылку, недовольный довольно быстро лезет за водой, а я, как только его голова оказывается на уровне пола, стреляю ему в затылок из «вальтера» с глушителем…
— Совсем беззвучно?
— Перед этим я включаю обычно радио… Труп падает в речку, река уносит тело в море, а море дня через два-три выбрасывает на берег.
Васо расхохотался, как ребенок, беззаботно и весело.
— Действительно, все просто!.. Слушай, а где ты берешь так много пустых бутылок? Или содержимое перед этим выливаешь, или выпиваешь?
— Зачем речку загрязнять? Я как-то подсмотрел, куда уборщица прячет собранные за день пустые бутылки из-под сидра, который в несметном количестве пьет внутренняя охрана, и потихоньку ворую по паре пустых бутылок в день. Больше не требуется.
— Тебе надо повысить зарплату уборщицам.
— Мы отвлеклись на пустяки, э! Какую услугу тебе оказать?
Васо долго молчал, а Мир-Джавад терпеливо ждал, когда его друг облечет мысли в слова, ни капли не сомневаясь, что это будет очередной план по нахождению Ои. Но то, что он услышал от Васо, Мир-Джавад никак не ожидал.
— Понимаешь! — начал нерешительно и хрипло от волнения Васо. — Совершенно случайно я увидел, как Гимрия тайком приехал в один дом. Ты бы только посмотрел: в простом автомобиле, всего с тремя охранниками, и пробыл в этом доме довольно долго.
Васо умолк, обдумывая то, что собирался рассказать.
— Красотка, наверное, какая-то! — сказал нетерпеливо Мир-Джавад, заинтригованный необычными сведениями.
Васо ухмыльнулся и покачал головой.
— Нет! Мой человек выяснил, все разузнал: в этом подъезде всего по одной огромной квартире для очень богатых людей, но из женщин только одна — жена директора гастронома на Елисейском лугу.
— Ну, вот, видишь? — удовлетворенно хмыкнул Мир-Джавад.
— Ты серьезно думаешь, что у Гимрии изменился вкус, и он перешел с нимфеток на пятидесятилетних?
— Исключено! — Мир-Джавад почувствовал легкое беспокойство. — Так к кому он приезжал, ты выяснил?
— Мой человек решил это выяснить, а на следующее утро его выловили из реки километров за двадцать от столицы вниз по течению, и я подозреваю, что эти километры он проплыл не свободным стилем и даже не кролем.
Мир-Джавад размышлял над услышанным. Васо тоже замолчал и уставился на него. Такая тишина воцарилась в комнате, что Васо не выдержал и рассмеялся:
— Полицейский родился!
— Ты напрасно смеешься, дело-то серьезней, чем я предполагал! — откликнулся Мир-Джавад, как будто только он и ждал этого смеха. — Либо там, у Гимрии, явочная квартира, где он принимает своих агентов, очень высоко стоящих, либо там живет человек, спокойствием которого и безопасностью Гимрия дорожит, как собственным.
— Ты мне поможешь?
— Обязательно! — озабоченный тон Мир-Джавада говорил о серьезности положения. — Ты, очевидно, не отдаешь себе отчета, что прежде чем отправиться в свое последнее плавание, твой агент, я уверен в этом, все рассказал…
— Он ничего не знал!
— Для Гимрии достаточно и того, что ты его послал. — Мир-Джавад достал из бара бутылку коньяка. — Выпей, успокойся!.. Сказал тебе: «помогу!» — значит, помогу. Мои мальчики все, что хочешь, узнают. Вот только что?..
Васо выпил коньяк.
— Что «что»?
— Узнать что хочешь?
— Понимаешь, не верю я Гимрии, что Атабек организовал покушение на отца. Если бы это было правдой, Гимрия хоть одного из покушавшихся оставил бы в живых, а он прикончил всех, даже своих агентов. Тебе это о чем-нибудь говорит?
Мир-Джавад молчал. С одной стороны, его как никого другого устраивала версия о покушении на Вождя, где организатором выставили Атабека, но с другой… то, что Васо влез в святая святых Гимрии, сулит ему в ближайшем будущем внеочередной приступ белой горячки, который ему не пережить, а это, в свою очередь, лишает Мир-Джавада не только единственного друга.
— Слушай меня внимательно: ты больше ни во что не вмешиваешься! Я займусь этим делом. Помни, что твоя жизнь висит на волоске, и отец не поможет. Гимрия его боится, поэтому ты пока и живешь, но если прижмешь его своими расследованиями, то знай: загнанный в угол хищник свирепеет и становится бесстрашным… Хочешь совет?..
— Валяй! Засилие советов.
— Три дня не пей!
— Да ты что?.. Считаешь, так серьезно?
— А ты представь себе, что будет, если Солнце планеты узнает об участии Гимрии в этом фальшивом покушении?
— Так ты тоже считаешь, что оно было фальшивым?
— Э! Понять его можно, оправдать нельзя. Правда, опасности для Отца всех детей мира не было никакой, но действовать так нагло…
И в голосе Мир-Джавада зазвучали завистливые нотки…
Васо не выходил из дворца и велел убрать из его комнаты все запасы вина. Гаджу-сану сразу же доложили об этом. Он так этому удивился, что впервые в жизни сам пошел к сыну. Застав его читающим Монтеня, застыл, забыв зажечь погасшую трубку. Осмотрел всю комнату, не найдя даже пустой бутылки, обычно батареями стоявшими по углам, развел руками и сказал с особой нежностью в голосе:
— Ты поразил меня в самое сердце… Идем, я хочу с тобой посоветоваться…
В кабинете Гаджу-сан вспомнил наконец о трубке, зажег ее и с удовольствием закурил.
— Как ты думаешь: отдать Гурама или нет?
Васо не стал скрывать от отца, что он в курсе дела, и просто встал на защиту Мир-Джавада.
— А выбора нет: либо живет Гурам, тогда Мир-Джавад через месяц умрет от воспаления левого уха, или Мир-Джаваду отдай Гурама… Я мог бы тебе сказать, что Гурам хотел отравить меня по приказу Гимрии, но документального подтверждения пока нет, а ты ведь у нас «Отец справедливости»!
Гаджу-сан странно усмехнулся при этих словах, вспомнив библию: «и когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число»…
Увидав его усмешку, Васо побледнел.
«Один из них обречен! — подумал он. — Который?»
Гаджу-сан молчал… Затем подошел к лежащим на столе бумагам, привезенным Мир-Джавадом, и начертал на них широко: «утверждаю»… Затаив дыхание, Васо подошел к столу, но, увидав резолюцию, подпрыгнул от радости, завизжал и сделал то, что не делал уже с раннего детства: поцеловал отца.
А Мир-Джавад трудился: первым делом он вызвал в столицу своих самых опытных агентов, проверенных им не раз, на которых он мог положиться, как на самого себя. И вместе они стали разрабатывать план по спасению Васо. Против Гимрии Мир-Джавад ничего не имел, даже наоборот, чем-то друг другу симпатизировали. Но терять Васо Мир-Джавад тоже не хотел. Таких друзей тяжело терять. И не выгодно.
— С чего начнем? — задал риторический вопрос Мир-Джавад.
Эта тройка была лучшей из списка Атабека. Мир-Джавад все-таки заполучил в свои руки лучшего взломщика, его попросту выкрали в сопредельной стране, где он «гастролировал»; тайком, с грузом закупленной пшеницы, переправили на пароход и не спеша доставили в порт, где уже ждал самолет, посланный Мир-Джавадом. Взломщику предложили такие выгодные условия, а профессиональная гордость его была на такой высоте, что сейф Атабека, не поддавшийся ни одному опытному мастеру, из тех, кто стремился до сего момента на нем заработать, был открыт, за что взломщик получил свободу, миллион в твердой валюте и возможность относительно честно жить в качестве домовладельца и агента Мир-Джавада в преступном мире…
Старший из агентов, Хасан, высказал предположение:
— Очевидно, там пост! Наш коллега на этом и погорел.
— Скорее всего два поста: один в подъезде, другой в доме напротив! — заметил второй агент по кличке Киль, так как имени его никто уже не помнил, даже он сам, так много их у него было.
Третий агент, Сакс, все время молчал. Да он и был человеком действия: владел всеми видами борьбы, всеми видами оружия, мог залезть на любой этаж дома по стене, о цепкости пальцев и силе его рук ходили легенды.
— Значит, как я вас понял, первым делом необходимо ликвидировать посты? — спросил Мир-Джавад.
— Нейтрализовать! — заметил вежливо Киль.
— Ты считаешь, что они знают, к кому ходит Гимрия?
— Вряд ли, но если их проверяют по телефону, они живыми только смогут ответить, а проверяют их как пить дать…
Хасан очень любил поговорки, во всем брал пример с шефа, но путал пословицы безбожно.
— А пост в подъезде?
— Его ликвидируем! Они наверняка связаны рацией с первым постом, телефон в подъезде устанавливать не будут.
— В подъезде шесть этажей. Все потрясем?
— Зачем все? — улыбнулся Хасан. — Начнем с домовладельца. Я уже выяснил: он живет на первом этаже.
— Ты что, заходил в подъезд? — встревожился Мир-Джавад.
— За маленького принимаете? — обиделся Хасан. — В доме еще четыре подъезда, зашел в первый и узнал…
— У консьержки? — ехидно поинтересовался Мир-Джавад.
— Обижаете, шеф! — с развязностью любимого слуги процедил Хасан. — Все эти шлюхи на пенсии подрабатывают в инквизиции, а перекрывать рекорд в плавании на дальние дистанции я не стремлюсь. Клянусь отца!
— Клянусь отца, более сложного дела у нас не было! — вставил и Киль свою реплику.
— Достойный противник!
— Так тебе сразу домовладелец и откроет: к кому ходит Гимрия…
— Откроет! Методом исключения у нас остаются всего четыре квартиры…
— Почему четыре? Пять!
— Вряд ли Гимрия ездит к директору гастронома за черной икрой и копченостями.
Мир-Джавад с надеждой смотрел на эту далеко не святую троицу, дело было им затеяно нешуточное, и только эти люди могли ему принести успех или поражение, после которого смерть не заставит себя ждать.
План был продуман до мельчайших деталей. Хасан, одетый почтальоном, зашел в соседний подъезд, удавкой задушил консьержку, поднялся по лестнице на последний этаж и из окна подъезда стал наблюдать за домом напротив. По сверканию линз перископа он легко обнаружил на чердаке основной пост наблюдения.
Далее в игру вступили Сакс с Килем. Под видом слесарей-водопроводчиков они вошли в этот дом и осторожно подкрались к чердачной двери. Аккуратно просверлив ручным сверлом маленькую дырочку в двери, пустили усыпляющий газ. Через десять минут они одели кислородные маски и, отомкнув дверь чердака, вошли в помещение. Наблюдательный пункт был оборудован со всеми удобствами.
Сакс не удивился, увидев на столе гору выпивки и закуски, а в постели голую шлюху. Один из агентов спал с ней. Второй лежал на полу у перископа. Киль тщательно обыскав квартирку, обнаружил и третьего агента. Усыпляющий газ застал его лежащим в ванне.
— Слишком много воды набуравил! — подумал Киль, но вытаскивать труп из воды не стал, только проверил, действительно ли утонул.
Сакс тем временем связал двоих агентов и проститутку. Ее голое тело возбудило в нем желание, и он, недолго думая, тут же его удовлетворил. Когда «Киль» вернулся, он застал его еще в постели: Сакс отдыхал, положив голову в маске на грудь девчонки.
Киль проветрил квартиру и остался сторожить незадачливых агентов, предварительно приведя их в чувство, а Сакс отправился к Хасану. Вдвоем они шутя справились с охранниками второго поста. Те сами подошли к ним проверить документы. Это была их последняя проверка.
Спрятали трупы в подвале дома, благо замок был несложным. И отправились к домовладельцу.
Вся маленькая семья домовладельца была в сборе за обеденным столом. Когда перед ними, словно из-под земли, выросли двое в масках, все члены семьи застыли в самых нелепых позах: глава семьи лил из стакана вино на свой домашний костюм и не замечал этого, его сын остановил движение ломтя буженины у самого рта, челюсти не желали смыкаться, так он и смотрел — одним глазом на незваных гостей, а другим на ломоть, а отец домовладельца — одни мощи, застыл мраморным изваянием.
Хасан взял бережно из рук хозяина стакан и поставил его на стол:
— Пойдем, мудрейший, поговорим!
Но у домовладельца ноги стали ватными, а язык отнялся, ни встать, чтобы пойти, ни сказать о том, что не может этого сделать. Пришлось Саксу взять его, как кошка носит котенка, и отнести в соседнюю комнату. Хасан тем временем привязал остальных членов семьи к стульям, на которых те сидели, затем, вынув финку, коротко, но выразительно сказал: «тс-с!» — и провел тупой стороной клинка себе по горлу.
Мертвое молчание нарушалось лишь мелким дробным стуком челюстей сына домовладельца, у которого судорога челюстей сменилась их пляской. Хасан погрозил сыну кулаком, но пляска лишь усилилась. Хасан плюнул и пошел в соседнюю комнату допрашивать домовладельца.
Домовладелец сидел в кресле ни жив ни мертв.
— Дай ему хлебнуть из фляги, а то помрет не вовремя! — приказал Хасан Саксу.
Тот мгновенно достал из кармана флягу и прямо из горла плеснул хозяину в рот. И полумертвый, близкий к безумию домовладелец, как ни странно, хлебнув хороший глоток коньяка, вернулся к жизни, такое магическое действие, и мгновенно к тому же, оказало на него спиртное.
— Говорить можешь? — тихо спросил его Хасан.
— Могу! — прохрипел хозяин.
— Расскажи нам, только коротко, о своих жильцах: главное, кто к ним ходит, видел их, наверное, опиши внешность. Ну, поехали!
И Хасан включил переносной магнитофон. Домовладелец собрался с мыслями и начал:
— На шестом этаже…
Хасан его тут же перебил:
— О директоре гастронома можешь не рассказывать. О нем и о его жене мы знаем больше, чем достаточно.
— Как изволите! — покорно улыбнулся хозяин квартиры. — На пятом этаже живет известный издатель Гельд, у него патент на издание всех произведений Великого Гаджу-сана…
— О главном говори! — опять перебил его недовольно Хасан. — Кто на ком делает деньги или кто под кем, нас мало интересует. Связи — в первую очередь!
— Порочащих — никаких! К нему, кроме молоденьких девочек, никто не ходит. Эта квартира у него холостяцкая, приемы и банкеты он устраивает на своей вилле.
— Дальше!
— На четвертом этаже живет всем вам хорошо известный Маг.
— Неужели тот самый, знаменитый Маг? — удивился Хасан.
— Тот самый! Мы еще под стол пешком ходили, а он уже услаждал слух Отца земного шара. К старине Магу никто не ходит: женщины, потому что импотент, а мужчины, потому что скуп, рюмки не даст выпить, а слушать его воспоминания «насухую» далеко не каждый согласится.
— Дальше?
— На третьем этаже — Геор… Ну, этот вне всяких подозрений. Во-первых, он инвалид, наполовину парализован…
— На какую? — поинтересовался Хасан.
— На нижнюю… Он адвокат и один из лучших. Если к нему кто и ходит, так это ваши люди.
— Откуда тебе известно, что мы за люди? — неожиданно нарушил свое молчание Сакс.
— Боже мой, так все просто: таким образом проникают в квартиры лишь бандиты и инквизиция, простите за сравнение.
— Мы никакого отношения к инквизиции не имеем! — твердо заявил Хасан. — Воздержись от оскорблений.
— Извините, мне так показалось. Но все равно, адвокат вне всяких подозрений: вы даже не представляете, какое высокопоставленное лицо ездит к нему.
— Какое?
— Мне запрещено думать об этом!
— Я снимаю с тебя запрет только на молчание: можешь не думать, но говорить обязан, — и Хасан ласково похлопал хозяина по щеке.
— Но с меня за это снимут шкуру! — взмолился домовладелец.
Хасан достал и раскрыл, нажав на пружинку, нож, этот впечатлял лучше финки.
— Это еще бабушка на двоих сказала, а цыплят по восемь считают.
Хасан часто путал пословицы, тем не менее уверенно их применял, а тот, кто осмеливался смеяться над ним, хорошо смеялся в последний раз.
— Я так вас понимаю, что это далекая перспектива, а в настоящем это сделаете вы? — забормотал хозяин квартиры и дома.
— Умница!
— Я вам скажу, только вы поклянитесь меня не выдавать.
— За наш язык можешь не беспокоиться.
— Я тоже буду молчать.
— Только после того, как скажешь нам имя.
— Его высокопревосходительство Гимрия!
— И часто он здесь бывает?
— Два-три раза в неделю!.. Да, внизу его люди! — спохватился домовладелец.
— Их уже нет! — Хасан спрятал нож, увидев, что домовладелец побледнел от ужаса. — Твоя жизнь в безопасности, если будешь молчать и… поможешь нам, окажешь услугу: проводишь к Геору и скажешь несколько слов… Сигнализация у него есть?
— Какие-то люди приходили с проводами.
— Ладно, это наша забота. Сакс, займись этим!
— А что мне сказать своим?
— Лучше ничего не говори: молчание — золото, а слово — разменное серебро…
«Я говорю: поступайте по духу и вы не будете, исполнять вожделений плоти! ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом… Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. На таковых нет закона».
Но не мог домовладелец поступать по духу, когда страх плоти, ужас перед лицом смерти, что таилась под этими двумя масками, гнали его на третий этаж впереди этих страшных людей.
— Кто на втором этаже живет? — по пути спросил Хасан.
— Жильцы только что выехали, квартира второй день пустует, так что, если у вас есть хорошие кандидатуры, милости прошу…
— Наши кандидаты получают постоянную квартиру, — грубо пошутил Хасан.
Домовладелец съежился. У двери квартиры Геора Сакс сидел на корточках, словно брошенный огромный пес. На молчаливый вопрос Хасана спокойно кивнул головой, мол, все в порядке, линия связи ликвидирована. Домовладелец позвонил в дверь.
— Какого черта? — грубо спросил голос Геора из скрытого над дверью динамика.
Домовладелец залепетал подсказанные и отрепетированные слова:
— Прошу прощенья, сеньор адвокат, в вашей квартире протекает труба, вода заливает второй этаж, откройте, пожалуйста, мы отнимем у вас не более десяти минут.
Дверь распахнулась, и домовладелец вместе с агентами Мир-Джавада вошли в квартиру.
Хасан был ослеплен роскошью обстановки, но Сакс привычно скользнул за портьеру, отделяющую гостиную от кабинета, где слышалось недовольное покашливание. И вовремя. Через секунду выкатилось кресло-каталка, в котором важно восседал Геор. Увидев рядом с домовладельцем человека в маске, Геор мгновенно выхватил пистолет, но Сакс слегка ударил его по шее ребром ладони, и Геор обмяк, расплывшись в кресле, а пистолет выпал на пол. Сакс увез его обратно в кабинет, из которого он выехал. Хасан проводил хозяина обратно в его квартиру и там крепко связал, предупредив красноречивым жестом, рукой по горлу, чтобы не шевелился, а не то, в случае попытки вырваться, им всем перережут глотку. Затем позвонил от домовладельца на специально нанятую Мир-Джавадом квартиру, там его звонка уже ждали. Хасан произнес только одно слово; «зет!» И, повесив трубку, поднялся к Саксу.
Геор еще не приходил в сознание, и Сакс, связав его, пытался привести в чувство.
Хасану пришла внезапно на ум замечательная мысль:
— Подожди, подожди! Проверим! — Он подошел к Геору. — Открой ему рот!
Сакс без труда исполнил приказание. Хасан внимательно изучил челюсти Геора и нашел, что искал: один из протезов был на пружинке и при сильном нажатии языка открывался, выбрасывая крошечную ампулу с цианистым калием.
— Видишь? — довольно показал находку Саксу. — В любую секунду мог от нас ускользнуть.
В квартиру вошел Мир-Джавад, загримированный под старика: седой парик, седые усы и борода, глаза скрывали большие черные очки. Взглянул на агентов, и Хасан с Саксом вышли из квартиры. Хасан безмолвно передал по дороге ампулу Мир-Джаваду и ушел в квартиру хозяина, проведать, а Сакс остался караулить Мир-Джавада у входа в квартиру Геора.
Оставшись один, Мир-Джавад достал из маленькой металлической коробочки шприц с иголкой и пузырек со специальной жидкостью, состав дьявольский, лишающий мгновенно человека воли, вытянув шприцем из пузырька содержимое, вогнал его в руку Геора, затем вынул из кармана склянку с нашатырем, открыл ее и сунул под нос Геору.
Геор медленно открыл глаза и долго вглядывался в загримированную фигуру.
— Деньги во втором ящике письменного стола! — с трудом проговорил он, принимая, очевидно, Мир-Джавада за бандита.
— Мне от тебя нужно другое, а денег я сам могу тебе дать сколько хочешь, больше, чем Гимрия, — с насмешкой уязвил Геора Мир-Джавад.
— А! Вот оно что! — все сразу понял Геор. — Тогда я больше ничего не скажу.
И он сильно нажал языком на протез зуба. Но протез был уже пустой, а Мир-Джавад, заметив его попытку, это резкое движение, показал спокойно ему крошечную ампулу.
— Надеюсь, второй у тебя нет?
— Что вы хотите узнать? — глухо спросил Геор.
— Вот это уже мужской разговор! — обрадовался Мир-Джавад. — Во-первых, ты расскажешь все подробности мнимого покушения на Отца родного, а мы твой увлекательный рассказ запишем на магнитофоне, убедительная просьба, постарайся говорить медленно и четко, чтобы было понятным каждое слово. Договорились?
И Мир-Джавад включил магнитофон и отрегулировал его.
— Начинай! — нежно шепнул он Геору.
— Не будет этого! — устало и как-то обреченно произнес Геор. — Я не продаю и не предаю. Какая мне разница: не скажу — ты зарежешь, скажу — Гимрия, ему теперь терять-то будет нечего.
— Если ты думаешь, что мы тебя сразу зарежем, то ты жестоко ошибаешься. Здесь, за дверью, стоит ас, пыточных дел мастер. Это про него сочинили анекдот: ученые разошлись во мнении, чью они нашли мумию при раскопках, Рамзеса III или Рамзеса IV. Вызвали моего аса. Он заперся с мумией на полчаса, а затем вышел взмокший и сказал, что это — Рамзес III. А на вопрос: «как вам удалось определить?» — сухо ответил: «сам сознался!..» Так что не переоценивай своих сил, ведь у тебя парализована только нижняя половина тела…
— А где гарантия, что меня не убьют, как только я все расскажу?
— Что ты? Мы тебя будем охранять получше, чем Гимрия, ты единственный свидетель.
— Гимрии конец? — тупо спросил Геор, уже начало действовать лекарство, введенное Мир-Джавадом.
— К сожалению, да!
— Напрасно! Выгодней этим материалом держать его в руках. Неизвестно, кто может прийти на его место, хорошо, если друг, а если враг? На таком посту всегда приятней иметь своего человека. Что вам даст его смерть?.. Лучше всегда договориться.
— Слушай, дельно мыслишь, э! — удивился Мир-Джавад. — Голова у тебя хорошо работает, под действием снадобья, которое я тебе вкатил, люди могут вспоминать только прошлое.
Геор закрыл глаза и несколько секунд отдыхал. Мир-Джавад не мешал ему сосредоточиться.
— Я готов! — Геор посмотрел решительным взглядом на Мир-Джавада. — Включай магнитофон!..
Геор долго рассказывал о подробностях мнимого покушения на Гаджу-сана, не упуская ни одной детали и не скрывая своего авторства, даже хвастливо подчеркивая его.
Затем Мир-Джавад вызвал Сакса, и тот развязал Геора, предварительно обыскав кресло-коляску, нет ли еще оружия. Геор стал писать то, что только что наговорил на магнитофон, а Сакс стоял рядом и следил за каждым его движением. Мир-Джавад не беспокоился, что Сакс будет читать признания Геора, он знал, что Сакс абсолютно неграмотен, но Геор этого не знал и писал, закрывая бумагу своим телом, насколько, это ему удавалось.
Как только показания Геора оказались на руках у Мир-Джавада и он пробежал их взглядом, чтобы проверить, не упустил ли чего Геор, он кивнул Саксу и сказал:
— Мы вас, почтеннейший, спрячем надежней, чем стерегут короны империй. Наши сейфы не вскрыть.
Сакс выкатил кресло-каталку в подъезд. По сигналу появилась машина с бронированным кузовом. Сакс легко внес Геора вместе с креслом в машину. Из дома напротив вышел Киль, убрав свидетелей своего пребывания на чердаке, и присоединился к Мир-Джаваду с Хасаном.
Машина, развивая бешеную скорость, рванула в сторону аэродрома, где уже был готов к отлету самолет, и уже через два часа Геор был в надежном укрытии…
Киль улетел с Геором, а Мир-Джавад с Хасаном и Саксом вернулись в столицу. Предстояло выполнить самую трудную, потому что непредусмотренную, часть плана: довести до сведения Гимрии рассказанное Геором.
И Мир-Джавад поехал, взяв копию магнитофонной записи признаний Геора, к Гимрии.
Гимрия очень удивился визиту Мир-Джавада. Он стоял на голову выше Мир-Джавада по служебной лестнице, был вхож в святая святых. А в таких кругах было принято общаться только с равными по рангу. Поэтому Гимрия велел проводить незваного гостя в кабинет и заставил дожидаться минут тридцать.
Мир-Джавад не обижался, он сам поступал так же, это было одним из правил игры, а в ней места для обиды не оставалось. Обида — это ведь искреннее чувство, а там, где все было соткано из фальши и лицемерия, лжи и жестокости, она была просто лишней.
Гимрия важно вошел в кабинет.
— Что привело тебя в мою скромную обитель?
— Желание услужить, светлейший!
Гимрия более благожелательно посмотрел на Мир-Джавада.
— Это я подсказал Великому отцу твою кандидатуру, — без зазрения совести лгал он, как было принято в стране, где ложь и правда так перемешались, что разделить эту взвесь было уже невозможно. — Твое желание похвально… Изложи суть!
— Дорогой Гимрия! — начал торжественно Мир-Джавад, и Гимрия удивленно вскинул брови от такого наглого обращения. — Есть люди, которые не хотели бы, чтобы с Васо произошли неприятности: второй приступ белой горячки или пищевое отравление…
— А мне насрать на то, что вы хотите или не хотите! — перебил Гимрия Мир-Джавада. — Я тебя вознес не для того, чтобы ты мне мораль читал. Пошел отсюда. Чем я тебя породил, тем я тебя и убью.
Мир-Джавад, ни слова не говоря, встал и вышел, словно случайно, оставив на столе копию магнитофонной записи. Гимрия еще что-то кричал ему вслед, перемежая все обильным матом, но Мир-Джавад уже вел счет на минуты и поехал к Васо.
— Предлагаю тебе погостить у меня неделю, — заторопил он Васо. — Девочки Бабур-Гани по тебе соскучились.
— Через сколько дней едем?
— Через минуту!
Васо понял, что опасность грозит и ему тоже, а может, в первую очередь ему, оделся и вышел вместе с Мир-Джавадом, не взяв с собой даже зубной щетки.
В машине сидел один Хасан. Сакса не было. Сев в машину, Мир-Джавад недовольно спросил:
— Почему нет Сакса?
Хасан поморщился.
— Ликвидирует опасность!
Васо забился в угол машины и молчал, ощущая напряжение ситуации, а так как не мог ничем помочь, то и молчал.
Мир-Джавад, как он ни был взвинчен и ни стремился быстрей покинуть ставшую опасной столицу, взял себя в руки. Если Сакс, при своей разговорчивости, говорит, что существует опасность, значит, она действительно существует.
Ждать пришлось недолго, минут пять. Сакс внезапно появился в поле зрения, но шел он какой-то странной походкой, медленно и ежесекундно теряя равновесие.
— Пьян он, что ли? — подумал Мир-Джавад.
За несколько метров от машины Сакс выронил изо рта сигарету прямо в лужу, спокойно достал другую, похлопал себя по карманам в поисках спичек, шатаясь, подошел к машине, но, как только взялся за ручку дверцы, перестал играть комедию, мгновенно открыл дверцу и, прыгнув на сиденье, крикнул Хасану:
— Гони!
Машина помчалась по пустынной улице. Сакс обернулся и посмотрел через заднее стекло машины. Мир-Джавад и Васо последовали его примеру. За ними следовала черная машина-фургон. Но, как только она стала нагонять машину с беглецами, под ее днищем раздался сильный взрыв, и фургон закувыркался по улице, пока не врезался в металлический фонарный столб, да с такой силой, что согнул его пополам, а сам взорвался и заполыхал ярким костром.
Сакс удовлетворенно произнес:
— Асса!
Васо захлопал в ладоши, как на представлении.
— Эта машина после смерти моего агента всюду следовала за мной. Так ей и надо!
Мир-Джавад наклонился к Саксу, и тот, горячо дыша, зашептал ему на ухо:
— Одного из тех я сразу узнал, мой кровник. Разыграл пьяного, упал рядом с машиной, прилепил магнитную мину, время рассчитал точно.
Автомобиль въехал во двор какого-то дома и остановился. Все вышли из машины. Васо удивленно огляделся и спросил:
— Уже приехали?
Не отвечая, Мир-Джавад быстро пошел к другому выходу проходного двора. Все остальные последовали за ним. Выйдя на другую улицу, свернули за угол дома. Здесь их уже ждала другая машина, фургон, копия той, что догорала в это время у согнутого фонарного столба. За рулем сидел парнишка, очень похожий на Хасана, его младший брат.
Молодость не помешала ему развить такую скорость, что иногда казалось, что машина не едет, а летит.
— Мы не разобьемся? — озабоченно спросил Васо.
— Надо как можно быстрее покинуть столицу! — обронил друг.
— Клянусь отца! — завопил вдруг Васо. — Мы едем в противоположную от аэродрома сторону.
Мир-Джавад согласно кивнул.
— Почему? — не отставал Васо.
— Я не хочу, чтобы кто-то с моим самолетом поступил так же, как кто-то только что поступил с машиной, следовавшей за нами.
— Ну, и…
— Не дергайся, сиди спокойно! В ближайшем к югу городе тоже есть аэродром, и там нас уже ждут…
В первую же ночь после прибытия Мир-Джавада начальника инквизиции края зарезали в собственной постели, предварительно подвергнув изуверским пыткам. Сейф был вскрыт, и все секретные бумаги, среди которых Мир-Джавад с удивлением обнаружил толстое досье на себя, исчезли в сейфе, стоявшем в кабинете Мир-Джавада.
Ранним утром по правительственному телефону, исключавшему возможность подслушивания, позвонил Гимрия…
…Когда, наругавшись матом, он остался один в кабинете, то, правда, не сразу, заметил оставленную Мир-Джавадом магнитофонную пленку, оставленную «забывчивым» Мир-Джавадом, и довольно потер руки. Но, прослушав ее, он уже тер руки, чтобы согреть их, так как холод стал наступать от кончиков пальцев к сердцу, все выше и выше. Такого ужаса он не испытывал никогда.
Гимрия бросился в комнату охраны, где стоял пульт связи: Геор не отвечал, пункт охраны тоже, Гимрия срочно направил туда инквизиторов, но уже понимал и чувствовал, что проиграл. Слабая надежда вспыхнула было, когда поступило сообщение от машины слежения за Васо, что объект садится в машину вместе со своим другом. Агентам была дана строжайшая команда следовать за ними неотступно, при возможности попытаться захватить, сообщать о маршруте движения каждую минуту. Номер машины Мир-Джавада был передан на все посты столицы и всех дорог, на аэродроме приведена в боевую готовность команда штурмовиков.
Но все приготовления оказались тщетными. И машина слежения, и машина с беглецами исчезли. Через час доложили, что машина слежения взорвана и сгорела, а машина Мир-Джавада найдена в проходном дворе пустой, без пассажиров. Гимрия отдал приказ останавливать и обыскивать все машины, следующие из города, но время было уже упущено. Мир-Джавад переиграл всесильного Великого инквизитора…
Конечно, Мир-Джавад мог отдать пленку и документы, письменные показания Геора, Отцу нации, но предпочел рискнуть держать Гимрию в узде, зависимым и покладистым. Гимрия это сразу же понял и попытался отомстить.
«Какого черта я поперся на рожон? Значительно проще было послать запись почтой или через агента-посыльного, — подумал Мир-Джавад уже следующим же утром после зверского убийства начальника инквизиции края, как раз перед звонком Гимрии. — Но в этом случае был еще больший элемент риска: посылку могли вскрыть враги Гимрии, а следовательно, я становился автоматически соучастником покушения, со всеми вытекающими последствиями, а агента-посыльного Гимрия не принял бы, он и Мир-Джавада не очень-то хотел принимать, а я как-никак большой человек»…
Конечно, он рисковал своей шкурой, но уж очень ему хотелось приручить Гимрию. Далеко научился смотреть бывший недоучка. «Последний в классе — не последний в жизни!» И он это доказал. Высоко готовился взлететь Мир-Джавад. И Гимрия должен был стать основой, вернее, трамплином для этого взлета…
— Здравствуй, дорогой! — приветствовал Мир-Джавада Гимрия. — Может, приедешь? Поговорим!
— Что ты, светлейший друг! — нахально, как с равным, начал Мир-Джавад. — Ты, считай, лет сто у нас не был в гостях. Ждем!.. Встретим почти как Великого Отца свободы.
— Дела, милый! Как я их смогу оставить, что Вождю скажу?
— Здесь у тебя появилось важное дело, — усмехнулся Мир-Джавад. — Разве тебе еще не доложили?
— Нет!
— Мой любимый друг, начальник инквизиции края, достойно сменивший меня на этом тяжелом боевом посту, зарезан сегодня ночью в своей постели.
Гимрия только вечером, несколько часов всего-то и прошло, приказал своему ставленнику по телефону убрать всех троих: Мир-Джавада, Васо и Геора. Гимрия понял, что окончательно проиграл и что у него появился еще один хозяин.
— Хорошо, приеду! — глухо проговорил он. — У тебя есть подходящая кандидатура?
— Конечно, есть, дорогой! — и жестко добавил: — Кстати, привези бедному мальчику его живую игрушку.
— Его игрушка ходит уже с большим животом, не сегодня-завтра родит.
— Тем более привези, а то бедный мальчик тоскует и не смотрит на таких кошечек, при взгляде на которых у меня слюна идет. Привези, будь другом. Верни мальчика к жизни.
Когда Васо увидел перед собой Ою, свою мечту, обезображенную беременностью, в столь жалком, по его мнению, состоянии, он обиделся, как ребенок, у которого сломали любимую игрушку: вернуть вернули и в, то же время нет ее.
Васо отправил Ою в столицу, к матери ее, взяв предварительно с нее честное слово, что она не Сбежит, а будет жить и воспитывать ребенка на те деньги, что он уже оставил, и носить драгоценности, подаренные им… И в тот же день поехал к молоденьким шлюшкам Бабур-Гани.
А в кабинете Мир-Джавада Гимрия уже писал показания о подготовке мнимого покушения на Гаджу-сана…
Когда Васо сообщили, что у него родился сын, он вновь воспылал к Ое великой любовью, станцевал танец дикарей, собрался и тут же улетел в столицу, загрузив полсамолета цветами и подарками Мир-Джавада и его благодарной камарильи.
«Удивительно! — подумал Мир-Джавад. — У него не менее дюжины детей, которых он ни разу не видел и не имел никогда такого желания, а тут…»
«О чем думают люди в свой последний час?.. Наверное, о разном. — Ники задумался, сидя за письменным столом, перед ним лежали чистый лист бумаги, самопишущая ручка и именной пистолет, полученный за храбрость. — Я, например, со страхом вглядываюсь в даль, со страхом потому, что кроме ужаса, моря ужаса ничего не вижу, и в нем утопит мой народ этот фанатик, сумасшедший фанатик, которого мы выбрали на свою голову. Почему это произошло?.. Попробую разобраться. Ответ простой: мы выбрали Гаджу-сана только потому, чтобы не дать власти Арслан-хану, за его диктаторские замашки. Наивные идиоты. Долго думали, а избрали нового Тамерлана, который считает нас всех способными предавать своих друзей, молчать, когда их обвиняют в измене тому делу, за которое они проливали кровь, торговать своей совестью и революционным прошлым, заслуженным прошлым, в разврате утопить святость борьбы, за особый паек научиться закрывать глаза на дикость и невежество новых владык, согласиться стать негодяями и убийцами, поддерживать садистов, псов без жалости, чести и сострадания, примириться с такими преступлениями, что о них и подумать нельзя без содрогания… „Две собаки дерутся, кости третьей достаются“!.. Кто в детстве не слышал этой поговорки или пословицы… Я так и не научился разбираться в тонкостях фольклора. Учились мы мало. Борьба требует всего тебя без отдачи. Ни на что другое времени не остается… Настолько мы увлеклись борьбой с Арслан-ханом, что не обратили внимания, есть ли третья собака. А рядом оказался тигр, а не собака, лютый и грозный, который съел не только все спорные кости, но и противоборствующих собак… Странно, я всегда думал, что в последний момент своей „жизни человек вспоминает о чем-нибудь очень светлом и радостном, а я опять думаю об этих чернорубашечниках… Рыжие собаки! Рыжие собаки!.. Они страшны своей многочисленностью и спаянностью, умением беспрекословно выполнять любые приказы во имя собственной выгоды. У каждого времени свои аутодафе, свои темницы и орудия пыток. Как же умеют пытать у нас, если закаленные бойцы, выдержавшие пытки охранки Ренка, признаются в том, что они агенты семи иностранных государств, из которых пять не имеют собственной разведки… А мы хотели, мечтали перевернуть мир, создать нового человека не только разумным, но и добрым, человека, забывшего о желании убить, обидеть слабого, унизить, оскорбить себе подобного, да и любое живое существо, будь то зверь или птица, человека терпимого, понимающего, что другие люди не могут быть такими же, как он, а его точка зрения — не единственная и не обязательно верная, что из споров рождается истина, а не желание подчинить, снять, а то и уничтожить другого, несогласного, в чем-то несовместимого. По способности делать из друзей врагов нам нет равных в мире… Во множестве — единство, а в однообразии — смерть… Где это я слышал: „Фюрер мыслит за него“… Прекрасный поэт. Я плохо знаю поэзию… А что я хорошо знаю?.. Думал: людей и цель… И обманулся: и в людях, стал пособником людоеда, и в цели… Благими намерениями оказалась выстлана дорога в ад. Я и не только прошел всю дорогу, весь путь, но уже вошел в круг первый. Идти дальше его кругами не хочу, не намерен. Бороться поздно, раньше надо было, когда рядом были друзья, единомышленники, когда мы были силой. А теперь, когда большая часть уничтожена, а меньшая лижет руки вождю, получая паек, смешно. Изменить ничего не могу… Прощайте“»!..
Мир-Джавад после отъезда Васо заскучал. Подготовка к процессу над Гурамом и его шайкой, отнявшей столько сил и времени, застопорилась.
Сразу же после визита Гимрии позвонил Гаджу-сан и приказал неделю Гурама не трогать. Мир-Джавад перетрусил, срочно позвонил в столицу своему человеку, которому он регулярно переводил крупную сумму денег за информацию, одному из секретарей Гаджу-сана, позвонил домой, и тот его утешил: ожидался приезд высокого гостя, изучающего нашу страну из-за рубежа, и пугать его лишним показательным процессом было неполитично. Мир-Джавад успокоился, впрочем, о другой причине думать и то было страшно. Спокойнее считать опасность выставить страну в невыгодном свете. Покорно согласился Мир-Джавад, а что ему и оставалось еще делать, хотя удовольствия видеть каждый день Гурама он не испытывал, даже наоборот: мысль о том, что этот негодяй, растленный тип, изменник родины и народа все еще ходит на свободе, а не сидит в одиночке внутренней тюрьмы инквизиции, приводила его в бешенство. И есть стало опасно, пришлось Мир-Джаваду всю семью повара перевести жить во дворец и кормить тем же, что и сам он ел…
И вот, когда он был в таком несвойственном ему состоянии, к нему и подвалил с обманчивым предложением его помощник:
— Шеф, больно мне на вас смотреть, как вы переживаете разлуку с другом. Может, вас игра отвлечет от грустных мыслей?
— Какая игра? — Мир-Джавад сделал вид, что впервые слышит такое иностранное слово. — В бейсбол, что ли?
— В буру, в очко, в другие родные игры… Ставка по пять тысяч. Можно выиграть триста тысяч.
— А можно и проиграть! — засомневался Мир-Джавад и тут же подумал: — Старею, скупым становлюсь.
— Удовольствие стоит таких денег! — страстно, почти патетически воскликнул помощник, неисправимый игрок в карты.
Мир-Джавад пристально вгляделся в помощника, он даже не помнил точно его имени: «вроде дельный, — подумал, — но, наверное, вечно не хватает денег до получки, хотя взятки берет, но все, подлец, просаживает в карты».
Но тоска и страх настолько овладели им, что он уцепился и за такую ничтожную возможность развлечься, карт не любил и не понимал страсти к ним. Вот женщины — это другое дело.
— Хорошо, подготовь! — согласился Мир-Джавад.
Помощник исчез, а когда через пять минут появился вновь, по его довольным глазам было видно, что все устроено…
Мир-Джавад взял с собой чековую книжку, и они поехали в подпольный игорный дом, азартные игры были строжайше запрещены самим Гаджу-саном, которого в юности два шулера раздели до трусов.
Этого маленького лысого человечка Мир-Джавад помнил еще по работе в инквизиции, тогда этот хитрец, его зовут, кажется, Мамед, держал игорный дом низкого пошиба, но, очевидно, и среди банкомётов делают карьеру и достигают высокого положения. Этот достиг.
Маленькая, но шикарная вилла и близко не напоминала тот мрачный серый дом, подъезд которого насквозь пропах кошачьей мочой, да и пьяницы, завсегдатаи пивного ларька, расположенного неподалеку от дома, помогали кошкам гадить в подъезде…
Мамед платил дань самому Атабеку, поэтому и Мир-Джавад не беспокоил его, лишь однажды он встретился с ним: у Мамеда в игорном доме взяли шпиона, настоящего, а не из врагов народа, связной, встречавшийся со шпионом у Мамеда, продал его сразу же, как только его взяли с поличным. Вот тогда Мир-Джавад и попытался прижать Мамеда-хитреца, однако сверху последовал один прозрачный намек, и пришлось оставить Мамеда в покое.
Кому теперь платил банкомет, Мир-Джавад не знал, но не был бы особенно удивлен, если бы оказалось, что ему.
Изысканная обстановка виллы поразила наместника. В уютной гостиной на столе уже лежали запечатанные колоды карт, а рядом, на широком низеньком столике, стояли бутылки лучших вин и блюда с закусками, с самыми лучшими деликатесами. Огромное зеркало в золотой раме занимало почти всю стену гостиной, всю другую завешивали картины старых мастеров.
Полуголая красотка от Бабур-Гани, свеженькая и молоденькая, еще без печати разврата на лице, скромно сидела рядом, готовая услужить: налить вина, подать закуску, приготовить кофе или уединиться в соседней спальне, если наместник того пожелает…
Игра началась, и Мир-Джавад сразу стал выигрывать и выигрывать. Войдя в азарт, он стал увеличивать ставки все больше и больше. Почувствовав жажду, стал пить любимое вино Гаджу-сана, хотя предпочел бы коньяк, но на людях предпочитал оказывать предпочтение любимому вождю и учителю, знал, что донесут.
Каждый выигрыш Мир-Джавад «обмывал» бокалом вина. Два крупнейших миллионера в городе, партнеры Мир-Джавада, безмятежно проигрывали десятки тысяч наместнику, как будто выигрывали, с таким удовольствием. Помощник предложил:
— Светлейший! На столе неинтересно играть. Наша красотка сгорает от желания принять участие в игре, давайте предоставим ей такую возможность… Эй, девочка! Нам кажется, что на тебе слишком много одежды.
Девица мгновенно разделась, благо она и одета была чисто символически. Подойдя к столу, за которым велась игра, она остановилась в нерешительности, не зная, что дальше делать, ожидая дальнейших распоряжений.
— Ложись, ложись! — пригласил добродушно помощник Мир-Джавада.
Девчонка оглянулась в поисках какого-нибудь ложа, а помощник гнусно захохотал:
— Дура! Ты понимаешь команду «ложись» слишком шаблонно и тривиально. На стол ложись, а люди будут играть на твоем животе.
Красотка покорно улеглась на стол, ноги ее не уместились и свесились со стола, да и руки она не знала куда пристроить, сложила было их на груди, но помощнику не понравилось:
— Ты покойница, что ли? Не закрывай вид!
И бедная девочка отбросила испуганно руки за голову, но там они очень быстро затекли, и она страдала, боясь заплакать, пристально глядя в потолок, словно стремилась увидеть огненные слова.
Игра продолжалась. Мир-Джавад неожиданно проиграл довольно крупную сумму. Пить за проигрыш он не стал, но его почему-то стало раздражать огромное зеркало на стене. А так как он не привык себе отказывать в каком-либо удовольствии, то, прервав на время игру, вышел из-за стола поразмяться, подхватил с маленького столика бутылку с остатками вина, любимого Отцом вселенной, прямо из горлышка допил вино, а пустую бутылку, не долго думая, запустил в зеркало, да с такой силой, что зеркало разлетелось на куски, а в стене открылся проем в другую комнату, и в этом проеме был виден человек, стоящий за киноаппаратом.
Мир-Джавад быстро выхватил пистолет и, не глядя на застывших от ужаса присутствующих, выстрелил в потолок.
Через секунду в гостиную влетели вооруженные стражники. По знаку наместника они частью ринулись в другие комнаты, сгоняя всех, в том числе и кинооператора, на суд и расправу, а частью перекрыли все ходы и выходы, заняв оборону. Начальник охраны по рации затребовал помощь, и через несколько минут рота головорезов прочесывала все окрестные дома в поисках преступников.
Согнанные в гостиную хозяин виллы, Мамед-хитрец, с женой и пятнадцатилетней дочерью, как и все остальные присутствующие, цветом лица не отличались от белоснежного потолка, на котором малолетняя проститутка так и не прочитала огненных слов: мене, текел, фарес.
Мир-Джавад подошел к Мамеду. И задал ему лишь один вопрос:
— Гурам?
Мамед кивнул головой. И Мир-Джавад понял, что он был на краю пропасти: увидел бы Гаджу-сан, как его наместник обирает «бедных» миллионеров в очко, вспомнил бы свою юность, и погорел бы наместник «синим пламенем».
По знаку Мир-Джавада увели Мамеда и двух миллионеров. Кивок головы, и помощник был связан вместе с креслом, в которое обессиленно рухнул, как только медленно на его глазах рассыпалось на куски зеркало.
Мир-Джавад подошел к кинооператору.
— Сколько кассет успел снять?
— Две! — едва ответил пересохшими губами оператор.
— Пойди принеси, вместе с аппаратом, — и кивнул охране, чтобы сопровождали.
Как только оператор принес киноаппарат с кассетами, последовала новая команда:
— Засвети всю пленку!
Кинооператор с готовностью вытащил из аппарата пленку и бросил ее на ковер, так же он поступил и с пленкой из кассет.
— А что в этих коробках? — бдительно спросил Мир-Джавад.
— Чистая пленка. На всякий случай захватил, вдруг не хватит кассет.
— Достань!
Оператор повиновался, и на ковре выросла целая гора из засвеченной кинопленки.
Мир-Джавад похлопал его по плечу.
— Молодец! А теперь обмотай моего помощника всей пленкой.
Долго наматывал на помощника целые километры пленки белый от страха оператор. Мир-Джавад кивнул охране, и та стала помогать. Как только Мир-Джаваду надоело ждать, он приказал:
— Хватит! Остальное положите ему на голову.
И как только было исполнено, достал из кармана зажигалку и поджег пленку. Мгновенно вспыхнувший костер поглотил помощника, дикий его крик несколько секунд резал слух у присутствующих, превратившихся в подобие статуй. Как только крик помощника стих, Мир-Джавад дал знак, щелкнув пальцами, и охрана срочно потушила живой костер, тем более что пламя стало грозить перекинуться и на материальные ценности.
Мир-Джавад громко сказал:
— Жарить надо то, что чувствует, а труп какой смысл? Мы же не крематорий!
Дочь Мамеда, увидев обугленный труп помощника, рухнула в обморок. Мир-Джавад жестом велел вынести останки своего помощника и увести кинооператора. Затем, так же не говоря ни слова, жестом выслал охрану и остался вдвоем с женой Мамеда, так как дочь лежала без сознания и за собеседницу сойти не могла.
Мир-Джавад, глядя на дыру, черневшую в прожженном ковре, равнодушно сказал жене Мамеда:
— Жить хочешь?
Но та смотрела на лежавшую на столе проститутку и не могла вымолвить ни слова от шока.
Мир-Джавад тоже заметил лежащую девушку от Бабур-Гани.
— Эй, детка! Ты что, заснула? Разлеглась, понимаешь, я тебя за декоративное излишество посчитал уже. Убирайся!
Жрица любви с трудом слезла со стола, так затекло от неподвижности ее тело, и, как сомнамбула, замедленными движениями собрала свою так называемую одежду и, не одеваясь, вышла из гостиной.
Мир-Джавад подошел к жене Мамеда, но та не изменила своего взгляда, хотя девочки на столе уже не было. Тогда Мир-Джавад сильно ударил ее по щеке. Реакция на удар была мгновенной. Жена хитреца рухнула на колени перед наместником и завыла:
— Пощади! Пощади, светлейший!
Ее слезы не произвели ни малейшего впечатления на привыкшего к мольбам наместника.
— Ты можешь выкупить свою жизнь и жизнь своей дочери!
— Но у меня нет таких денег! — тихо произнесла женщина, пряча глаза.
— А мне деньги и не нужны! — усмехнулся Мир-Джавад. — Мамед скупал камни, скажи, где тайник, и я тебе оставлю виллу и все, что в ней находится.
— Я не знаю! — упрямилась жена Мамеда.
Мир-Джавад подошел к лежащей без чувств девочке.
— Она не красива, но я ее отдам в казарму, как и тебя, на соседней койке будешь слушать ее стоны и проклинать себя за жадность.
— Тайник в столе! -- сдалась сразу же любящая мать.
— В столе? — удивился Мир-Джавад. — Открой!
Женщина повернула ножку стола в одну сторону, затем другую ножку в противоположную, и столешница медленно раздвинулась, обнаруживая в своем чреве тайник, занятый золотым блюдом, полностью наполненным драгоценными камнями. Мир-Джавад достал сокровище, поставил его на ковер и долго им любовался. Оглянулся в поисках какого-нибудь покрывала или скатерти, не найдя, стянул с лежащей без сознания девочки платье и бережно закутал столь неожиданно доставшееся сокровище.
— Запомни! Будешь молчать, будете жить! А о муже забудь, считай себя вдовой.
И Мир-Джавад бережно понес драгоценную ношу из гостиной, чуть было не ставшей для него западней, но взамен одарившей желанным сокровищем.
Мир-Джавад по-умному распорядился полученным наследством Мамеда: большую часть отослал в подарок Гаджу-сану, самые красивые камни не пожалел, вместе с золотым блюдом.
И стал ждать решения.
К концу тягостно тянувшейся недели нервы его были напряжены настолько, что мимо его кабинета все ходили на цыпочках, а вызова к нему боялись, как смерти.
Пошла вторая неделя после звонка Великого Учителя, а разрешения на расправу с Гурамом не поступало. И Мир-Джавад томился в отвратительных предчувствиях, проклиная себя, что ввязался в авантюру с Гимрией. Гаджу-сан все же позвонил.
— Слушай, мальчик! Васо мне пожаловался, что Гурам хотел его отравить. Почему ты до сих пор не принял меры, чтобы обезвредить эту ядовитую змею. Гости уже три дня как уехали.
— Государь! Я дышу и действую лишь вашим словом.
— Действуй, мальчик, действуй!..
У Мир-Джавада были развязаны руки. И он устроил грандиозный спектакль, в центре которого был костер для сожжения гнусных еретиков во главе с Гурамом.
Все газеты затрубили о шайке гнусных перерожденцев — отравителей, убивших множество честных людей и готовивших неслыханное злодеяние:, отравление Отца всех планет, Великого Гаджу-сана и его верного слуги Мир-Джавада. За то, что поставил свое мелкое имя рядом с немеркнущим Солнцем планеты, Мир-Джавад получил нахлобучку от мерзкого Кагана, но выкрутился, все свалив на происки редактора газеты. Редактор уехал в срочную последнюю командировку на остров Бибирь.
Но за рубежом не поверили в историю с отравлением. И Мир-Джавад объявил, что процесс будет открытый, и пригласил на него приехать всех желающих, в полной уверенности, что таковых идиотов не найдется: никто не захочет рисковать, не зная, уедет ли обратно или нет. Многочисленные примеры из истории, когда и на пир приглашали, чтобы жить в вечной дружбе, в вечном мире, а поверивших беспощадно расстреливали, или закалывали, или в лучшем случае отравляли, все помнили и рисковать своей головой охотников не находилось, на что и надеялся Мир-Джавад.
Но один охотник рискнуть нашелся: известный писатель Фейт приехал, какая отвага и смелость, в страну, чьим смелым экспериментам ужасался мир. Этому стороннему наблюдателю предлагали, вместо того чтобы сидеть в душном, наполненном миазмами зале судебных заседаний, поездку по сказочным местам, оставшимся от эксплуататорского режима Ренка и пока еще не уничтоженным, случайно забытым.
Однако Фейт упрямо настаивал на своем.
Мир-Джавад был поставлен в глупое положение. Процесс вызвал международный резонанс. Пришлось устроить маленькое совещание с судьей, который должен был председательствовать на этом процессе, с прокурором, государственным обвинителем и с новым начальником инквизиции края.
— Где нас ждет прокол? — коротко поинтересовался Мир-Джавад.
— Гурам будет изобличать! — вздохнул начальник инквизиции.
— А он ведь много знает! — поддержал прокурор.
— Особенно про тебя! — злорадно уколол его судья.
— Если ты надеешься, что про тебя он знает меньше, ошибаешься! — злобно огрызнулся прокурор.
— Хватит грызться! — прекратил ссору Мир-Джавад. — Вы в одной лодке: будете драться, раскачивать лодку, — пойдете ко дну… Давайте обсудим все возможные варианты. Я буду вам их называть, а вы находите отрицательные стороны. Начинаю: болезнь, во-вторых — судить заочно…
— Только для внутреннего употребления! — откликнулся судья.
— Наркотики? — продолжил Мир-Джавад. — Несколько дней поколоть, привыкнут, а перед процессом пообещать укол за хорошее поведение.
— Времени уже нет! — подал голос начальник инквизиции. — Да и Гурама этим можем не сломать.
— Уколы перед процессом, отрубить сознание…
— Будут сидеть, как мумия, э! — вмешался судья. — На что это будет похоже?.. Они должны отвечать на мои вопросы, говорить последнее в своей жизни слово, каяться и бить себя в грудь.
— Ясно! — помрачнел Мир-Джавад. — Остается одно: спектакль!
— Какой спектакль, светлейший? — в один голос воскликнули все трое соучастников.
— Самый настоящий!.. Ты, Киндзо, — обратился Мир-Джавад к начальнику инквизиции, — соберешь изо всех лагерей подходящих актеров, похожих на Гурама и на тех, на которых никак нельзя положиться. И всех, кого мы опасаемся, мы заменим актерами. У тебя, Киндзо, сколько человек, готовых с нами сотрудничать?
— Да почти все! Только четверо под подозрением, и еще Гурам…
— Пытали?
— Даже Кожаная маска ничего не смог с ними сделать. Протоколы подписывают любые, но на суде, чувствую, как зверь, э, могут отказаться от своих показаний. Отрекутся, Иуды!
— С чего это ты взял? — не поверил прокурор. — Паникуешь!
— Подписал, значит, виновен! — поддержал прокурора судья. — Подпись свидетельствует о признании вины. А в нашем законодательстве доказательство своей невиновности лежит на самом подсудимом, равно как и доказательство своей вины перед судом…
— О чем ты талдычишь, ишак! — грубо прервал его Мир-Джавад. — Вы что, не понимаете, идиоты, зачем я вас здесь собрал?.. Приезжает Фейт с бандой вшивых демократов, их нужно провести за нос, втереть очки, а ты мне о законе… В стране закон один: Великий и непобедимый Отец земли святой Гаджу-сан… А я его наместник и пророк…
Трое, как китайские болванчики, закивали согласно.
— А поскольку Фейту с бандой втолковать это пока невозможно, они к нам добровольно еще не присоединились…
— Нет ничего невозможного, босс! — вырвалось у начальника инквизиции. — Простите, патрон, я — негодяй, ничтожество, клянусь отца, случайно вас перебил.
— Ты хорошо спишь по ночам? — улыбнулся Мир-Джавад. — Учти, твой предшественник спал еще крепче, даже один раз не проснулся совсем.
— Простите, умоляю, простите, патрон. Я — дерьмо, навоз великой истории. Не сердитесь на идиота!
— Если не понимаешь, спроси! — сменил гнев на милость Мир-Джавад. — Не знаешь — научим, не хочешь — заставим!.. Приказы не обсуждают, приказ Великого — закон. Это высокая политика, говорю тебе по секрету, называется: «режим с человеческим лицом».
Киндзо, обрадованный тем, что Мир-Джавад простил его, решил пошутить:
— А остальное может быть как у тигра? — и мерзко захихикал.
— Киндзо! Я держу тебя не как шута, — оборвал его Мир-Джавад.
— Все будет сделано, светлейший! Уверен, что даже родная мама признает в актере своего Гурамчика или Гулямчика, — отчеканил начальник инквизиции.
— Кстати о Гуляме. На след не вышли?
— Простите, шеф, пока нет! Трудно, это же настоящий бандит, а не враг народа.
— Ладно. Это другой разговор. Ты меня понял, это меня устраивает. Мелкоту держите под дозой, чтобы с испугу чего не ляпнула. Актерам обещайте свободу и большие деньги…
— И вы, светлейший, выполните обещанное? — удивился судья.
— Это вы будете обещать, а я наполовину исполню: деньги выплатят семьям, и ручаюсь, что это будет самый высокий гонорар, когда-либо выплаченный актеру за единственное представление.
— На что обратить главное внимание? — задал практический вопрос Киндзо.
— Как можно громче каяться в своих грехах и восхвалять Отца небес и всех планет Гаджу-сана. Пусть в загнивающих странах наконец-то поймут: насколько велик Светоч нации.
Мир-Джавад достал из кармана записную книжку, раскрыл ее и, найдя нужную страницу, прочитал: «Аве, Цезарь! Моритури те салютант»!.. Вы, конечно, поняли? Или нет?.. Перевести?..
Трое подручных обалдело смотрели, выпучив глаза, на Мир-Джавада, боясь признаться в собственной неполноценности.
Мир-Джавад снисходительно улыбнулся и спрятал книжку.
— Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!.. Красиво, э! Идите и действуйте! Как говорили наши предки, ходившие в коричневых рубашках: «Пер ас пера эд астра»!
— Это что-то про цветы? — обрадовался возможности выслужиться прокурор.
— Дура лошадь! «Через тернии к звездам»!
— А-а! — дружно выдохнули подчиненные, решив при первой же возможности выдвинуть шефа в академию наук.
А молва к его способностям летать, исчезать и появляться, к способности распылять любого на атомы или, в крайнем случае, превращать в пар, используемый для отопления теплиц, где выращивают авокадо, прибавила еще способность быть оракулом…
Премьера спектакля прошла на славу. Правда, актеров было почти столько же, сколько зрителей, а если считать, что и зрители тщательно репетировали свою роль в инквизиции, то по-настоящему считать зрителями можно было лишь Фейта со спутниками…
И с разными вариациями звучало в зале:
— Обвиняемый, признаете себя виновным?
— Не только признаю, но и требую себе самого строгого, сурового наказания: я — предатель, и нет мне прощения, нет мне пощады, Великий вождь доверил мне такой высокий пост, а я, мерзавец, скотина, негодяй пакостный, лишай и проказа на чистом теле самого светлого в мире общества, обманул доверие народа, доверие Лидера, продался сразу трем зарубежным разведкам: сингальской, эквадорской и палестинской и задумал чудовищное преступление, еще неслыханное в истории человечества, — отравить Вождя всех народов, Отца всего живого Гаджу-сана и его верного и преданнейшего слугу и раба Мир-Джавада… И нет мне спасения ни на земле, ни на небе!
Актеры, загримированные под Гурама и его несломленных друзей, так искренне каялись и били, в отчаянии от совершенного ими преступления, себя в грудь, так величали и возвеличивали Великого Вождя и Учителя, что Фейт со спутниками были потрясены достоверностью процесса, его гуманностью и терпимостью, а вернувшись домой, Фейт тут же написал книгу, в которой подтверждал законность и необходимость уничтожения таких неисправимых злодеев.
Преступников и актеров, их игравших, расстреляли в ту же ночь после приговора, в подвале инквизиции.
Актеров пригласили сфотографироваться «на память» с теми, кого они так блистательно играли. Актеры не посмели отказаться, хотя такое изуверство было им не по душе. Но вместо фотоаппарата на них глянуло дуло станкового пулемета, чьи пули изрешетили всех за несколько секунд.
Так закончился этот единственный в мире спектакль, величайшая трагедия, где актеры не дожили до второго представления…
Прекрасному Иосифу надоела его любовница. Она научила его всему, что знала сама, а школу у Бабур-Гани она не проходила.
Иосиф обратил внимание на молодых невест. Он выпросил у отца несколько комплектов черной формы инквизиторов с серебряными молниями на рукавах и отворотах, украл из кабинета Киндзо, начальника инквизиции, ордера на арест и обыск и стал развлекаться.
Его лазутчики узнавали, в каком дворе выдают замуж красивую девчонку, а в разгар свадьбы, перед тем как молодых отводят в спальню, в дом врывался Иосиф в сопровождении вооруженных лизоблюдов и устраивал обыск.
«Всем оставаться на своих местах!.. Кто хозяин?.. Ты? Ознакомься с ордером на обыск. Где оружие?.. Нет оружия?.. Все вы так поначалу говорите… Найдем, расстреляю на месте… Так! Что в этой комнате?.. Туда нельзя? Это тебе нельзя, а мне можно!»
И допрашивал невесту в спальне…
Мир-Джаваду докладывали о бесчинствах сына, но он только посмеивался: «пусть балуется! перебесится, хорошим семьянином будет». И снимал на год с родителей невесты и жениха налог, который все ему выплачивали.
Такая плата устраивала родителей, а бешенство жениха разбивалось о скалу страха, когда он узнавал, кто его опередил. Да и невесты не особенно сопротивлялись юному красавцу, браки-то заключали родители, о любви к жениху приходилось ли говорить, зачастую впервые и видели его лишь на свадьбе, и далеко не всегда выбор родителей устраивал невест.
Иосиф интуитивно выбирал жертвы из мещанских или купеческих кругов, а там все имело свою цену.
Лишь однажды Иосиф получил отпор со стороны родственников: братья жениха неожиданно окружили Иосифа, когда он направлялся в спальню к невесте, приставили кинжалы к груди, отняли пистолет.
Вот когда Иосиф впервые почувствовал, что такое страх. Но не струсил, а спокойно выполнил все требования напавших: приказал убраться прочь своим вооруженным разбойникам и дал клятву никогда больше не возвращаться и не мстить.
После этой неудачи Иосиф стал осмотрительней и нападал, если твердо знал, что будет некому дать отпор. Но и еще раз получил отпор там, где никак не ожидал: со стороны невесты.
Скромная девочка превратилась вдруг в фурию, схватившуюся за нож. Иосиф понял, что эта может запросто убить, и ретировался.
Но к неудачам относился философски и даже по-спортивному, будучи не злобным, а лишь испорченным до мозга костей, и никогда не пытался отомстить непокорным. К приключениям он и относился как к приключениям: легко и беззаботно, не думая о последствиях.
Гюли тревожилась, неспокойно было у нее на сердце: мальчик вырос, уже с матерью и не считается, как заставить его задуматься над жизнью, когда ему все так легко дается, когда все вокруг трепещет и гнется покорно, когда рабство вновь вступило в свои права.
Бабур-Гани стала подозревать своего молодого мужа в измене: Бабек часто стал исчезать из дому, но приходил рано, трезвый, не накурившись травки, не кольнувшись. Но больше всего не нравилось Бабур-Гани то, что все время он ходил какой-то окрыленный, а свет на его челе ясно говорил, что только телом он здесь, дома у Бабур-Гани, а душа его витает далеко отсюда, может, и не так далеко, но словно в раю.
Вызвав к себе главного евнуха, она не стала его посвящать в тонкости своих переживаний:
— Меня беспокоит состояние здоровья молодого хозяина, — начала она издалека и хитро, — мне кажется, что Бабек ходит в опиекурильню. Проследи за ним, только осторожно, чтобы он тебя не заметил.
— Слушаюсь, госпожа! — склонился перед нею слуга. — В случае, если это подтвердится, пускать его туда или нет?.
— Я тебе ясно сказала: ты должен лишь следить за молодым хозяином. Издали следи, чтобы он ни о чем не догадался… Да не болтай, не то я тебе и язык отрежу.
Слуга еще раз низко поклонился и выскользнул за дверь.
Как только Бабек выбежал из дома, куда-то торопясь, и заспешил вниз по улице, евнух последовал за ним. Следить ему было очень легко: Бабек шел, не оборачиваясь, и слуге не надо было нырять за встречное дерево, или угол дома, или створ ворот.
Дойдя до мечети, Бабек зашел во двор и исчез из виду. Евнух хотел войти следом, но затем решил, что незаметно ему это сделать не удастся, будет невозможно скрыться в толпе молящихся, а приказ хозяйки был ясен: не попадаться молодому хозяину на глаза.
И евнух уютно устроился в тени кустарника напротив ворот мечети. И прождал там часа три, пока Бабек вновь не появился на улице.
И так же, не обращая внимания на неотступно следовавшего за ним евнуха, он проследовал прямо домой, не заходя ни в опиекурильню, ни в другие злачные места, которых рядом с мечетью было великое множество…
Бабур-Гани искренне удивилась. Вновь и вновь она выспрашивала мельчайшие подробности у евнуха, пытаясь поймать его на лжи, но тревога не только не проходила, напротив, углублялась и крепла.
Несколько дней подряд евнух ходил тенью за Бабеком, но картина повторялась: из дома в мечеть, из мечети — домой…
Бабур-Гани поняла, что от евнуха ждать помощи нельзя. Интуиция ее никогда не обманывала, а в данном случае она не только говорила ей, кричала: «здесь что-то не так, проверь, из мечети приходят иногда умиротворенными, но такими просветленными и радостными не приходят даже муллемы, тем более что до недавнего времени Бабек ни разу не был в мечети, не читал Коран и не чтил адата»…
И вот, как только к ее девочкам приехал Киндзо, начальник инквизиции, Бабур-Гани бесцеремонно увела его к себе в кабинет, чем тот был явно недоволен, но, зная о дружбе Мир-Джавада с Бабур-Гани и об их взаимовыгодных интересах, стерпел.
— Друг ты мой хороший! — ворковала Бабур-Гани, наливая ему в серебряную чарку редкий коньяк, до которого тот был большой охотник. — Мне нужна твоя помощь!
— Если кого выпустить или посадить, необходимо разрешение светлейшего! — уклонялся Киндзо, выпивая тем не менее коньяк.
— Дурачок! — досадовала на тупость начальника инквизиции Бабур-Гани. — Не выпустить, а выследить, и не кого-нибудь, а моего законного мужа…
— Многоуважаемая, — обиделся Киндзо, — за такими пустяками достаточно обратиться в частное сыскное агентство.
— Я не хочу огласки! — упрямилась Бабур-Гани. — Дай мне пару классных агентов, я им заплачу.
— Заплатить ты можешь мне! — нахально заявил Киндзо.
— И тебе тоже, обязательно! — обрадовалась Бабур-Гани. — Но с завтрашнего утра они пусть глаз с него не спускают.
И Бабур-Гани так яростно сверкнула глазами, что начальнику инквизиции стало не по себе. Такое мерзкое чувство страха он испытывал только в кабинете светлейшего Мир-Джавада.
— Все сделаю, многоуважаемая! — поклялся Киндзо и тут же позвонил в инквизицию.
Бабек не мог знать агентов, и они не постеснялись войти в мечеть вслед за ним, но, заметив, что он скрылся в служебных помещениях, быстро вышли во двор и тщательно его обследовали.
У стены, противоположной входу, скрытой самой мечетью и потому невидимой, они обнаружили перевернутую бочку. Тогда один из агентов остался сторожить Бабека внутри двора мечети, а второй обошел ограду снаружи и обнаружил, что там, где стояла бочка с одной стороны ограды, со второй ее стороны росло высокое дерево, чья толстая ветвь касалась вплотную стены ограды, и по ней смело можно было как спуститься, так и подняться.
Вскоре Бабек вышел через служебную дверь мечети и, как птица, перепорхнул через ограду, было сразу видно, что он это проделывает не в первый раз.
Оба агента, разинув рты, по разным сторонам ограды смотрели на этот диковинный полет, что не помешало им проследить: куда направился Бабек, после того как приземлился.
А направился он в маленький домик на рабочей окраине, откуда был сам родом. И ждала его в этом домике одна юная особа, чья красота ошеломила агентов, причем настолько, что они на какое-то время забыли: зачем они сюда пожаловали и что должны делать.
Но, спохватившись, сделали несколько фотографий влюбленных, хотя они об этом не только не просили, но и возражали бы, узнай о такой бесцеремонности, того домика, где они встречаются, и стены мечети с той и другой стороны…
Бабур-Гани щедро наградила их, отвалив каждому по его годовой зарплате, и агенты поклялись, что сделают для нее все возможное и невозможное. Бабур-Гани велела им подождать, и они кайфовали, расположившись уютно в соседней комнате, где им накрыли роскошный стол.
А Бабур-Гани с понятной горечью рассматривала и не могла оторваться от одного снимка: Бабек и его девочка, ее звали Сол, агенты и это выяснили без труда, не отрывая глаз друг от друга, смотрели так, будто забыли обо всем на свете: что Бабек женат, что его жена одна из самых могущественных женщин на свете, что…
Много было «что», и все они остались вне этого взгляда, которым два человека сливаются в одно целое.
И Бабур-Гани понимала, что никакие силы земные и небесные не помогут ей вернуть любимого, обожаемого мужа. Но понимать одно, делать — другое.
И она позвала агентов, пригревшихся в ее особняке. Сытые и в меру пьяные, они выглядели такими счастливыми, что неожиданно Бабур-Гани почувствовала к ним такую лютую ненависть и злобу и подумала, что охотно превратила бы их в своих евнухов, сладостно представив их физиономии после небольшой операции.
— Ее можно тайно похитить? — спросила она спокойно, настолько спокойно, что несколько озадачила агентов.
— Тайно сложно, одна она не бывает. Шум будет! — охотно объяснил старший агент.
— Может быть, ее запиской выманить? — предложил второй.
— Ага! — презрительно отозвался старший. — А записку ты ей напишешь? Ты «мама» правильно не можешь написать.
— Записки никакой не будет! — прервала их спор Бабур-Гани. — Хотите еще столько же заработать, — думайте!
Агенты приуныли. Хотелось, очень хотелось заработать такие большие деньги, но без шума они работать не привыкли, арестовывали всегда торжественно, почти что священнодействуя, в расчете на общественный резонанс. И из известных им вариантов не проходил ни один.
Наконец, Старший агент додумался:
— На рынок она обязательно ходит по утрам. Устроим большую облаву, задержим всех, отправим женщин в одну тюрьму, мужчин в другую, потом всех выпустим. Если одна девочка при этом исчезнет, никто не обратит внимания. А мы будем отрицать даже ее задержание…
И утром следующего же дня инквизиция замела всех на четырех рынках города, несколько тысяч человек. Среди такого множества взбудораженных страхом людей исчезновение практически беззащитной девочки, брат ее был отправлен с мужчинами и скоро выпущен на свободу, прошло незамеченным, Сол в тюрьму не отправляли, а увезли прямо в дом Бабур-Гани.
И сразу же Бабур-Гани позвонила Мир-Джаваду и с необычным для нее возбуждением стала ему предлагать:
— Светлейший! Не пора ли твоему красавцу Иосифу приобщиться к моим лучшим клиентам. Я такую девочку для него приготовила, закачаешься. Даже тебе, дорогой, я бы ее не подложила. Пришли мальчика: ему семнадцать, ей — пятнадцать, договорятся.
Мир-Джавада неприятно резануло слово «клиент», но он нашел предложение подходящим и сделанным вовремя.
— Действительно, пора сыну заканчивать опасные для жизни похождения, дешевле будет, во-первых, а то как бы кто не зарезал.
Бабур-Гани, затаив дыхание, ожидала решения старого друга. Ей обязательно нужно было повязать его в этом деле.
— Хорошо! — разрешил ее сомнения Мир-Джавад. — Готовь девочку! Через два часа сын будет у тебя.
Бабек, как всегда, отправился на свидание, но не застал своей возлюбленной дома. Брата ее тоже не было, и Бабек вернулся домой в тревоге и унынии, день без Сол был для него потерянным днем. Он и не подозревал, что его любимая находится совсем рядом, в том же доме, запертая в одной из комнат.
Ее сюда привезли из полиции, и мрачная женщина в полицейской форме сухо ей сказала, что завтра она предстанет перед судом по обвинению в продаже наркотиков и проституции.
Бедной Сол казалось, что она спит и видит чудовищный сон. Но тут же она убеждалась, что это всего лишь явь.
Ей приносили изысканные яства и напитки, но Сол не обращала на них внимания, хотя любой более опытный человек сразу же понял бы, что обвиняемым такая еда не подается. Но Сол не притрагивалась к еде не по этой причине и не потому, что знала: в еду подмешаны лекарства, вызывающие сонливость, вялость, покорность, просто ни пить, ни есть она не могла. Какое-то оцепенение на нее напало. Кошмар какой-то: наркотики, проституция, суд…
Бабек только заснул, как его грубо разбудили, и пока он соображал, сонный, что такое стряслось, скрутили ему руки и повели голого по коридору, затем ввели в темную комнату, где привязали крепко к креслу и оставили одного.
Но в одиночестве он был недолго. Вскоре он услышал знакомый до отвращения голос жены:
— Влюбился, муженек?
Бабек молчал.
— Не желаешь отвечать! — продолжила, не обращая внимания на упрямое молчание, Бабур-Гани. — А впрочем, что тебе отвечать? Я и так все знаю, как ты понял… Ты, наверное, думаешь: вот, связали меня, бедного, мучить будут, пытать, бить. Смешно… Дурачок, тебя связали для твоей же пользы, беситься будешь, а руки-ноги связаны, ни себе, ни другим никакого вреда не сделаешь. А девочка твоя — красавица. Ты, я знаю, целый день места себе не находил, волновался: где это моя козочка, куда это улетела моя пташечка, моя ласточка. А твоя газель сидела в нашем с тобой доме, мой милый, совсем рядом с тобой…
Смеясь, Бабур-Гани подошла к Бабеку и, сбросив с себя халат, села к нему на колени и ласково прижалась.
— Глупый, неужели ты мог хоть на минуту представить, что я откажусь от тебя и уступлю другой? Сознайся, ты уже сделал ее женщиной?
— Нет! — хрипло выдохнул, задохнувшись от высказанного кощунства, Бабек. — Отпусти ее! Клянусь, я никогда ее больше не увижу…
— Правда! — перебила его Бабур-Гани. — Ты никогда больше ее не увидишь! То, что я сейчас тебе покажу, отучит тебя навсегда даже смотреть на девочек…
И Бабур-Гани, не сходя с колен мужа, дотянулась, соблазнительно изгибаясь, до выключателя и щелкнула тумблером.
Перед Бабеком матово засветилась стена, скрытая портьерой, оказалось, что это и не стена вовсе, а огромное стекло. Оно открывало прекрасный вид в большую комнату, устланную во весь пол огромным пушистым ковром, и, кроме ковра, в ней ничего не было. А стекло, разделявшее две комнаты, с другой стороны служило зеркалом, так что находившиеся в большой комнате даже и не подозревали, что за ними могут наблюдать, оставаясь сами невидимыми.
Эту комнату Бабур-Гани часто сдавала немощным старичкам, занимавшим высокое положение в обществе или обладавшим огромным капиталом, и старцы, пуская слюни, смотрели, как в кино, на чужие голые тела, сливающиеся в любовной игре, и глаза их туманились от приятных воспоминаний.
Бабур-Гани легко спорхнула с колен мужа. И подошла к стене, полуприкрытой портьерой.
— Так ты даже ее тела не видел, глупыш, — засмеялась она. — Ничего, я тебя так люблю, что доставлю тебе и это наслаждение.
И она раскрыла полностью портьеру.
И в ту же секунду, что было простым совпадением, Бабек увидел, как в пустой комнате открылась дверь и вошла обнаженная Сол…
Когда она, измученная ожиданием и тревогой, наконец-то заснула, ее тут же разбудил старший евнух.
— Суд ждет тебя! — пропищал он и повел Сол коридором мимо бесчисленных дверей.
У одной из них Сол ждала высокая грузная мужеподобная женщина в полицейской форме. Она взяла Сол за руку и ввела ее в просторную комнату с душевыми кабинками и бассейном.
— Прими душ, а то от тебя за версту разит тюрьмой! — грубым, злым голосом приказала она.
Ошеломленная столь открытой ненавистью, Сол беспрекословно подчинилась. Когда она сбросила с себя всю одежду, у женщины исказилось лицо, судорога желания прошла по нему волной, и она, собрав быстро одежду Сол, вышла из душевой, так же зло бормоча себе что-то под нос.
Сол быстро выкупалась и, мокрая, стала искать полотенце, чтобы вытереть тело, но полотенца не было. Зато рядом с кабинками она обнаружила работающий огромный фен, под которым можно было встать. Сол в этом потоке горячего воздуха высушилась за минуту.
Как только она вышла из-под фена, вошла опять грубая и злая женщина, открыла ключом другую дверь.
— Чистая одежда в этой комнате!
Втолкнула Сол в большую комнату и закрыла за ней на ключ дверь.
Сол вздрогнула.
В другом конце комнаты открылась дверь, и вошел голый юноша. Это был Иосиф.
Сол рванулась обратно, но дверь была заперта и не поддалась. Иосиф медленно приближался. Сол впервые в жизни видела голого мужчину, смутилась и покраснела, но сразу же мертвенная бледность сменила румянец смущения. Она поняла, какой суд ее ждет, и решила защищаться.
Как только Иосиф приблизился, Сол сделала обманное движение и рванулась мимо Иосифа к другой двери, но и она оказалась заперта. А Иосиф вновь медленно приближался, не сводя с нее горящих огромных глаз. Он был не менее красив, чем Бабек, но ничего более страшного в своей жизни Сол не видела.
Сол опять обманула Иосифа ложным выпадом и умчалась в другой конец комнаты.
Началась игра в охоту для Иосифа и кружение смерти для Сол. Иосиф, словно нехотя, ходил за ней, не делая даже попытки схватить ее, а Сол металась из угла в угол, вкладывая в отчаянный рывок все свои силы.
Когда Иосиф заметил, что достаточно ее утомил, то тигром ринулся на Сол, ударом ноги свалил ее на ковер и, схватив за руки, чтобы не царапалась, придавил всей тяжестью своего тела к ковру.
Сол билась, как бьется птица, пойманная в клетку, как зверек, попавшийся в капкан, но силы ее, подорванные волнением, голодом и переживаниями минувшего дня, иссякли, от усталости и ужаса она потеряла сознание и… Иосиф овладел ею…
Когда Бабек увидел обнаженную любимую, он покраснел, как мальчик, впервые увидевший голую женщину, и был ослеплен ее красотой. Но, когда он догадался, что ждет бедную девочку из-за его любви к ней, из-за их любви, холодный пот залил его лицо, и Бабек стал умолять жену пощадить Сол, обещая быть всю жизнь верным и послушным, заклинал всеми богами и тем дорогим, что у нее когда-либо было в душе.
Но Бабур-Гани молчала, ее окаменевшее лицо ни в малейшей степени не отражало те чувства, что бушевали у нее в груди, и только глаза, следившие за Сол, выдавали радость победы над соперницей.
Глаз ее Бабек не видел. Он старался не смотреть на изуверскую сцену охоты на его самое дорогое существо, но некая могущественная сила, которой он не мог противостоять, забавляла его неотрывно следить за происходящим. И, когда Сол потеряла сознание и перестала сопротивляться, Бабек также потерял сознание и бессильно повис на ремнях в кресле.
Бабур-Гани не заметила этого. Она с наслаждением смотрела, как Иосиф обладает Сол, как он ее целует и ласкает, и неожиданно подумала, что понимает теперь, почему платят такие большие деньги слюнявые маразматики и дряхлые старички, и любители острых ощущений. Бабур-Гани испытывала чувство, словно это она обладала и Сол и Иосифом одновременно, это чувство было настолько сильным, что она, достигнув оргазма, опустилась на ковер, перестав ощущать свое тело, таким легким, неощутимым оно стало.
Только тогда она оглянулась на мужа, чтобы поиздеваться над ним, сказать какую-нибудь гадость, но, заметив, что Бабек без сознания, подползла к нему и положила голову ему на колени.
— Любимый мой! — тихо и нежно произнесла она, глядя на его полумертвое лицо. — Это — шоковая терапия, она отучит тебя теперь даже думать о том, что на свете существуют другие женщины, кроме меня…
Бабур-Гани с трудом поднялась на дрожащих, почти ватных ногах, ласково поцеловала Бабека в закрытые глаза и позвала слуг.
Двое евнухов, явившихся на зов мгновенно, словно из-под земли, отвязали Бабека и отнесли его в спальню Бабур-Гани. Он не приходил в сознание до утра, что не помешало его жене искусственно возбуждать его и наслаждаться им.
Также и Иосифа не останавливало то, что Сол была без сознания.
Каста великих эгоистов всегда со временем становится бандой подлецов…
«Мы знаем Того, Кто сказал: „у Меня отмщение, Я вздам, говорит Господь“. И еще: „Господь будет судить народ Свой“. Страшно попасть в руки бога живого! Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий».
Мир-Джавад влюбился. Пылко, страстно. Никогда еще он не чувствовал себя таким молодым, словно сбросил одним движением двадцать прожитых лет.
А влюбился он в дочь своей жены, в свою официальную дочь. Когда-то он обещал ее выдать за своего сына Иосифа, своего первенца, которого он любил, в отличие от других своих детей, которых никогда не видел в жизни и не имел даже желания их увидеть, а желания свои он ставил очень высоко, сразу же после желаний Великого Гаджу-сана…
Маленькая Нигяр поначалу у него не вызывала, кроме раздражения, ничего, а имя ее, как только Мир-Джавад слышал, напоминало об одном из гнусных его преступлений, о котором он охотно бы забыл.
Но, как только Нигяр исполнилось четырнадцать лет, взгляд Мир-Джавада все чаще стал останавливаться на ее теле, и желание стало будоражить и терзать воображение.
Лейла не скрывала от дочери, кто ее отец, поэтому для нее не было тайной, что Мир-Джавад всего лишь только муж матери. Но она с детства испытывала трепет и уважение перед ним, вернее, перед той огромной властью, которой он был наделен. Она видела, как все трепещут перед Мир-Джавадом, лебезят и льстят, и преклоняются перед ним. Отблеск власти падал и на нее. А женщины всегда ценят красоту, успех и деньги.
Мир-Джавад сошел с ума. Он открыто засыпал Нигяр драгоценностями и нарядами, старался использовать каждую возможность, чтобы увидеть, как она переодевается, а когда она купалась, старался зайти в ванную, помочь ей помыться. Но из ванной Нигяр, смущаясь, его всегда прогоняла. И он покорно уходил.
Власть над взрослым мужчиной, да к тому же обладающим неограниченными возможностями, льстила самолюбию подростка, и ее тянуло к запретному больше и больше.
А Лейла ничего не замечала. После смерти отца и деда Нигяр она стала «колоться». Мир-Джавад не обращал на нее никакого внимания, словно ее и на свете-то не было, но через подставных лиц регулярно снабжал ее наркотиками из своей подпольной лаборатории, которая обеспечивала столь выгодным товаром почти всю страну. И Лейла находилась беспрерывно под кайфом, не обращая внимание, что вокруг нее происходит, чем и пользовался Мир-Джавад.
И вот однажды, в то время как Нигяр мылась в ванной, Мир-Джавад осторожно, чтобы никто не заметил, пробрался к ней в спальню и, открыв окна, выстудил комнату, а затем, зайдя в соседнюю комнату, стал ожидать Нигяр, не зажигая свет и оставив маленькую щелочку в прикрытой двери.
Дождался, когда Нигяр в халатике на голое тело прошлепала в спальню, и, выждав несколько секунд, на большее терпения не хватило, вошел в спальню Нигяр. Она уже лежала в постели и дрожала от холода.
— Почему так холодно у тебя в спальне? — спросил заботливо Мир-Джавад. — Я накажу твою горничную.
— Не з-знаю! — дрожа, проговорила девочка, высунув на секунду нос из-под одеяла и тут же нырнув туда снова.
— Я согрею тебя! — сказал Мир-Джавад и, погасив ночник, сбросил халат и голым забрался к Нигяр под одеяло.
Прикосновение горячего мужского тела парализовало девочку, а когда Мир-Джавад обнял ее и, словно случайно, положил ее руку на свою восставшую крайнюю плоть, острое, впервые испытываемое в жизни желание настолько сильно пронзило ее тело, что она испытала оргазм, и это новое чувство так поразило ее, что она чуть не потеряла сознание, а когда Мир-Джавад стал ласкать ее тело, целовать губы, шею, грудь, живот, Нигяр перестала что-либо соображать, все разрешала с собой делать, и только, когда волна боли затопила ее тело, она вскрикнула, но идущая следом волна, горячая и сладостная, смыла боль и наполнила таким блаженством, что вызвала стон удовлетворения.
Им стало так жарко, что Мир-Джавад сбросил одеяло на пол, покрытый ковром. Благодарный любовник покрыл все тело Нигяр поцелуями, а ощутив на губах солоноватый вкус ее крови, не стал вытирать, поцеловал Нигяр в губы, и она тоже узнала вкус своей крови, своей девственности.
С этого дня Мир-Джавад стал неофициальным мужем, но верным и любящим, своей официальной дочери. Но когда он вспоминал о своих планах выдать Нигяр замуж за сына, он ужасался одной этой мысли, что действительно такое могло произойти, и начинал ненавидеть и сына.
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы — видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся“».
Когда Бабек очнулся и пришел в себя, был уже полдень. Долго лежал неподвижно, глядя в потолок, надеясь, что все страшное ему лишь приснилось, а на самом деле ничего и не было.
Но вновь ясно всплыли подробности минувшей ночи, и Бабек встал с постели, умылся, побрился, одел чистую рубашку, новый костюм, чистые носки, выполняя все движения, как автомат, не осознавая того, что он делает. Затем принес из библиотеки приставную лестницу, достал из кармана нож, с которым он и появился в этом доме, отрезал от гардины длинный шелковый шнур, забрался по приставной лестнице к потолку, крепко привязал шнур к крюку, на котором раньше, когда не было еще электричества, висела карбидная лампа, на другом конце шнура сделал быстро петлю, надел ее себе на шею и, резко оттолкнувшись, повис в петле…
Бабур-Гани, хоть почти и не спала ночь, с утра была уже на ногах, бодрая и веселая, никто бы не сказал, что она всю ночь глаз не сомкнула и развлекалась.
Первым делом Бабур-Гани зашла в большую комнату, где ночью оставила «молодых», и увидела картину, умилившую ее: Сол с Иосифом крепко спали, нежно прижимаясь друг к другу в попытке согреться.
Бабур-Гани быстро принесла легкий теплый плед и укрыла им прекрасные юные тела, как палача, так и жертвы. Но Иосиф лишь тесней прижал к себе Сол.
Постояла еще возле них, поумилялась Бабур-Гани, но тут она вспомнила о муже: «надо бедненького разбудить, покормить чем-нибудь очень вкусным, орехи в меду, например, он их очень любит, в джезве сварить кофе по-турецки, пусть восстанавливает силы, сердце еще молодое, глупое… а на обед копченую индейку и бастурму… родненький мой, надо же такое перенести: когда кто-то тебя опережает, а в таком деле особенно, всегда обидно бывает»…
Бабур-Гани зашла на кухню, где в большую пиалу положила каленый фундук, залила его липовым медом, поставила джезву с кофе в раскаленный песок, дождалась, когда пена перевернется, вылила кофе в старинную чашку С голубыми мечами и на подносе понесла своему возлюбленному мужу вкусный завтрак.
Перед дверью спальни задержалась, прислушалась.
«Спит, чертенок, испереживался!»
Ногой толкнула дверь, громко крикнув:
— А ну, вставай, лежебока!
И в ту же секунду поднос выскользнул из ее рук, а сама она бессильно опустилась на пол, прислонившись к притолоке двери.
Грохот подноса и звон разбившейся посуды словно послужил ей сигналом, и она, глядя на качающееся в петле тело Бабека, страшно завыла, как волчица, потерявшая волчат.
И этот звериный вой разбудил даже Сол с Иосифом, а все многочисленное население дома бросилось наверх, в спальню, откуда он доносился.
Увидев повесившегося Бабека, все в первый момент оцепенели, затем старший евнух, подвинув приставную лестницу к трупу, поднялся на несколько ступенек и перерезал шнур, а двое других евнухов подхватили уже начавшее деревенеть тело и положили его бережно на кровать.
Бабур-Гани подползла к телу мужа и, продолжая выть, вцепилась в него мертвой хваткой, стала трясти его, словно пытаясь воскресить, стряхнуть с него смерть.
Бабек уже почти застыл, и глаза его невозможно было уже закрыть. Он смотрел с такой болью и осуждением, что Бабур-Гани, ухватившись руками за его голову и встретившись случайно с ним взглядом, истошно завопила: «прости!» — и стала рвать на себе волосы и царапать лицо.
Двое евнухов привычно схватили ее за руки, она забилась в их руках, и вдруг белая пена показалась на ее губах, она стала задыхаться, и старший евнух лезвием ножа разжал ей зубы и влил ей в рот несколько капель лекарства, которое постоянно носил в кармане. Бабур-Гани обмякла, и лишь тело ее изредка дергалось в конвульсиях…
Сол, поначалу в страхе отшатнувшаяся от Иосифа, услышав безумный человеческий и в то же время нечеловеческий вой, испуганно к нему прижалась и быстро зашептала:
— Увези меня отсюда, умоляю тебя, мне страшно, мне так страшно здесь оставаться.
Иосиф, растроганный ее доверчивостью и беспомощностью, стал успокаивать Сол, ласкать, а от ласк распалился страстью сам, попытался вновь овладеть ею, но у Сол сил после сна прибавилось, и она не далась ему.
— Увези меня отсюда, и я стану твоей! — шептала Сол, и Иосиф, потеряв от страсти голову, согласился.
— Одевайся, поедем! — заторопил он Сол.
— Я не знаю, где моя одежда! — пожаловалась она, со страхом вслушиваясь в продолжавшийся вой.
— А, черт! — выругался Иосиф. — Ладно, поделим мою на двоих!
Бабур-Гани, укрыв их пледом, не заперла дверь на ключ, торопилась к мужу. Иосиф, взяв свою одежду в соседней комнате, где разделся, заметил еще одну открытую дверь и, заглянув в комнату, увидел роскошное женское платье. Недолго думая, он украл его и, несколько удивленный, что не встретил ни единой живой души, притащил платье Сол. Та быстро оделась, обуви, правда, не было, да и платье было слишком велико, но Сол выбирать было не из чего.
И любовники спокойно ушли из дома, так никого и не встретив до двери. У входа, уже на улице, они встретили двух мужчин, пьяных, несмотря на день, один из которых, увидев Сол, крикнул другу:
— Смотри, у Бабур-Гани новая пташка! Райская! Запишусь! Обязательно запишусь!
Иосиф усадил Сол в свою машину и спросил:
— Поедем к тебе или ко мне?
— Поедем ко мне!
— Говори адрес!
— Я покажу дорогу!
Сол назвала район, где она жила, но улицу не указала. С умыслом. Остановив машину у первого же проходного двора, который она знала, Сол вышла из машины и сказала:
— Посиди в машине! Пойду посмотрю, есть ли кто дома?
Иосиф подозрительно посмотрел на нее.
— А в какой квартире ты живешь?
— На втором этаже! — охотно ответила Сол и скрылась в проходном дворе.
Иосиф после почти бессонной ночи плохо соображал и не пошел за ней следом, остался в машине и задремал. Единственное, о чем он подумал, это о том, что даже имени ее он не успел узнать.
Сол вихрем пронеслась несколько улиц, оставшихся до ее дома. Когда она вбежала во двор, то увидела всю свою родню: отца, мать, братьев и сестер. Она бросилась к ним, чтобы наконец-то выплакаться, но отец остановил ее, выставив руку. Сол замерла, увидев ненависть в глазах отца, чьей любимицей она всегда была.
А отец смотрел не на нее, вернее, на нее, но видел он только дорогое платье и кровоподтек, рдевший на шее дочери, память страсти Иосифа.
— Шлюха! — коротко сказал он ей и влепил такую сильную затрещину, что Сол отлетела к стене дома и так сильно стукнулась головой, что потеряла сознание.
Мать бросилась было к ней, но отец зарычал на нее:
— Стой! Никому к ней не подходить! Я вырвал ее из своего сердца! Она нам больше никто! Пусть возвращается туда, где ей дарят дорогие наряды и бриллиантовую брошь.
Он сразу заметил то, что не могла заметить, да и не заметила впопыхах Сол. И твердой походкой уверенного в своей правоте человека он направился в дом, жестом позвав всех за собой.
После их ухода Сол вскоре пришла в себя. От удара у нее носом пошла кровь. Отчаяние охватило ее до такой степени, что она вдруг ощутила, как в голове у нее лопнул будто бы стеклянный шар, и тысячи острых осколков пронзили ей мозг.
Сол, стирая кровь, льющуюся из носа, машинально написала на гладкой штукатурке стены имя, впервые услышанное ею всего полчаса, не более, назад: «Бабур-Гани»…
И направилась к сараю, где хранился, как она прекрасно знала, бидон с керосином…
Это было удивительное зрелище: девчонка, юная, цветущая, в дорогом вечернем платье с бриллиантовой брошью на груди, босая несла бидон с керосином, и было в ее лице нечто, что заставляло всех встречных уступать ей дорогу и, оглядываясь, долго смотреть ей вслед. Было в ее красоте что-то завораживающее и необычное, что остается в памяти после встречи на всю жизнь.
Уже в центре города, неподалеку от дворца наместника, Сол вспомнила, что забыла взять спички, и беспомощно оглянулась. И тут ей навстречу из дома для высокопоставленных лиц вышел молодой мужчина, едва держащийся на ногах, настолько он был пьян, хотя солнце еще и не собиралось садиться за горизонт. Он остановился в двух шагах от Сол, перед ней, и, вытащив из кармана сигареты со спичками, пытался закурить, но пальцы его не слушались: спички либо ломались, либо вылетали из его рук.
Сол подошла к нему:
— Дайте мне, пожалуйста, спички!
Мужчина несколько секунд молча ее рассматривал, затем противно захихикал и едва ворочающимся языком пролепетал:
— Только за поцелуй! Или за вот эту симпатичную брошку! — и, покачнувшись, чуть было не упал на Сол.
Сол быстро, словно опасаясь, что мужчина передумает, стала снимать брошку с платья, но, чтобы расстегнуть ее, нужно было нажать на пружинку, Сол этого не знала и, провозившись несколько секунд, рванула брошку с силой, да так, что вырвала ее с клоком платья. Вручив брошь мужчине, ошеломленному увиденной в прорехе платья прекрасной грудью, Сол выхватила из его руки спички и быстро удалилась.
Мужчина тупо посмотрел на брошь:
— Удивительно! Точно такую я подарил Мими всего месяц назад… И платье такое же… Может, это — Мими?..
Мужчина резко повернулся на месте, решив догнать и внимательно рассмотреть Сол, но не удержал равновесия и шлепнулся на тротуар. Сил подняться у него уже не осталось. Он лежал, смотрел на удалявшуюся Сол и шептал:
— Нет, это не Мими!.. Мими — рыжая, и она умрет, но не станет ходить босиком… Нет, это не Мими!..
Сол встала напротив дворца наместника, где был разбит большой цветник, прямо в клумбу ярких гвоздик. Спокойно, как будто это все делал кто-то другой, а не она, Сол открыла канистру с керосином, с трудом подняла ее и вылила керосин на себя. Услышав испуганный крик часового возле дворца, торопливо зажгла спичку.
И живой факел, почти невидимый в ярких лучах солнца, заполыхал перед дворцом…
«И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь; И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; И небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»
Отец Сол, отринув ее от себя, а членов семьи от Сол, ходил из комнаты в комнату, почернев от гнева и горя, серебряные нити засверкали в его иссиня-черной шевелюре.
Мать и другие дети сидели на стульях и, как загипнотизированные, следили за главой семейства, боясь вымолвить хоть слово.
Наконец, не выдержав больше молчания, младший брат, тот, который всегда оберегал ее и в облаву попал месте с ней, закричал:
— Я умоляю, отец, давай выслушаем Сол. Я не верю, что она стала продажной!
Отец стремительно бросился к нему с такой яростью, что все присутствовавшие подумали, что он изобьет младшего сына.
— Ты надеешься, — закричал он, вцепившись в его рубаху, — что бриллиантовую брошь и дорогое платье она заслужила, вымыв пол в полицейском участке или изготовив обед начальнику полиции?.. Я должен работать, как ишак, всю жизнь, не есть, не пить, не одеваться, не иметь семьи, и то, наверное, не смогу купить такую дорогую вещь, а она приобрела все, отсутствуя дома один день и одну ночь, и ты… А если она скажет, что все это ей подарила добрая фея, ты ей поверишь?
— Я поверю всему, что она скажет, — заявил мальчик твердо. — Сол не может лгать. Прежде чем судить, нужно выслушать человека. Любого человека. Завтра тебе скажут, что я агент полиции, только потому, что я тоже отсутствовал сутки, и ты…
— Если придешь домой с пачкой денег в кармане, — перебил его отец, — подумаю! — но сказал уже неуверенно, тихо.
— Так думай что хочешь, но выслушай прежде Сол, дочь она тебе или нет, и кто тогда ты, если мы такие плохие?
Отец замахнулся рукой на сына, но, встретив твердый и гневный взгляд мальчика, отвернулся и отошел в сторону.
— Позовите эту!.. — сказал он презрительно и запнулся, но сыновья наперегонки бросились звать Сол.
Но она уже шла своей последней дорогой к мученическому костру…
Никто из семьи не заметил надписи на стене, да если бы и заметил, не обратил бы внимания, мало ли надписей замазывают каждый год.
Но, когда страшная весть о самосожжении докатилась до их ушей, каждый понял, что это могла быть только Сол. Предположение перешло в уверенность, потому что обнаружили пропажу керосина.
Отец со старшим братом поехали в больницу, куда увезли Сол, а младший рухнул у стены, на месте, куда упала сестра от удара отца, и заплакал. Сквозь слезы он и увидел надпись на стене, узнал почерк Сол и понял, что надпись сделана кровью…
А Иосиф, проснувшись, пошел искать Сол и развеселился, когда понял, что его провели за нос, двор-то оказался проходной, а имени девушки он не знает. И поехал домой, решив на следующий день вновь навестить Бабур-Гани и выписать себе эту славную юную особу.
Весть о самосожжении девушки у дворца отца он воспринял с удивлением: «фанатики! ну, что им всем неймется, чем им так власть не нравится?.. „И жизнь хороша, и жить хорошо“»!
Васо впервые в жизни увидел своего ребенка. Ни разу у него не возникало в прошлом такого желания посмотреть на кого-либо из своих многочисленных детей, может быть, потому что терял интерес к матерям. Когда он увидел Ою на последнем месяце беременности, он и к ней потерял интерес, вновь загулял.
Но через несколько месяцев его вновь потянуло к Ое, да так сильно, что он поехал по очень хорошо знакомому адресу.
Васо зашел в комнату Ои в то время, когда она кормила младенца грудью. Солнце било в окно яркими лучами, и над ее головой сиял нимб.
— Мадонна! — вырвалось у ошеломленного видением Васо, и необычайная нежность затопила его сердце.
Он стоял и смотрел, прислонившись к косяку двери, не в силах оторвать глаз от молодой матери, а Оя не сводила глаз с сына, умиротворенно улыбаясь…
Васо стал ездить к Ое каждый день. Жизнь ему открылась с совершенно неожиданной стороны: он и не подозревал раньше, что можно получать удовольствие от общения с беспомощным существом, так доверчиво тебе улыбающимся, да к тому же столь похожим на тебя лицом.
Васо воспрянул духом и телом и перестал пить.
Гаджу-сану регулярно докладывали о каждом шаге сына, о всех изменениях в его поведении, и он, посасывая трубку, прикидывал: «не женить ли Васо на этой женщине? мне кажется, она единственная, кто не потакает человеческим слабостям сына и благоприятно воздействует на него».
Но он ждал, когда Васо первым заговорит с ним о женитьбе.
А к Васо уже не раз приходила такая мысль, но он еще не переменился настолько, чтобы им можно было целиком овладеть даже мысли…
Тем вечером Васо задержался допоздна у Ои, обычно он вечером уезжал домой, любил спать в своей спальне и один.
А теперь он лежал рядом с ней, смотрел на нее, преисполненный несвойственной ему ранее благодарностью, и думал.
И домой не торопился.
— Ты станешь моей женой? — спросил он неуверенно.
Оя удивленно посмотрела на Васо: ничего общего с тем пьяницей, с тем деспотом, так грубо ворвавшимся в ее жизнь.
— Как я могу сказать «нет»! — когда у нас сын? — тихо ответила она. — Будь я одна, подумала бы прежде…
Васо рассмеялся радостно и поцеловал ее.
— Я сегодня же поговорю с отцом. Он уже отчаялся меня женить…
И бросился одеваться.
Когда Васо выходил из дома Ои, он столкнулся с девушкой, закутанной в легкое покрывало, да так, что были видны лишь одни глаза. Встретившись с ними взглядом, Васо вздрогнул, такой огонь ненависти горел в их глубине.
Васо посмотрел ей вслед и пробормотал:
— Первый раз вижу в столице столь ревностную поклонницу адата.
Садясь в машину и по дороге ко дворцу он мучительно вспоминал: где же он мог видеть эти глаза?
И вспомнил только у дворца.
Васо вдруг страшно закричал шоферу:
— Поворачивай! Гони назад!
Шофер побледнел от страха и так резко крутанул баранку, что машину занесло, и они чуть было не перевернулись. Шофер включил сирену, и машина помчалась по улицам, распугивая все и вся, а редкие прохожие и встречные водители цепенели на месте от ужаса, как бы их неосторожные движения не сочли за бунт…
На одном дыхании Васо взлетел на третий этаж, где жила Оя, и застыл, пораженный открывшейся перед ним картиной: на полу, возле детской кроватки, в луже крови лежала Оя, зажимая руками ножевую рану в боку, а в кроватке из-под подушки виднелось посиневшее личико мертвого ребенка.
Васо почувствовал, что теряет силы и сейчас упадет, ноу услышав стон Ои, заставил себя превозмочь слабость и подойти к ней.
Оя что-то шептала, не раскрывая глаз. Васо прислушался, но не мог ничего понять.
— Что ты хочешь сказать? Говори, я здесь!
Оя широко раскрыла глаза и внятно произнесла:
— Это была женщина из твоего прошлого. Твоя жертва стала фурией!
И, вздохнув, умерла.
А Васо сразу же вспомнил, чей горящий ненавистью взгляд он увидел, выходя из дома Ои…
«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судья стоит у дверей».
Гаджу-сан достал из сейфа личные списки своих самых проверенных кадров и сел за стол поработать: умер наместник одной из провинций, и необходимо было срочно найти ему замену.
Великий любовно погладил рукой списки. У всех правителей в прошлом и в настоящем были и есть свои списки, и в будущем наверняка будут, но такие были лишь у него. Каждый мечтал попасть в этот список, но Вождь всех народов только собственноручно вносил в этот список кандидатуры, правда, рекомендовать в этот список соискателей мог любой из ближайшей камарильи, но Гаджу-сан по своим каналам проверял предложенные имена, узнавал о них всю подноготную, долго следил за каждым предполагаемым кандидатом, за кругом его знакомств, изучал привычки, слабости, достоинства.
Но уж если кандидат попадал в этот заветный список, то вычеркивали его только в одном случае: в случае смерти. И далеко не всегда это была смерть по старости, чаще умирали в своей постели, но не своей смертью. Порой одного слова было достаточно, чтобы провинившемуся во время обеда торжественно наливали целебного вина, от которого не было противоядия.
Гаджу-сан вдруг вспомнил молодые годы, когда он был один в составе высшей политкомиссии, где враждовали две группировки: Каса и Цакана. Гаджу-сан давал уверения в своей преданности и той, и другой группировке, а на самом деле исподтишка стравливал их между собой, вредил им.
А потом пришла эта супергениальная идея. Как и все гениальное, она была проста. Гаджу-сан даже удивился, что она никому никогда не приходила в голову: составив свой первый список верных приверженцев, он стал тихой сапой продвигать их на посты наместников провинций, причем каждый из его людей давал две клятвы, одну — Гаджу-сану, другую — Касу, или Цакану, но ложную.
Поэтому, когда Гаджу-сан, после смерти отравленного им тайно Каса, предложил расширить число членов высшей политкомиссии за счет наместников провинций, обе группировки с удовольствием проголосовали «за», не догадываясь, что голосуют за собственную смерть.
Гаджу-сан радостно засмеялся, тихо и светло, вспомнив выражение их лиц, когда на первом же съезде новое большинство проголосовало за предоставление ему диктаторских полномочий…
Вновь принявшись за работу, Гаджу-сан долго и внимательно рассматривал списки, затем выписал три фамилии. Этим трем предстояла вновь проверка, жесткая и дотошная, где выворачивают человека наизнанку, но иногда забывают вновь вывернуть обратно налицо.
Гаджу-сан прочитал наизусть:
— Ибо алкал я, и вы дали мне есть…
В кабинет заглянул испуганный секретарь. Заметив выражение его глаз, Гаджу-сан нахмурился: опять какие-то неприятности. И подумал: «не поменять ли мне его»?.. Но признался себе, что с другими может быть еще хуже.
При всем этом неприятности случаются с другими, а не с ним. А как знать?..
— Ваше величество! — стараясь быть спокойным, обратился секретарь. — У Васо несчастье: жену с ребенком убили…
Гаджу-сан, пытаясь скрыть тревогу и растерянность, встал из-за стола и стал ходить по кабинету и ворчать:
— Почему я один не знал, что Васо женился? Для чего я всем вам плачу жалованье?
В его устах такая фраза звучала как приговор, и секретарь, кляня себя за оплошность, упал в ноги Великому:
— Ваше величество! — взмолился он. — Простите за оговорку: не жену, а невесту с его ребенком.
— Если она невеста, то какой может быть ребенок, а если с ребенком, то какая она невеста? Во времена моей молодости невесты с ребенком быть не могло.
Секретарь покорно лепетал:
— Виноват, виноват!
Но Гаджу-сан думал уже о другом:
«Почему я не взял их во дворец, были бы живы. Крепко кому-то насолил Васо, если так страшно мстят».
Тут он опять обратил внимание на стоящего на коленях секретаря.
— Что брюки протираешь, жалованье все равно не повышу. Иди, зови Гимрию.
У секретаря действительно была маленькая зарплата, но он так умело использовал свое положение, что был одним из самых богатых людей страны, почему и готов был ползать, чтобы сохранить свое исключительно выгодное положение.
Когда явился Гимрия, Гаджу-сан и на него накинулся:
— Слушай, Гимрия! Ты почему допускаешь, чтобы убивали членов моей семьи? Или ты ждешь, когда убийца доберется и до меня? Последнее время замечаю у тебя страх на лице. Честному человеку нечего меня бояться. Ты честный человек, Гимрия?
— Я честно вам служу! — едва произнес ошеломленный словами вождя Гимрия, ожидая ареста. — Неужели Мир-Джавад продал? — подумал он. — Нет, этот свою выгоду будет блюсти, иначе зачем голову подставлял, мог и потерять. С моей помощью хочет стать престолонаследником, Васо теперь долго не протянет, сломался, уже не соперник.
— Ты видел Васо? — спросил Гаджу-сан.
— Видел, повелитель! — струсил Гимрия за свои крамольные мысли. — Но говорить с ним бесполезно…
— Пьян? — вздохнул жалостливо Гаджу-сан.
— В стельку! А шофер говорит, что Васо видел убийцу, но понял это только возле дворца.
— Хорошо, что поздно. Пойми он это раньше, одним трупом было бы больше.
— Вы, как всегда, правы, мой государь!
— Бедный Васо! Пожалуйста, что значит судьба, только начал человек исправляться и… Мне, пожалуй, надо объявить его своим наследником. Как ты думаешь, Гимрия?
— Так жё, как и вы, государь, по-другому не приучен! — льстиво проворковал Гимрия, сгибаясь пополам.
— Позови его, надо вдохнуть в него веру!..
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден; потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе; и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших: ибо, если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Я свет принес в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не понимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день».
Мир-Джавад ждал с нетерпением конца заседания, посвященного празднованию годовщины Великого переворота. Он слушал одну нудную правоверную речь за другой, а видел перед собой прелестный облик Нигяр и томился желанием, а потому каждого из выступающих считал в данную минуту чуть ли не своим кровным врагом.
Можно было понять то наслаждение, когда он наконец-то смог поехать домой.
— Жена дома? — волнуясь, спросил Мир-Джавад у встретившей его горничной, едва он вошел в переднюю.
— Она ушла, милорд! — кокетливо улыбаясь, ответила хорошенькая девочка, давно уже стремившаяся попасть в постель к своему пожилому хозяину. — Правда, я сама не видела, а слышала, мадам мне крикнула, я в то время вытирала пыль в гостиной: «Аля! Я уехала к портному!» — А затем хлопнула дверь!
— А где Нигяр? — обрадовался Мир-Джавад.
— В своей комнате. Ей нездоровится! — нахмурилась горничная, понимая, что ее догадки о связи хозяина с его дочерью справедливы, а ее шансы очутиться в достели шефа-наместника и пощипать его немного, так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь, равны нулю.
Мир-Джавад бросил ей на руки легкий плащ, затем горничная сняла с него туфли, надела мягкие сафьяновые чувяки, и Мир-Джавад зашел в ванную, принял быстро душ и заторопился к своей ненаглядной.
— Догадайся, моя радость, что я тебе принес в подарок? — спросил Мир-Джавад, сияя, словно начищенный медный горшок.
Нигяр хмуро посмотрела на него и ничего не ответила.
— Почему моя маленькая молчит?.. Головка болит? — заюлил Мир-Джавад. — Я тебе сейчас вызову самого умного академика-дохтура, пусть лечит, а не вылечит тебе головку, я у него свою отрежу, ему все равно не нужна…
Нигяр засмеялась и тут же зарыдала. Мир-Джавад обнял ее, прижал к себе:
— Любовь моя, поделись со мной своим горем, какие заботы тебя одолели, ты же знаешь, я для тебя все сделаю, все, что в моих силах, а могу я многое… Не рискую я только спорить с природой: достать луну с неба или звезды… И причинить недовольство Великому Гаджу-сану.
— Вот видишь: спорить с природой ты не в силах, а меня тошнит, и все сроки прошли! — заплакала еще сильней Нигяр.
Мир-Джавад покрыл ее всю поцелуями:
— Ненаглядная моя! Большей радости я в своей жизни не знал! Твои слова меня больше обрадовали, чем когда меня наградил Вождь мира и назначил своим наместником… Но почему ты плачешь? Ты даешь жизнь новому человеку. Это же плод нашей любви…
— Стыд-то какой! — всхлипнула Нигяр.
— Какой стыд? — заволновался Мир-Джавад. — Выдадим тебя замуж, фиктивно, конечно, все будет «тип-топ»!.. А ты не вздумай избавляться от ребенка! Страшись! Тебе я ничего не сделаю, но всех остальных, пусть хоть только посоветовал врача, собственноручно изрежу на куски, причем резать буду медленно и тупым ножом.
Нигяр передернулась от брезгливости. Мир-Джавад заметил это и осыпал ее поцелуями и ласками, одновременно раздевая догола. Прижавшись лицом к ее нежному животу, где зрела новая жизнь, хотя внешне и не было ничего заметно, он замер, испытывая столь глубокое счастье, что на секунду захотелось умереть, чтобы новые чувства не смыли блаженства.
Мгновенно разделся Мир-Джавад и взял Нигяр на руки, и вместе с ней опустился на пушистый ковер перед большим зеркалом, и овладел ею, забыв про все на свете.
Дверь тихонько отворилась, и в комнату Нигяр вошла Лейла с фотоаппаратом в руках. Любовники не заметили чужого присутствия, и только тогда, когда вспышки одна за другой осветили комнату, они испуганно оглянулись и замерли, глядя испуганно на жену и мать, фотографирующую их в самой интимной обстановке.
Лейла с наслаждением смотрела на их растерянные лица и щелкала, щелкала затвором, а камера автоматически переводила пленку.
Мир-Джавад первым пришел в себя и стал подбираться для прыжка. Но Лейла только что «кольнулась», чувствовала себя превосходно, она сразу же заметила его намерение и, захохотав безумным смехом, выбежала из комнаты.
Мир-Джавад бросился за ней.
Это была столь комичная картина, когда по длинному коридору, разделявшему два дворцовых крыла, бежала одетая женщина с фотоаппаратом в руках, а за нею бежал голый возбужденный мужчина, словно фавн гнался за нимфой, что Бог, если он видел, а он все видит, до слез смеялся бы, глядя на такую нелепую ситуацию, столь выдуманную сцену.
Лейла скрылась в своей комнате и закрылась на ключ. Мир-Джавад стал ломиться в дверь. Лейла, а их разделяла только дверь, закричала ему насмешливо:
— Напрасно стараешься, дверь выдержит любую осаду и не таких мужчин, как ты.
— Открой, дура! — громко зашептал Мир-Джавад, не рискуя кричать. — Я тебе дам за пленку килограмм героина.
Лейла злорадно рассмеялась:
— Ни за какие сокровища не отдам пленку, пошлю Учителю народов, пусть полюбуется, как его любимый ученик насилует собственную дочь.
— Мерзавка! — завопил яростно Мир-Джавад. — Ты прекрасно знаешь, что это только твоя дочь, и прекрасно знаешь, кто ее отец…
— Конечно, знаю! — забавлялась Лейла. — Но Великий Гаджу-сан этого не знает, если и знает, то для всего мира ты — отец Нигяр, и Сосун снимет тебе голову или кастрирует и продаст в Африку.
Мир-Джавад тихо отошел от двери, на цыпочках подкрался к людской и, отворив осторожно дверь, заглянул туда. Два мальчика-посыльных резались в буру.
— Пс-с-с! — позвал их Мир-Джавад.
Увидав голого наместника, мальчики застыли истуканами. А когда он поманил их к себе, вообще смертельно побледнели и задрожали от ужаса. Такими дрожащими они и приблизились к господину.
— Чего дрожите? — презрительно шепнул им Мир-Джавад. — Ваши тощие зады меня не привлекают. Слушайте внимательно, одна нога здесь, другая там: ты срочно найдешь начальника охраны, а ты принеси из моей спальни халат.
Мальчишки вихрем помчались выполнять поручение и, не успел один принести халат, как другой привел начальника охраны.
Мир-Джавад жестом их отослал прочь, а когда остался вдвоем с начальником охраны, быстро зашептал ему на ухо:
— Принеси динамитный патрон, дверь будем вышибать, но так, чтобы не убить находящихся за нею. Ты, я помню, в школе диверсантов учился?
— Так точно, светлейший! Сбить дверь с петель, и все дела.
— Насчет болтовни тебя предупреждать, кажется, не надо?
— Приучен, шеф! Ни разу не подводил вас, вы же помните!
Лейла, услышав голос начальника охраны, заволновалась и быстро спрятала пленку в тайник, столь хитроумный, что обнаружить его было чрезвычайно трудным делом. Затем она спокойно открыла дверь:
— Пожалуйста, заходите! Я слышу, вы уже боевые действия готовите против одинокой слабой женщины.
Мир-Джавад прикинул ситуацию и коротко приказал начальнику охраны:
— Не уходи! — и зашел к Лейле в спальню.
Лейла уже стояла у окна и победно улыбалась мужу.
— Надеюсь, ты одумалась? — начал Мир-Джавад ласково и нежно. — Зачем тебе меня топить? Мы в одной лодке с тобой. Ну, поймала ты меня. Ну, и что? Я даю тебе хорошую цену: килограмм героина….
— Плевать я на тебя хотела! — и Лейла плюнула в Мир-Джавада. — Смотри, какие у меня запасы!
Лейла открыла свой сейф и продемонстрировала содержимое: коробки с ампулами морфия, пакеты марихуаны, кокаина и героина.
Мир-Джавад понял, что, кроме него, есть еще какой-то неизвестный поставщик и что в сейфе пленки нет. О существовании тайников во дворце он слыхал, но мало какие обнаружил, а Атабек не посвятил его в такие тонкости.
Мир-Джавад секунду посмотрел на жену и свистнул. В комнате мгновенно, словно материализовался из воздуха, оказался начальник охраны.
— Свяжи ее! — науськал Мир-Джавад.
И не успела Лейла закричать, как в одно мгновение была связана тонкой, но прочной бечевкой, которую главный телохранитель достал из своего кармана, а кляп сделал невозможным любой призыв к помощи, впрочем, Лейла от неожиданного нападения так испугалась, что забыла и думать про это.
А Мир-Джавад, глядя на ловкие действия начальника охраны, вдруг вспомнил, как много лет тому назад, когда он был еще всего-навсего заместителем начальника инквизиции края, он спросил как-то у молоденького инквизитора:
— Скажи, мой молодой друг, если я прикажу тебе убить собственную мать, ты выполнишь приказ?
Сложенный, как культурист, красавец-юноша, не моргнув глазом и даже не смутившись, четко ответил:
— Ваш приказ любой выполню! Я верю в вашу звезду! А гадалка мне предсказала, что наши жизни переплетены, поэтому, охраняя вашу жизнь, я сохраняю и свою.
И Мир-Джавад всегда помнил об этом…
— Выйди и подожди в коридоре!
Начальник охраны низко поклонился и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Мир-Джавад достал коробок со спичками и подсел к лежащей на полу жене:
— Слушай, безумная! Ты заставляешь меня идти на крайние меры, придется тебя пытать, самому пытать, не тащить же тебя в подвалы, людей стыдно.
И Мир-Джавад зажег спичку и показал кивком на пламя:
— Ты меня понимаешь, надеюсь!
Встретив полный ненависти взгляд Лейлы, Мир-Джавад ясно понял, что никакими пытками ему не удастся ее разговорить.
Он резко дунул на пламя спички и спрятал обгоревшую спичку обратно в коробок.
«А что, собственно говоря, я всполошился? — подумал он. — Спрятала, и бог с ней, с этой пленкой! Ее никогда не найдут, значит, надо сделать так, чтобы и она не смогла найти… Как говорит Великий Гаджу-сан: „Нет человека, нет проблемы“!..»
Мир-Джавад опять коротко свистнул. И вновь начальник стражи словно материализовался из воздуха.
— Держи ее крепче, чтобы не дергалась!
И Мир-Джавад достал из открытого сейфа десять доз героина, приготовил шприц и смесь, перетянул руку Лейле выше локтя и медленно, с наслаждением ввел ей в вену содержимое шприца.
«Вот он какой — конец! Вечный покой! Все исчезло: я вроде бы еще жива, но уже мертва, мыслю и безумна, вижу вечность и гнусную рожу мужа… О, Отец, как же ты ошибся. И твоя ошибка стоила жизни не только тебе, но и мне, и позора моей бедной девочки. Я давно заметила, что она беременна, но, глупая, была уверена, что от мальчика, с которым раньше дружила… Несчастный ребенок!.. Мидас превращал все в золото, а этот, к чему ни прикоснется, все разрушает. Боже мой, неужели не найдется на свете силы, которая преградит ему дорогу. Неужели, хотя бы и случайно, он не коснется и себя? Мидас превращал прикосновением в золото и пищу и воду, а все золото мира не утолит голода и жажды… Может, он и не от этого умер, может, я уже начинаю путать, может, он коснулся себя и превратился в слиток… Не все ли равно? Главное, пусть умрет! Главное, пусть умрет! Нельзя таким жить на белом свете. Это уже не свет, но — тьма!.. Сидит, ворон, ждет, когда я уйду в лучший мир, но лучший ли, чтобы клевать мое тело: первым делом выклюет мне глаза… чтобы не следили за ним… затем попытается найти пленку. Не старайся, не найдешь, хоть всю жизнь свою, мерзопакостную, проищешь. Никто не найдет! A-а! Вот почему он меня убил! Никто не найдет, а я уже никогда ничего не возьму в этом мире, в этой жизни… Неужели Бог опять создаст меня женщиной?.. Какая легкость в теле. Я уплываю. Как быстро от меня унеслась земля, все шире раскрывается небо, все ярче светит солнце. Я проношусь сквозь него за мгновение. И бездна, черная бездна проглатывает меня»…
Мир-Джавад попытался нащупать пульс у Лейлы, затем приложил ухо к груди.
— Дай зеркало! — тихо попросил он у начальника охраны.
— Какое зеркало? — не понял утомленный очередным убийством начальник охраны.
— Ручное, конечно! — зашипел, как рассерженный гусак, Мир-Джавад. — Вон, на столике возьми, платиновое…
Получив зеркало, Мир-Джавад поспешил приложить его к губам Лейлы поверхностью стекла, но поверхность осталась чистой, незамутненной.
— Еще тебе задание! — зашептал Мир-Джавад, хотя мог говорить и вполголоса, все равно его никто бы не услышал. — Как только ее обнаружат и увезут в клинику, бери двух ребят, асов по части «шмона», и все здесь перелопатить: всю переписку, фотопленки, деньги и ценности ко мне… Да приглядывай за мальчиками, запомни: вопрос жизни и смерти, как для меня, так и для тебя.
Вдвоем они развязали труп Лейлы и положили его бережно и осторожно на кровать. Мир-Джавад прикрыл сейф и вышел вслед за начальником охраны, даже не взглянув на убитую.
«И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли перед Богом: и дано им семь труб. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи. И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить»… — Гаджу-сан посмотрел на огонь, пылающий в камине.
— Перегрызутся они без меня! — тихо зашептал он, обращаясь к языкам пламени. — Придется мне жить долго, что делать, страна без меня пропадет, я лишь один могу сдерживать эту свору бешеных псов. Я один только знаю, что нужно этой стране, что нужно всему миру… «От моря до моря»!.. Я не успею, другие завершат… Все моря! Все… Все земли! Все мои станут!
Провидица не погибла. После гибели всех огнепоклонников она, зная, что ее будут искать, отсиделась в убежище, что на всякий случай выстроили себе в горах еще в далеком прошлом ее предки.
А затем стала готовить месть. И Оя ничуть не преувеличивала, когда сказала, что его жертва превратилась в Фурию, и Васо воспринял провидицу как орудие возмездия.
Весь огонь своей души провидица посвятила смерти. Узнав имена тех, кто пулеметами расстрелял всю ее родню и соплеменников, провидица своей красотой заманивала их одного за другим в ловушку, а хранители убежища, единственные из огнепоклонников, кто спасся в беспощадной кровавой бойне, вязали пылких любовников, отвозили их ночью на то место, где некогда стояла ныне сожженная дотла деревня огнепоклонников, и живьем зарывали в песок…
Набив руку на исполнителях, провидица решила взяться за обидчиков. И первым в жертву был назначен Васо. Провидица долго не могла выбрать, какой смертью казнить его: четвертовать, сжечь, утопить в нечистотах, медленно распилить пополам… Ей хотелось всего сразу, ни один из этих способов в отдельности не казался ей достойным совершенного преступления.
Неустанно следя за Васо, провидица первой заметила в нем происшедшую перемену, превратившую его почти в человека.
«Любовь! И человек! А самое страшное для человека — это невыносимые воспоминания, те, которые не забываются, как ни стремишься их забыть, не растворяются в потоке времени, сметающем города и страны. Вечная мука, заканчивающаяся на земле только с приходом смерти, да и то нет ни одного свидетеля, могущего присягнуть, что конец мукам приходит вместе со Смертью, а не продолжаются уже в другом, загробном существовании: следующая ли это жизнь на земле, второе рождение, адское ли это пламя, бессрочный ли это полет в эфире…»
И провидица выбрала для Васо самую лютую казнь, которую можно было выбрать для человека: оставить его жить и вспоминать о невыносимой потере, желать смерти, как милости неба, как избавления от раскаленных тисков воспоминаний.
А орудием мести часто служат невинные.
Провидица долго кружила чуть видимой тенью над спивающимся Васо, слушая его страшные крики и горькие рыдания, и, как только убедилась, что казнь достойна Васо, умчалась готовить ту же участь, ту же участь Мир-Джаваду, а может, и пострашней, ибо нет дна у мести, как и высоты у подвига…
Иосиф, пытаясь найти Сол, в тот же вечер, когда та, которую он искал, умирала в муках на койке в больнице для бедных, посетил вновь Бабур-Гани.
Еще в дверях он столкнулся с молодым мужчиной, совершенно пьяным, который пытался открыть дверь публичного дома, толкая ее в совершенно противоположном направлении.
Иосиф отстранил пьянчужку и вошел в дом. За ним успел протиснуться и пьянчужка. В том же порядке они вошли и в зал для гостей, где полуголые девицы были уже готовы утолить все их ясные и неясные желания.
Пьянчужка, войдя в зал, сразу же закричал:
— Мими! Негодная девчонка! Ты почему продала мой подарок?
Мими, самая высокая рыжая девица, бросилась ему на шею и также громко завопила:
— Клянусь, пупсик, у меня его украли, но как ты об этом узнал?..
— Держи его и больше не зевай!..
Иосиф не обратил ни малейшего внимания на эту сценку. Не найдя в зале Сол, он попытался проникнуть к Бабур-Гани, чтобы разузнать о понравившейся новенькой, но его к ней не пустили. Новоявленная вдова никого не хотела видеть из своих гостей, она терзалась раскаяниями взаперти, но уже видели ее роскошный белый мерседес, скорее даже цвета слоновой кости, у главной мечети города, где Бабур-Гани раздавала милостыню нищим…
Иосиф вернулся домой, а через день заставил себя забыть и думать о Сол. Но в подсознании она уже утвердилась так прочно, что Иосиф уже не мог удовлетвориться лишь одной близостью, физической близостью, все в нем жаждало любви, страстной и всепоглощающей.
И провидица появилась как раз в тот момент, когда это чувство достигло апогея и переполненной чашей готово было выплеснуться на любого, случайно задевшего его.
Провидица поселилась рядом со дворцом Гюли, вернее, за дворцом, в ее же доме. И в первый же день постаралась попасться на глаза Иосифу. Он был ослеплен ее красотой и поражен глубиной, бездонной глубиной ее глаз, заглядывая в них, он, казалось, видел вечность, перед ним открывалась бесконечность вселенной, и странное оцепенение находило на него, какая-то необъяснимая сила привязывала Иосифа к этому взгляду, и он шел на его поводу, как овечка на заклание.
Иосиф попытался купить ее, но она только посмеялась над ним, дал задание двум дружкам похитить провидицу и отвезти к нему на дачу, — дружки как в воду канули, что было и на самом деле, только в воду они канули с камнем на шее и со вспоротыми животами, чтобы не всплыли даже в судный день.
Но после этого провидица первый раз улыбнулась Иосифу, и он, околдованный, готов был следовать за ней хоть на край света. Но она по-прежнему отказывалась встретиться с ним, а о том, чтобы пригласить ее в гости, не могло быть и речи, однако Иосиф, стоило ему только подумать о провидице, в тот же миг, даже если он стоял дома у окна, гулял по улице или гулял в кабачке, сразу видел ее перед собой, она ему ласково улыбалась и тут же исчезала.
Иосиф от любви к ней дошел до того, что не мог смотреть на других женщин или спать с ними.
Гюли с тревогой смотрела на угасающего сына, пыталась поговорить с ним, советовалась с ворожеей, но та, быстро и привычно разбросав карты, ахнула, и вдруг пена появилась на ее губах, ворожея заверещала тонким пронзительным голосом:
— Нет такой силы! Огонь уже горит в воде! Жените! Скорее жените его на Сол! Она — единственная, кто может спасти!..
И впала в транс.
Гюли пыталась было выяснить подробности, но все ее попытки были безрезультатны. Колдунья смотрела на нее с ужасом и молчала.
Гюли ушла от нее с твердым намерением все выпытать у сына, но тот ее слова пропускал мимо ушей или делал вид, что не слышит.
Твердо решив женить сына, Гюли пошла посоветоваться с Мир-Джавадом, но он ее не принял.
— Светлейший потерял жену и никого не хочет видеть! — словно извиняясь, вкрадчиво говорил ей секретарь Мир-Джавада. — Не беспокойте его! Когда он будет в состоянии заняться чужими делами, это, поверьте, не мои слова, он ими займется. Могу передать еще его мнение: заниматься устройством свадьбы сейчас неуместно…
Гюли поняла, что женить Иосифа на Нигяр, как было условлено, не удастся. Но недостатка в других невестах не было: каждый мечтал породниться со светлейшим. Гюли отказалась от услуг свах и сама ездила осматривать невест. Вспомнив слова ворожеи, она стала искать невесту с именем Сол, но те, которые имелись в наличии, были или уродливы, или глупы, или то и другое вместе взятое. Гюли не могла знать, что той, которая могла бы спасти Иосифа, уже не было в живых, а пепел ее праха был брошен в реку, самоубийц не хоронили, и для бедной матери не осталось даже могилы, чтобы оплакать свою несчастную дочь…
Иосиф ни о какой женитьбе и слышать не хотел. Красота провидицы так обожгла его, что он ходил кругами вокруг дома, на втором этаже которого жила красавица, желанная и недоступная.
В какой-то из дней Иосиф увидел во дворе дома трехметровую лестницу, он и сам не сумел бы вспомнить, но с этого дня в подсознании поселилась еще неясная мысль, крепнущая день ото дня все сильнее и сильнее, овладевающая постепенно и сознанием, чтобы, как только сознание ей сдастся, в тот же момент повести Иосифа за собой.
Провидица заманивала Иосифа, как опытная куртизанка, и это ее люди принесли во двор дома трехметровую лестницу…
Иосиф сходил по ней с ума, и наконец настал тот день, когда он, обезумевший от страсти, попытался овладеть ею насильно.
Всю ночь Иосиф не спал, сидел неподвижно в темноте, смотрел на черный провал окна и ждал того момента, когда крепкий сон сморит непокорную красавицу.
Глубокой ночью, где-то ближе к рассвету, он тихонько выскользнул из дворца и направился к дому, где на втором этаже, при раскрытом окне спала его мечта, вернее, предмет вожделения.
Приставив лестницу к окну второго этажа, он стал неслышно по ней взбираться, надеясь застать врасплох спящую и овладеть ею насильно.
Была душная летняя ночь. Иосиф был почти не одет, чтобы не тратить времени на раздевание.
А у окна, спрятавшись за занавеской, сидела провидица и следила за каждым движением своего предполагаемого насильника.
А на газовой плите, на маленьком огне, стояло ведро с кипятком…
И, как только Иосиф дополз до второго этажа и взялся рукой за подоконник, струя раскаленного минерала хлынула ему в лицо и на голову, растекаясь по телу.
Дикий нечеловеческий крик взорвал тишину ночи, а последовавший за ним стук упавшего тела, рухнувшего на булыжник двора, был почти не слышен…
Гюли в эту ночь вроде и не спала, забытье, в которое она изредка впадала, трудно было назвать сном. А под утро удар в сердце разбудил ее, вырвал из объятий ночных кошмаров. Тяжело дыша, почти задыхаясь, Гюли подошла к раскрытому окну, из которого был виден дом, где жила провидица, в который и шел, крадучись, как на охоте, Иосиф.
Гюли сразу же узнала его в этой предрассветной мгле, да она узнала бы его и во мгле ада. У нее вновь сжалось сердце от предчувствия чего-то страшного, от ужаса у нее похолодели руки и ноги, и Гюли в оцепенении застыла, не в силах крикнуть сыну, остановить его и предостеречь.
Окно для нее стало экраном, но немой фильм, который она смотрела даже без звукового сопровождения, снят был богом, а не Хичкоком, но страх также усиливался с каждой минутой показа этого эпизода на совершенно закрытом просмотре, где зрители попеременно становились участниками действия, а участники зрителями.
Иосиф подымался не по ступеням лестницы. Он каждый раз, не замечая и не чувствуя этого, наступал на сердце матери…
И только крик боли, вырвавшийся у ошпаренного искателя любовных приключений, сбросил оцепенение с Гюли, и она, как была в ночной сорочке, босая, с распущенными волосами, так и помчалась, беззвучно крича, таких высот достиг ее крик, с искаженным от ярости лицом, на выручку родного дитяти.
Но изнеженный Иосиф, всю жизнь не знавший ни в чем отказа, не испытавший даже зубной боли или тумака приятеля в детской драке до первой крови, умер от шока мгновенно, и на камни рухнул уже его труп.
Когда Гюли наклонилась над ним, она инстинктивно отшатнулась, такая страшная, вздувшаяся маска скалилась ей в лицо, словно надсмехаясь. Ужаснувшись, даже не дотронувшись до него, она поняла, что он мертв, и так же, беззвучно крича, ринулась вверх по лестнице, мечтая добраться до горла красавицы и впиться, перегрызть его.
Но на середине лестницы сердце ее не выдержало собственного крика и рассыпалось на мелкие осколки, так что Гюли даже не успела осознать, что умирает, и, упав рядом с сыном, на мощенный булыжником двор, застыла мертвой, и это была самая великая милость из оказанных ей за всю жизнь.
«Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; и волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов; на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою имела она Ангела бездны; имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион (Губитель). Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы коней — как головы у львов, и из рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить; и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блуд одеянии своем, ни в воровстве своем».
Когда через несколько часов Мир-Джаваду доложили о случившемся, он, как ни страшно это звучит, а выглядело еще более отвратительно, улыбнулся и почувствовал, что огромная тяжесть ноши, невыносимо давившая на него последнее время, исчезла, не надо было выполнять свое обещание, а только за этим и приходила к нему Гюли, женить сына на Нигяр, эта мысль приводила Мир-Джавада в такое состояние, что он начинал желать смерти своему сыну.
И его желание было услышано на небесах или в аду. Теперь ничто не мешало Мир-Джаваду быть со своей последней любовью, а может, и с первой, с единственной…
Нигяр, узнав о смерти матери, примчалась к любовнику, бросилась к нему на грудь и горько заплакала, с трудом выговаривая слова:
— Это я во всем виновата, она из-за меня покончила с собой…
А Мир-Джавад ее утешал:
— Глупенькая! Твоя маменька — заядлая наркоманка! Ей на все наплевать, кроме «дозы», а от волнения и злости, что я с ней не живу, она, видно, не рассчитала, вкатила себе двойную. Рано или поздно, но они все так кончают. — Он нежно поцеловал Нигяр. — Что ни делается, делается к лучшему. Я теперь свободен и смогу через год жениться на тебе…
— Я твоя официальная дочь. Тебе не разрешат.
— У меня есть такие документы, что разрешат. А не разрешат, бог с ними!
— А это? — и Нигяр погладила свой живот.
— Поживешь на даче, вдали от любопытных глаз, я буду тебя часто навещать. — Мир-Джавад утешал Нигяр, как маленького ребенка, гладя ее по голове. — Там и родишь, а мы потом усыновим или удочерим малыша, как уж получится.
И Мир-Джавад уговорил Нигяр отправиться с ним в спальню, закончить прерванное появлением Лейлы дело…
Так и теперь, получив известие о смерти сына и его матери, он помчался к Нигяр, но не поплакаться, а утешиться в том же смысле. Ей он и слова о происшедшем не сказал, а по его виду она и догадаться не могла, что этот веселый и влюбленный человек только что потерял единственного сына, ее предполагаемого жениха.
И провидица тщетно искала следы переживаний на лице Мир-Джавада, следы горя, слез. И поняла, что ее усилия были затрачены зря, даже чем-то она ему угодила и обрадовала. Провидица на время затаилась, но мысли о мести не оставила, тем более что убийцу Иосифа никто и не искал.
Бабур-Гани перестала жить. Нет, физически она еще жила: ела, пила, оправляла естественные надобности. Но жизнь протекала отдельно, вне ее, так, притаилась у окна, смотрит, смотрит, смотрит, но не живет.
Каждое утро она просыпалась, вернее, приходила в себя, так как без сильного снотворного не засыпала, и оглядывалась, словно желая убедиться: продолжается страшный сон или уже кончился, и она вновь ощутит горячее упругое тело молодого мужа. Рука ее привычно скользила, желая убедиться, но пустота холодным равнодушием встречала ее, и Бабур-Гани вновь ощущала холодное дыхание смерти.
И опять мучительный крик, вырвавшись из спальни, заставлял вздрагивать евнухов и прислугу и будил утомленных ночным бдением девочек.
Распутные девчонки, пользуясь тем, что Бабур-Гани, «хозяйка», как они почтительно ее называли, находится в прострации, нагло присваивали часть выручки, помимо подарков, и евнухи с прислугой также тащили все, что плохо лежит. Доходы Бабур-Гани упали вдвое, но она, словно и не видела, ничем не интересовалась, не только доходами, но и лицами, окружавшими ее, она их просто не замечала.
Единственное, чем занималась Бабур-Гани, это — раздача милостыни нищим у главной мечети. Бабур-Гани вставала вместе с солнцем и, едва ополоснув холодной водой лицо, садилась в свой белый «мерседес» и отправлялась к мечети. Ее появления уже ждали, и, как только машина подъезжала, толпа «слепых», «хромых», «парализованных», «безногих», с «язвами» окружала ее, и начиналась торжественная церемония вручения денег на молитву. Один за другим мимо Бабур-Гани проходили нищие, мелькали уродливые лица, лживые глаза, наглые в своей униженности. Те, кому удавалось получать милостыню первыми, меняли немного внешность и шли получать милостыню по второму кругу. Но по второму заходу денег на всех не хватало, и, как только Бабур-Гани уезжала, начинались свары, ругань, а то и драки…
Шло время, а Бабур-Гани не могла забыть Бабека. Как ни молила она аллаха, не было ей освобождения, и несла она дальше свой страшный груз воспоминаний.
Когда ей, желая помочь, хоть немного отвлечь от мрачных дум, сообщили о гибели прекрасного Иосифа и о смерти его матери, Бабур-Гани побледнела, словно смерть шла ей навстречу, и прошептала:
— Мертвые хватают живых, чаша терпения переполнена, и хлынет поток возмездия за грехи наши, и нет спасения от него…
Старший евнух, принесший, как ему казалось, благую весть, испуганно отшатнулся после этих слов и решил добровольно вернуть похищенное.
«С Гулямом ли мне заключить союз, или с чертом, мне все равно. „Один черт“! — как говорится… Он мне многое порассказал, с Мир-Джавадом его связывает давняя вражда, он его кровник, оказывается, Гулям выдал Ренку убежище Гаджу-сана, за что отец Мир-Джавада и поплатился головой, а бедный Гулям с тех пор не знает покоя и не будет знать, такова уж у него судьба… А у меня?.. А у меня уже ничего не будет. Ничего!.. Гулям мне все же помог: рассказал о Бабур-Гани, он с ней в прошлом имел одни интересы, но на чем-то она его, как он говорит: „наколола“… Что ж: его ненависть я обращу в свою пользу, присоединю и эти капли яда в напиток мести. А цену за исполнение мести я плачу самую высокую, какую только можно заплатить: своей жизнью согласна оплатить этот счет, но все силы ада, все силы неба я соединю в одну силу, и я верю, что она сметет с лица земли хоть частицу зла».
В тот день все было как всегда: вновь нищие устроили мерзопакостную карусель, потешаясь в душе над сумасшедшей миллионершей, и, казалось, ничто не нарушит установленный порядок.
Но когда иссякли деньги и нищие, ворча и переругиваясь, отошли от машины, перед Бабур-Гани предстал странник, закутанный, несмотря на жару, в плащ с капюшоном, закрывшим почти все его лицо. Он молча протянул руку и застыл в ожидании милостыни изваянием.
— Нет больше денег со мной! — хрипло проговорила Бабур-Гани, угадывая в ужасе знакомые очертания любимого тела погибшего супруга. — Приходи завтра утром, пораньше, я тебе и за сегодня дам монеты.
Странник, не слушая, пятился и пятился от нее, а когда отошел на пять-шесть метров, внезапно сбросил с головы капюшон, и перед ошеломленной Бабур-Гани предстал живой и невредимый Бабек, такой, каким она увидела его в первый раз, юный и цветущий, и лишь петля шелкового шнура на шее виднелась символом происшедшей трагедии.
«Бабек» вновь набросил на голову капюшон и стал быстро удаляться в сторону старого города, а Бабур-Гани, не в силах крикнуть, комок перекрыл горло, завороженно смотрела ему вслед.
Отойдя метров на сто, закутанный в плащ «Бабек» остановился, обернулся к Бабур-Гани и махнул рукой, приглашая ее следовать за собой. Бабур-Гани, словно загипнотизированная, села за руль «мерседеса» и медленно покатила, не приближаясь и не отставая, за позвавшим ее человеком.
Так они, не торопясь, и двигались. Но, въехав в старый город, Бабур-Гани застряла. Узкие улочки были в прошлом построены с таким расчетом, чтобы с трудом могли здесь разминуться два путника верхом на ишаках, а на скакунах уже было бы невозможно разъехаться.
Бабур-Гани бросила машину и засеменила за удаляющимся «Бабеком». Ноги плохо ее слушались, а сердце билось так, что, казалось, выскочит вот-вот из груди. Губы шептали:
— Бабек, остановись! Бабек, подожди! Дай объяснить тебе: я не знала, что у вас такая любовь, думала, присосалась, стерва, к деньгам. Прости!.. Остановись, умоляю тебя!
«Бабек» внезапно исчез, нырнув в глухую стену, но когда Бабур-Гани подбежала к тому месту, она увидела в стене приоткрытую калитку. То ли закрыть забыли, то ли специально оставили открытой.
Бабур-Гани, ни секунды не сомневаясь, рванулась в калитку. Но, как только она вошла в полутемный двор, сильные руки схватили ее, вогнали в рот кляп, а веревкой туго запеленали тело. Бабур-Гани не оказала ни малейшего сопротивления, даже ни разу не вскрикнула, только глаза ее все искали того, за кем она пошла бы и на край света, искали и не находили.
Бабур-Гани поволокли в дом, в большой комнате вдоль стен сидели мужчины и женщины, сплошь все в черном, и черная ненависть светилась в их глазах, и полумрак от небольшого количества света, попадавшего в комнату через маленькие окна, выходящие во двор-колодец, где свет самого солнца уже исчезал, словно замурованный четырьмя стенами, казалось, тоже чернел, давая больше мрака, чем света.
Бабур-Гани оглядела людей, смотревших на нее с такой ненавистью, так люто ее ненавидевших, и, наконец, увидела того, кого приняла за Бабека: он был похож, так похож, очевидно, младший брат или ближайший родственник, что не спутать его с умершим мужем Бабур-Гани никак не могла. Сейчас, когда он сидел без шелкового шнура на шее, он скорее походил на фотографию Бабека в юности, живую, но фотографию. А рядом с ним сидела девушка, очень похожая на Сол.
И, странно, Бабур-Гани ни разу не пришла в голову мысль, что ее заманили в ловушку, поймали на «подсадную утку». Она вдруг почувствовала облегчение, успокоение от того, что скоро все закончится, и муки совести перестанут терзать ее помутившийся ум.
На возвышении у центральной стены, сплошь завешанной коврами ручной работы, сидел седой мужчина, отец Бабека, а рядом с ним провидица. Бабур-Гани долго и пристально смотрела на нее, пытаясь вспомнить, где она могла с этой красавицей столкнуться, что она могла ей такого плохого сделать, но поняла, что не встречались они в этой жизни, но эта красавица — главное орудие судьбы.
Мужчина подал знак, и тотчас же у Бабур-Гани был вынут кляп изо рта, и она наконец-то вздохнула полной грудью.
— Признаешь ли ты себя виновной в смерти мужа и его возлюбленной? — глухо, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, не сорваться, спросил отец Бабека, играющий роль председательствующего на этом импровизированном суде.
— Кто вы? — удивленно воскликнула Бабур-Гани.
— Мы — суд, собравшийся по воле неба, чтобы судить тебя и приговорить к лютой казни.
— Нет казни страшнее, чем воспоминания, мучащие, жгущие меня каждый божий день. Какая боль может сравниться с той болью, что каждую секунду испытывает мое сердце? — Бабур-Гани с трудом перевела дыхание. — Я любила!.. Я безумно любила, первый раз в жизни. И боролась за свою любовь, как могла. Боролась… но ошиблась, и ваша месть лишь прервет мои страдания… И не говорите мне об угрызениях совести. Во имя любви всегда творили больше преступлений, чем подвигов… Решайте! Мне безразлично ваше решение…
И Бабур-Гани закрыла глаза.
— Ты все сказала? — услышала она голос председательствующего и кивнула в ответ.
Тут же ей в рот вновь вогнали кляп, но Бабур-Гани действительно было уже все равно.
Председательствующий обратился к собравшимся:
— Какой смертью должна умереть эта… Я не могу назвать ее светлым именем женщины. Это — демон, дочь зла, порождение геенны, пусть туда она и уйдет. Я предлагаю сжечь ее!
Но, прежде чем собравшиеся успели проголосовать, заговорила провидица:
— Ей после смерти гореть в вечном пламени, зачем нам брать на себя обязанности подручных сатаны? Это существо всю свою жизнь плодила грязь, в грязи и смраде она и должна закончить свою жизнь. Костер — дело хлопотное к тому же, а выгребная яма во дворе полна. Пусть это менее мучительная смерть, но она более унизительная и больше всего подходит к этой совратительнице и насильнице. В ней олицетворение строя, и пусть казнь будет символом гибели бесчеловечного строя.
Бабур-Гани открыла глаза и встретилась взглядом с провидицей, прочла в ее глазах книгу ненависти и презрения и отвела свой взор, но всюду, куда бы она ни направляла свой взгляд, ее встречали та же ненависть и презрение.
Все молчали, ожидая решения председательствующего. А он долго размышлял над словами провидицы.
— Ты нам очень помогла! — сказал он наконец. — И мы тебе признательны за эту помощь, но не кажется ли тебе, что злодеяния будут несоизмеримы с нашей местью. Нет, быстрая смерть не для нее!
— Мы не можем брать на себя смелость соизмерять. Это — дело Бога! А мы, имея право мстить, не имеем права опускаться до тех, кому мы мстим, я это поняла только теперь, что орудием мести не могут служить невинные, иначе мы так же служим злу, как и они, считая, что творим добро, множим зло.
— Тогда мы должны ее пощадить, попросить у нее прощения и проводить домой, — возмутился отец Бабека.
— Ты обещал выполнить мою просьбу!
— Обещал! — согласился председательствующий.
— Так выполни!
— Только после того, как она узнает муки ада на земле! — уперся на своем отец Бабека.
Провидица поняла, что он не уступит, а большинство было на его стороне, с ней были только двое, правда, эти двое по силе и ловкости превосходили всех остальных, но при подсчете голосов они будут в значительном меньшинстве, и провидица это хорошо уяснила. А потому она быстро и решительно подошла к Бабур-Гани и, молниеносно выхватив острый, как бритва, кинжал, вонзила его ей прямо в сердце.
Бабур-Гани, шевельнув губами, словно хотела сказать ей «спасибо», — обмякнув, рухнула на пол. А провидица, на глазах у ошеломленных зрителей, свидетелей, безмолвных от ужаса, выдернула из тела Бабур-Гани кинжал и хладнокровно отрезала ей голову. Кровь потоком хлынула на пол. Мать и сестра Сол упали в обмороке, да и мужчинам: отцам и братьям погубленных влюбленных стало не по себе. Даже в полутьме было видно, как они покрылись мертвенной бледностью. Оцепенелые, они замерли, не в силах произнести ни единого слова.
Соплеменники провидицы невозмутимо встали и подошли к провидице с намерением защитить ее, если возмущенные тем, что желанная жертва ускользнула от них таким простым способом, несостоявшиеся родственники бросятся на провидицу.
Но их опасения были напрасны. Потрясенные мужчины замерли на своих местах, не в силах раскрыть рта.
А провидица, держа за волосы голову Бабур-Гани, раскрытыми глазами невидяще уставившейся на своих судей, сказала:
— Я вас не в силах переубедить. Мне нужна была ее голова, я ее получила. А вам оставляю обезглавленное тело, делайте с ним, что хотите: сжигайте, вешайте, топите, придумывайте какие угодно виды мук и казней… Только учтите, я уже говорила вам: казня другого, мы казним и самого себя, сеем зло в своей душе, пожнем бурю в сердцах своих. Добро никогда не приносит столь высокие урожаи. Зло быстрее вытесняет добро из души, быстрее растет и обильнее плодоносит. Ненависть более липкая, чем смола и клей, прочнее, чем сталь, бывает вечной, как вселенная… Я ухожу! Прощайте навсегда! Больше мы не увидимся…
Мужчины молчали, словно загипнотизированные, глядя, как из головы капает кровь, а образованная ею лужица все растет и ширится, стремясь слиться с другой, огромной.
Провидица посмотрела на каждого из присутствующих, словно впитывая навечно их образы в сердце своем, повернулась и ушла, а оставшиеся, все так же молча, смотрели на бегущие цепочкой вслед за молодой и красивой девушкой капли крови.
Соплеменники провидицы, убедившись, что нападения ждать не следует, слишком уж ошеломлены все собравшиеся, медленно, постоянно оглядываясь, вышли следом…
«И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот и сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их»…
Никогда еще Мир-Джавад не испытывал такого удовольствия от жизни, как в это утро, когда он открыл глаза. Он всегда просыпался рано, а летом старался встать с первыми лучами солнца, единственное время, когда можно было поработать, потому что уже в полдень солнце так раскаляло землю, что воздух начинал кипеть, подобно воде, и струиться в небо, а выхлопные газы от проехавшей машины долго висели серым облачком, да так ощутимо, потрогать рукой можно было, и медленно, зримо опускались на землю.
Мир-Джавад нежно посмотрел на безмятежно спящую детским сном Нигяр, осторожно поцеловал ее раздавшийся, округлившийся живот, чтобы не разбудить спящую, и встал с постели, ощущая силу и энергию, испытываемую, пожалуй, лишь в далекой юности.
Стараясь не шуметь, он оделся и, выйдя из спальни, побежал, как мальчишка, наперегонки с собственной тенью, в ванную. Быстро умылся, вылил на себя заранее приготовленное ведро с водой комнатной температуры, последнее время изучал систему йогов, до ведра с холодной водой оставалось несколько дней, промыл морской водой носоглотку и, бодрый, довольный, побрился, причесался и отправился в столовую.
Завтрак был обычный. По расписанию у него был рыбный день: семга, белуга, красная и черная икра, осетрина на вертеле. Маслины и трюфели несколько скрашивали скромный завтрак, а на десерт Мир-Джавад позволил себе даже миндальное пирожное с чашечкой кофе по-турецки, завтрак он обычно запивал гранатным и мандариновым соками.
Аппетит был, как у путника с дороги, не евшего целые сутки. Вообще, отсутствием аппетита Мир-Джавад не страдал даже тогда, когда жизнь его висела на волоске и были вызваны уже суперубийцы, чтобы убрать его с дороги Атабека. Дрожал тогда Мир-Джавад как осиновый лист, но единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности, где он отдыхал от тяжелых мыслей и от страха, — это был обеденный стол, отравить его могли с тем же равным успехом, как и всадить пулю между лопатками или расплющить внезапно потерявшим управление автомобилем, однако, поглощая пищу, он ощущал равновесие духа, уверенность в победе, а чем больше волновался перед едой, тем больше съедал. За столом Мир-Джавад примирялся с жизнью, вернее, с ее черной стороной, ибо жизнь, как и мир, состоит из своего дня и своей ночи, правда, многие живут, как на севере: у них то полярная ночь, то солнце не сходит с неба, а если и заходит, то на такой короткий срок, что не стоит об этом и говорить…
Два часа Мир-Джавад работал, ощущая радость от труда, рождалось даже некоторое самодовольство от своих успехов: еще один из ближайшего окружения Гаджу-сана, Каган, стал сторонником Мир-Джавада и намекнул ему, что он, пожалуй, отдаст свой голос за него, когда будут вновь избирать преемника Великого.
Мельком просмотрел списки врагов: тех, кого на рассвете следующего дня расстреляют, и тех, кому предстоял нелегкий путь к еще более трудным местам заключения в лагерях на острове Бибирь, подписал, практически не читая, каждого обсуждать — жизни не хватит, а инквизиция никогда не ошибается.
Но что-то осталось непонятное, и Мир-Джавад вновь придвинул к себе списки приговоренных к расстрелу. Да, он не обманулся: в списке казнимых он прочел с огромным удивлением знакомую фамилию: «Эйшен»…
— Ну, этот, по моим понятиям, должен быть последним, о ком я сказал бы, что его рано или поздно расстреляют! — подумал Мир-Джавад. — Интересно, за что этого слизняка собираются шлепнуть?
Любопытство так разобрало Мир-Джавада, что он не вытерпел и позвонил начальнику инквизиции:
— Слушай, мальчик! Посмотри, за какие грехи собираемся отправить в ад некоего Эйшена?.. Ах, ты в курсе!.. За что, за что? Антиправительственный рассказ об усах Гаджу-сана? — Мир-Джавад странно хмыкнул, но сдержался и спросил: — Кто показал?.. Девушка рукопись принесла? Фамилию не сказала?..
Мир-Джавад резко бросил трубку телефона, даже не попрощавшись, и расхохотался. До слез смеялся, не мог остановиться. Всхлипывая, бил себя ладонями по ляжкам и со стоном повторял:
— Рукописи не сгорают, рукописи не сгорают, ах, писатель, а врал, что потерял. Кто-то теряет, а кто-то находит.
И опять смех до судорог рвался из груди. Хотел было Мир-Джавад вычеркнуть фамилию Эйшена из списка смертников, но занесенная было над списком рука замерла при мысли: а почему?., могут спросить?., могут, и еще как!.. Ниточка потянется, а куда она приведет, один аллах знает. Одним писателем больше на земле, одним меньше, какая разница… У нас их уже и так тысяч десять одних членов, а в душе каждый — писатель, пишут и пишут, особенно в инквизицию, как будто там одни редакторы сидят.
И Мир-Джавад отбросил от себя ручку на стол и отодвинул списки. «Странно, глядя на этого пышущего здоровьем счастливчика, я всегда ловил себя на мысли, что вот этот уж непременно меня переживет… Эта рукопись обернулась для него бумерангом, смешно. Одно и то же произведение третьего „автора“ отправляет на смерть… Бог троицу любит?.. Первый, истинный автор, получил меньше всех, жил в заключении дольше всех, не заболей он так тяжело, не отправили б его на баржу. Касым, менее виноватый, собирался лишь читать, получил больше, а жил меньше, зарезали беднягу. Неудачник, э!.. Но этот, третий: донес на первого, спровоцировал второго, а третьим попался сам. Кто-то его очень ловко подставил. Хорошая работа: ведь какой срок выдержал, когда все уже забыли об истинном авторе этого произведения. Молодец! Жаль не узнали, кто это, приблизил бы к себе. Голова!»
Мир-Джавад так развеселился, что ему расхотелось работать. Он встал из-за стола и отправился в спальню, посмотреть, не проснулась ли уже его тайная женушка. Посидел несколько минут возле спящей, сдерживая себя, очень ему хотелось разбудить ее и ласкать, ласкать, пока оба они не откинутся на постели в изнеможении. Но он не осмелился это сделать. Безумно любил он эту маленькую девочку, которую он совратил, сделал женщиной, а теперь и матерью. Сидел только рядом с ней и смотрел на ее родное, любимое лицо, гася усилием воли страсть и желание схватить ее в свои объятия…
Пора было ехать в президиум. Мир-Джавад старался быть во всем точным и пунктуальным, особенно с тех пор, когда услышал поговорку: «точность — вежливость королей»!
И он выгонял с работы тех шоферов, которые не могли рассчитать путь с такой точностью, чтобы без пяти минут десять им быть у главного подъезда здания президиума, а пяти минут ему хватало, чтобы выйти из машины и подняться на второй этаж, где был расположен его кабинет.
Мир-Джавад неторопливо оделся, сегодня собирались все начальники вилайятов, и надо было одеться скромно, что Мир-Джавад и сделал. Только маленькую уступку себе он все же позволил: платиновые запонки с четырьмя пятикаратовыми бриллиантами.
Одеваясь, Мир-Джавад еще раз быстро пробежал глазами текст речи, написанной для него профессором международного права. Речь Мир-Джаваду понравилась, особенно то место: «акулы, ненавидящие нашу страну, только и ждут удобного момента, чтобы напасть и откусить какой-нибудь кусочек»… И то место, где говорилось о том, что внутренний враг не дремлет, только и ждет, как бы подставить страну под эти акульи зубы.
Мир-Джавад усмехнулся, представив себе: с каким трепетом будут слушать его всесильные в своих вилайятах ставленники и как молить аллаха, чтобы им самим не попасть в этот черный список внутренних врагов.
— Пусть дрожат! — подумал Мир-Джавад. — Страх должны знать! Человека мягче глины делает страх, все что угодно можно вылепить из него: и предателя, и убийцу, и покорного раба… А я, в свою очередь, буду прощать им злоупотребления властью и прочие мелкие гадости, которым охотно предаются власть имущие, как бы ни была мизерна эта власть. Но раз власть, то использовать ее не в свое благо считается если не идиотизмом, то уж несоответствием занимаемой должности — точно, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. И правильно: разве не подозрителен честный человек на руководящей должности, на ответственной работе? Чистая капля дистиллированной воды в океане горько-соленой. Сколько времени она может просуществовать в чистом виде? Мгновенье? Меньше! Величина столь ничтожна, что не стоит об этом и говорить. А почему он подозрителен? Первая мысль, которая приходит, глядя на такого уникума: чужак, инопланетянин, ошибка природы, жертва аборта, недоносок… Да разве мало эпитетов у нас придумали, чтобы унизить, оскорбить человека, хоть чем-нибудь непохожего на нас и наше окружение, имеющего другие интересы, желания, мысли. Он, очевидно, и мечтает о другом. А так как увидеть его мечты нет возможности, то легче предположить то, что тебе кажется, чем то, что, может быть, есть на самом деле… Вторая мысль: если человек отказывается от малого, что он может взять без всякого труда, значит, он хочет большего, если не все сразу. Следовательно, он не хочет подниматься со ступеньки на ступеньку служебной лестницы, а пытается подняться сразу на лифте, причем на последний этаж, обогнав всех, медленно идущих по крутой лестнице. А такое не прощается даже родному брату!.. И третья мысль: а вдруг действительно он — честный! Это что же будет такое, если сегодня один станет честным, завтра — другой, послезавтра третий, до чего мы можем тогда дойти? Не замкнется ли таким образом круг, и не окажемся ли мы снова в раю, из которого с таким трудом нас вывел Великий Змей… А потом, что такое: честный человек?.. Категория далеко не вечная. Наше восстание столько наштамповало таких «честных», что куда ни плюнь, попадешь в такого «честного». Как упрочили власть, так стали под себя грести, что любо-дорого смотреть. За срок вдвое короче миллионеров стало вдвое больше, а если посчитать и тех, кто пока еще боится признаваться в том, что они миллионеры, то втрое, а может быть, и вчетверо. Поэтому, мне кажется, будет честнее, если каждому будет ясно, а в особенности вышестоящим: этот — негодяй, этот — подонок, этот — развратник, этот — взяточник… Впрочем, взяточники они все: и негодяй, и подонок, и развратник, и маньяк, и убийца… В «чистом» виде никого не бывает на свете, от каждого понемножку, «коктейль»… У каждой игры свои правила. И в игре правила не меняют, скорее, меняют игроков…
Мир-Джавад взглянул на часы и заторопился. У входа во дворец его уже ждала бронированная машина, сделанная на заказ: пуленепробиваемый корпус, стальное днище выдерживало взрыв мин, кроме противотанковых, в крыльях спереди два замаскированных пулемета, один в багажнике, рядом с установкой для разбрызгивания масла, радиостанция, вмонтированная в переднюю панель, мгновенно связывала с войсками и с инквизицией. А салон был: красное дерево, инкрустированное золотом и платиной, пышные ковры, бар с холодильником, магнитофон… Одним словом, царский выезд!..
Спереди и сзади стояли точно такие же с виду машины, один к одному, только штамповка, не бронированные и с полным отсутствием комфорта в салонах, но зато нашпигованные оружием, как пудинг изюмом…
Лишь только Мир-Джавад сел в машину, как через несколько секунд они рванулись с места и помчались к зданию президиума, перестраиваясь каждые пять минут, будто играя в салочки.
Ехать было недалеко. Но с последней перестройкой произошла «накладка»: автомобиль, следовавший последним, почему-то не выехал, как положено, вперед, и перед зданием президиума автомобиль Мир-Джавада встал первым, ровно без пяти минут десять застыл как вкопанный у главного, парадного входа в здание.
Начальник охраны, сидевший рядом с шофером в машине Мир-Джавада, чертыхнулся про себя и мысленно пообещал влепить проштрафившемуся шоферу пять суток гауптвахты, затем мгновенно выскочил из машины и, привычно оглядев пустынную улицу, величественно, с чувством исполненного долга открыл дверцу машины и помог выйти светлейшему.
У входа в президиум живым коридором стояли, вытянув руки для приветствия, начальники вилайятов…
Мир-Джавад первым увидел его. Белый «мерседес», вынырнув из-за угла здания президиума, на огромной скорости мчался навстречу, прямо на Мир-Джавада. Но для него машина чуть двигалась, плавно плыла в океане уже ощущающейся удушающей жары, и аура сияла над ней.
Мир-Джавад застыл на месте, и в глазах его появился даже не страх, а, скорее, удивление, «вот оно как случается, всегда неожиданно и не так, как это себе представляешь»…
Охрана тоже, наконец, заметила мчащийся автомобиль, но на их лицах появился даже не страх, но ужас, и они тоже застыли неподвижно, подобно своему владыке, на которого до этого и смотрели с удовольствием, так важно он всегда выходил из машины, словно Феб из своей колесницы. А начальники вилайятов повернулись все лицом к появившейся машине, забыв опустить вскинутые в приветствии руки.
Мир-Джавад еще издали узнал ту, кто сидела за рулем «мерседеса». Узнал с первого взгляда и понял, что спасения нет. Грядет возмездие, не всегда торжествует зло.
За рулем была провидица, и взгляд, которым она приковала к месту Мир-Джавада, не сулил тому ничего хорошего. Ее глазами смотрела Смерть.
На эмблеме радиатора была закреплена голова, мертвая, но с широко раскрытыми глазами и замершим в последнем крике ртом. Мир-Джавад, увидев то, что осталось от Бабур-Гани, вспомнил их первый разговор, положивший начало тесному сотрудничеству: «я раскинула на картах, и вышло, что наши линии переплетаются, мы оба возвысимся и оба упадем, ты проживешь недолго после моей смерти»… «Ведьма»! — подумал он тогда злобно.
Волосы Бабур-Гани были прищемлены капотом с двух сторон, и голова прочно держалась на эмблеме, возвышавшейся на носу радиатора.
Мир-Джавад ясно слышал, хотя и отдавал себе отчет в том, что это — абсурд, быть того не может, как Бабур-Гани кричала ему:
— Я иду за тобой!
И глаза провидицы кричали о том же.
Голова Бабур-Гани, что голова Медузы Горгоны, и отрубленной продолжала превращать людей в камень, а ее развевающиеся волосы, те, что специально не были закреплены капотом, извивались, подобно змеям, в потоке жаркого воздуха, вызванного движением автомобиля.
Когда-то пиратские бриги имели под бушпритом на носу судна подобные деревянные резные изображения, и, может, поэтому становились легкой добычей купеческие шхуны, когда пираты шли на абордаж…
«Мерседес» врезался в машину Мир-Джавада, и мощный взрыв динамитного заряда разметал всех действующих лиц, смел их со сцены, в том смысле, что: «мир — сцена»!..
«Мерседес» был начинен динамитом до отказа.
Начальник охраны объемом своего тела закрывал Мир-Джавада, принял на себя удар, но сила взрыва была такова, что, разметав на куски начальника охраны, добралась и до Мир-Джавада и, вспоров ему живот куском вывороченной брони, швырнула через улицу на клумбу цветов, ярко алевших под солнцем. Именно здесь не так давно почти невидимо запылал живой факел, имя которому было — Сол…
Мир-Джавад открыл глаза. Первое, что он увидел в синеве неба, — были мухи. Тучи мух роились, то увеличиваясь, то уменьшаясь в объеме, беззвучно и так медленно, что Мир-Джаваду казалось, что он видит каждое движение, каждый взмах крылышек, легких и прозрачных, а выпученные глаза мух неожиданно вырастали и застилали собой полнеба, и тогда Мир-Джавад отводил взгляд, так невыносимо было глядеть в живую ненависть.
Бросив взгляд вниз, на землю, Мир-Джавад увидел, что возле его живота мухи ковром облепили какое-то кровавое месиво, жадно насыщаясь и не обращая ни малейшего внимания на своего врага.
Мир-Джавад медленно, с трудом преодолевая какую-то непонятную тяжесть, достал из кармана брюк тонкую нить резинки и стал с неимоверным трудом натягивать ее, словно это был тугой дальнобойный лук, что натягивал его далекий предок, штурмующий в рядах полчищ Тимурленга упорно сопротивляющуюся крепость.
В столь большой рой не попасть было невозможно даже новичку, а для такого опытного охотника, каким был Мир-Джавад, это не составляло никакого труда. Но, попав в огромную жирную зеленую муху и убив ее, Мир-Джавад почувствовал такую острую, жгучую, режущую боль, которой он не чувствовал, когда осколок от бронированной машины нанес ему смертельный удар в живот.
Мир-Джавад закричал, ему казалось, что мир должен содрогнуться от столь страшного крика, но крик его был беззвучный, только рот его открылся и застыл в гримасе боли.
— Я выстрелил в себя! — такая была последняя мысль Мир-Джавада.
И синее небо взорвалось огненным вихрем, сменившимся чернотой…
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»…
О случившемся Гаджу-сану докладывал лично Гимрия.
Скорбь на его лице не обманула Великого Вождя. Он ясно видел, что в глазах у Гимрии мелькает огонь радости.
— Разрешите, повелитель, я лично полечу туда расследовать это дело. Провинция и ее районы остались без руководства, все погибли.
— Полети, полети! — лукаво усмехнулся Гаджу-сан. — Ты любишь туда летать, может, что-нибудь и найдешь. Сейф только не вскрывай, привези. Впрочем, я сам позабочусь об этом. А ты расследуй, расследуй: организаторов заговора привези ко мне, я хочу у них лично выяснить: до каких это пор будет продолжаться классовая борьба.
Гимрия побледнел, но покорно поклонился и стал, кланяясь, пятиться к двери.
— Подожди! — остановил его Гаджу-сан. — Васо сильно пьет?
— Честно скажу, Великий, трезвым я его давно не видел. С того самого злополучного дня.
— Скажи ему, чтобы зашел, поговорю с ним, поругаю, смотришь, на пользу пойдет… Еще один кандидат в мои преемники покинул не по своей воле этот мир, лучший из миров. Может, потеря друга примирит Васо с потерей ребенка. «Клин клином вышибают»! — так говорят.
— Каждое ваше слово повторяют миллионы, государь!
— Перед твоим отъездом соберемся, назначим моим наследником Васо!
Гимрия еще больше побледнел и по знаку вождя покинул кабинет. Гаджу-сан долго смотрел ему вслед, затем подошел к большому окну, прихватив по дороге библию. Темнело. Свет зажигать не хотелось, а у окна было еще достаточно светло.
На высотный дом поднимали лебедками огромный лозунг: «Слава нашей инквизиции, самой гуманной в мире»!.. Лозунг дергался на ветру, как повешенный на виселице.
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?..»
И Гаджу-сан замер у окна, глядя сверху на застывший перед ним в покорности город, и неожиданно для себя произнес он вслух три вечных вопроса, которые рано или поздно задает себе человек:
Откуда я пришел?
Для чего живу?
Куда иду?
Вновь распятый
1
Сад был огромен. И благоухал. Илюша ощущал магнолиевый запах, томный запах роз, резкий — гортензий, тонкий и нежный — ирисов. Сад отдаленно напоминал дендрарий, столь разные и редкие растения в нем росли, только не торчали могильными крестами надписи на столбиках, открывая равнодушному прохожему паспортные данные каждого дерева или кустарника, да не на каком-нибудь живом языке, а обязательно по-латыни, хотя латынь двадцать два года как не преподавали в школах страны, но всякий останавливающийся, даже возле обыкновенного бука или граба, обязательно, хоть по слогам, безбожно коверкая при этом название, или даже перевирая его, читал название по-латыни, величественно любуясь при этом не деревом или кустарником, а самим собой. Воинствующее невежество устанавливало свою культуру.
Илюшу привела в дендрарий мать, вернее, мама, по-другому он ее редко называл, иногда ласкательно: «мамуля». Да и то только в те, нежные годы, когда он не стыдился проявления ласковых чувств. А теперь, в среде подростков, таких же, как он, полу юношей, полумужчин, полудетей, нередко с развитыми бицепсами, какими может похвастаться далеко не каждый мужчина, но все равно не отличавшихся от других сверстников телячьим взглядом неопытных глаз, не принято стало выражать нежных чувств, а грубость уже считалась если не заслугой, то доблестью. Эти женские причуды раздражали Илюшу, вызывая у него чувство протеста, но только внутреннего, так как Илюша обожал мать, но вместо дендрария он охотно предпочел бы сходить с ней в кафе, где так таинственно веселились взрослые, и Илюша предвкушал, как бы он по возвращении домой, в город, лежащий на берегу другого моря, вернее, самого большого в мире озера, где жители, не поддаваясь на сомнительную лесть, по-прежнему считали Каспий морем, и рассказал бы приятелям о прелестях взрослой жизни, приписывая себе то, в своем воображении, чего не было и не могло быть, потому что всякая поэзия в кабаках упивается в прозу.
Но его маме, еще очень молодой женщине, нравились вечерние прогулки с почти взрослым сыном, перешедшим в последний, десятый, класс школы, они ей напоминали те чудесные времена, когда она, еще совсем юная девчонка, гуляла здесь с отцом Илюши, аспирантом института, где она училась, читающим ей, студентке первого курса, какую-то непонятную Илюше науку на кафедре. Отец теперь находился больше в командировках, чем дома, мать тоже пропадала на работе, Илюша был предоставлен самому себе. Свобода радовала, но иногда длительное отсутствие родителей угнетало Илюшу, и как-то раз, встретив на улице старого приятеля отца, он на традиционный вопрос: «как дела?» — остановился и стал жаловаться на одиночество и на то, что родители, очевидно, его не любят, раз исчезают на столь долгий срок. Приятель отца тяжело вздохнул и как-то непонятно произнес: «Лучше пропадать в командировках и на работе, чем в местах „не столь отдаленных“»… И тут же испуганно вздрогнул, побледнел, торопливо оглянулся и, не попрощавшись, убежал, во всяком случае, его уход был очень похож на бегство. Илюша долго с удивлением смотрел ему вслед, впервые тоскливо подумав, что быть взрослым, кажется, не такая уж и приятная штука.
Но каждый из них, из мальчишек, немедленно бы согласился на предложение волшебника — стать немедленно взрослым, только чтобы не ходить в школу. Правда, Илюша дал маме честное слово, что хоть в последнем классе он не будет сбегать с уроков, вступит в комсомол и возьмет не одно, как все, а целых два поручения, кроме всего, подтянется по математике.
Сад не был дендрарием. Но он не был и бывшим губернаторским садом, куда Илюша с одноклассниками ходили за сладкими стручками, каждую осень обильно устилающими землю возле деревьев, сквозь желто-палевые кроны которых виднелся легко и изящно возвышавшийся бывший губернаторский дворец, превращенный советской властью в филармонию, и не просто в филармоническое общество, дававшее концерты еще при существовании губернатора, а в народную филармонию, где зазвучали и мугамы.
Хорошо утоптанные тропинки вели в разные стороны, так что Илюша первоначально даже растерялся: по какой идти и в какую сторону, — но, вспомнив о Буридановом осле, погибшем от голода между двумя равноудаленными охапками сена, пошел по первой, на которую упал взгляд.
Идти было трудно и вязко: какая-то невидимая сила мешала, толкала назад, ощущение, словно приходится плыть против сильного течения, может, это и было течение времени, столь же бурное, что и горный поток, который, низвергаясь с вершины, подхватывает даже камни и уносит с собой.
Но шаг за шагом Илюша преодолевал длину тропинки, перескакивая через корни, так и норовящие дать подножку исподтишка и разбить в кровь пальцы ног. Корни все в морщинах, узловатые, как руки старухи, не корни, а застывшая гидра, Медуза Горгона, разметавшая навек в саду волшебные волосы свои.
Тропинка вывела Илюшу на поляну, устланную ковром из цветов и трав, ковром, источающим дивный аромат. Тонкое непрерывное жужжание говорило слуху столько же, сколько и зрению вид пчелы, размеренно и неторопливо сливающейся с цветками в любовном экстазе, где каждая сторона испытывает оргазм, кто от сладкой взятки, кто от опыления.
Посреди поляны, возле огромного пня от спиленного дуба, пошедшего, вероятно, на изготовление шикарной мебели в императорском дворце или во дворце его наместника, сидели прямо на земле, кругом, двенадцать оборванных бродяг. Они внимали тринадцатому сотоварищу по скитаниям, косясь одним глазом на хлеб и грубые глиняные чаши с черно-красным вином, живописно уставленные на тускло мерцающей поверхности пня.
Тринадцатый был столь яркой, запоминающейся внешности, что сразу же приковал к себе взгляд Илюши: лет тридцати трех, худой, среднего роста, он не привлекал к себе ни силой, ни мужеством, ни красотой. Но в нем было и то, и другое, и третье: мужество веры, сила духа, красота человечности. Его глаза не горели жестоким светом фанатизма, что подметил Илюша сразу в спутниках его, разрывающихся между жаждой слова и жаждой вина, между голодом, что насыщает лишь духовность, и голодом, что насыщает лишь хлеб, утоляет вино. И это противоречие читалось на их лицах, и с грустью смотрел на них тринадцатый. Провидец, предчувствуя кровавый путь его простого и светлого учения, логический ум еврея не мог воспрепятствовать варварской интерпретации, исказившей кривизной пространства великую небесную сущность, опустил ее серединой в ад.
Тишина и мир низошли на землю. Илюша не замечал даже признаков вечной борьбы за существование, столь присущее земле: никто никого не ловил, не хватал, не кусал, не жалил, чтобы за чужой счет продолжить безбедное свое существование.
Живая, но столь непохожая на живую, картина, открывшаяся перед Илюшей, заставила его сорвать на поляне цветок и поднести поближе, чтобы ощутить волшебный аромат и удостовериться, что он, Илья Семенович Гейзен, шестнадцати лет от роду, худой и с виду болезненный, хотя физически уступал лишь Митьке-силачу, которого учителя звали «остолопом», а в ловкости лишь Мешади-макаке, способного залезть на второй этаж по газовой трубе, он, Илюша, как его все звали от мала до велика, не спит.
Один из двенадцати бродяг, молодой, пожалуй, самый молодой, еще юноша, и к тому же красивый, но какой-то женственной, утонченной и ущербной одновременно красотой, быстро поднялся и, подойдя к тринадцатому, обнял его и нежно поцеловал.
И в то же мгновение Илюша увидел скрытого в кустах Карачая, начальника третьего отделения милиции, гнусного взяточника и негодяя, о сластолюбии которого ходили легенды. Карачай стоял совсем неподалеку, но Илюшу не замечал, может быть, потому, что во все глаза смотрел на бродяг. Одет был Карачай как-то странно: на ногах сандалии, обвивавшие тонкими ремешками ноги, кривые и волосатые; на теле… платье, не платье, балахон какой-то, стянутый широким кожаным поясом, усеянным медными бляхами.
Бродяги, насытившись духовной пищей, набросились на телесную: отрывая от ковриг хлеба большие куски, они жадно и торопливо ели, щедро запивая еду, весьма скудную, багряным вином, которое разливали два виночерпия, один — пожилой, неторопливый, весь седой, полный нездоровой полнотой, лил вино в чаши соседей, не забывая, впрочем, и себя, другой, столь же старый, но в остальном другой, полная противоположность первому, трясущимися от жадности руками наливал в основном только себе, осушая чашу одним большим глотком. Илюша сразу узнал в нем пьяницу, зарабатывавшего себе на жизнь и на выпивку хитрым трюком, он ходил по шашлычным и кебабным, кутабными тоже не брезговал, и заключал пари: брался одним глотком осушить бутылку водки, естественно, сразу же находились желающие посмотреть на этот фокус, заказывалась неоткупоренная бутылка водки, закуски при этом не полагалось, бродяга раскручивал содержимое бутылки и винтом вливал его себе в глотку, затем забирал выигрыш и уходил.
По мере того как два больших кувшина, глиняных, грубо вылепленных, опустошались, менялись и лица бродяг: только что были постными, с попыткой изобразить духовность, а через несколько минут стали багрово-наглыми, плотскими, без малейшего признака столь желаемой духовности.
А тринадцатый не выпил и половины чаши, не съел и трети небольшого куска, почтительно поданного ему безликим, словно тень, человеком. Он часто и меланхолично смотрел на небо, то ли ожидая знака, то ли просто наслаждаясь красотой заката. И не было на его лице страха или недовольства, обиды или презрения. Одно сострадание, окрашенное легкой дымкой печали и предвидения своей судьбы.
Но не таким был человеком Карачай, чтобы спокойно смотреть на чужое пиршество, даже такое скромное, если не сказать: «нищенское». Уж кто-кто, а Илюша его хорошо знал, как-никак соседствовали, а 3-е отделение милиции располагалось во дворе соседнего дома, что никак не влияло на количество краж в этом доме и в близлежащих домах, а может, и способствовало. Карачай не пропускал ни одного праздника, торжества, будь то свадьба или крестины, обрезание или защита диплома. И не дай бог, а тем более аллах, если кто-то забывал пригласить Карачая. Возмездие следовало незамедлительно, и враги ощущали всю степень своей непочтительности, всю глубину своего позора скаредности и безумства. Короче говоря, восстановление мира или хотя бы простое установление перемирия обходилось им значительно дороже.
Карачай подал знак, и на поляну со всех сторон из-за деревьев вышли такие же странно одетые люди, держа в руках кто длинную пику, кто меч. «Кино снимают!» — догадался Илюша и стал искать взглядом съемочную группу: операторский кран, осветительную технику и толпу помощников, кто с подсветкой, кто с хлопушкой, кто со сценарием, тенью прилепившийся к режиссеру, — испытывая почему-то жгучую обиду от того, что таких негодяев, как Карачай, приглашают сниматься в кино, пусть и не в главной роли, а его пробу не утвердили, а эпизод был такой славный, Илюша специально ходил смотреть эту картину, и она ему решительно не понравилась, а о том, насколько бездарно был сыгран тот, так понравившийся ему эпизод, и говорить нечего.
Но съемочной группы не было. Безусловно не было: трудно спрятать столь огромное войско вечно суетящихся людей в поисках утраченного времени. Да и не в их характере было прятаться, наоборот, всеми способами они притягивали к себе всеобщее внимание, разыгрывая свой привычный, «домашний спектакль», и неизвестно еще, что им было дороже: снять эпизод или произвести впечатление.
Бродяги в первый момент застыли живописной группой, но уже во второй они побросали чаши с вином и хлеб, кто на столешницу пня, кто на землю, и бросились в разные стороны, «задали стрекача».
Илюша улыбнулся наивности бродяг, столь плотными рядами шли со всех сторон многочисленные подручные Карачая. Но его улыбка растаяла без следа, когда он увидел, с какой легкостью просачивались и проскальзывали сквозь столь густые сети облавы. Они не уменьшались в размерах до комара и не превращались в невидимок, но их не замечали, даже сталкиваясь. Лишь раз один из бродяг получил пинок в зад, уж слишком сильно он столкнулся своим грузным и грязным телом с одним из ловщиков. Но и этот пинок только придал бродяге добавочную скорость, и он вскоре скрылся среди деревьев и кустарников вслед за остальными бродягами.
А ловщики неумолимо сближались, оставляя все меньше и меньше свободного пространства для тринадцатого, который на самом-то деле оказался Первым и Единственным. Даже тени волнения не мелькнуло на его печальном лице, а опечалилось оно при виде, как его спутники и ученики удрали, словно зайцы от борзых. Но и зайцами их было назвать трудно, где это видано, чтобы борзые не только не растерзали бегущих зайцев, но и не обратили на них никакого внимания, если не считать единственного пинка.
Провидец, не замечая ловчих, смотрел пристально в небо, долго смотрел: то ли вел неслышимый разговор с кем-то из небожителей, решаясь на что-то, то ли уже задавал вечный свой вопрос: «Пошто меня оставил?» Может, это что-то было столь важным, столь значительным, что решиться ему на это было мучительно тяжело и больно.
Но, решившись, он преобразился: печаль исчезла с его лица, свет твердой веры сделал лицо прекрасным, юным и каким-то неземным, и его изображение отпечаталось в огромных размерах на небе.
И, словно по мановению волшебной палочки, белая одежда ловщиков во главе с Карачаем почернела, покрылась густой и липкой жирной сажей, она пачкала, когда кто-либо из ловщиков задевал другого рукой или вытирал коротким рукавом балахона потный лоб.
Сжавшись до предела в кольцо, ловщики остановились, оставив минимум свободного пространства для Единственного. Но он оставался все таким же спокойным. И смотрел на своих преследователей не с гневом, но с жалостью. Он смотрел на них, как на неразумных, а они и были неразумными исполнителями чужой злой воли, они не могли действовать сами по себе, потому что для самостоятельных действий требовалось самостоятельное мышление, чего они начисто были лишены, мало того, что были лишены, так они еще и боялись самостоятельности, как огня, и Илюша хорошо понимал, что оснований у них для этого хоть отбавляй. Когда тот же Карачай приступил к исполнению своих обязанностей, молодой и энергичный, еще только в роли начальника участка, он арестовал кого-то не того, кого не только нельзя было арестовывать, но и думать об этом было нельзя. И весь участок был свидетелем, как к дому, где жил Карачай и, соответственно, Илюша, подъехала черная «эмка» с нулями первых цифр, и как из нее неторопливо вылез совсем юный, совсем еще мальчик, офицерик в черной форме войск НКВД, и как к нему пулей вылетел из дому Карачай, и как офицерик медленно, без эмоций и волнения, отхлестал его по щекам, отхлестал принародно, равнодушно так, ни одна черточка не дрогнула в его лице, и существенно подорвал авторитет Карачая, и вот, с тех пор, с того самого злополучного дня Карачай всеми ему доступными средствами стал утверждать свой пошатнувшийся авторитет. И чем гнусней и неразборчивей становились средства для такого самоутверждения, тем стремительней Карачай поднимался по служебной лестнице. Уже получил пост начальника одного из самых важных и центральных отделений милиции города, в радиусе действия которого были и ЦК партии, и горсовет, и, самое главное, особняк-резиденция первого секретаря ЦК партии Мир-Джафара Багирова, еще так недавно работавшего в разведке вместе с Лаврентием Берией, ставшим по велению Сталина генеральным комиссаром НКВД. Друзья, не жалея сил, поддерживали друг друга, и маленький толстячок, с неимоверной амбицией и с еще более неимоверной жестокостью, при всей своей глупости, стал диктатором. Вот с кого брал пример Карачай, его уже не удовлетворял пост начальника отделения, и он терпеливо собирал компрометирующие материалы на заместителя комиссара города и небезуспешно.
В свободное пространство внутри кольца важно вошел Карачай и двое его ближайших помощников, блюдолизов. Илюша их часто встречал: это они несли Карачаю в дом многочисленные дары, в том числе и с самого большого в городе рынка, расположенного на территории района, вверенного «защите» Карачая. Все и вся было обложено данью, регулярно выплачиваемой.
Карачай важно протянул Единственному какой-то свиток, очевидно, ордер на обыск и арест, но тот величественным движением руки отклонил его, не желая участвовать в дурацком спектакле. Но Карачая остановить было нельзя ничем, в фундамент своего авторитета он вкладывал обязательное соблюдение внешней официальной и обязательной атрибутики. И повторял любимую поговорку своего комиссара, по слухам, не то дальнего родственника, не то близкого друга «хозяина», самого Багирова: «Был бы человек, а ордер на его арест я смогу составить всегда!»
Поэтому Карачай, развернув свиток, долго, почти по слогам, читал постановление римского наместника, суть которого сводилась вкратце к следующему: схватить и препроводить во дворец наместника бродягу Иошуа, смущающего еврейский народ россказнями о мире во всем мире, о равенстве всех людей, в том числе самого императора, перед законом, что человек должен стремиться к богатству духовному больше, чем к богатству материальному, ибо лишь при таком соотношении возможно отсутствие зависти, что гласность — основа мирозданья. Но по обычаю того времени короткое и ясное понятие топилось в словоблудии юридического крючкотворства, в котором прокураторы и их писцы достигли такого совершенства, столь огромных высот, что часто сами себя опровергали. Верхом казуистики, примером, любовно передаваемым из поколения в поколение, было решение сверхосторожного судьи, который, не имея четких указаний своего сюзерена, отправившегося на охоту, вынес приговор знатному подсудимому: «Казнить нельзя помиловать!» Среди этих букв отсутствовала всего одна, но решающая, запятая, и палачи, единодушно поняв единственно понятный им смысл, казнили, по привычке, знатного заключенного. Но просчитались. Когда после удачной охоты вернулся их господин, в прекрасном настроении, то он, узнав о казни, страшно разгневался, говоря всем, что это был его любимец из любимцев, что он просто хотел пошутить. И палачей наказали, лишив прогрессивки на год, в течение такого длительного времени они должны были работать всего лишь за одну зарплату, не получая в свою пользу одежду казнимого. А судья, как всегда, вышел «сухим из воды». По его версии казнить было нельзя.
Единственный терпеливо, с кротостью слушал Карачая, ни разу не высказав возмущения, потому что ложка меда-правды была утоплена в бочке дегтя-лжи, в свитке были такие страшные обвинения, что обвинение в организации всемирного жидо-масонского заговора с целью разрушения Великой Римской империи, первой по счету, звучало в устах Карачая как обвинение в злостном хулиганстве, причем по части первой. Но подстрекательство к мятежу Бар-Кохбы, подготовка убийства Иосифа Джугашвили, шпионаж в пользу японской разведки грозили Иошуа, по мнению внимательно слушавшего Илюши, «десятью годами без права переписки».
Илюшин отец, когда приезжал в отпуск со своих строек, жаловался то на гнус и мошкару Белого моря, то на свирепые морозы Колымы и Магадана, Норильска и Бугульмы. И предостерегал сына от необдуманных поступков, разговоров, кое-что ему рассказывая, да и с матерью он вел разговоры в присутствии сына, правда, взяв с него еще давно «честное пионерское слово», что даже лучший его друг Сарвар не узнает ни единого слова из того, что говорится дома, а для «если спросят» Илюшу заставили выучить наизусть с десяток фраз, коротких и прямых, как лозунг, из которых самый непримиримый охотник за ведьмами мог бы составить для себя благоприятное мнение, а главное, для своего досье, о патриотическом облике семьи, преданно любящих Сталина и Родину.
Двойная мораль, скажете вы?.. Но пусть первым бросит камень тот, кто в те времена не лгал. Мертвые камнями не бросаются.
Единственный встал со своего трона, а троном ему служил причудливый пенек со спинкой, оставленный незадачливым лесорубом в далекие времена несовершенства бронзовых топоров, обработанный ножами, а еще больше временем, и медленно, плавно пошел, пересекая свое последнее свободное пространство в жизни. Да и то тут же двое блюдолизов Карачая пошли по бокам, рядом, а сам Карачай торжественно впереди. Круг ловщиков-загонщиков распался на две параллельные шеренги, и они, вооруженные мечами и копьями, с бронзовыми щитами, все, как один, внезапно, равномерно, сильно и звонко застучали мечами и копьями о щиты, выбивая соединением железа и бронзы грубые, воинственные звуки, салютуя победе своего предводителя, радуясь поражению пророка, не зная, что в каждом поражении зреет победа, как в каждой победе зреет поражение.
«Да это же репетиция! — воскликнул Илюша, наконец-то найдя правильное, верное решение. — Как это я сразу не догадался: в сумерках снимают лишь „режим“, кто же будет при таком свете без ДИГов пленку гробить, все равно же ОТК забракует».
Но звон становился все громче и громче. Звонкая трель будильника московского часового завода прервала сладкий сон Илюши. Илюша нехотя проснулся. «Что за религиозная чушь лезет в голову по ночам?» — отметил он. Еще сон пытался удержать его в своих объятьях, но уже левая рука потянулась к тумбочке, цепляясь за край, нащупывая дюйм за дюймом на поверхности тумбочки настырно неумолкающий будильник. Вот рука привычно дотянулась, а палец с наслаждением, словно давил насосавшегося клопа, утопил кнопку звонка в чрево будильника. И наступила тишина.
Но Илюша и не думал вставать. «Еще минут пять можно покемарить, только пять минут, не опоздаю», — успокоил он себя, с наслаждением погружаясь в теплые волны сна.
Вышколенный и выдрессированный сенбернар Раф так же привычно по звонку подошел к постели Илюши и стянул с него одеяло. Раф был не только пунктуален, он был лично заинтересован в этом действии, гулять с ним ходил только Илюша, да и кормил его только он.
Спал Илюша голым, при открытом окне, и холодное утро осени властно рассеяло все тепло любящего сна. Делать нечего, пришлось вставать. Илюша в поисках второго тапочка, как всегда, заброшенного под кровать, нагнулся, изловчился и дотянулся до тапочка, а когда, довольный от маленькой победы, первой в этот день, он вылез из-под кровати и, повернув голову, случайно встретился взглядом с умными глазами Рафа, мудрая собака-нянька была довольна послушанием подопечного, то очень захотелось Илюше запустить в него тапочком, но он знал, чем все это кончится: Раф с удовольствием бросится играть, и Илюша опоздает в школу. Не стоило начинать то, что не могло скоро кончиться, Илюша невольно вздохнул, но подавил в себе игривое настроение и стал настраиваться на деловой лад: быстро сбегал «куда надо», еще быстрее сделал обязательную по утрам зарядку, дал слово отцу, хочешь не хочешь, а выполнять надо, правда, сегодня себе он сделал поблажку, сократил упражнения до минимума, «все равно, сегодня физкультура, доберу на уроке»… И побежал в ванную. Все как у людей.
Еда на плите была еще теплой, Илюша не стал даже разогревать ее, быстро все съел, растущий организм требовал свое, и Илюша отсутствием аппетита не страдал.
Портфель был приготовлен с вечера, Илюша лишь быстро соорудил для себя и своего друга, Сарвара, бутерброды. Сарвар, один из двух лучших друзей Илюши, был вечно голодный, Илюша его старался подкармливать. В школе Сарвар делил с Илюшей бутерброды, но домой к Илюше заходить не любил, бьющее в глаза благополучие вызывало в его глазах такую боль, что Сарвар темнел и хмурился, а Илюша терялся, ему хотелось всем, что имеет, поделиться с Сарваром, но тот гордо и угрюмо отвергал все дары. Единственный дар, который Сарвар ценил, — это была дружба.
2
Тот, для кого Илюша готовил бутерброды, один из преданных его друзей, если не самый преданный, Сарвар, тоже собирался в школу. Он жил в старом городе, обнесенном обветшавшими крепостными стенами, древними и очень живописными. Но внешняя живописность, привлекавшая даже иностранных туристов, ни в малейшей степени не соответствовала внутреннему устройству жилищ, существовавших почти без света и элементарных удобств, всего одна уборная и один водопроводный кран на весь двор.
Сарвар проснулся от сладковато-тошнотворного запаха анаши. «Опять курила всю ночь!» — злобно подумал он, бросив взгляд в угол комнаты, где в полутьме, на широкой тахте спала сестра его матери, Соня, приютившая племянника после той злосчастной и зловещей ночи, когда люди в черной форме арестовали его родителей, и они навсегда исчезли где-то на севере, где исчезали в то время многие. Чем занималась тетка, Сарвар не знал, но догадывался: Соня редко ночевала дома, приходила пьяной и полдня отсыпалась. В последнее время она пристрастилась к наркотикам, поэтому на племянника перестала обращать хоть малейшее внимание, в доме частенько не бывало ни куска хлеба.
Сарвар поспешил занять очередь в уборную и к крану, умыться. У входной двери он столкнулся «нос к носу» с косоглазой Зейнаб. Та принюхивалась у двери.
— Что надо? — сонно спросил Сарвар молодую еще женщину, злобную и крикливую, ходившую всегда, сколько помнил себя Сарвар, в черном одеянии с головы до пят.
— Курочкой у вас пахнет в комнате?! — полувопросительно, полуутвердительно проговорила Зейнаб пронзительным и неприятным голосом.
— С ума сошла? — удивился Сарвар, забывший давно вкус курицы.
— Ты курицу мою украл, а я с ума сошла? — визгливо завопила Зейнаб. — Люди добрые! Мало того, что притон в доме устроили, так еще этот бандит самую лучшую курицу мою украл, убил и съел. Людоед проклятый!
— Какую курицу? Женщина, опомнись! — стал злиться в свою очередь Сарвар.
— А перо почему у твоей двери лежит? — ехидно прошептала неожиданно тихо Зейнаб.
— Спроси у ветра! — заорал на нее Сарвар. — А нужны другие доказательства, принеси свой вонючий горшок, я тебе его наполню, отнеси в лабораторию, там скажут, что я вчера вечером ел.
— Хулиган, беспризорник! — испуганно закричала Зейнаб, привыкшая к тому, что все во дворе, да что «во дворе», на всей улице не желали с ней связываться.
— Косая! — не остался в долгу Сарвар и побежал в уборную, где, к его удивлению, не было ни одного человека, очевидно, еще было слишком рано.
У Сарвара часов не было, и он обыкновенно вставал, приучил себя, с третьими петухами.
Зейнаб подняла такой хай, что разбудила весь двор раньше времени, но не раздался ни один протестующий крик, ни один возмущенный голос спросонья не «обложил» ее «пятиэтажным».
Но Сарвар уже не обращал ни на кого внимания. Да и Зейнаб внезапно успокоилась, и относительная тишина, прерываемая только звуками пробуждающегося дома, восстановила вновь относительный покой в маленьком дворике, где все знали про всех все…
Вместо того чтобы пойти обычным путем: вдоль крепостной стены, через западные ворота выйти к губернаторскому саду, как его продолжали все звать по привычке, и, нырнув в раздвинутые прутья ограды, пересечь его наискосок, выходя прямо к школе, Сарвар пошел бродить по узким улочкам старого города, было еще слишком рано до начала занятий, дома сидеть не хотелось, хотелось есть, а нечего, ноги тянули сами зайти к Илюше, жившему у самых западных ворот, позавтракать с ним по-человечески, Сарвар забыл, когда он так завтракал дома, в школе удавалось, Илюша наверняка притащит сегодня бутерброды, верный друг… Сарвар почему-то вспомнил, некстати, что Соня всегда морщится, когда ее племянник начинал распинаться, какой замечательный друг Илюша, а однажды у нее даже вырвалось: «Конечно, сын за отца не отвечает…»
Что она имела против отца Илюши, Сарвар не допытывался, честно говоря, боялся узнать что-нибудь такое…
Внезапно хлестнул выстрел, за ним без перерыва второй. В хрустальной тишине утра был слышен каждый шаг Сарвара, хотя он специально выработал «охотничий» шаг, так что револьверные выстрелы прозвучали как пушечные, спугнули стайку ворон с одинокого тополя, и те возмущенно закаркали, словно накликая беду, кружась в воздухе.
Сарвар помчался на выстрелы, несмотря на то что впервые кто-то невидимый шепнул ему: «Беги в другую сторону!»
Но Сарвар не внял этому невидимому, «зажегся» предвкушением необыкновенного приключения и побежал в переулок, откуда раздались эти выстрелы, радуясь удаче: будет что рассказать в школе.
Свернув в переулок, Сарвар сразу же увидел возле тупика две машины, а по обе стороны узкой кишки входа в тупик прячущихся за домами людей в знакомой черной форме, мужчин, вооруженных новенькими «вальтерами», Сарвар разбирался во всех системах стрелкового оружия, недаром же он вот уже пять лет ходил заниматься в стрелковый клуб, что рядом с горсоветом, за школой № 139.
Один из прячущихся в черной форме скользнул, как угорь, извиваясь, в тупик, но стрелок, невидимый Сарвару, был начеку, немедленно прогремел выстрел, и Сарвар, впервые в жизни, увидел, как стекает человеческое тело, прижавшись к стене, на брусчатую мостовую. Для человека в черном свет погас и время остановилось навсегда, а для Сарвара то же самое время неожиданно потекло медленнее, чтобы юноша до конца своих дней вспоминал, как маленький кусочек раскаленного взорвавшимся порохом свинца, врываясь в тело, изгоняет из него душу, или то, что заменяет ее у таких вот, черных.
«Еще одного!» — донесся до Сарвара возглас из группы вооруженных работников «карательных органов», так о них с гордостью писали газеты.
Сарвар подошел слишком близко, чтобы его не заметили, иначе и быть не могло, тупик начинался почти что сразу же за поворотом в переулок, и Сарвар, влетев в переулок, невольно оказался рядом с ближайшей черной «эмкой».
Один из черных обернулся и пристально посмотрел на юношу.
— Мальчик, подойди поближе!
Сарвар заметил две шпалы в петлицах, хотел дать стрекача, но почему-то ему стало стыдно своей секундной слабости.
«Мужчина не должен показывать опасности спину!» — прошептал он и подошел к начальнику, ничем не выдавая своего волнения.
Большой начальник внимательно посмотрел на стоявшего перед ним юношу и сразу же нашел нужный тон речи.
— Я призываю тебя помочь нашим ребятам!
— Я не вооружен, — прошептал скорее, чем сказал, Сарвар, надеясь получить оружие, такой же пистолет «вальтер», о котором столько рассказывали, но увидеть который пришлось впервые при таких вот странных обстоятельствах.
— Твое оружие — твои глаза и твоя молодость! — усмехнулся двухшпалочный.
— Что мне надо делать?
— Слушай: мы пытались взять шпиона, японского, очень опасного преступника, но какая-то сволочь его предупредила. Уже троих наших уложил. Стреляет, как бог! Ждал нас, гад.
— Если его предупредили, почему он не бежал? — удивился Сарвар, польщенный тем, что такой большой начальник доверительно беседует с ним.
Как быстро он забыл, что такие же люди, в черном, два года назад увели с собой его отца и мать.
Но комиссар уже не смотрел на Сарвара и не слышал его, обратив свой взор на сотрудника, огромного, как башня Гыз-галасы. Тот вышел из подъезда дома, стоящего на углу тупика. И на руках у него была маленькая девочка в ночной рубашонке, прикрытая тонким шерстяным одеяльцем.
Улыбаясь довольно, сотрудник подошел к своему начальнику и доложил со смешинкой в голосе:
— Задание выполнено, товарищ комиссар второго ранга… — и добавил: — Вот, взял напрокат, ребенок — прелесть, ангел.
— Смотри, чтобы этот ангел у тебя не улетел.
Подошел еще один сотрудник, небольшого роста, чуть выше Сарвара, почти так же молодо выглядел, без лишних слов взял Сарвара за руку и без труда, играючи, вывернул ему ее за спину. Сарвар от неожиданности ахнул, попытался вывернуться, да где там, словно стальные тиски сжимали его руку.
— Не трепыхайся, не дергайся, все будет хорошо! — тихо шепнул сотрудник на ухо Сарвару, смотревшему с мольбой на комиссара.
Большой начальник взволнованно потер нос, напомнив этим Сарвару жест учителя по географии, Моисея Давидовича.
— Ну, с богом! — сказал комиссар сотрудникам. — Идите медленно, чтобы он все как следует разглядел.
— Ясно! — коротко ответил молодой и ткнул Сарвара в затылок «вальтером». — Пошли медленным темпом!
Он закончил музыкальную школу и очень этим гордился. По классу гитары.
Человек-гора в черных галифе с гимнастеркой, держа на ладонях перед собой еще не проснувшуюся девчонку, уцепившуюся испуганно за шею «дяди», пошел первым.
Сарвар, за которым шел его спутник, подталкивавший довольно энергично и больно пистолетом, двинулись следом. Сарвар попытался было спрятаться за широченной спиной человека-горы, скорее инстинктивно, чем от испуга, испуга, как ни странно, не было совершенно, но стальная пружина руки «музыканта» безжалостно вытащила его из-за спины человека-горы, а тихий и бесстрастный его голос незамедлительно пояснил:
— Иди рядом с ним, смотри перед собой и не нагибай голову, а не то я тебе ее оторву!
Девчонка, вытащенная из теплой постельки в одной рубашонке, продрогла на свежем утреннем воздухе и стала тихо боязливо плакать.
Подкованные сапоги сотрудников в такт цокали по булыжнику.
Так, почти строем, они и вошли в тупик.
Сарвар посмотрел наверх и увидел в окне второго этажа седого мужчину с револьвером в руке. А потом он увидел его глаза. Недаром Сарвар славился своим соколиным зрением, удивляя врача на медосмотре. «Летной зрение, две единицы!» — говорил всегда с восхищением врач-окулист, вытирая платком свои очки. И Сарвар ясно увидел, как появилось удивление в глазах седого, затем растерянность, дуло револьвера заплясало странным танцем, дергаясь совсем не в такт своим неумолимым черным оком циклопа, как растерянность сменилась решимостью, а печаль увлажнила черные еще молодые глаза, так не похожие на глаза шпиона.
И седой смотрел в глаза юноши, прикрывавшего собой одного из подчиненных его бывшего лучшего друга и соратника по революционной борьбе, а затем по работе в разведке, и понимал, что в его жизни остался всего лишь один выстрел, и шептал не имя жены, не имена несчастных своих детей, чье будущее было мрачным, если не страшным: «Жаль, еще два патрона останутся».
А может, и не шептал, а слова эти беспрерывно бились у него в мозгу, чтобы разлететься от последнего выстрела вместе с мозгами по стенам комнаты. Правда, один раз вплелась другая мысль, горькая, как и все последние минуты в его жизни: «Лаврентий! Обещал ты мне прекратить террор!»
Малышка забилась в истерике, и ее пронзительное: «ма-а-ма!» — разрывало сердце. Седой отпрянул от окна. Глухой выстрел, раздавшийся в глубине комнаты, остановил продвижение сотрудников лишь на миг.
Сарвар сразу почувствовал освобождение от стальных оков. Его спутник молнией метнулся в дверь дома, оставив Сарвара стоять в тупике.
Человек-гора бережно опустил на брусчатку тупика ревущую девчонку, и, прежде чем скрыться в том же дверном проеме, ловко достал из кармана гимнастерки шоколадную конфету и вручил ее рыдающему младенцу, а затем ласково и бережно провел огромной ладонью по девчоночьей кудрявой головке на прощанье.
Через несколько секунд в окне, где за подоконником Сарвар видел седого, появился молодой сотрудник, державший Сарвара железной хваткой, и безмолвно нарисовал в воздухе рукой, держащей «вальтер», крест, большой и очень впечатляющий.
Тотчас же тупик наполнился и остальными сотрудниками карательной службы. Один за другим они исчезали в темном проеме двери. Лишь двое молчаливых неотступно находились при главном начальнике.
Комиссар неохотно шел в дом своего бывшего друга, не «вписавшегося» в новый порядок, и остановился возле Сарвара и девочки, которая испуганно прилипла к нему, но молчала, не хныкала, потому что забила рот конфетой, умудрившись засунуть ее целиком.
— Трусил? — участливо спросил начальник.
— Ни капельки! — с бравадой ответил Сарвар. — Он застрелился?
— К сожалению! — притворно вздохнул комиссар. — Впрочем, он и так ничего не сказал бы… А ты — молодец! Скажи, из какой ты школы и свою фамилию.
Сарвар, смущаясь, назвал себя, сообщил номер школы и какой класс. Один из сопровождавших безмолвных охранников без всякого напоминания аккуратным почерком записал все сказанное Сарваром в своем блокноте.
Комиссар совсем по-отечески потрепал Сарвара по вихрам.
— Орден не обещаю, — сказал он вполне серьезно, — но благодарность командования будет точно!
Комиссар исчез было в дверях, но через секунду показался вновь.
— Отведи малышку домой, Сарвар, и передай мое огромное спасибо ее матери, — сказал он и, махнув на прощанье рукой, скрылся уже навсегда, потому что больше Сарвар не встречался с ним в своей жизни.
Малышка задергала Сарвара за штанину, торопя его уйти побыстрее, но какая-то сила просто приковала Сарвара к этому тупику.
«Если бы не навязали мне эту сладкоежку, — подумал Сарвар, — обязательно поднялся бы в квартиру посмотреть на логово врага».
Но ребенок, очевидно, уже проглотил конфету, и недовольное хныканье заставило Сарвара отказаться от своего естественного желания. Взяв курчавого ангелочка за липкую, испачканную в шоколаде, ручонку, Сарвар повел ее в тот подъезд, откуда, как он заметил, всего несколько минут назад вышел с девочкой на руках человек-гора.
— Как это тебя мама отдала? — удивился он, спрашивая скорее себя, чем девочку.
— Мама спит! — безмятежно ответила успокоенная конфетой малышка. — Я видела.
— Что, хочешь сказать, что тебя взяли без разрешения? — не поверил Сарвар.
— А я не знаю, — улыбнулась девочка, — я проснулась, а мама еще спала, а дядя вошел, унес… А за что тебе другой дядя выворачивал руку? Ты украл что-нибудь?
Очень хотелось Сарвару сказать ей что-нибудь вроде «дуры», но, взглянув на ее действительно ангельскую мордашку с огромными сияющими глазами, он сразу расхотел обижать такую лапушку, язык у него не повернулся на ругань.
Войдя в подъезд, они поднялись по крутой деревянной лестнице. Дверь в квартиру была открыта.
— Я здесь живу! — доверительно прошептала девочка. — Ты не заходи, а то мама ругаться будет.
Она спокойно вошла в свою квартиру и захлопнула за собой дверь.
Сарвар поразился крепкому сну матери малышки. На пути в школу, правда, некоторые размышления у него вызвал способ, с помощью которого была открыта квартира, но особенно над этим он не задумывался, чтобы поспеть в школу, надо было поторопиться.
Прошло всего минут двадцать — двадцать пять с того момента, когда Сарвар услышал выстрелы, а ему казалось, что прошла целая жизнь, пусть другая, но столько впечатлений он не получал и за год.
3
В десятом «Б» классе близнецов Костю и Валю звали довольно нахально: «разнояйцовые».
Мешади Саидов, по прозвищу «макака», как-то Опросил на уроке биологии у Александры, Ивановны: «Александра Ивановна! Почему Костя и Валя не похожи друг на друга, они же близнецы?»
«Потому что они разнояйцовые!» — выпалила занятая журналом старая учительница, не поднимая головы.
Но затем она спохватилась, зорко глянула на Мешади и тут же выгнала его из класса: «Убирайся и скажи отцу, чтобы сегодня же зашел ко мне домой, я ему прикажу тебя выпороть».
Александра Ивановна слыла поборницей высшей нравственности. Когда-то она была директором частной женской гимназии, и мать Илюши у нее училась, о чем всегда вспоминала с ужасом, но, пути господни неисповедимы, Александра Ивановна вспоминала о ней с нежностью, узнав, что Илюша — сын ее любимицы, она перенесла часть нежности, вызванной в основном воспоминаниями о прежней счастливой жизни, на него, хотя и не думала скрывать своего разочарования, что ее Ниночка, краса и гордость гимназии, из старинного дворянского рода, пусть и младшая обедневшая ветвь, вышла замуж за еврея. Илюша как-то случайно подслушал, как мать рассказывала отцу о муже Александры Ивановны, руководителе черносотенного «Союза русского народа», сразу же исчезнувшего из города после прихода Одиннадцатой Красной Армии в неизвестном направлении. Александра Ивановна до революции очень гордилась своим особым положением и с удовольствием читала своим ученицам приветственные телеграммы, подписанные Пуришкевичем, Дубровиным и Крушеваном. Но теперь Александра Ивановна скрывала свои антисемитские чувства, а на своих скучнейших уроках по ботанике, зоологии и биологии умудрялась через слово вставлять изречения товарища Сталина, большей частью не к месту, что ее совершенно не смущало.
Лишь однажды переполнившее ее душу юдофобство выплеснулось наружу: «Товарищ Сталин как-то сказал в своем историческом выступлении по радио, что евреи не могут считаться народом: у них нет общей территории, общего языка, общей культуры. Не случайно Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие враги народа из „промпартии“ и среди бухаринцев были евреями. Правда, и среди евреев есть много достойных людей: товарищ Каганович, например, или Эренбург, любимый писатель нашего вождя. Но все они считают себя не евреями, а советскими людьми… Ты не согласен со мной, Илюша?» — добавила она, заметив легкую гримасу на лице Ильи Гейзена.
Что вы, Александра Ивановна! — дипломатично ответил Илюша. — Не сомневаюсь, что товарища Кагановича вы лучше меня знаете, но вот мой тезка, Илья Григорьевич Эренбург, еще до революции написал такое вот стихотворение:
«Но со стороны матери ты принадлежишь к столбовым дворянам!» — парировала Александра Ивановна и злобно закричала на Мешади-макаку: «Вынь руку из кармана, ты чем это занимаешься на уроке, поведай-ка классу?»
«Я за резинкой полез!» — обиделся Мешади, но покраснел до корней волос.
«Резинку в пенале носят!» — победно усмехнулась Александра Ивановна, переключив внимание класса со своего поражения в словесном споре с Илюшей на первого, кто попался ей на глаза, она это хорошо умела делать.
Александра Ивановна преподавала и в другой школе, но и в ней о ее жестокости и издевательствах ходили жуткие истории. Во дворе у Вали ее подруга как-то рассказала ей про свою одноклассницу, пытавшуюся отравиться снотворным, а все из-за того, что Александра Ивановна обвинила ее на уроке, что та разрешает соседу по парте залезать рукой к ней в трусы.
Ненавидя революцию, Александра Ивановна боролась с ней своими, только ей понятными и доступными способами. Ее политических оценок боялись не только педагоги, но и родители учеников. Догадываясь, что многие исчезли по ее доносам, остальные жутко ее боялись, и это развязывало ей руки для дальнейших упражнений в ненависти.
Такие грустные мысли смущали душу Илюши по дороге в школу, и только единственная мысль о Вале доставляла трепетное удовольствие…
А Валя торопила Костю быстрее собираться в школу и заодно «пилила» его:
— Ну с Митькой ты дружишь, это понятно, — первый силач в классе… С Илюшей, — здесь она заметно смутилась, — тоже понятно: он тянет тебя почти по всем предметам, одна физкультура у тебя в почете… Но я не могу понять и никогда не пойму, почему ты липнешь к этому подонку Игорю? Он же нас за людей не считает. Или ты надеешься, что если его отец получит приказ арестовать наших родителей, сыночек заступится?
— Дура, не смей таких слов произносить, накаркаешь! — рявкнул на нее брат.
— Не дурней тебя, умник! — обиделась Валя. — А знаешь, что твой новый друг приставал ко мне с гнусными предложениями. И не только ко мне.
— Не давай повода! — отрезал Костя. — Я же вижу прекрасно, как ты жаждешь этих предложений от Илюши.
Валя побледнела и резко отвернулась, ничего не сказав брату.
— Ладно, пошутил! — пошел сразу на попятную Костя. — А отец Игоря, между прочим, сам ходит на задержание шпионов и диверсантов.
Сестра его не слушала. Для брата ничего не значили его слова, но они смутили Валю не потому, что не соответствовали действительности. Отношения Вали и Ильи давно перешагнули черту дружбы и приятельских привязанностей. И хотя об этом не было сказано ни слова, Валя чувствовала, что Илюша ходит к ним не заниматься с Костей, вернее, не только заниматься с братом, а чтобы увидеть ее, побыть лишний раз с ней в одной комнате. Наедине им ни разу еще не приходилось оставаться, но Валю уже не раз посещали «греховные» мысли о том, что не плохо было бы и остаться. И приятно было думать о самом первом свидании.
— Что застыла, в школу опоздаем! — вернул ее на землю Костя.
И они побежали на занятия…
4
По спартанской обстановке комнаты Игоря нельзя было понять о могуществе власти его отца, перед которым трепетали, льстя и унижаясь.
Игорь заранее, еще лет с семи, стал готовить себя пойти по пути отца. «По проторенной дорожке», — шутил он. Кроме книг по криминалистике, он признавал лишь приключенческую литературу, и в огромном шкафу его личной библиотеки можно было найти все, или почти все: от Ната Пинкертона до «Головы профессора Доуэля».
Мещанские вкусы матери Игорь откровенно презирал. Каждый раз, проходя через гостиную в свою комнату, он болезненно морщился: столовый гарнитур красного дерева с золоченой бронзой откровенно кричал о богатстве владельца если не тысячи душ, как при крепостном праве, то тысяч душ в новом понимании этого слова. Вместительная пузатая горка и подставец были буквально забиты хрусталем, серебром и фарфором. Разность стилей яснее ясного говорила об отсутствии вкуса у дорвавшихся до богатства новых повелителей жизни. Впрочем, все вещи, за исключением тайных подарков в виде драгоценностей, сделанных во имя облегчения чьей-нибудь разрушенной судьбы, были на вполне законном основании приобретены на распродаже конфискованного имущества у врагов народа, где жене комиссара были предоставлены преимущественные права, правда, после жены самого Тагирова.
А сам Игорь преклонялся только перед силой власти. Он уже несколько лет ясно видел, каким почетом, смешанным со страхом и унижением, были окружены люди НКВД, чья зеленая и черная форма вызывала своим одним видом сердечный приступ. Что они говорили, никем не обсуждалось, что они делали, никем не оспаривалось и не опротестовывалось.
В комнату Игоря величественно вплыла его мать в халате, на котором извивались вышитые шелком китайские драконы.
— Игорек, ты не опоздаешь в школу? — ласково пропела она.
— Обязательно опоздаю! — хмыкнул сын. — Обожаю опаздывать.
— Отец никогда и никуда не опаздывает! — гордо уколола сына мать. — Мне все говорят: «Елена Владимировна, мы сверяем время по вашему мужу!»
— Они тебе безбожно льстят, Елена Владимировна! — усмехнулся Игорь.
Он всегда подтрунивал над матерью, хоть и любил ее.
— Ну, что ты! — запротестовала мать. — Они все такие милые, доброжелательные люди.
— Ладно, ма! — снизошел сын. — Если ты хочешь, чтобы я не опоздал, скажи Егорычу, пусть меня отвезет.
— Папа будет недоволен! — нахмурилась мать. — Он запретил.
— Он запретил, а ты разрешишь! — ласково улыбнулся матери Игорь. — Егорыч тебя слушает беспрекословно. Отец еще долго будет спать. Я поражаюсь, удивительно: он спит, — ты бодрствуешь, он бодрствует, — ты спишь! Когда это вы умудрились найти время, чтобы сотворить меня?
Елена Владимировна покраснела, как девочка, смутилась и не нашлась, что ответить, а потому сразу выпалила дежурную фразу всех родителей:
— Мал ты еще на такие темы рассуждать! — и поторопилась перевести разговор на другую тему. — Кстати, ты почему при встрече с домработницей щиплешь ее за… — она вновь смутилась, — за бедро?
— Это ей нравится, — засмеялся Игорь, — я доставляю человеку удовольствие.
— У тебя дурной вкус, — презрительно заметила мать, — что ты в этой тумбе нашел?
— Я пока не искал, — пошутил Игорь. — А что, стоит?
Елена Владимировна разгневанно фыркнула и, не говоря ни слова, круто развернулась и вышла из комнаты сына. Но Игорь вскоре услышал, как она на кухне, где кормила завтраком шофера Егорыча, стала приказывать:
«Егорыч, если вы уже наелись, отвезите, пожалуйста, в школу Игорька. Он вчера на теннисном корте ногу растянул. Приедете, я вас обедом накормлю».
Игорь, торжествуя победу, сделал стойку на руках, но не удержался и шлепнулся на паркет, вскочил и, отбив короткую чечетку, побежал ублажать мать.
Егорыч, положив себе за правило ничему не удивляться и неукоснительно выполнять все требования хозяина и его дражайшей половины, не споря, отставил в сторону недопитый стакан с чаем, торопливо засунул недоеденный кусок сдобной булки в рот и, жуя на ходу, отправился заводить машину.
Елена Владимировна, увидев сына, гневно отвернулась от него, но Игорь ласково ее обнял и теплым голосом, нежным и задушевным, подластился:
— Ты — мое золотко! И как отцу удалось украсть такую красавицу, диву даюсь! Давай, мир?
Мир был немедленно восстановлен. Елена Владимировна растаяла и, поцеловав сына, шлепнула его чуть ниже спины:
— Беги, а то и на машине опоздаешь!..
По дороге в школу Егорыч, бросая взгляд в зеркало заднего обзора, больше рассматривал сидящего рядом с ним отпрыска хозяина. Игорь победно смотрел на торопящихся пешком школьников, снисходительно улыбаясь красивым девочкам.
«Ну и „фрукт“! — усмехаясь, думал про себя Егорыч, сохраняя на лице невозмутимость и равнодушие. — Новая порода барчуков. Все больше и больше становятся похожи на тех, в Германии… Насмотрелся, когда работал в посольстве. Как весело они хохотали, заставляя стариков и старух с нашитыми желтыми шестиконечными звездами мыть тротуар своими зубными щетками… Победители, хозяева жизни!.. И смерти!.. Такие убивают легче, чем мы шлепали гадов в гражданку… Если правда то, о чем говорится в слухах о лагерях, то скоро и мыслить станет опасно. Сколько дней меня таскали в „Большой дом“? Не помню, день за месяц шел. А что вспоминать? Не посадили, и на том спасибо. Витька вон взъерепенился, стал на них орать, теперь, говорят, в Караганде, на угольке. И не возит, а рубит. А это не одно и то же. Я еще легко отделался. Правда, здесь не Берлин, но жить можно. Вино, фрукты — все дешево. Паек приличный, да и хозяева подкармливают. Хорошие люди. Наследник уже другой. Этот кормить не будет, даже на кухне. Он из людей автоматы понаделает: кнопку нажал — пошел, кнопку отжал — стой, другую кнопку нажал — говори, отжал — молчи и не высовывайся».
Но Игорь никогда и не обращал внимания на каменно-равнодушное лицо Егорыча. Для него тот был «обслуживающим персоналом». К тому же, как он понял из разговора отца с матерью, чем-то проштрафившийся, просто так сюда из Берлина не сошлют.
Очень любил Игорь это ощущение власти, ощущение сопричастности к такому, о чем простые работяги вряд ли и догадываются. Все принимают его за равного, а он — не равный. Он рожден, чтобы повелевать. Во имя единственного вождя человечества.
Игорь дал знак остановить машину за два квартала до школы, возле входа в губернаторский сад. Выйдя из машины, он даже не потрудился закрыть дверцу за собой, не попрощался, не обернулся, чтобы поблагодарить Егорыча. Пружинистой походкой спортсмена он легко зашагал, нагоняя Серегу Шпанова, своего верного оруженосца, которого все в классе за глаза звали «лизоблюд».
А Егорыч почему-то страшно разозлился, глядя на его легкую походку.
— Ногу растянул! — тихо пробормотал он, закрывая дверцу за Игорем. — Совесть свою растянул, да так, что она давно лопнула.
И, резко развернувшись, так что чуть было не столкнулся с трамваем, он помчался назад, к своему хозяину, спавшему после охоты на людей, словно верный пес, которого случайно вывел на прогулку другой. Словно его одолжили на время.
5
Серега Шпанов успел с утра подраться. Глядя на его тщедушную фигуру, в это было трудно поверить, но это было так. Один туалет на десять квартир очень способствует этому. Особенно, когда тебе очень нужно, а в эту минуту кому-то очень срочно. Этим другим был Акиф, силой не уступавший Сереге, хоть и был на три года моложе, к тому же имевший многочисленную родню и дружков, которые в случае чего могли и заступиться.
Обиднее всего, что, пока они дрались за право первому войти в туалет, Зейнаб-«сикильдя» прошмыгнула в него, разрешив таким образом спор.
Пришлось выбросить пальцы. Выиграл Акиф, а Сереге ничего не оставалось делать, как дать сгоряча подзатыльник Зейнаб, как только она выскользнула из туалета в коридор. Та, естественно, подняла дикий крик, словно ее режут, или, по меньшей мере, насилуют. На крик выскочил отец Зейнаб, в отличие от дочери-спички, скорее похожий на борца-тяжеловеса, и тут уже Сереге пришлось спасаться бегством за своей дверью.
Вдобавок мать ушла на работу, как всегда, ни свет ни заря, а еды ни крошки не оставила, потому что обидел ее вчера Серега, матом покрыл, вот она и отыгралась: всю еду, а ее и не так много было, увезла с собой.
Поторкался, поторкался по комнате Серега и, убедившись в тяжелом характере матери, отомстил ей, надул в ее ночной горшок и поставил его под ее кровать.
Чтобы хоть немного приглушить грызущий кишки голод, Серега вышел на кухню, попить водички из-под крана, а там другая соседка, Елизавета Израилевна, кормит свежеиспеченными пирожками свою ненаглядную трехлетнюю Беллочку, перед тем как отвезти в детский сад.
«Первый раз на кухне кормит, — злобно подумал Серега, — так все время в комнате, втихаря».
А Беллочка еще кочевряжится: «Я в садике буду, со всеми!»
Елизавета Израилевна ее терпеливо уговаривает: «Ешь, мое сокровище, ну, что там за завтрак, смеяться и то стыдно, а уж есть и подавно. Ты лучше съешь два пирожка с мясом и два с изюмом, а со всеми в садике поковыряешься в пригорелой каше и выпьешь так называемое какао, какое там какао, так, одно недоразумение».
— А у вас, Елисавет Исраиловна, дверь в комнату настежь! — правдиво соврал Серега, а когда Елизавета Израилевна пулей вылетела из кухни, воров боялась до неправдоподобия, сглотнув голодную слюну, вкрадчиво, вполголоса предложил Беллочке: — Давай, я за тебя съем пирожки!
— Ты — плохой! — отказала девочка, закрыв рукой тарелку с пирожками. — Мне бабушка запретила с тобой водиться.
— Жидовское отродье! — рявкнул обозленно голодный Серега.
— Бабушка! — завопила на всякий случай Беллочка, испуганная выражением лица Сереги, так как она не знала произнесенных им слов.
Елизавета Израилевна была уже тут как тут, молча влепила тяжелой рукой оплеуху пятнадцатилетнему оболтусу, и тот, даже не пикнув, пулей вылетел из кухни, слыша за собой, как Елизавета Израилевна выспрашивает у внучки, чем ее обидел «этот подросший уголовник».
Со свинцовой тяжестью в сердце и со злобным урчанием в желудке Серега, бормоча себе под нос матерную ругань, без адреса, так, льющейся «словесным поносом», быстро собрал учебники и тетрадки, необходимые для сегодняшних уроков, сунул их в военно-полевую сумку, единственное наследство, как и память, от сгинувшего в бессрочной командировке отца, и побежал на занятия.
У входной двери путь ему преградила массивной глыбой Елизавета Израилевна.
— Еще раз услышу эти грязные слова — вырву язык! — мрачно пообещала она.
И уже молча всучила смотревшему волчонком подростку теплый сверток, где, завернутые в пергаментную бумагу, сладко пахли пирожки, а затем, открыв дверь, вытолкнула Серегу за порог.
Серега, вечно голодный, здесь же, на площадке, умял все четыре пирожка, два с мясом и два с изюмом, тоскливым взглядом выброшенного на улицу пса, может, еще подбросят, посмотрел на столь знакомую входную дверь, на ней внизу уже проглядывало плохо замазанное краской слово, которое обычно пишут на заборах, пять лет прошло с тех пор, а Серега задницей все еще помнит ту коллективную порку, устроенную ему матерью и отцом Зейнаб…
Подъехавшего на шикарной машине Игоря Серега узрел сразу же. Ему стоило подавить в себе рабское желание подбежать к машине, чтобы отворить дверцу своему другу-врагу и тем самым приобщиться к избранным. К Игорю Серега испытывал двоякое чувство: восхищение и ненависть. Ненависть вызывала у него иногда желание убить. С самым гордым видом, который он мог себе позволить, Серега быстро прошагал мимо машины. Сколько себя помнил Серега, он всегда был один. Одноклассники, пробегавшие мимо, никогда не пристраивались к нему обменяться вчерашними новостями, хотя бы об увиденном кино или проигрыше ЦДКА. Не любили его ребята за вечную его злость и ненависть, так, «волчонком», и звали его между собой.
И лишь один Игорь занимался им: приблизил, сделал «правой» рукой, но, «дрессируя», все время ощущал какую-то опасность, исходившую от Сереги. Но это его не пугало и не останавливало, наоборот, прибавляло сил.
— Привет! — хлопнул, нагнав, по плечу Серегу Игорь. — Патриций проходит мимо, не удостоив плебея взглядом.
— Плебеи ездят на «одиннадцатом» номере! — огрызнулся Серега.
— Злой, значит, голодный! — констатировал Игорь. — Придем, сделаем ревизию маминому завтраку. Она меня вечно снаряжает, будто на Северный полюс.
— Ел я! — солидно сообщил Серега. — Пирожки: два с мясом и два с изюмом.
— Ну? — удивился Игорь. — Не иначе у еврейки украл.
— Не опускаюсь! — обиделся Серега. — Сама всучила.
— Соблазнить решила? — рассмеялся Игорь, сводивший в последнее время все разговоры к сексу.
Серега не любил манеры разговора Игоря с ним, его вечных подтруниваний. Все ему казалось, что Игорь над ним издевается.
— Бабуся? — не поверил он.
Но Игорь и не думал над ним издеваться. Его действительно с каждым днем все сильнее и сильнее тянуло к эротике. Удивленный вопрос матери направил его мысли на домработницу Варвару, родом из далекого молоканского села. Когда раскольники из секты молокан появились на Кавказе, никто уже и не помнил, но то, что только лишь после завоевания Кавказа — это уже точно. Варвара делала почти всю домашнюю работу, черную, во всяком случае, всю. Только окончательный процесс приготовления пищи был в руках матери Игоря, бывшей поварихи ЧК в маленьком приволжском городе, где комиссар начинал свою карьеру рядовым агентом. Елена Владимировна теперь гордилась фантастической карьерой своего мужа, но никогда никому не говорила о том, что это она способствовала столь быстрому взлету его карьеры. Способствовать ей она могла лишь одним, древним и хорошо проверенным способом — своим телом, и успешная интрижка с молодым кавказцем, которого все почтительно звали Лаврентий Павлович, быстро привела ее мужа к вершине власти. На самом деле это она взошла на вершину власти, но так как без супруга ей было бы трудно использовать эту власть, то Елена Владимировна берегла жизнь комиссара, как свою, и, в первую очередь, от отравления. Вот почему она тратила каждый день по два часа драгоценного времени на то, чтобы кормить основу своего благополучия неотравленной пищей. А еще, честно говоря, она экономила на кухарке, тем более что всю самую трудоемкую часть работы: разделку мяса, чистку овощей, — делала все та же Варвара. Появилась она в семье уже давно, в голодный год, тощим и жалким подростком, Игорь подозревал, что она была дочерью какого-нибудь раскулаченного. По иронии судьбы убежище от жизненных невзгод она нашла у одного из самых яростных и ревностных гонителей кулаков. Со временем она отъелась здесь, по ее выражению, до «состояния здоровья». Варвара работала без выходных и праздников, правда, ее брали и на закрытые просмотры фильмов, и в театры. Сытая пища и приказ хозяйки никуда не отлучаться довели Варвару до такого состояния, когда щипки хозяйского сына стали ей казаться вожделенной лаской, и она вызывающе стала поглядывать в его сторону и перестала запирать дверь в свою маленькую «темную», без окна, комнату, за что немедленно поплатилась: комиссар, вернувшись как-то поздней ночью возбужденным после допросов «с пристрастием», торкнулся к ней по привычке и, найдя дверь комнаты не запертой, зашел и молча, спокойно изнасиловал сонную. Варвара испытывала перед ним такой благоговейный ужас, что не закричала, даже когда ей стало действительно больно…
6
Школу многие любят. Многие не любят, некоторые даже ненавидят. Но мало таких, если они вообще есть, которых школа оставляет равнодушным, слишком уж значительную часть детства и юности она высасывает из наших душ, почти ничего не давая взамен, выбрасывая в водоворот жизни, как щенков бросают в воду, обучая плавать: выплывешь — твое счастье, утонешь — так природа распорядилась.
Илюша чувствовал, что школа — не то место, где можно раскрыться его натуре. Школа давала ограниченный минимум сведений, из которых лишь математика и физика, да частично география с иностранным языком могли пригодиться в дальнейшем, все остальные предметы были построены на лжи и фальсификации. Последние четыре года ученики так часто были вынуждены вымарывать из учебников портреты героев и вождей, которые в одночасье превратились в предателей и шпионов, расстрелянных «волей народа», и столько их повымарывали, что в некоторых, зиявших сплошными черными дырами, оставался лишь портрет вождя трудящихся всего мира Сталина, с его знаменитой лучезарной улыбкой на чистом лице, ничего общего не имевшем с жестокой плотоядной на обезображенном оспинами естественном лице, о котором мало кто знал, а те, кто знал, предпочитал помалкивать, потому что даже до портрета в учебниках дотрагиваться нельзя было не только чернилами, просто грязными пальцами. Могло привести к совершенно неожиданному результату: два года назад одноклассник Вадька, толстый флегматик, невозмутимый во всех случаях жизни, вечно жующий что-то на всех переменах, случайно дотронулся масляным пальцем до изображения вождя в учебнике, оставив жирное пятно. А его соседка по парте, скандалистка Шахла, только что вступила в ряды Ленинского комсомола и вся «горела» сделать карьеру. Она тут же выдала Вадьку и сообщила везде, куда только смогла. Вадьку выкинули из комсомола, затем из школы и отправили в школу ФЗО. А через месяц был арестован его отец.
Илюша недавно встретил Вадьку. Тот был уже худым и злым и перемежал свою речь через слово матом. Дыхнув на Илюшу водочным перегаром, Вадька спросил: «Эта сука еще не стала комсомольским лидером?»
Илюша сразу понял, о ком он спрашивает. Шахла дневала и ночевала в горкоме комсомола.
«Еще нет, но она уже заместитель секретаря школьной организации и почему-то член бюро горкома».
«Курва пойдет по телам и постелям в лучезарное завтра!» — Вадька сплюнул столь злобно, словно плевал и метил прямо Шахле в физиономию.
Он, не прощаясь, покинул Илюшу, а тот долго еще смотрел ему вслед, ясно видя перед собой семилетнего мальчугана, боксирующего с таким же сверстником в первый день первого учебного года. Почему-то эта сцена врезалась надолго, если не на всю жизнь. Боксировали, молотили кулачками друг друга, стараясь не бить в лицо, а глаза их столь явно светились жизнью, что, казалось, освещали полутемный коридор. Заполненный бегающей ребятней, он не был похож, ничего общего не имел с той пустой и холодной громадой, с которой Илья столкнулся год назад, когда он с мамой привели на экзамен к директору соседней школы, старому Арону Моисеевичу Шейну, шестилетнего Андрюшу, самого младшего и самого любимого члена семьи. Андрюша бойко, даже с некоторой лихостью, прочел абзац из книги, столь неинтересной, что ни одного слова из текста нельзя было вспомнить, стоило выйти из кабинета, и написал печатными буквами свои имя, фамилию и отчество, сделав всего лишь две грамматические ошибки, да букву «и» написал в зеркальном отражении. Ободренный всеобщим вниманием и ласковой улыбкой директора, окунувшись в лучезарное сияние любящей матери, Андрюша расхрабрился совершенно и прочел наизусть стихотворение Чуковского «Тараканище». Илюша сразу вспомнил, как вечно пьяный сосед Аркаша уговаривал Андрюшу выучить это стихотворение и продекламировать его во дворе, этого Аркашку все презирали и сторонились, потому что мало того, что он был стукачом, он еще и бравировал этим, при каждом удобном случае, и неудобном, напоминая окружающим, что он — стукач. А Андрюша еще нахально уставился прямо в портрет товарища Сталина, прочно утвердившийся в каждом кабинете огромной страны, освещавший своей неизменно доброй улыбкой каждый кабинет, Илюше даже показалось, что губы под усами зашевелились и четко произнесли: «Нэ-э!» А голова отрицательно покачалась.
И очень уж двусмысленно звучали слова:
Директор школы с трудом разжал враз посиневшие губы и решительно прервал декламацию младшего брата:
— Хватит, хватит!
Директор и мама двух сыновей так побледнели, что испугали Илью.
«Что это с ними? — удивился он. — Как бы в обморок не грохнулись».
Но, взглянув на портрет усатого вождя, он сразу же все понял: эти два интеллигента боялись друг друга смертельно.
«Наверное, оба сразу подумали: „Устами младенца глаголет истина!“» — решил про себя Илюша.
Андрюша тоже испугался, потому что испугалась мама, и сразу начисто забыл и про Чуковского, и про школу, где так ему хотелось учиться, чтобы поскорее вырасти, стать взрослым. Оказалось, что взрослая жизнь совсем не сладкая.
— Кто тебя этому научил? — с трудом шевеля дрожащими губами, спросила мать, нервно облизывая мгновенно пересохшие губы.
— Аркашка! — с испугом выдал Андрюша, назвав уничижительным именем стукача.
Мир взрослых задал ему еще одну неразрешимую загадку, которую он сумел разгадать лишь только тогда, когда стал взрослым.
— Никогда не повторяй того, что слышишь дома! — назидательно выдохнул Арон Моисеевич. — А это стихотворение Чуковского забудь. Пушкина читай. Пушкин — вечен, на все времена! «Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем…» А в школу тебе еще рано. Погуляй годик, подрасти. Успеешь стать еще взрослым, надоест даже. Поверь, это заманчиво только в твои годы. А у меня инструкция…
Андрюша, понурив голову, вышел из кабинета директора. Илья последовал побыстрее за ним, чтобы утешить брата. Мать задержалась на несколько минут, а когда вышла из кабинета, то на лице ее алели красные пятна, а глаза выглядели зареванными. Было сразу видно, что слова, услышанные ею от директора, были малоприятными.
Она подошла к сыновьям, устало погладила Андрюшу по голове и сказала:
— Идем, чтец-декламатор!
И жалкая улыбка мелькнула на ее лице.
Андрюша неожиданно смертельно обиделся:
— Если я плохо читал, все равно, нечего меня обзывать разными матерными словами уличными. Сама обещала меня за такие слова пороть.
И горький осадок впервые выпал на дно его пути, чтобы с каждым годом увеличивать его.
7
Никита Черняков засыпал, едва его щека касалась подушки, и спал как убитый, «пушками не разбудишь», — говаривала его бабушка, большая любительница понежиться с утра в постели, но чьей святой обязанностью было будить внука по утрам в школу, иначе проспит.
В это утро Никиту никто не будил, но он сам проснулся еще затемно. Впервые в жизни ему приснился сон, в котором какие-то смутные видения постепенно складывались в мозаику: два гиганта, два великана с лицами йети, снежного человека, подняли за руки — за ноги его тело, затем один из них сказал: «бросай, ничего под ним нет», — и они бросили его, тело Никиты, в разверзнувшуюся бездну, и Никита полетел, пытаясь подражать полету птиц, но тщетно, ничего у него не получалось, ветер свистел в растопыренных пальцах, плотный для птиц воздух издевательски выливался из рук, черная бездна неумолимо засасывала, скальный грунт грозил расплющить тело в некое подобие месива, но удар был неожиданно мягким и смыл все предыдущие ощущения и впечатления.
Было странно тихо. Открыв глаза, Никита сразу же увидел в спальне страшный беспорядок. Спросонья подумав: «Во, бабуля дает!» — он собрался было повернуться на другой бок и продолжить самое лучшее в мире занятие — добрать минут сто сна, как внезапно другая мысль буквально подбросила его на кровати: «атас! нас, кажется, гробанули!»
Желание поспать сразу улетучилось, уступив место азарту следователя.
«Что это они все белье на пол побросали? — подумал Никита. — Бриллианты, что ли, искали? Квартирой ошиблись. Им бы этажом ниже, к „брынзе“ заглянуть. У этого доктора добра хватит. Даже брюлики!»
«Брынзой» мальчишки двора называли доктора Шора, а «шором» на базаре называли соленый творог. Медная до блеска начищенная пластинка с его реквизитами была привинчена к притолоке и являлась давно предметом невероятной зависти для всех мальчишек, но… привинчена она была высоко и добросовестно, жалкие попытки отколупнуть ее с помощью стамески или отвертки успеха не имели, да и бдительная мать доктора, словно обладала способностью видеть сквозь стену, неслышно открывала дверь с хорошо смазанным замком и лупила «диверсантов» длинным тонким прутом куда попало, стараясь не трогать глаза, за что ее уважали и почтительно звали Шоршей.
Никита несколько удивился, что не слышит причитаний бабушки. Отсутствие матери с отцом его не смутило, пни уходили на работу ни свет ни заря, как подчеркивала бабушка, но чтобы родную бабулю что-то могло выгнать из дому так рано, к тому же оставив столь явный разгром, трудно было представить, и Никита встревожился: «Не тюкнули ли нашу драгоценную дворянку, от слова „двор“»? — подумал он.
Сна как не бывало. Никита вынырнул из теплой постели, поежился от легкого холодного сквозняка и прошлепал босиком из спальни в столовую, где застыл столбом от увиденного: вся мебель была сдвинута со своих мест, выброшенные из гнезд ящики стояли на попа, а содержимое небрежно валялось рядом, на полу, и гнезда для ящиков сиротливо и слепо смотрели черным ослепшим взглядом. Книги горой были свалены в дальнем углу как попало, пустые книжные полки выглядели нелепо оголенными, раздетыми и словно сами смущались своего невольного бесстыдства. Пианино было развернуто к стене почти под прямым углом и частично разобрано, деревянные молоточки белели стройным рядом, резко выделяясь на фоне потемневших струн, колков и чугунной рамы.
Никогда у Никиты не возникало желания заглянуть в нутро инструмента, а теперь он зачем-то внимательно всмотрелся вглубь рамы, игриво оттянул молоточек и отпустил его. От удара струны слабо, нехотя отозвались легким звуком. Никита обошел инструмент и заметил, что на невидимой еще им стороне инструмента, той, что всегда повернута к стенке, внизу была частая металлическая сетка, трудно было сразу догадаться, для чего она нужна здесь, но совсем нетрудно было догадаться, для чего ее разрезали, ловко, профессионально, словно «медвежатники» орудовали, вскрывая сейф.
Гнал от себя правду Никита, допуская любой невероятный грабеж, но, еще разок окинув взглядом разоренную квартиру, он все же понял, кто похозяйничал ночью в доме и почему нет ни одной живой души.
«Неужто и бабку забрали?» — с ужасом подумал он.
Рушилась жизнь столь великолепно им самим организованная. Никита сам с удовольствием ходил на все митинги и собрания и громче всех кричал: «Смерть врагам трудового народа!»
Смерть!.. Это она прошлась сегодня ночью, под утро, уже в его собственном доме, это ее холодные руки поднимали и бросали Никиту, вот что означала увиденная во сне черная бездна. Его, правда, оставили жить на свободе, но надолго ли? Правила игры были столь сложны, что в них запутывались иногда и сами играющие.
Никита растерялся. Только теперь, когда он остался один, он вдруг ощутил, что семья, родители и старенькая бабушка были для него крепкой опорой, фундаментом мироздания. И от предчувствия полного одиночества Никита аж похолодел.
В передней щелкнул замок, кто-то вошел. Никита перво-наперво подумал, что это явились за ним с ордером на арест, чтобы отвезти в тюрьму, может, куда-то в другое место, мало ли потаенных мест, специально построенных для подобных нужд. Но тут он услышал знакомые всхлипывания и причитания родного голоса и бросился опрометью в прихожую, где обрадованно схватил в объятья заплаканную старушку, совершенно убитую горем.
— Бабуля! Родная! Тебя хоть не забрали…
Ирина Федоровна была столь ошеломлена столь неожиданным поведением внука, его необычной и негаданной нежностью, что сразу же перестала стенать и плакать.
— Так ты все понял?
— Что тут понимать? — помрачнел Никита. — Ежу ясно! «Если будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем Ежовым!»
— Ежова уже расстреляли! — довольно сообщила бабушка. — Берия сейчас! Наш, кавказец! Рассказывают, что многих отпускают, дела все пересматривают. И наших отпустят. Ошибка какая-то вышла…
— Органы не ошибаются! — перебил бабушку Никита.
— Ты что, очумелый? — воскликнула пораженная словами внука бабушка. — О родителях такое…
— А они обо мне подумали? — возмутился Никита. — Как я теперь в школе появлюсь, ты подумала? — Я — секретарь школьной комсомольской организации.
— В такую трагическую минуту, — патетически воскликнула бабушка, — ты думаешь о своей засранной организации. Родителей еще власти не осудили, а сын уже осудил…
— Ты, бабка, мне контрреволюцию здесь не разводи! — завопил Никита. — За такие слова…
— Иди, доноси! — тоже завопила бабушка. — «Железный Феликс!» «Павлик Морозов» недорезанный…
— Это ты — княгиня недорезанная, — не остался в долгу Никита, — и сын твой — есаул. Я напишу…
— Пиши, пиши! — прервала его бабка. — Только штаны сначала надень, писатель. Достоевский!
И бабка, сплюнув на пол, ушла в спальню, где принялась собирать разбросанное белье, жалобно подвывая и причитая.
Никита бродил, как потерянный, из угла в угол.
«Что делать? — лихорадочная мысль не давала покоя. — Легко было этому идиоту-демократу задавать никчемный в те времена вопрос. А что мне делать?»
Пора было собираться в школу. Никита поспешил принять душ, «может, в последний раз», над остатками его семьи нависла еще угроза быть незамедлительно выселенными из отдельной квартиры в какую-нибудь халупу, а то и в комнату в квартире с десятью соседями, а то и выселением в «места, не столь отдаленные».
После душа, как ни странно, напряжение исчезло, спасительная мысль, мелькнув, сразу же овладела им, всем его существом, единственная, как ему показалось. Больше он не принадлежал себе, обстоятельства диктовали ему свою волю, вытравляя сопротивляющуюся совесть, а она мучительно болела и не желала умирать.
После душа Никита торопливо оделся и выскочил из дома, не позабыв прихватить с собой толстый кусок белого хлеба и кусок батона сырокопченой колбасы. «Когда еще такую поешь?» — подумал он. В его возрасте уже сажали в тюрьму и лагеря. «Баланда вряд ли заменит сырокопченую колбасу, хотя с голодухи все сожрешь». Поначалу он механически жевал, но с каждым проглоченным куском он все больше и больше ощущал вкус пищи и удовольствие от вернувшегося аппетита.
Никита спустился вниз по Красной улице, вернулся на Лермонтовскую и вышел к редакции газеты «Гудок свободы», в здании которой находилась еще одна редакция газеты «Рабочий», где, как хорошо знал Никита, работала мать Илюши Авербаха.
Так рано он еще никогда не выходил из дому. Даже дворники, поливавшие участок улицы, включающий асфальт, деревья и кустарник, подозрительно смотрели ему вслед. Впрочем, наверняка, это ему лишь казалось. Не было им никакого дела до еще одной разбитой судьбы.
В редакции газеты «Рабочий», несмотря на столь ранний час, было много народу. Транспорт все время ходил плохо, а за опоздание на работу отдавали под суд, могли и в тюрьму посадить, и те, кто жили в отдаленных районах, приходили за час раньше начала работы, по теории падающего бутерброда транспорт приходил вовремя. Глядя на них, и самые острожные, из живущих вблизи, стали тоже приходить на час раньше. «Лучше на час раньше в редакцию, чем вовремя на лесоповал». Эта шутка облетела весь город и бумерангом ударила по автору. Правда, до лесоповала он не доехал даже с опозданием: зарезали в тюремной камере, сонным, проиграв его жизнь в «буру».
Вахтер редакции злобно сверкнул глазами и грубо спросил Никиту:
— Чего тебе, бала?
«Меджнун» — так звали его между собой сотрудники редакции, а многие издевались над его вечными поисками своей «Лейли».
— Объявление хочу дать! — смутился неожиданно Никита.
Карлик засмеялся, будто немазаная телега проехала мимо.
— Хорошее дело задумал, пехлеван! — проговорил он ласково, почти пропел. — Иди в этот кабинет.
И, неожиданно цепко ухватив Никиту за плечо, повел его к заветной двери, на которой на одном винте болталась дверная ручка. Отпустив плечо Никиты, карлик осторожно открыл дверь и с уважением произнес:
— К вам посетитель, Нина Александровна!
Никита вошел в кабинет и увидел мать Илюши, а карлик закрыл за ним дверь и ушел на свой пост. Никита специально пришел именно в редакцию газеты «Рабочий», потому что здесь работала Нина Александровна, хотя ее сына Никита терпеть не мог и звал его за глаза «боярин с прожидью», а вот почему он ему завидовал, он и сам не знал, но один вид Ильи его раздражал.
— Никита? — удивилась столь раннему визиту Нина Александровна. — Собаку потерял?
— У меня нет собаки! — вежливо ответил Никита.
— Так какое же объявление дать? — Нина Александровна захотела улыбнуться симпатичному парню, но не смогла.
«Что-то случилось!» — подумала она. И вновь ощутила знакомую боль в сердце, догадавшись сама: какое объявление хочет дать этот красивый уравновешенный юноша, соученик ее старшего сына, комсомольский вожак школы. Почти каждый день ей приходилось давать такие объявления, люди были разные, плохие и хорошие, она умела разбираться в людях, различать их, но слова были одни и те же, словно под трафарет написанные, менялись лишь фамилии, имена и отчества.
— Объявление обычное: «Я, Черняков Никита Иванович, — равнодушно начал Никита, — отрекаюсь от своих родителей и торжественно заявляю, что ничего общего не имел и не имею с ними в мыслях и в действиях…»
«Это что-то новенькое!» — вздрогнула Нина Александровна, но послушно достала чистый лист бумаги из ящика стола и карандаш.
— Садись за стол и напиши заявление при мне и подпишись. Число не забудь поставь, — сухо сказала она, пряча глаза, чтобы Никита не прочел в них презрение.
— А можно вчерашним числом? — спросил Никита, не обращая внимания ни на бумагу, ни на карандаш.
Нина Александровна внезапно почувствовала, что теряет сознание. Никита, заметив ее бледность и муторное состояние, мгновенно сориентировался, схватил со стола графин с водой и налил полный стакан воды.
— Выпейте, пожалуйста, воды! — поднес он стакан Нине Александровне. — Вы так побледнели. Вам плохо?
Нина Александровна машинально взяла стакан и выпила воды.
— Спасибо! — сказала она, ставя стакан на стол.
Никита достал из портфеля заранее приготовленное заявление и положил его на стол рядом со стаканом.
— Извините, Нина Александровна, я вчерашнее число поставил, — виноватым голосом произнес он. — Так надо! Вы уж меня не выдавайте… Сколько с меня причитается?
Нина Александровна молча выписала квитанцию. Плата за такие объявления была чисто символическая.
Никита стал доставать деньги, но Нина Александровна жестом остановила его.
— Заплатишь в кассе! — сухо сказала она, давая понять, что разговор окончен.
Но, когда Никита вышел из кабинета, из глаз Нины Александровны брызнули слезы. Она на секунду представила себе, что ее Илюша вот так же войдет в кабинет и спокойно положит на стол, за которым будет сидеть уже другой редактор, заявление с отречением, к тому же датированным задним числом. И этот редактор, как и она, будет вынужден потворствовать злу и подлости, даже не из трусости, а от полного бессилия, думая тоже о том, что, возможно, и его очередь близка.
Но тут же Нина Александровна устыдилась своих мыслей, своего недоверия к сыну, да и слишком немногие, по сравнению с нескончаемым потоком арестованных, бежали, потея от страха за свою шкуру или из боязни повредить карьере, отрекаться от родителей, родных и близких.
Встречались Нине Александровне, правда, и другие люди, те, со слезами на глазах, пылая краской от отвращения к самому себе, робко протягивали листочки, в которых были написаны слова отречения, продиктованные им другими, заинтересованными людьми. Но в данном случае Нина Александровна столкнулась с явным предательством, холодным и расчетливым. И уж от Никиты, соученика ее сына, комсомольского вожака, которого она всегда хотела видеть в друзьях Илюши, втайне переживая, что между ними нет даже простого понимания, Нина Александровна не ожидала такого предательства.
Никита вышел из редакции, пряча квитанцию, с чувством, какое бывает лишь у человека, избежавшего смертельной опасности… Волнение еще не покинуло, не исчез еще полностью страх, но появилась надежда на то, что удастся выпутаться из цепких лап, заграбаставших его родителей.
«Сарвар был совсем маленьким, когда арестовали его родителей, и то с ним, кроме Илюши, никто не разговаривает, не общается, избегают, это только наш „христосик“ необрезанный не боится общаться с сыном врага народа, если не дружить, то поддерживать товарищеские отношения. Он и с Никитой будет с удовольствием дружить, подаст руку помощи, только пусть он катится со своей помощью ко всем чертям. Не нужна мне жидовская помощь. Погубили Россию, а теперь со своей благотворительностью лезут»…
В школе пока никто ничего не знал. Ни ученики, ни педагоги. Такие вещи не скроешь. Стоит им только лишь узнать, сразу начнут шарахаться, как от зачумленного. Сейчас вот все здороваются, все ему рады, а как узнают, сразу все поменяется, как по мановению волшебной палочки: испуганные взгляды и пустота вокруг. Непонятно только, каким образом столь быстро выработался кодекс поведения. Люди какие-то стали странные, с переключателями, что ли? Щелкнул тумблером, и человек улыбается, еще щелчок, он тут же кричит: «Смерть шпионам!» Механические создания, мозги всем заменили на набор шестеренок, приводов, насосов. «Кто за?» «Все! Единогласно!» И щурились добрые глаза, справедливая улыбка озаряла рябое, с тщательно загримированными оспинами, лицо, по-домашнему дымилась трубка, а узловатые в пальцах руки неслышно аплодировали самому себе, благословляя гром оваций и истерические крики кликуш, с горящими глазами отбивающими себе ладони.
Первый же урок поставил все на свои места. По расписанию была история. Но когда Никита увидел Амину-ханум, математичку, вошедшую с журналом в класс, он даже улыбнулся от внутреннего восторга: «Точный ход. Я им всю игру разрушу. Ишь, заводит себя!»
Амина-ханум умела, как никто другой, распалять себя, свой гнев. Только что, как будто бы, она говорила на отвлеченную тему, сравнивая «Веселых ребят» с «Волгой-Волгой», а уже через секунду, безо всякого перехода, она, пылая праведным гневом, обрушивалась на собеседника, обвиняя его в правом уклонизме или в том, что он твердо стоит на платформе троцкистско-бухаринского блока, чем вызывала инфаркты, иногда и со смертельным исходом.
— Амина-ханум! Вы ошиблись! — радостно защебетала староста класса, отличница Агабекова. — Сейчас у вас урок в параллельном классе. А у нас — история!
Но Амина-ханум величественным жестом заставила ее замолчать.
— Пора бы тебе уяснить, Агабекова, что я никогда не ошибаюсь! — торжественным и звенящим голосом, что служило верным признаком высшей точки кипения праведного гнева, отчеканила Амина-ханум. — Садитесь!
Бульканье кипящего металла в голосе парторга школы не предвещало ничего хорошего. Самый невинный начинал испытывать саднящий душу страх. Шум в классе сразу стих, все мигом расселись по местам, стараясь ненароком не стукнуть крышкой парты.
Амина-ханум с обидой посмотрела на Никиту. Она считала его своим выучеником. И вот, он так подвел ее. Она искренно переживала свою ошибку. «Кадры решают все!» А она чуть было не порекомендовала своего протеже в горком комсомола. Хорошо еще, что выручила эта малолетняя проститутка Шахла. С кем она спала, Амина-ханум сразу догадалась. «Высоко, очень высоко сумела поднять ноги!» И завидовала.
— Черняков, ты ничего не хочешь сказать классу? — торжественно начала она.
— Что я должен сказать? — Никита старался быть спокойным, хотя предательская дрожь медленно и неотвратимо стала подниматься по ногам.
— Ну, для начала, где твои родители? — сурово произнесла Амина-ханум.
У Никиты перехватило горло, словно комок застрял, слова не мог выговорить. Все сделал, как надо, рассчитал, казалось, все, и все было просто. Только этого спазма он не предусмотрел.
— Что ты молчишь, как пень? — взвинчивала себя Амина-ханум. — Встань, когда с тобой говорят.
Никита с большим трудом выполз из-за парты. Ноги дрожали, хотелось дико пить, в горле першило, словно пыли наглотался, предательский холод полз медленно и неотвратимо по рукам, начиная от кончиков пальцев.
Класс тихо загудел. Агабекова, втайне симпатизировавшая Никите, наивно воскликнула, доказывая Игорю, сидевшему перед ней: «Может, они в Испании погибли?» Издевательский хохоток Игоря, прозвучавший ей в ответ, словно подхлестнул Никиту, привел его сразу в «норму».
— Родители сегодня ночью арестованы органами безопасности, — тихо начал он, но по мере того, как говорил, голос его креп и становился все звонче и уверенней, — но я еще вчера написал заявление в газету «Рабочий», что отказываюсь от родителей, так как их образ мыслей и поведение не соответствует моему и даже враждебен.
Мгновенно в классе установилась мертвая тишина. Амина-ханум тоже застыла в растерянности, не зная, как ей прореагировать на непредусмотренный тайной инструкцией и предварительной беседой с директором школы поворот событий.
Первым пришел в себя Игорь. Коротко хохотнув, он громко одобрил:
— Сагол, секретарь! Вот это — финт ушами. Опередил события. Уважаю за прозорливость, баш уста! Мастер, э! Всегда верил в тебя.
Но никто не поддержал Игоря. Никита затылком и всеми другими частями головы чувствовал молчаливое осуждение класса. Нечто вроде ужаса воцарилось на лицах учеников.
Сарвар, не любивший Никиту за вечную брезгливость по отношению к себе, поначалу, после слов уже Амины-ханум, почувствовал к нему сострадание: «Третий в классе, хлебнет теперь он лиха!» Но, после слов Никиты, Сарвар почувствовал такое омерзение, такое нежелание жить, что испугался.
— Да-а! — растерянно протянула Амина-ханум. — Это меняет дело. Надо посоветоваться. Но, как ты сам понимаешь, комсомольским вожаком тебе уже не быть.
— Комсомольское собрание решит! — заупрямился было Никита.
— Я прослежу за этим! — пообещала Амина-ханум. — Партия заинтересована в своей смене. Кадры решают все!
— Хорошо! — поспешно согласился Никита. — Я потребую переизбрания и сниму сам свою кандидатуру.
— Так будет лучше! — успокоилась Амина-ханум.
— Для кого? — спросил Игорь, но ему никто не ответил.
Амина-ханум не торопилась уходить.
— Приятной неожиданностью, — радостно-торжественный тон свидетельствовал уже о перемене «декораций»: трагедия окончилась, начался дивертисмент, — для нашей школы явился героический поступок ученика вашего класса Сарвара Мамедова. Он сегодня утром помог нашим доблестным работникам НКВД обезвредить опасного врага нашей чудесной многонациональной родины, шпиона и диверсанта. Враг стрелял в нашего замечательного мальчика, гордость школы. От руководства НКВД ему объявлена благодарность.
— Час от часу не легче! — завистливо протянул Игорь. — Не класс, а паноптикум знаменитых личностей. Где твоя боевая рана, о, великий соученик? Не сидишь ли ты на ней?
— Он не стрелял в меня! — тихо поправил Амину-ханум Сарвар. — Он в себя выстрелил.
Амину-ханум такой пустяк не остановил.
— Он целился в тебя, мог выстрелить, но, когда убедился, что комсомольцев не запугать, только тогда, может быть, и застрелился.
— В тупике, рядом с тобой? — быстро спросил Сарвара Игорь.
— Да! — сухо ответил Сарвар.
— Арутяна брали! — самодовольно поделился новостью Игорь. — Утром шофер рассказывал в кухне матери. Но благодарность просто так не дают. Значит, ты помог его задержать.
Сарвар вспомнил долгий взгляд так и несдавшегося человека и почувствовал жгучий стыд.
«Кажется, я ничем не лучше Никиты!» — подумал он.
Но стыд быстро прошел, тенью мелькнул.
Никита был счастлив, что внимание класса переключилось на Сарвара, он теперь мог смотреть в окно, не ощущая презрительных взглядов. Впрочем, дураков не было. Все и так все хорошо понимали и если не принимали, то хотя бы не осуждали, потому что никто не мог дать гарантию, как бы поступил он, случись такое с ним, а кто мог дать гарантию, что никогда так не поступил бы, те просто не могли смотреть в сторону Никиты, брезгливость мешала.
Амина-ханум внезапно, не прощаясь, вышла из класса. И тут же ее сменила историчка по прозвищу «коза», вульгарная особа, к тому же заика. Ее знаменитое «мее-е-е-трополия» и послужило основанием дать ей такое прозвище.
— Че-е-е-рняков, к доске! — скомандовала она.
Но Никита не отреагировал. Он был далеко мыслями отсюда, был столь счастлив, что внимание класса было перенесено на Сарвара, а ему была предоставлена возможность спокойно смотреть в окно на деревья, роняющие пожелтевшую листву, что даже не заметил «смены декораций».
Неожиданно он вздрогнул и непонимающими глазами уставился на «козу», невесть когда сменившую Амину-ханум.
«Коза» запустила палец в нос и, добыв козявку, несколько секунд сосредоточенно ее исследовала, затем, вздрогнув всем телом, вновь вперила свой кроткий взгляд в Никиту, словно только что вспомнила о его существовании.
— Ты оглох, Никита? — «коза» вытерла палец о стул, на который она тяжело рухнула, как только зашла в класс.
Никита подтолкнул Мешади, с которым сидел за одной партой, заодно спросил тихим шепотом:
— Что хоть нам задали по истории?
— Клянусь, не знаю! — почему-то испуганно ответил Мешади, давая дорогу.
Никита вышел к доске, стараясь сосредоточиться и быть спокойным. Что бы ни спросила «коза», он уже год как вызубрил «Краткий курс истории ВКП(б)». А уж против цитат из этого учебника возражать никто не посмеет.
Встав у доски, он приготовился отвечать, тем более что краем глаза увидел, что Агабекова приготовилась ему подсказывать.
— Ска-а-жи, Че-е-ерняков, где-е-е твои ро-одители?
Хохот класса ошеломил ее. Никита стоял мрачный и, сверкая глазами, испепелял ее взглядом.
«Коза» проблеяла:
— Не ме-е-е-шайте!
Вездесущий Игорь ласково улыбнулся от удовольствия, а он всегда получал удовольствие от любой неординарной ситуации, встал и пояснил испуганной историчке, трепетавшей от неожиданной реакции класса.
— Вы, «ко…», Елизавета Акимовна, опоздали. Нас уже Амина-ханум просветила.
— А-а-а! — тихо проблеяла «коза». — То-о-гда са-адись! — велела она Никите.
Никита сел на свою парту, мысленно проклиная и «козу» и свой класс, внезапно ощутив, что рана, нанесенная ему, никогда не заживет и будет вечно кровоточить в душе, подобно свищу, то закрываясь, то открываясь вновь, реагируя на малейшее прикосновение к нему. И его «ход конем» может спасти ему лишь шкуру, но никогда не вернет спокойствие и уважение к самому себе. Никита поймал взгляд Илюши и сразу же вспомнил утренний взгляд его матери, в котором удивление смешалось с болью и презрением, и опять почувствовал глухую ненависть к «полужиденку».
«Чистюля! — злобно подумал он. — Отец его проектирует и строит концлагеря, если Игорь не врет, а сын спецпаек жрет и еще корчит из себя святого. Ненавижу!»
А Игорь не унимался:
— Елизавета Акимовна! Может, вы нам и о нашем герое Сарваре скажете что-нибудь новенькое? Не наградили ли его, например, почетным оружием?
— Дире-ектор мне-е ниче-его не-е го-оворил об э-э-этом! — отмахнулась «коза».
— Ме-е-е! — проблеял кто-то на задней парте.
Тихий смешок прошелестел по классу, но «коза» не обращала на насмешки никакого внимания, она их просто не замечала, углубляясь в чтение журнала и запустив для успокоения нервов указательный палец глубоко в ноздрю в поисках очередной «козюли»…
Шесть уроков тянулись для Никиты, как шесть лет перед расстрелом: и мгновенно, и вечно. Каждую перемену он крутился перед кабинетом директора школы в надежде, что его вот-вот вызовут и решат его судьбу, неведение, «подвешенное состояние» для него сейчас были тягостнее всего. Толчея и суета, царившая вокруг него, частью которой он был еще вчера, сегодня были вне его и не задевали, создавая вокруг нечто подобное вакууму. И пока ни один человек не делал попытки заполнить этот вакуум.
После уроков, заметив, что Амина-ханум зашла в кабинет директора, Никита решил дождаться ее выхода и внаглую, напрямую спросить ее о своей дальнейшей судьбе.
Бурный водоворот из школьников постепенно становился все спокойнее и спокойнее, замедляя и расширяя свой бег. Шум стихал.
Никита, выброшенный водоворотом к дверям директорского кабинета, мысленно желал Амине-ханум, директору школы и «козе» сгореть, утонуть, повеситься, отравиться газом. Его распаленное воображение рисовало ему сцены казней и пыток, которым он подвергал всех своих врагов. И воображаемые муки, стоны, льющиеся слезы и кровь доставляли Никите столь огромное удовлетворение, что даже привели его в состояние эйфории, и он чуть было не прозевал выхода Амины-ханум из кабинета директора. На его счастье, Амина-ханум так сильно расчихалась, что Никита очнулся от грез и бросился к остановившейся вершительнице его судьбы, чтобы обратиться к ней.
— Будьте здоровы, Амина-ханум! — медоточивым голосом произнес пожелание Никита, нацепив дежурную улыбку идиота на лицо. — Здравствуйте!
— Мы вроде утром виделись, Черняков! — и Амина-ханум еще раз оглушительно чихнула. — Неужели забыл?
— Я в смысле здоровья! — залебезил Никита. — Да с хорошим человеком приятно поздороваться и дважды на дню.
Амина-ханум сразу расцвела. Она взаправду считала себя очень хорошим человеком.
«Что ж, с ней по-хорошему, и она постарается быть хорошей, тем более что ей только что разрешили быть доброй, после одного звонка по телефону», — подумала Амина-ханум.
— С тобой все в порядке! — улыбнулась Никите Амина-ханум и потрепала его за щечку. Очень уж ей нравился этот крепыш, что-то женское просыпалось в ее душе и просило ласки.
Никита тоже был очень доволен собой.
«Хороший шахматист должен видеть на семь ходов вперед!» — подумал он, но вслух ничего не сказал, только многообещающе улыбнулся Амине-ханум, чем сразу вызвал у нее желание пригласить юношу на чашку чая.
— Пока мы не будем ставить вопрос о снятии тебя с должности комсомольского секретаря, — продолжила Амина-ханум, судорожно подавив в себе лютое желание завалиться с этим юношей в постель. — Работай! Теперь тебе придется вдвойне доказывать, что не верблюд!
«Верблюдо!» — подумал Никита и широко улыбнулся.
8
«Какой великий шум и гвалт…» Илюша с иронией наблюдал за поднявшейся в школе суматохой в связи с присуждением Александре Ивановне ордена Трудового Красного Знамени за… выслугу лет. Поразительно, но в общий стаж была включена и работа Александры Ивановны в гимназии, причем со слов самой юбилярши. Естественно, что та не упустила случая прибавить себе рабочих часов и лет, так что получалось, что она работает на ниве просвещения чуть ли не с четырнадцати лет. Но такие «мелочи» никого не смущали и никем не проверялись, это в условиях-то тотальной и всеобщей чистки. Советская власть все более и более устраивала Александру Ивановну, даже стала нравиться. Крикунов и бузотеров, которые разрушили столь привычный и приличный уклад жизни Александры Ивановны, что она до сих пор еще выла по ночам, вспоминая его, частично расстреляли, частично угнали в те края, «куда Макар телят гонял». Правда, Александру Ивановну раздражали евреи, еще мелькавшие на второстепенных постах в правительстве, однако некоторые из них, такие как Каганович, Мехлис и им подобные, стали вполне приличными людьми, с точки зрения Александры Ивановны. Впрочем, и до революции она знала двух очень симпатичных ей евреев, крещеных и хорошо воспитанных, которых отнюдь не устраивало всеобщее равенство и братство, делиться своими капиталами они не намеревались.
Награждение орденом Александра Ивановна восприняла как чудо, благость Христову за «великие муки», выпавшие на ее долю в революцию. Она до сих пор содрогалась, вспоминая черный беспощадный глаз маузера, смотревший неумолимо на нее, им смотрела сама Смерть. Но она тогда спаслась, тогда у нее был выбор. А выбор ей был предоставлен молодым худым и рыжим евреем, беспрестанно кашлявшим чахоточным кашлем: либо она выдает списки членов «Союза русского народа», что оставил ей на хранение в тайнике, где еще хранились и драгоценности с золотыми десятками, бежавший муж, либо расстрел на месте. Александра Ивановна выкупила свою жизнь очень дорогой ценой, где стоимость драгоценностей в сто пятьдесят тысяч золотых рублей была самой малой частью. Все, указанные в списке, кто не успел удрать или не догадался сделать этого, даже те, кто принял новую власть и отдавали все силы на службу ей, были арестованы и расстреляны без суда и следствия вместе с зарегистрировавшимися офицерами, поверившими, что победители пощадят побежденных, разоружившихся и раскаявшихся. Пощады не было. Александра Ивановна молчала о своей роли в этом неприглядном деле, но там, где знают все, знали и об этом деле и о ее роли в этом деле, но она не казалась им неприглядной, тем более что Александра Ивановна не остановилась на достигнутом и стольких еще отправила по этапу, что из них можно было составить еще один список, правда, в этом списке никто никогда не состоял в рядах «Союза русского народа».
До своего награждения Александра Ивановна всегда с завистью читала в титрах кинокартин: заслуженный орденоносец имярек. Теперь и она могла писать перед своей фамилией — «орденоносец». Грудь распирало от восторга и от предвкушения: что она теперь сможет сделать со своими немногими оставшимися еще на свободе врагами.
За день до торжества награждения всех школьников, от первого класса до последнего, от мала до велика, предупредили весьма сурово, что им следует явиться в парадной форме. И весь вечер перед торжеством мамы и бабушки стирали, крахмалили и гладили белые рубашки, фартуки, банты и красные галстуки, зубным порошком чистили зажимы для галстуков, на которых с фасада горел пионерский костер, а на языке зажима была выбита свастика, правда, не перевернутая свастика гималайской секты бон-по, ставшая государственным символом нацистской Германии, где к власти пришли социалисты с нацистским оттенком, национал-социалисты, чьи войска уже терзали многострадальную Польшу и готовились за пару недель расправиться с Францией и Англией. Но с Германией был заключен мирный дружеский договор, фотографии улыбающихся Молотова, Гитлера и Риббентропа с Гиммлером заполонили все газеты, а слово «мир» стало едва ли не самым употребительным словом. Два тоталитарных режима готовились разделить мир.
«Нам нужен мир! Весь!»
Естественно, что в торжественный день вручения ордена были отменены все занятия. Первоклашки репетировали стихи, срочно сочиненные местным школьным поэтом, учителем географии Аркадием Марковичем Шпейзманом, которого Александра Ивановна недолюбливала, это мягко говоря, по известным всем причинам. Последний раз каждый повторял, кто что должен делать, кто за кем выходить, кому какую фразу говорить, впрочем, большим разнообразием они не отличались, все как одна начинались со слов: «От имени…» Впрочем, имен членов правительства не было. «Каждый сверчок должен знать свой шесток». Любимая фраза новоявленного орденоносца.
Класс за классом, начиная с первоклашек, маршировал в актовый зал, из которого были вынесены заблаговременно все ряды кресел, а сцена разукрашена, как в праздник Первого Мая и Великого Октября. Первоклашек и вторые классы выстроили перед сценой, на их цветущих мордашках и в сияющих глазенках была столь явственно запечатлена огромная радость от внезапного праздника, какой-никакой, а все же лучше нудных занятий, на которых в них всеми силами пытались загасить искру божию, превратить в тупиц, в лучшем случае, в зубрил, а к выпускному балу — в манкуртов. И только влияние семьи спасало от всеобщей манкуртизации общества. Да и можно было радоваться, что квалификация педагогов, которым была доверена столь высокая миссия, была столь низкой, что брак в работе был огромен, не все светлые головы оболванивали. Природная лень и апатия выручали, если знаний не давали, то хотя бы не мешали получать их в другом месте: дома или в библиотеке. Но все же с каждым годом количество идиотов росло в геометрической прогрессии. Страх постепенно делал свое дело.
Вдоль стен актового зала выстроились старшеклассники, а в центре, за малышами, встали педагоги обеих школ, где трудилась на ниве просвещения Александра Ивановна, срезая, выламывая и вытаптывая «цветы жизни». Тут же находились и гости, приглашенные на столь торжественное мероприятие, как вручение ордена самой выдающейся человеконенавистнице.
Горнист, приглашенный из Дома пионеров, сыграл сигнал «торжественная линейка», затем зачем-то, не иначе со страха, продудел незапланированную «побудку». Сыграть «бери ложку, бери хлеб…» ему не дали, грубо отобрав трубу и для верности заткнув ее первой попавшейся под рукой тряпкой.
После незапланированной «побудки» сцена заполнилась президиумом из ответственных работников гороно и районо. Помощник президента республики скороговоркой, его ждали в одном, очень приличном доме, где муж уехал в однодневную командировку в район, прочел указ Президиума Верховного Совета СССР, сделал паузу, так как потерял в длинном списке награжденных фамилию Александры Ивановны, наконец, когда пауза уж слишком затянулась и раздались приглушенные смешки обрадованных мальчишек, к помощнику подскочил директор школы и, угодливо изогнувшись вопросительным знаком, шепнул ему на ушко искомую фамилию. Помощник обрадованно выкрикнул фамилию Александры Ивановны, поспешно вручил орден виновнице торжества и незаметно исчез.
Гром оваций и шквал аплодисментов обрушился в зале по незаметно отданному сигналу. Побежали один за другим, строго по списку, согласно репетиции, с букетами цветов. И у всех были слышны лишь первые слова: «От имени…» Остальные слова сливались в какую-то скороговорку, которую не слышали сами произносящие. А хорошенькая пятиклассница, видно, до того разволновалась, что звонко сказала: «Вот именно…» Засмущалась, торопливо сунула букет цветов и убежала плакать за кулисы. Правда, никто ничего не понял, все отупели от однообразных речей, от духоты, завхоз готовился к зиме и начал ее, как водится, законопатив все щели актового зала, от какой-то бессмыслицы, наполнившей зал до отказа. И лишь Илюша улыбнулся, да и то больше в душе, да Игорь по привычке ляпнул: «Именно так!»
Представители школ и другой общественности потащили на сцену многочисленные подарки, купленные на деньги школьников, родителей которых, под предлогом бесплатного обучения, обирали при любом удобном и неудобном случае, повод находили всегда. Правда, педагогам платили столько, что над ними постоянно дамокловым мечом висела проблема: умереть с голода или ходить оборванными и босыми. Может, поэтому и обкладывали данью каждого родителя. Дань несли в основном натурой. Ну, а щепетильные и честные жили впроголодь.
Александра Ивановна внимательно следила за тем, куда складывают подношения, зрение у нее было отличное, и делала записи в своем блокнотике, боялась, что половину сопрут. Занеся последнюю запись, она спрятала блокнотик в большой ридикюль и, тяжело топая, она издали была похожа на бегемота, пошла на трибуну, специально поставленную для нее.
На трибуне Александра Ивановна долго вытирала слезы платочком, попеременно сморкаясь в него, наконец, спрятала платок в необъятных размеров карман платья, глянула в зал совершенно сухими глазами и громоподобным, зычным голосом стала держать речь перед собравшимися:
— Мне трудно говорить. Я глубоко взволнована. Орден — оценка моей скромной деятельности в деле социалистического воспитания нашей прекрасной молодежи. Но не это — главная причина моего глубокого волнения, как, разумеется, и не ваши поздравления и, так сказать, более чем скромные подарки. Главная причина моего волнения — это чувство огромной признательности и безмерной любви к нашему Учителю Земного Шара, великому Вождю всех времен и народов, любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Бурные аплодисменты, переходящие в овации, потрясли актовый зал. Завхоз опасливо посмотрел на потолок, не рухнет ли, не осыплется ли штукатурка. Ехидные и доброжелательные улыбки на лицах исчезли, дело серьезное, и каждый старался показать себя чуть большим энтузиастом, чем сосед справа или слева.
Насладившись аплодисментами с овациями, воспринятыми в свой адрес, Александра Ивановна продолжила:
— Когда-то, в прошлой жизни, до революции, я верила в бога. Ходила в церковь, молилась. Все праздники церковные отмечала: рождество Христово, великий пост, масленицу, пасху… Даже именины и крестины справляла… революция уничтожила мою веру в бога. Я сказала себе: «Бога нет, раз он допустил такое!» Но я ошибалась. Бог не исчез. Он опустился на землю и стал нашим единственным Вождем на все времена, Отцом нации, Иосифом Виссарионовичем Сталиным…
Вновь бурные аплодисменты чуть было не обрушили потолок на собравшихся.
— Многие говорят, что сталинизм — это учение, — продолжала Александра Ивановна. — Только я прочувствовала сердцем, что сталинизм — это не только учение, сталинизм — это религия, в которую надо верить, даже если ты ничего не знаешь и не понимаешь. Вера укрепит твой дух, и ты будешь трудиться на благо построения нового общества, где человек человеку — друг, товарищ и брат…
Александра Ивановна сделала передышку и стала пить воду из стакана, предусмотрительно поставленного по ее требованию ответственным на трибуну.
Игорь не выдержал и, воспользовавшись паузой, дополнил: «Друг-предатель, товарищ волк, брат мой — враг мой».
А Илюша, стоявший рядом, едва слышно прошептал: «Где брат твой, Каин?.. Я не сторож брату своему!..»
— Но враги построения нового общества, создания нового человека, — в голосе Александры Ивановны зазвенел металл, — не хотят дать возможности мирно жить нашему народу. Я не буду портить праздника и называть их пофамильно, может, они находятся в этом зале, я назову их чуть позже и в другом, более подходящем для этого месте… Меня как-то спросили: как я представляю себе светлое будущее — коммунизм? Я долго думала, но сегодня могу ответить нытикам и капитулянтам: при коммунизме мы будем жить материально так же хорошо, как при царе Николае Втором, а духовно неизмеримо лучше, потому что всякая нечисть будет надежно укрыта в специально охраняемых местах и навечно изгнана из нашего навеки единого общества, где все мыслят, как один, как наш великий Маршал, вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин…
При упоминании Николая Второго появилось множество носовых платков, за которыми были спрятаны улыбки и смешки. Но, как только было вновь произнесено грозное имя, платки исчезли, открыв обществу, единому и справедливому, лица патриотов, готовых отдать жизнь за любимого всеми детьми мира, лучшего друга всех физкультурников. И вновь децибелы достигали грохота обвала в горах, где родился и вырос горный орёл, расстилаясь в полет.
Илюша внезапно ощутил, как всеобщая экзальтация захватывает и его, понял, что люди сами доводят себя до исступления.
«Выбор невелик, — подумал он, — либо — либо: фанатизм или цинизм! Третьего не дано. Даже исключение скрыто маской все того же фанатизма».
Выбора действительно не было. И люди говорили то, что не думали, только то, что от них требовали и ожидали, а те, кто требовал и ждал, были закоренелыми фанатиками или циниками и негодяями. Людям оставалось делать только то, что делали все. Противопоставить себя массе было смерти подобно…
9
Через два дня после ареста родителей, когда большая часть ценных вещей, книг, мебели и все драгоценности были изъяты и увезены, конфискованы, за Никитой приехали прямо в школу. Вызванный прямо с урока в кабинет директора, как он предполагал, по поводу предстоящего комсомольского собрания, Никита, неожиданно увидев в кабинете мужчину спортивного телосложения, с добрыми, дружескими глазами, честно говоря, испугался. Он был уверен, что после публикации в газете его отречения от родителей его оставят в покое. Отречение поощрялось. Нквдешник снисходительно улыбнулся. Он столь часто видел подобное, как у Никиты, выражение лица, что, в конце концов, уверовал в свою значимость, в свое право распоряжаться судьбами людей.
Как только Никита вошел в кабинет, оперативник встал и занял привычное место, мешающее внезапному побегу. И не потому, что он боялся, что Никита убежит, такие не бегают. Просто в силу привычки.
— Черняков? — спросил он тепло, не как у врага.
Его тон обнадеживал. Никита согласно закивал: да, мол, Черняков, весь я тут невиновный, покорный.
— Я за тобой, поехали! — сообщил оперативник.
— Ранец собрать? — зачем-то спросил Никита, хотя и понимал, что ранец ему больше не понадобится.
— Не надо! — оперативник пристально посмотрел на Никиту. — Мы ненадолго. Хотя… Нет, не бери. Через час-два ты будешь в школе. Я в тебя верю. Смотри, оправдай, — добавил он шутливо, однако угроза прозвучала нешуточно.
Они вышли из школы плечо к плечу. Вроде и доверяли Никите, что не сбежит, а вроде и нет. А куда бежать-то? Дальше границы не убежишь. Без документов не спрячешься. Может, специально паспортную систему и ввели. Заранее готовились. Режим прописки кого хочешь выявит. За одним шпионом и то сколько мороки гоняться, а за миллионами разве уследишь без системы? Да ни в жизнь!
Так что, скорее опять по привычке, которая вторая натура.
У дверей школы их поджидала «эмка» черного цвета, с занавесками на окнах. Сколько раз мечтал Никита, глядя на мчащиеся по улицам эти автомобили, прокатиться вот на такой машине, с завистью провожая их взглядом, а пришлось, и никакого удовольствия, одни беспокойство и волнение. И не помогает ласковый взгляд. Ужас парализовал и волю, и мысли.
Никита боялся, что машина завернет к тюрьме, но шофер повернул к бульвару и вдоль бульвара поехал к площади Ленина. За квартал до площади свернул к новому комплексу зданий, занимаемых НКВД.
Никита облегченно вздохнул: «Не в тюрьму, значит, его арестовывать никто не собирается». Но, когда он вспомнил, сколь глубоки подвалы под этими зданиями, а об этом все шушукались в городе, пугливо озираясь, то ужас вновь охватил его и уже не выпускал из своих холодных лап.
Провожатый предъявил часовому пропуск на вход и, коротко бросив: «этот со мной!» — повел Никиту на второй этаж. У свежевыкрашенной двери, несколько отличавшейся от остальных, он знаком велел Никите обождать и, постучавшись три раза, скрылся в кабинете.
Никита стоял, не зная, куда бы себя приткнуть. Мимо него текла своя размеренная жизнь: из кабинета в кабинет сновали люди в форме темно-зеленого и черного цветов, торкались люди в штатском с застывшим ужасом на лицах. Эти, держа полученные по почте повестки в руке, тыкались, словно слепые котята, не в те кабинеты, что были указаны в повестках, это было странно, так как на каждой двери был четко указан номер кабинета. Но каждый свидетель, как заведенный, все равно попадал в нужный ему кабинет в лучшем случае только со второй попытки. И повестки в их руках дрожали осиновыми листочками.
Ждать пришлось недолго, всего минут двадцать, но это были двадцать минут, в которых каждая секунда была весомее обычных секунд, по меньшей мере, втрое.
Дверь открылась в ту минуту, когда Никита уже перестал чего-либо ждать и тупо уставился в маленькое, почти незаметное пятно на стене, ржавое и выгоревшее на солнце. Провожатый, высунув голову в приоткрытую дверь, окинул подопечного быстрым взглядом, цепким и профессиональным, остался доволен состоянием юноши и коротко пригласил:
— Заходи!
Никита машинально, чтобы снять оцепенение, ковырнул ногтем пятнышко, и оно все поместилось у него под ногтем.
«Неужели кровь?» — страшная мысль ошеломила, ноги стали ватными. В таком состоянии, «подготовленным», Никита и вошел в кабинет следователя. И первым, кого он увидел, был его отец. Постаревший сразу лет на десять, с воспаленными покрасневшими глазами, он сидел на крепко привинченном к полу табурете, уронив большие руки на колени, и монотонно повторял: «Не верю, не верю, не верю, не верю!»
Следователь, бросив довольный взгляд на вошедшего Никиту, откинулся на стуле и дружелюбно сказал:
— Напрасно, Черняков, вы нам не доверяете, не хотите разоружиться перед партией и народом, обвинение предъявлено вам очень серьезное…
— Никакого обвинения вы мне не предъявляли, — упрямо перебил его старший Черняков, — это оговор, и неизвестно еще, как вы получили показания Матевосяна…
— Мы привезли вашего сына, — указал следователь на вошедшего Никиту, — вернее, бывшего сына, он отказался от вас.
И следователь протянул газету через стол. Отец Никиты приподнялся, взял газету и лишь мельком взглянул на сына, когда садился обратно на табурет. Развернув газету, он внимательно прочел заявление сына, затем удивительно спокойно сложил газету и, не вставая, швырнул ее на стол следователю.
И так же спокойно спросил:
— Заставили?
Следователь обиженно развел руками:
— Обижаете, Черняков! Нам-то зачем нужно? Сам прибежал, да еще заявление в газету подписал числом на день раньше. Провидец! Если хотите, мы и это его заявление можем приобщить к вашему делу, представить на обозрение.
Отец смотрел на сына столь удивленно, словно на диковинку какую-то, в первый раз будто бы увидел. Долго молчал, но все же спросил:
— Это правда?
Спросил, заранее зная ответ. И он его услышал.
— Все верно, отец! — прохрипел Никита, в горле пересохло, а попросить стакан воды из красиво поблескивающего хрустального графина, стоявшего на столе перед следователем, не решился. Столь страшно было.
— Я уже не отец тебе! — медленно, все еще не веря, проговорил отец и внезапно закричал в отчаянии: — Пусть будет проклят тот день, когда я зачал тебя!
— Ну зачем же так! — стал его успокаивать следователь. — Сын у вас — патриот своей отчизны. Вам бы взять с него пример и рассказать о том, что вы знаете о группе Матевосяна. Ведь он вас выдал, не пожалел!
— Эти показания вы из него выбили! — не уступал старший Черняков. — Я по его стопам не пойду. Это молодых, таких, как мой сын, вы успешно ломаете. Моя вина, мало времени ему уделял, мало им занимался.
— Я считаю по-другому: прекрасного вы сына воспитали, — усмехнулся следователь, — и это вам зачтется на суде, если, конечно, вы дадите показания.
— Никаких показаний я давать не буду! — отрезал отец.
Следователь нажал на кнопку звонка. Тут же открылась вторая дверь, ведущая из кабинета в сторону, противоположную той, откуда явился Никита, и отца увели. Он вышел с гордо поднятой головой и даже в дверях не захотел оглянуться на предателя-сына.
У Никиты защипало в глазах, и он разрыдался, слезы потекли ручьями, отдавая вкусом соли на губах. Так обиженно плачут только в самом нежном возрасте, в раннем детстве.
Следователь поспешно налил в стакан воды из хрустального графина и заставил Никиту выпить, приговаривая укоризненно, как с маленьким ребенком:
— Ай-ай-ай! Такой большой, а плачешь, как маленький. Перестань, перестань! Мужчина ты или баба? Смотри, как ты мужественно расплевался с родителями. Не каждый так сможет. По идее должен, а не сможет.
Никита залпом выпил воду и, как ни странно, сразу успокоился. Только что-то оборвалось в груди и улетело куда-то безвозвратно, что-то очень важное, потому что появилось ощущение пустоты и холода там, где раньше располагалась душа.
«Ты бывал в семье Матевосяна?» — услышал он вкрадчивый голос следователя.
— Бывал и часто! — ответил он машинально, но голос его звучал чисто и звонко. — Я был обручен с его дочерью!
— Это замечательно! — обрадовался следователь. — Садись за мой стол. Вот тебе бумага, ручка и чернила. Память у тебя еще не поражена склерозом, на который так часто любят ссылаться старые борцы за так называемое «народное дело». Вспомни, мой хороший мальчик, всех людей, которых ты видел в доме Матевосяна, все разговоры, которые ты слышал…
— Я не знаю многих по фамилии! — перебил следователя Никита.
— Достаточно, если ты вспомнишь их имена и дашь словесный портрет, — успокоил следователь. — Главное, разговоры, разговоры… Работай!
Следователь внезапно пересадил Никиту из-за стола за стол, стоявший у стены, а сам достал из сейфа несколько папок с делами и стал их просматривать, время от времени бросая пытливый взгляд на пишущего Никиту.
А тот увлекся. Память у него была на самом деле замечательная, он вспоминал эпизод за эпизодом: лица, виденные им у Матевосяна, проплывали одно за другим, а разговоры настолько ясно слышались, как будто бы только вчера говорили. На миг, правда, мелькнуло и лицо Стеллы, дочери Матевосяна, мелькнуло и пропало, не вызвав ни тени малейшего сожаления у Никиты.
«Что было, то прошло!» — подумал он и тихо спел: «Многое вспомнишь, давно позабытое»… — и змеиная усмешка чуть-чуть тронула его губы, исказив лицо гримасой отвращения к самому себе.
Следователь как раз в эту секунду посмотрел на Никиту и, заметив его гримасу, сразу вспомнил о важном деле, открыл ящик стола и достал какую-то бумагу, положив ее перед собой, чтобы не забыть.
А Никита писал свое главное сочинение в жизни, стараясь ничего не упустить и никого не позабыть. Час без перерыва, не давая себе ни малейшего отдыха, он писал и писал, аж рука устала.
Завершив свое сочинение на заданную тему, Никита потер онемевшую кисть и прошептал: «Рука бойца колоть устала…»
Он отнес сочинение и положил его на стол перед следователем, как делал не раз в классе, с тем же спокойствием.
— Написал! — сообщил он с некоторой гордостью.
— Все вспомнил? — спросил следователь, не отрываясь от читаемого дела.
— Вроде все!
— Вроде или все? — уточнил следователь, с сожалением отрываясь от изучения дела, очевидно, очень интересного.
— Если что-нибудь еще вспомню, то обязательно напишу! — поправил Никита.
Следователь дружески кивнул Никите на табурет, привинченный к полу, и Никита сел на то же самое место, где только что сидел его отец. Ему даже показалось, что табурет еще хранит его тепло. Никита вновь вспомнил, как он любил отца, гордился им и почти боготворил его.
И все! Внезапно тепло исчезло, Никита спокойно стал следить за выражением лица следователя, читающего его опус. На первый взгляд оно ничего не выражало. Но это только на первый взгляд. Следователь хорошо владел собой, но, приглядевшись, можно было заметить, как он с удовольствием находил полезное для себя в откровениях Никиты.
А Никита опять вспомнил Стеллу и удивился, что когда-то смотрел на нее как на будущую жену. Даже целовались и ласкались, но его попытки пойти дальше, к брачным отношениям до брака, решительно пресекались, хотя Никита видел, как загорались глаза Стеллы и какого труда стоит ей устоять перед тем же желанием, столь властным над людьми.
«Она не сориентировалась, — с горечью подумал Никита, — и ее „замели“!»
— Неплохо! — восхитился следователь, окончив чтение. — А для первого раза просто хорошо! — похвалил он Никиту. — Я думаю, мы сработаемся!
Никита вопросительно посмотрел на следователя. Чувствовал, что-то непонятное, но важное прозвучало в словах его. Никита замер: «Неужто его возьмут на работу в НКВД?» Но тут же сам понял, что на работу его не возьмут, а будет он бесплатно работать «стукачом». Но ему уже было все равно.
«Стукачом так стукачом! — подумал он даже без горечи. — Жизнь стоит того, чтобы из-за нее пойти на компромисс. Если у Стеллы еще есть шанс попасть в любовницы к начальству, то мне „светит“ только лесоповал. Канал уже построили да и там, говорят, пачками расстреливали и гибли от голода. Но на канале хотя бы за ударную работу досрочно освобождали. А теперь?.. Слухов много, толку мало. Что будет, то будет!»
— Я вас не понял! — сказал он на всякий случай.
— Нет? — удивился следователь. — Тогда прочти внимательно вот эту бумагу и подпиши ее, если согласен.
И он протянул Никите лист бумаги с отпечатанным заранее текстом, который следователь и достал из стола.
Никита с большой охотой встал с табурета, на котором он чувствовал себя арестованным. Стоя прочел бумагу, там было написано именно о том, о чем он думал несколько минут назад. Хоть и впервые прочел, никогда даже не слышал о подобной бумаге, не то что не видел, а впечатление было такое, что он этот текст знает чуть ли не с пеленок, мать в младенчестве пела ему вместо колыбельной.
Никита подписал бумагу, не обсуждая ни условий работы, ни оплаты. Подписал твердой рукой. Все равно назад пути не было. Только вперед! Путь этот был уже определен и высвечен, с него нельзя было ни сойти, ни свернуть. Кому что суждено, тому то и уготовано. Судьба!
«Судьба — индейка, а жизнь — копейка!» — вспомнил Никита старую поговорку.
И где-то в глубине души был рад, что судьба обошлась с ним еще по-божески.
— Заканчивай десятилетку, нам нужны образованные. На язык подналяг. Мне удалось закончить только четыре класса реального училища… — Следователь задумался, а Никита терпеливо ждал, когда он «родит» идею. — Вот тебе первое задание: сойдись поближе со всеми отщепенцами, ты понимаешь, о ком я так говорю, выясни, чем они «дышат», поточнее записывая разговоры, на память не рассчитывай, она часто подводит, в самую неподходящую минуту. Запомни мой номер телефона, как только будет что сообщить, звони.
— Мне можно идти? — спросил Никита, как только следователь замолчал.
— Иди! — следователь черканул на пропуске фамилию, имя, отчество Никиты и протянул юноше. — Возьми пропуск, отдашь часовому, а то не выпустит. А когда вернешься из школы домой, загляни в старенький шифоньер, что вам оставили за ненадобностью. Под бумагой обнаружишь деньги. Их тебе должно хватить до окончания школы. Расходуй экономно, не пей. На бабушкину пенсию вдвоем не проживешь.
— До свиданья! — Никита взял пропуск и направился к двери.
Когда он уже взялся за ручку двери, следователь напомнил ему еще раз:
— Не забудь, ты теперь вдвойне должен держать язык за зубами. Ребятам скажешь, что возили на очную ставку с отцом. С бывшим отцом. Запомни это слово и почаще его употребляй.
— Запомню!
Никита вышел из кабинета, осторожно и бережно закрыл за собой дверь, так, чтобы, не дай бог, не хлопнуть дверью, что могло быть расценено, как проявление неуважения.
«Впрочем, где ему, с четырьмя классами образования, знать смысл выражения: „хлопнул дверью“»? — подумал Никита, но дверь закрыл мягко и тихо, даже без скрипа. «На всякий случай, вдруг где-нибудь слышал?»
Часовой удивленно посмотрел на Никиту. Он всегда удивленно смотрел на людей, которым удавалось покинуть живыми это учреждение. Часовой с большой неохотой выпускал их из здания, считая это недоразумением, браком в работе коллег. «Раз уж попал сюда, значит, за дело. И нечего!» — так примерно выступал он перед своими товарищами, рассуждая за бутылкой водки. Поэтому он долго, минут десять рассматривал пропуск, пытаясь хоть к чему-нибудь прицепиться, что-нибудь найти такое, чтобы, проявив бдительность, можно было еще на какое-то время задержать. Не из вредности, из принципа: вдруг передумают выпускать. За службу было ему обидно… Но в пропуске, к его глубокому сожалению, все соответствовало форме и содержанию. Не найдя ничего, за что можно было бы зацепиться, часовой злобно с размаху наколол пропуск на острый металлический штырь и хмуро кивнул Никите, безмолвно говоря: «Ладно уж, иди, ничего не попишешь…»
Когда Никита распахнул дверь и вышел на тротуар, яркое солнце ошеломило его. Зелень деревьев и кустарников и множество других цветов и красок столь стремительно бросились в глаза, что Никита отшатнулся и несколько секунд стоял неподвижно, не в силах сделать ни шага. Все заходило перед глазами ходуном, и родилось ощущение, что он делает свой первый шаг самостоятельно, а мать сидит в нескольких шагах в стороне от него, руки протягивает и ласково улыбается, пальцами маня: «Ну, смелей, малыш, смелей! Главное — не упасть, а для того, чтобы не упасть, не надо бояться. Иди ко мне, вот я, рядом, совсем близко, всего несколько шажков, сделай одно усилие, прояви желание, и ты в моих объятиях. Иди, родной!»
Ощущение хаоса исчезло очень скоро, все успокоилось, вернулось на свои места, мир стал привычным, познаваемым, и даже солнце потускнело, зелень поблекла, стала осенней, когда желтый цвет побеждает неумолимо. Красота осталась, а острое восприятие исчезло.
Никита пошел в школу пешком. Денег на транспорт не было, но, если бы и были, все равно пошел бы пешком, столь сильны были еще переживания и впечатления от происшедшего. Хотелось побыть в одиночестве, успокоиться.
Вышел на бульвар и пошел, любуясь бухтой, заливом, городом, амфитеатром, спускавшимся к морю, своим видом напоминая Венецию, да и самим бульваром можно было бесконечно любоваться, и осеннее убранство радовало глаз.
Все же с памятью трудно бороться. Трудно ей что-то противопоставить. Лишь беспамятство. Но в зомби сразу не превратишься, большая работа предварительная требуется, как извне, так и изнутри. И желание. Без желания забыть человек, даже сломленный, все помнит или может в любой момент вспомнить. Стеклянный шарик с разноцветными нитями, оживающий, стоит лишь его крутануть посильнее, сразу вызовет волнующие эпизоды детства, попутно захватив в свою орбиту вращения цепь сопредельных ассоциаций и воспоминаний.
Проходя мимо парашютной вышки, Никита сразу же вспомнил, как поднимался с отцом самый первый раз по крутой металлической лесенке: дух захватывало, от страха подташнивало и коленки тряслись, голова кружилась и очень хотелось вернуться на родную, твердую и привычную землю, что не дребезжит и не качается под ногами, но с каждым шагом земля все более отдалялась, а отец, поднимавшийся за Никитой, подбадривал сына шлепками по заду. Приободряя: «Не бойся, не развалится!» Так что вернуться на землю можно было, лишь спрыгнув с парашютом. А площадка для прыжков находилась на отметке двадцать пять метров. То ли от безысходности, то ли мальчишеское самолюбие взыграло, но Никита решился на прыжок совершенно хладнокровно, словно и не он прыгнул в ужасную бездну, на дне которой, умело скрывая растущее беспокойство, стояла мама, высматривая на вышке своих бесстрашных мужчин. Отец лично проверил: все ли лямки парашюта застегнуты, не болтается ли что, а то рванет в воздухе и… Затем подтолкнул к краю пропасти и шутливо добавил: «Ни пуха ни пера!» На что Никита серьезно и несколько злобно ответил: «Иди к черту!» И отчаянно сиганул с края площадки вниз. Ветер обрадованно взвыл: «Ага!» Но испугать не успел. Мягкая пружина парашюта задержала стремительное падение Никиты, и дальнейшее скольжение вниз было не только терпимым, но и приятным полетом. Обуяла гордыня: «Я сумел!» У самой земли служитель парашютной вышки подхватил бережно Никиту и поставил его на ноги, движение парашюта сразу остановилось, сработал тормоз, и купол, медленно опуская вздыбившийся шелк, погас. Пошатываясь на «ватных» ногах, все еще слыша нахальное «ага» ветра, Никита подошел к матери, стараясь сохранить независимый вид, но, как только она обняла его, шепнув: «Молодец!» — выдержка и самообладание сразу же покинули мальчика, и он пустил слезу, зарывшись лицом в ее мягкий живот. Мать не стала успокаивать сына, только провела теплой рукой по ежику волос и сказала: «Посмотри, как отец прыгает!» Никита поднял вверх лицо, и набежавший с моря ветерок мигом осушил мокрость глаз. Отец прыгнул красиво, так, как прыгают только спортсмены, и приземлился удачно без помощи служителя…
Волна с шумом хлестанула по валуну у берега, да так сильно, что брызги долетели до Никиты, и он сразу же почувствовал на губах солоноватый привкус, какой бывает у крови и моря, может быть, потому, что жизнь на земле обязана морю, как напоминание о колыбели, в которой была вынянчена земная сущность.
В школу Никита успел на последний урок. Удивительно, но класс встретил Никиту радостными возгласами, этого Никита не ожидал. Один Игорь остался верен себе и съязвил: «Стальной у нас вожак, комсомолия! Любой об него зубы сломает!»
Но его не поддержали. Акиф, на что уж всегда молчаливый, эдакий восточный красавец с огромными черными глазами и с длинными, как струны, ресницами, томный и приторный своей слащавостью, что почему-то так нравилось многим девочкам, и тот не выдержал и оборвал Игоря: «Слушай, тебя даже на похороны опасно приглашать, балаган устроишь».
Как только Никита сел на свою парту, Мешади придвинулся к нему и зашептал: «Пытали или только били?» «На очную ставку водили!» — в рифму ответил Никита и усмехнулся.
«Манкурт, Зомби! — застучало в черепной коробке, там, где согласно учебнику биологии располагался мозг. — Зомби, зомби! Манкурт, манкурт, манкурт!»
И холодно посмотрел на Сарвара. Теперь Никита был способен на все. И получи он приказ «поставить к стенке весь класс» — не дрогнул бы, лишь у Агабековой обязательно проверил, вся ли у нее кожа столь бела и нежна, как то, что она показывает всем.
10
Елена Владимировна, мать Игоря, вызвала к себе в комнату Варвару и сказала ей, без обиняков, в лоб:
— Ты мне все за спиной рожи корчишь, а пора тебе отплатить за мою доброту. Как-никак я тебя спасла от Сибири, кулацкая дочь.
— Я и так делаю все, что могу! — насупилась Варвара.
Начало разговора не сулило ей, как показалось, ничего хорошего. Хотя комиссар после той ночи не появлялся в ее комнате, она не была уверена, что хозяйка не знает о той ночи. Комиссар приезжал теперь лишь утром, когда хозяйка была на ногах, но кто знает, кто знает.
— Скажу тебе прямо: сын меня беспокоит, — глядя прямо в глаза Варваре, продолжала Елена Владимировна, — шляется допоздна, мне донесли, что видели его на «парапете», где шлюхи собираются и гетвараны.
Варвара фыркнула, столь смешным ей показалось это слово в устах хозяйки. Елену Владимировну ее фырканье разозлило:
— Ты мне не фыркай! — разоралась она с ходу. — Не то выставлю на улицу, прямая дорога в их компанию, или по этапу пойдешь. Одним словом, сегодня ночью сама явишься в комнату Игоря.
— Стыдно мне самой, хозяйка! — запротестовала, покраснев, Варвара. — Все-таки я — девушка!
— «Стыдно, у кого видно!» — отпарировала Елена Владимировна. — Делай, что говорю. Ждать она, видите ли, будет, когда мой сын к ней заглянет. Дождешься! Сынуля сифилис подхватит, тогда я тебя за Чукотку отправлю.
— За Чукоткой уже не наша земля! — охотно пояснила Варвара, любившая в отсутствие хозяев порыться в их библиотеке, читая все подряд, что попадется под руку, что ни приглянется. — В прошлом еще веке продали.
— Что продали? — взвилась Елена Владимировна. — Дура безграмотная! Ты понимаешь хотя бы, о чем я с тобой речь веду?
— А чего уж тут понимать? — усмехнулась Варвара. — Под сына подкладываете, чтобы он сифилис не подхватил.
— Я буду тебе платить! — по-доброму обнадежила служанку Елена Владимировна. — Конечно, не так, как платят шлюхам, ты на всем готовом.
— А как порядочным платят? — перебила хозяйку Варвара. — Неужели вы и это знаете?
Елена Владимировна намека не поняла.
— Не бойся, не обижу! — заявила она. — Да у тебя и выбора нет. Иди, помойся!
Варвара ушла к себе в комнату. Выбора у нее действительно не было.
«Даже на панель пойти и то эта стерва не даст! — размышляла она. — На край света загонит!»
Нельзя сказать, что предложение Елены Владимировны возмутило Варвару. Она сама частенько с вожделением посматривала на крепкое и свежее мальчишеское тело Игоря, и тогда нежность переполняла ее душу, распаляя страсть в теле, жаждущем любви и ласки. Игорь ей даже снился по ночам. Его отец, кроме боли, ничего ей не дал, не принес успокоения, оставив лишь страх ожидания критических дней.
Она послушалась совета хозяйки и первым делом сходила в ванную помыться. Ванная ей очень нравилась, и не сравнить с «черной» банькой, никаких тебе хлопот: с раннего утра затопи, каменку раскали, а от пара у нее вообще голова кружилась и сердце щемило, иной раз так прихватит, что голой выскакивала в холодные сени, а то и в сугроб за порогом, только очень редко они бывали, эти сугробы. Одним словом — удобства по высшему разряду. Мало в каких домах они находились, эти удобства: большая кухня, раздельные ванная и туалет. Обычные люди готовили на общей кухне, пользовались общим туалетом и ходили мыться в общую баню: в мужское или женское отделения. Правда, в последнее время в банях открылись отдельные номера, но мужчину с женщиной туда пускали только по предъявлению паспортов, в которых стоял штамп о регистрации брака. Большой доход приносили эти отдельные номера дирекции бань. Часто штамп о регистрации брака заменял кредитный билет, вложенный в паспорт. И бани постепенно превратились в своего рода публичные дома.
У Варвары все валилось из рук, работа не шла совершенно. Елена Владимировна зашла на кухню, увидела ее растерянность, но ничего не сказала, даже не обругала «дурой» или «коровой», лишь сухо сказала:
— Я к портнихе! Буду нескоро!
И, резко развернувшись, быстро ушла, хлопнув входной дверью.
— Знаем, к какой ты «портнихе» ходишь, лярва! — взъярилась Варвара.
Необычайное волнение, ни разу в жизни не испытанное ею, теперь ощущала она. А время тянулось, как назло, медленно, словно кто приклеил стрелки к циферблату. Варвара была дома совершенно одна. Комиссар не появился сегодня, верхушка устроила «загул» на государственной даче: обильные возлияния, девочки. В семьях, естественно, было объявлено, что «секретное совещание» продлится долго.
Когда Игорь явился из школы, Варвара стала кормить его, все время стараясь задеть бедром или грудью. Халатик она одела прямо на голое тело, бесстыдно подумав: «все одно снимать». Поэтому, когда она ставила перед Игорем очередную тарелку, ухаживая за объектом своего желания и хозяйкиного задания, она так изгибалась и наклонялась, открывая все, что открывалось, что соблазнительные картины, внезапно открывшиеся перед мальчишкой, находящимся в самом расцвете полового созревания, не могли оставить его равнодушным. Святой бы соблазнился, глядя на столь молодое и свежее тело. Игорь уже с трудом жевал сразу ставшую пресной пищу, и скулы сводило, брюки вздулись парусом между ног, до боли, не давая дороги восставшему мужскому естеству, а желание плоти стало до того непереносимым, что Игорь против своей воли простонал и незаметно поправил брюки, освобождая из плена мертвой материи живую плоть.
— Косточка на зубик попала? — лукаво осведомилась соблазнительница, услышав стон, прекрасно осознававшая и видевшая, что творится с мальчишкой.
— Так! — неопределенно промямлил Игорь. — Есть не хочется.
— Устал от занятий, бедненький? — пожалела притворщица, от которой не ускользнуло движение его руки. — Иди в постельку, отдохни. А хочешь, я тебе постелю?
— Хочу! — сквозь зубы, скулы свело, пожелал Игорь.
— Иди за мной! — скомандовала Варвара и пошла из кухни, не оглядываясь, и так знала, что пойдет за ней, как привязанный.
В комнате Игоря Варвара бесцеремонно сбросила со спартанской постели Игоря одеяло, которым была застлана постель вместо покрывала, и так же мгновенно скинула халатик со своего голого тела.
— Раздевайся! — приказала она остолбеневшему от вида женской наготы Игорю. — Что застыл столбом?
Игорь дрожащими руками стал расстегивать рубашку, путаясь в пуговицах онемевшими пальцами. Варвара подошла к нему и, ни слова не говоря, быстро и ловко, словно всю жизнь только этим и занималась, раздела юношу и покраснела от смущения. Она тоже увидела впервые в своей жизни голого мужчину. Быстро преодолев смущение, она нежно взяла Игоря за руку и увлекла за собой в постель.
11
Восточному красавцу Акифу очень нравилась Деля Агабекова, но Агабековой очень нравился славянский красавец Никита Черняков. Вечная неразбериха. Еще Пушкин, со свойственной ему гениальностью, тонко подметил: «Что нам дано, то не влечет, нас беспрестанно змий зовет к плодам, к таинственному древу. Запретный плод нам подавай, а без него и рай — не рай…»
Никита уже не раз думал, как бы попользоваться ее чувством, однако понимал, что опасность слишком велика: дело в том, что отец Агабековой был полковником милиции, а следовательно, как шепнул однажды Мешади, «большая шишка». Ссориться с ним было себе дороже, и Никита, умело подогревая чувство влюбленной девчонки, не требовал от нее доказательств.
Акиф был плохим психологом и наблюдательностью не отличался. По правде говоря, аполлоноподобные мужчины никого, кроме себя, не замечают, а уж подумать о возможном сопернике им и в голову не придет. Разве может что-либо сравниться с их божественной красотой? Смешно, но такие юноши подобны токующим глухарям. Подкрадись и бери голыми руками.
Уверенность красавца подкреплялась солидным положением его отца, директора крупного гастронома, предприимчивого дельца, спокойно выдерживающего любую дань, а не только педагогов, в результате которой Акиф получал «круглые четверки». Остатки совести не давали педагогам ставить «пятерки» тупице, не знающему даже на тройку, рука не поднималась. Но Акиф заранее знал, когда его вызовут к доске, зубрил самую несложную тему и… все обходилось. Директор гастронома по своему общественному положению стоял на одной ступеньке с полковником милиции, поэтому Акиф не видел никаких причин для отказа, препятствий для того, чтобы нельзя было ему жениться на Агабековой. Ее чувства им в расчет не принимались.
Никита дружил с Акифом, с Игорем и с Арсеном, но за последнее время он подружился по заданию НКВД и с Сарваром и с Сергеем, чей отец первым сгинул в неизвестном направлении. Жили они все близко друг от друга, в пределах десяти минут пешего хода, что для пары здоровых, крепких ног не составляет большого препятствия.
Как ни странно, Игорь не обращал никакого внимания на то, что родители Никиты и Сарвара были арестованы, по сути дела, его отцом, а один из родителей его ближайшего друга Сергея сгинул в направлении Воркуты. Попытался Игорь как-то раз попросить разузнать о нем хоть что-нибудь, но комиссар так рявкнул на него: «рехнулся?» — что Игорь и заикаться больше не стал, не смел больше вмешивать отца в свои дела. Да и были ли это дела? Он и сам себе не сумел бы ответить, почему его с такой легкостью заносит то в одну, то в другую сторону. Частью из-за легкомыслия, частично попыткой узнать степень своего влияния на отца, испробовать свои силы, но в основном желание узнать все стороны жизни, прочувствовать как хорошие, так и плохие ее грани.
В один злосчастный для себя день Акиф сказал Никите:
— Я хочу жениться на Агабековой!
Никите с трудом удалось не выдать себя и не показать мгновенно вспыхнувшую ненависть к другу.
— На большой перемене? — ехидно поинтересовался он.
— Для меня это — вопрос жизни или смерти! — распетушился Акиф. — Ты мне друг или портянка?
Никита усмехнулся, злобная мысль мелькнула в голове, в тот же миг превращаясь в не менее злобный план.
— Друг, друг! — поспешил он успокоить влюбленного. — Единственное, чем я могу помочь, могу посоветовать, у нас страна Советов: попробуй взять ее нахрапом…
— Это как? — удивился Акиф.
— Проводи ее после уроков домой и прижми в парадном, потиская ее, — посоветовал Никита. — Если промолчит, значит — твоя. Только не забывай старой поговорки: «Взялся за грудь, говори что-нибудь!»
— А что говорить? — не понял Акиф.
— Что чувствуешь, балда! — разозлился Никита. — Люблю, там, хочу, там. Придумай заранее, конспект составь, напиши…
— Кого написать? — опять не понял Акиф.
— Шпаргалку! — пояснил Никита. — Понятно?
— Понятно-то понятно, — согласился Акиф, — а вдруг она меня по лицу ударит?
— Кто не рискует, тот не пьет шампанского! — насмешливо заявил Никита, презирая в душе своего закадычного друга. — Тебе надо страшиться ее отца, а он девчонки испугался. Ну, шлепнет она тебя разок. Силы-то у нее девичьи, будь доволен, что шлепнет, они, дуры, имеют еще моду царапаться.
— Это нехорошо! — занервничал Акиф, заботящийся о своем лице больше всего на свете, подобно Нарциссу. — Мне так не нравится!
— Испугался? — стал заводить друга Никита.
— Кто, я? — вскинулся Акиф. — Я никого не боюсь! И отца ее тоже не боюсь. Подумаешь, полковник! Мой отец с ихним комиссаром «вась-вась». Каждый день к нему домой лично отвозит большой пакет со жратвой. Чего там только нет.
— Да? — заинтересовался Никита сообщением. — Это интересно!
И сразу же стал обдумывать: заинтересуется ли НКВД такой новостью, следует ли о ней упоминать в первом донесении, ведь его нацелили только о настроении одноклассников докладывать, да и то не всех, а некоторых.
Но, хорошенько подумав, решил все же включить, для солидности. Не понравится — вычеркнут.
— Я сделаю все, что ты мне посоветовал! — решил Акиф. — И докажу тебе, что я — не трус.
— Ты — настоящий мужчина! — одобрил друга Никита настолько серьезно, что Акиф не заметил скрытой иронии.
Его друг был готов предать и продать всех и каждого.
Деля Агабекова в эту минуту таращила глаза на объект своей первой любви, но ей в голову не могло прийти, что человек, ради которого она, не раздумывая, пожертвует жизнью, способен на такую подлость. К ее счастью, она так и не узнала об этом.
И после уроков Акиф увязался за Делей. Она шла с подругами, поэтому Акифу пришлось плестись сзади, усиленно делая вид, что он сам по себе и девчонки его совершенно, ну ни капельки не интересуют. «Бабье лето» затянулось, жара исчезла лишь к вечеру, чтобы часам к десяти утра вернуться вновь. Зеленые листья в своей лучшей части нахально не желали желтеть, наслаждаясь затянувшимся летом и возможностью продлить свой срок, всему живому, очевидно, хочется подольше пожить на белом свете, дело, стало быть, за тем, чтобы создать соответствующие условия.
Девчонки щебетали, искоса поглядывая на шедшего за ними воздыхателя. В своем азарте охотника Акиф был неописуемо красив, и девчонки в основном его и обсуждали, пытаясь уточнить для начала: за кем он идет. Но они так и не пришли к единому мнению, из четырех точек зрения ни одна не совпадала с другой. Тогда они перешли на обсуждение всевозможных кандидатур, подходящих, по их мнению, для Акифа, заодно «перемыв» косточки всем потенциальным ухажерам и воздыхателям.
Дорогу домой быстрей проходят не только лошади. Подруги одна за другой исчезли в улочках и переулках, где стояли их дома, и Агабекова осталась в гордом одиночестве. Убедившись, что Акиф не только продолжает следовать за ней, но и прибавил заметно шаг, пытаясь ее догнать, Агабекова удивилась и обрадовалась одновременно: удивилась потому, что считала этого Нарцисса способным обращать внимание только на себя, а обрадовалась потому, что представила себе, как завтра в школе ей будут завидовать подружки, влюбленные все как одна в этого Аполлона Бельведерского. Правда, на какую-то секунду коснулось сознания Агабековой, как только она вспомнила Никиту, любила она его и не боялась себе в этом признаться, только после ареста родителей и поспешного отречения Никиты, о котором отец Дели сказал, что оно было «шкурным», это Деле так не понравилось, что она тогда поссорилась с отцом, Никита сильно изменился и к ней больше не подходил, не провожал ее, не говорил ей нежные, ласковые слова, от которых у нее сердце готово было выпрыгнуть из груди ему на ладони. Деля умом понимала, что надо дать время прийти в себя человеку, на которого свалилось такое несчастье. Но в ней сидела и маленькая женщина, а это женское существо готово было и пококетничать с восточным красавцем Акифом.
И она резко сбавила шаг.
Естественно, что при таком раскладе Акиф ее быстро догнал и молча пошел рядом. Деля посмеивалась, но из принципа не начинала разговора первой, а Акиф так напрягся, что слова вымолвить не мог из всех заготовок, что он постарался написать заранее.
Деля, чье полное имя было — Диляра, но все ее звали Деля, наконец-то смилостивилась и спросила:
— Язык проглотил?
Акиф согласно промычал, словно действительно умудрился откусить и проглотить язык, или мастер заплечных дел во мгновение ока выдернул раскаленными щипцами.
— А я слышала, что ты хочешь после окончания школы работать инструктором в обкоме партии, — ехидно проговорила Деля. — Ты будешь представлять обком в виде молчаливого памятника? Так памятник при жизни надо себе еще заработать! Бедный Акиф-джан! Я памятник себе воздвиг нерукотворный…
Акиф молча злился, думая: «Смейся, смейся! До парадного уже мало шагов осталось, а там я тебя так прижму, что не до смеха будет».
Но Деля не умела читать мысли даже у восточных красавцев, она частенько и в собственных разобраться не могла, поэтому, глядя на еще более помрачневшее лицо Акифа, она расхохоталась от души.
Дойдя до своего подъезда, Деля открыла дверь и величественно кивнула своему провожатому:
— Благодарю вас, мессир рыцарь, за приятную беседу!
И собралась нырнуть в подъезд.
— Я провожу тебя до двери! — заявил решительно Акиф.
— О, аллах! — притворно удивилась Деля. — Оно заговорило.
Предложение, честно говоря, ее насторожило и немного испугало, но она из гордости прогнала страх прочь и, неопределенно пожав плечами, не сказав ни «да», ни «нет», открыла еще шире дверь подъезда и вошла в парадное.
Акиф вошел в широко раскрытую дверь вместе с Делей, и жар его тела смутил ее, а его дыхание она даже сумела ощутить своей стройной шеей.
Только закрылась за ними дверь и Деле удалось сделать всего один шаг, как Акиф схватил ее сзади за грудь и стал жадно целовать в шею.
Первые ощущения ошеломили Делю, и она оцепенела, испуганно застыв статуей. Но уже через пару секунд она вывернулась из объятий Акифа и с размаху ударила его портфелем по лицу, после чего рванулась от него в сторону лестницы. Акиф, скорее машинально, чем осознанно, стремясь ее удержать, вцепился в форменное платье и рванул на себя в ту же самую секунду, когда Деля рванулась в сторону лестницы. Оба эти движения совпали, результат был плачевен: платье от ворота до пояса лопнуло, обнажив легкую комбинашку, в которой проглядывало юное и нежное девичье тело, маленькая еще мягкая грудь. Деля так испугалась, что потеряла всякое самообладание и гордость, завизжала и заверещала, словно молоденький кабанчик, почувствовавший нож у затылка.
Акиф тоже потерял самообладание, а заодно и голову. Он впервые увидел женское тело и, как зверь, бросился на Делю, облапав ее, он, целуя нежное девичье тело, стал валить ее на грязный пол, выложенный мраморными плитами. Деля, естественно, стала решительно ему противиться, не переставая ни на секунду верещать и визжать, пытаясь ногтями добраться до красивой физиономии насильника. Но Акиф держал ее мертвой хваткой, сам удивляясь своей силе.
На крики и визги Дели по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, быстро сбежал молодой кряжистый и усатый лейтенант в милицейской форме с двумя кубами в петлицах. Он, не останавливая своего стремительного движения, ударил Акифа кулаком по голове, затем, ухватив его за руку, вывернул ее себе на спину и резко рванул мальчишкой через себя. Акиф завопил от боли и потерял сознание, рухнув на мраморный пол.
Деля, запахнув на груди разорванное платье, мгновенно удрала по лестнице домой. Добежав до заветной двери, она, позабыв и о ключе, и о звонке, яростно забарабанила в дверь кулаками, бросив портфель на месте схватки. Мать ее так испугалась, что на цыпочках подошла к двери и посмотрела осторожно в узкую щель для газет, ей показалось, что это, должно быть, либо грабители, либо из НКВД. Узнав дочь, она поспешила открыть дверь и, увидев родную дочь в столь растерзанном состоянии, заохала, запрыгала, запричитала и бросилась звонить своему мужу-полковнику.
Молодой лейтенант милиции Гусейн Мамедов сразу узнал дочь полковника милиции, почему столь сурово и расправился с насильником. Лейтенант был в этом доме по амурным делам, обслуживал жену другого старого полковника. Но и на Делю он поглядывал страстным взглядом.
Гусейн выволок бесчувственное тело Акифа на улицу, достал свисток и подал условный сигнал. Он вызвал милицейский патруль, но подъехала милицейская машина, возвращавшаяся с задания как раз в этом районе. Акифа, все еще не пришедшего в сознание от страшной боли, рука-то была сломана, а не только вывихнута, быстренько забросили в машину, прямо на пол, и повезли в ближайший участок, где имелись камеры предварительного заключения.
В автобусе находился рвач. Он осмотрел Акифа, сердито буркнув что-то себе под нос, бросил странный взгляд на лейтенанта. Сильно дернув за руку Акифа, врач ликвидировал вывих плеча, но перелом необходимо было лечить другими средствами. Врач подозревал, что в области перелома образовалась гематома, а потому немедленно приступил к транспортной иммобилизации — обездвиживанию поврежденного участка тела, что всегда применяется для оказания первой помощи. Обработав кожу руки пятипроцентным раствором йодовой настойки, он положил на рану стерильную повязку, на костные выступы подкладку из ваты под шину, затем он достал фанерную шину и обездвижил не только травмированный участок, но и два соседних с травмой сустава. Наложив шину и крепко перебинтовав ее, врач нашатырем привел Акифа в чувство, когда же тот открыл глаза, глядя ничего не соображающим взглядом на врача, дал ему выпить воды, налив туда двадцать грамм чистого спирта.
Акиф сразу вспомнил, что он натворил, потеряв голову, и неожиданно заплакал, совсем по-детски, жалобно и безутешно. Но его некому было успокоить. Оказав врачебную помощь, выполнив свой долг, врач сел к окну и стал смотреть на идущих по тротуару девушек, стараясь не думать о попавшем в беду юноше.
Ближайший участок с крепкими камерами находился в пяти минутах езды. Подъехав к участку, сотрудники уголовного розыска быстренько вытащили Акифа из машины и внесли в дежурную часть. Лейтенант бодро командовал, ног под собой не чуя от неожиданной удачи.
«Теперь можно рассчитывать на внеочередное звание, — мечтал лейтенант, — полковник постарается отблагодарить за дочь… Ах, какое тело у его Дели! Может, она из чувства признательности влюбится в меня и выйдет замуж за своего избавителя»…
И тепло от столь приятных дум разливалось по телу, обжигая лучше, чем водка, которую Коран забыл упомянуть в числе изобретений шайтана, в отличие от виноградного вина. Впрочем, сладкий шербет пили и шииты и сунниты.
«Можно прокалывать в петлицах дырку для очередного кубаря!» — думал Гусейн.
Оставив Акифа в дежурке, нежданно-негаданные помощники лейтенанта уехали, им еще нужно было добраться до своего родного уголовного розыска.
Дежурный зарегистрировал вновь прибывшего, но недовольно спросил у лейтенанта:
— Надолго его к нам? Без документов! Непорядок!
— Не выступай! — отмахнулся лейтенант. — Посади его куда-нибудь. На довольствие не ставь. Самое позднее — к ночи заберут его.
— Украл что-нибудь? — поинтересовался дежурный.
— Девчонку в парадном хотел изнасиловать! — пояснил Гусейн.
— Вот сволочь! — возмутился дежурный, имевший троих подрастающих дочерей. — Сатана! Такой красавчик, а туда же! Может, он — больной? Ему же любая шлюха бесплатно даст.
— В тюрьме выяснят: больной он или здоровый! — засмеялся лейтенант. — Не упусти, смотри! Полковник Агабеков шкуру за него спустит. Я поехал докладывать.
И лейтенант покинул дежурку, бросив насмешливый взгляд на Акифа. Гусейн испытывал к нему благодарность и душевную признательность.
«Еще бы! — подумал Гусейн. — Так легко заработать внеочередное звание! Хорошо звучит: „капитан“»!
И всю дорогу до управления лейтенант напевал ставшую популярной песенку из кинофильма «Дети капитана Гранта»: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря…» Фильм только недавно прокатился по экранам страны с огромным успехом. И ничего странного не было в том, что даже лейтенанты милиции распевали песенки из ставшего любимым фильма.
Дежурный пристально посмотрел на неподвижного Акифа и задумался.
«Не упусти! Важный, стало быть, преступник. А камера с решетками на окне всего одна, и там уже сидят двое не менее важных преступников. Ну, ничего, не баре! Где двое, там и трое поместятся».
И дежурный позвонил по внутреннему телефону, вызвал охрану: не самому же на себе тащить нелегкий груз. Да и отлучаться с поста от телефона он не имел права.
На вызов откликнулись два молодых амбала, на тупых лицах которых было яснее ясного написано, что сельский труд, да и любой физический или умственный, им был просто противопоказан, а родная милиция — одно из самых сладких мест, где можно без риска для жизни и для свободы заниматься мелким вымогательством, брать бакшиш и хорошо себя чувствовать.
— Посадите этого в камеру! — приказал дежурный старшина.
— В какую, начальник? — спросил один из амбалов с наглыми глазами навыкат.
— У нас только одна камера с решетками? — засомневался дежурный.
— Да! — ответил амбал. — И там Насрулла с «шестеркой»!
— Потеснятся! — нахмурился дежурный. — Не баре!
— Начальник, — испугался амбал. — Насруллу нехорошо обижать. Мы его поймали, это — законно, по правилам. Но раздражать опасно: его шайка на воле. Отомстят.
Дежурный задумался. Месть ему была совершенно ни к чему. Не зная, кто такой Акиф, он решил проучить его так, чтобы на всю жизнь запомнил: как насиловать девочек.
— А ты скажи Насрулле, что полковник посылает ему подарок! — и гнусно посмотрел на Акифа.
Амбал с наглыми глазами, которого звали Ариф, почти так же, как и несчастного юношу, подхватил вместе с напарником Акифа под руки столь грубо, что он застонал от непереносимой боли и чуть было вновь не потерял сознание.
Дежурный вовремя заметил, как смертельная бледность покрыла лицо Акифа, и быстро налил в стакан воды, после чего лично поднес его к губам юноши.
— Пей, мальчик!
Акиф с жадностью выпил воду, и ему действительно стало легче. Он пришел в себя, и все стало ему казаться каким-то страшным сном, словно это не с ним происходит, а он смотрит со стороны кинофильм какой-то. И не боли так сильно рука, впечатление было бы еще сильнее. Акиф все ждал, что вот-вот его муки закончатся, и жизнь потечет по старому благополучному руслу.
Внезапно спасительная мысль пришла ему на ум:
— Разрешите мне позвонить отцу. Он будет волноваться, не зная, где я и что со мной…
В его просьбе не было ничего противозаконного. Напротив, именно дежурный обязан был сообщить родителям несовершеннолетнего задержанного, чтобы те знали, куда попал их ребенок.
Но беззаконие правило каждым человеком так же, как и всей страной.
Дежурный лишь расхохотался, услышав просьбу юноши.
— Сообщат отцу, сообщат! — пообещал он улыбаясь. — Только не уверен, что такое сообщение ему понравится. Ах, дети, дети! Холишь вас, лелеешь, а вы вон какие «подарки» подкидываете!
Он махнул подручным рукой, и те повели Акифа в камеру, вернее, поволокли, так как он едва передвигал ноги, тело все ломило от удара, руку выворачивало от боли, аж холодный пот выступал на лбу. У двери камеры амбал с глазами навыкате, которого звали почти так же, как школьника, Ариф, немного отстал с ним от своего напарника, который направился открывать дверь камеры и тихо ему шепнул: «Твой отец заплатит, если я ему позвоню?»
— Хорошо заплатит! — обрадованно зашептал Акиф.
— Давай номер телефона! — решился на «подвиг» во имя корысти амбал Ариф.
И тут Акиф допустил смертельную ошибку. Решив, что амбал с ходу кинется звонить отцу, чтобы заработать деньжат, Акиф дал ему рабочий номер телефона отца и сообщил ему только имя-отчество.
Заупрямившийся было замок двери камеры наконец-то открылся, дверь распахнулась, и Акифа втолкнули в камеру, оставив безо всякой поддержки. Услышав, как за ним захлопнулась железная дверь камеры и лязгнул огромный замок, Акиф покачнулся и упал бы, если бы сидевшие на деревянных нарах двое мужчин не подскочили к нему и не подхватили бы под руки. Они осторожно усадили его на нары, а один из них, заросший до глаз густой черной и кудрявой бородой, лет тридцати на вид, зычно крикнул охранникам:
— Эй, мент! Что за пташку вы поймали? Кого привел, козел?
Амбал Ариф, нагло сверкая выпученными глазами, открыл «кормушку» и, не забыв слов дежурного, крикнул в ответ своим противникам, пронзительным и скрипучим голосом, напоминавшим скрежет ножа по сковородке:
— Это тебе подарок от полковника!
Насрулла радостно засмеялся.
— Крестника самого полковника надо уважать! — ехидно проговорил он. — Он стоит того. Смотри, какой красавец. Не иначе, полковник за него свою дочь прочит!
И оба бандита захохотали во весь голос.
Ариф охотно поддержал их и закрыл «кормушку». Он не торопился бежать звонить отцу Акифа по двум соображениям: во-первых, отец так и так заплатит, когда бы ему ни позвонили, во-вторых, Ариф не хотел пропустить представление, в котором Акиф будет главным героем. А на это стоило посмотреть.
Акиф ничего не понял из сказанного. Разноцветные круги плыли у него перед глазами, но держала в сознании одна надежда, что наглец-милиционер не устоит перед возможностью заработать, какие у них оклады, смехота одна. А потому ждал, что вот-вот распахнется дверь, появится отец и лично заберет его из этой грязной дыры, и кошмар кончится.
Насрулла спросил заботливо:
— Болит? Это менты тебя «умыли»?
— Почему умыли? — не понял Акиф. — Нет, не умывали. Руку сломали.
— Фраер он! — раскипятился «шестерка». — Чего ты, «пахан», с ним возишься?
Насрулла с той же заботливой улыбкой врезал «шестерке» такую пощечину, что тот слетел с нар в прокатился почти до двери.
— Забыл у тебя, ишак, спросить! — презрительно сказал он подручному. — Ты куришь? — вновь улыбнулся он Акифу, и голос его опять зазвучал нежно и ласково.
— Курю! — с вызовом, как ему показалось, ответил Акиф.
— Молодец! Мужчина! Клянусь моей крайней плотью, кольцом обручившей меня с аллахом, — похвалил мальчика Насрулла. — Давай, закурим!
Насрулла достал пачку «Беломорканала», только недавно появилась эта марка в продаже, а успела уже получить необычайную популярность, ловко выудил папироску, почти как в цирке, стукнув пальцем по донышку пачки, отчего папироса выскочила ровно наполовину из строя, и протянул ее Акифу.
— Лови кайф!
Акиф сунул сигарету в зубы. Насрулла лишь взглянул на «шестерку», и тот мгновенно подскочил к Акифу и услужливо чиркнул спичкой. Акиф затянулся, сладковатый до приторности дым наполнил его легкие и гортань.
«Да ведь это — анаша!» — испугался Акиф, вспомнив категорический запрет отца на курение «травки».
Но ему стало настолько хорошо, легко и приятно, что возмущение, если оно и пыталось выйти из глубины сознания, то быстро нырнуло обратно в глубину и зарылось, закопалось поглубже. Боль сразу исчезла, словно ее и не было никогда, голова, правда, слегка закружилась с непривычки, возможно, подействовал еще и спирт, который врач, сочувствуя очередной искалеченной судьбе, влил в воду, чтобы поддержать юношу, хоть немного уменьшить страдания его, причиняемые сломанной рукой.
Насрулла тоже закурил папиросу, и сладковатого дыма в камере стало на порядок больше.
— Ты, наверное, есть хочешь? — сказал Насрулла. — По какой статье идешь? За что замели?
— Не знаю, по какой статье! — простодушно ответил Акиф. — Девчонку-одноклассницу в подъезде прижал, люблю я ее, а друг посоветовал не трусить, она рванулась от меня, а в эту секунду я схватил ее за платье, оно разорвалось до пояса, ну я и потерял голову…
— Девичье тело кого хочешь с ума сведет! — прервал Акифа Насрулла. — И поопытнее тебя попадались на женском теле. Сломал или не успел?
— Не успел! — смутился Акиф. — Да я и не хотел насиловать.
— Ну, конечно, такому красавчику любая девка даст, не только бесплатно, да еще, может быть, и сама заплатит, чтобы тебя поиметь, — Заметил ехидно Насрулла.
И он противно и гнусно захохотал. «Шестерка» к этому времени разостлал на нарах салфетку, вышитую национальным орнаментом, и заставил ее всевозможной снедью, разложенной на обычных, общепитовских тарелках, взятых работниками милиции из ближайшей столовки. Акиф не удивился изобилию снеди: зелень, помидоры и огурцы, бастурма и сырокопченая конская колбаса, сыры трех сортов и свежий чурек. Он каждый день так питался, а потому довольно равнодушно смотрел на еду. Шок лишил его аппетита.
— Ты руки вымыл? — строго спросил у «шестерки» Насрулла.
— Вымыл, с мылом! — тихо и покорно ответил «шестерка».
— Молодец, я тебя прощаю! — одобрил Насрулла и вновь повернулся к Акифу. — Душа моя, поешь, умоляю тебя, подкрепи силы, может, ты так поешь в последний раз в своей жизни.
— Почему? — глупо спросил Акиф, ожидавший с минуты на минуту приезда отца и окончания этой нелепой истории.
— Потому, мой любимый, — ласково улыбнулся Насрулла, — что впаяют тебе на полную катушку за попытку изнасилования, и пошло-поехало. В лагере раскрутят, я тебе обещаю. А новый срок — новая жизнь. Ешь давай, не рассуждай. Не бери в голову, тащи в рот.
Акиф безо всякого аппетита взял ломтик сырокопченой колбасы с зеленью и ломтиком помидора и стал жевать. Но, проглотив, почувствовал вдруг такой зверский аппетит, такой голод, что без всякого рассуждения и напоминания набросился на еду. Ел он один.
Насрулла лишь смотрел на него жадно и курил, глубоко затягиваясь, опытному глазу сразу было видно, что это наркоман со стажем. А его «шестерка» стоял на ногах, все еще не решаясь даже присесть без приглашения хозяина, и глотал голодную слюну, глядя, как уминает припасы новый «фаворит». Смотрел жадно, как смотрят голодные собаки. Да он и растерзать мог и был всегда готов, повинуясь лишь приказу хозяина.
Акиф поел, и его сразу разморило. Усталость, боль, шок, переживания сделали свое дело. Его так потянуло ко сну, что он чуть было не упал с деревянных нар.
Насрулла только этого и ждал и сразу же приказал «шестерке» почему-то осипшим голосом, полным звериной страсти:
— Застели постель и раздень ребенка!
«Шестерка» засуетился. И не прошло и минуты, как Акиф уже лежал на чистой простыне, раздетый до трусов, но прикрытый другой белоснежной простынкой. Акифу стало так хорошо, что он сразу стал погружаться в благодатный сон.
Но заснуть он не успел, потому что почувствовал, как по его голой ноге прошлась волосатая нога Насруллы, его такие же волосатые руки снимают с него остатки одежды, а его губы целуют Акифа в грудь.
Сон мгновенно улетучился. Акиф отчаянно закричал:
— Не трогай меня! Отстань!
И начал отчаянно сопротивляться, но вырваться из железных лап Насруллы ему не удалось. Прошептав ему нежно: «За все платить надо!» — Насрулла свирепо рванул Акифа за сломанную руку, и Акиф провалился в небытие, закричав, как ему послышалось, очень громко: «Отец сейчас приедет и за все заплатит. Он за все заплатит. Любую сумму!»
Но этот крик прозвучал лишь в его подсознании.
А за дверью камеры, в коридоре, прильнув к глазку, врезанному в железную дверь для наблюдения за поведением заключенных, вернее, временно задержанных, стоял амбал Ариф с нагло выпученными глазами и, выпростав из форменных штанов свой огромный уд, зажав его в кулак, повторял все те же движения Насруллы, в том же темпе, и стонал от наслаждения: «Вай, какой мальчик! Клянусь мамой, никогда не видал такого нежного тела. Ой, умираю!» И испачкал дверь камеры раньше, чем Насрулла довел свое грязное дело до конца.
А «шестерка» ждал своей очереди, горя желанием отомстить фавориту за свое унижение.
12
Когда на следующее утро дежурный по классу объявил: сколько человек отсутствует в классе и кто именно, пофамильно, Никита впервые за много дней ощутил огромную радость в душе. И такая довольная улыбка осветила его лицо, что сидевший рядом Мешади не утерпел и спросил тихо:
— О чем таком, сладком, думаешь? Ночь с женщиной провел? Расскажи, поделись с другом опытом.
Бедный Мешади. Его «макакой» звали не случайно и не только за то, что он раз взобрался на балкон физкультурного зала, куда был заброшен мяч, а ключи были лишь у завхоза, которого еще надо было отыскать. Забрался он по свинцовой оболочке электропроводов, проходящих по стене зала в школу. Самый маленький ростом не только в десятых классах, а, наверное, даже в шестых трудно было встретить такого недомерка, лицом он натурально напоминал обезьяну, с таким же навечно застывшим выражением испуга на мордочке. Да и мозг у него был навряд ли больше обезьяньего, учение давалось с огромным трудом. Все над ним потешались, кроме Никиты и Илюши. Илюша даже предлагал ему свою помощь в учебе, обещая подтянуть Мешади по всем предметам, но Мешади гордо отверг помощь гяура.
Дело в том, что Мешади был единственным из обрезанных мусульман в классе, который считал себя истинно правоверным, ходил в мечеть и жил по законам адата, чтя при этом и шариат. Единственной его мечтой, единственным желанием было встать под зеленое знамя десятого имама и повергнуть в пыль шайтанские племена.
А Никита, относясь покровительственно к Мешади, не поучал его, не лез в душу, не предлагал помощи. Два или три раза он защищал Мешади от побоев более сильного обидчика, и истерзанное религиозным изуверством сердце больного мальчика, а то, что он был психически болен, не вызывало сомнения ни у педагогов, ни у учеников, раскрылось для единственного гяура, которого стоило обратить в истинную веру.
— Ты — провидец! — Никита внимательно всмотрелся в маленькое обезьянье личико Мешади. — В самую точку попал.
Дело было в том, что Никита, найдя обещанные следователем деньги, не удержался и потратил часть денег на продажную красотку Надю, которая в деньгах не нуждалась и могла сама приплатить понравившемуся ей юноше, но она отметила для себя одну черту в мужчинах: заплатив деньги, они стараются побольше и взять, доставляя ей тоже больше удовольствия. А с Никиты Надя брала чисто символическую сумму, да и ту собиралась вскоре отменить.
Подружки Агабековой уже успели всем растрепаться, что Акиф вчера их сопровождал после уроков до самого дома и прилип к Деле. Говорили с завистью. Поэтому отсутствие вновь объявленной пары вызвало мелкие смешки, перешептывания и перемигивания.
Игорь не упустил случая громогласно объявить:
— Новая пара голубков свила себе гнездышко! Им там тепло и уютно, настолько, что в школу они не торопятся. Что им земная материя, когда они вкушают нектар, паря на небесах.
— Не юродствуй! — строго оборвал его зашедший в эту минуту в класс учитель географии и английского языка Аркадий Маркович.
— «Обидели Ваню, отняли копеечку!» — заверещал Игорь, но юродствовать сразу прекратил.
С того дня, как Варвара стала учить его и сама учиться вместе с ним любовной премудрости, Игорь находился на вершине блаженства. И еще больше примирился с миром, предоставившим ему столько благ. Хорошо быть любимцем, а быть любимцем фортуны вдвойне хорошо.
Если себя чувствуешь счастливым, — будь им!
А Игорь словно чувствовал, что счастье его еще больше увеличится, если он им поделится с другими, и на перемене подошел к Никите.
— Что это девочки болтают? — посочувствовал он ему. — Я-то был полностью уверен, друже, что Деля твоя, потому и отводил из-за дружеских чувств глаза от белокожей обманщицы…
— Женщина — низшее, грязное существо, шайтан в юбке! — прервал его Мешади, видевший в Игоре потомка колонизаторов, оккупировавших и терзающих его родину. — Вы отменили законы адата, паранджу, гарем…
— Заткнись! — бесцеремонно оборвал его Игорь, брезгливо не любивший этого заморыша-придурка. — Ты-то спишь и видишь себя владельцем большого гарема. Просыпаешься, ортодокс, а сон в руку.
Мешади побледнел и бросился из класса под издевательский смех присутствующих. А Игорь еще решил добить его, прокричав вслед:
— Беги, беги в сортир, закончи начатое ночью!
— Что ты к нему привязался? — стал успокаивать Игоря Никита. — Жалко обезьянку!
— Жалко у пчелки в жопке! — парировал Игорь. — Ненавижу фанатиков!
— Ты поосторожнее в выражениях! — предостерег Никита, радуясь в душе, что копится отличный материал для донесений.
— А что? — осекся Игорь, но сразу же нашелся, что сказать, как вывернуться: — Я имею в виду религиозный фанатизм. Религия — опиум для народа, и я решительный сторонник бескомпромиссной борьбы с ней. И тебе как комсомольскому вожаку не пристало якшаться с ревностным посетителем мечети, к тому же не комсомольцем.
Никита ясно услышал в словах Игоря угрозу и решил, что пока он не будет упоминать в донесении о сыне комиссара НКВД. Рано еще.
— Мое общение ограничивается партой! — стал оправдываться он, а тот, кто оправдывается, тот уже наполовину виновен. — Это — не тема для размолвки между друзьями…
— Конечно, нет! — широко улыбнулся Игорь. — Так, что у вас с Делей произошло? Поссорились?
Никита усмехнулся.
— Ты же знаешь, кто ее отец! Неужели ты думаешь, что он согласится на наш брак, а кроме брака, как ты понимаешь, других отношений быть не может.
Игорь с Никитой остались одни в классе, кроме дежурных, все остальные ученики покинули класс на перемену. Дежурные, две девочки, обе по уши влюбленные в Игоря, не решались подойти к ним и вытурить из класса, открывая окна, чтобы проветрить класс, они так косили глазами в сторону Игоря, что если их можно было сильно напугать в этот момент, то они наверняка, остались бы косыми на всю жизнь.
— Если вы преподнесете полковнику крепкого симпатичного бутуза, — понизил голос Игорь, — то сердце деда, будь оно хоть каменным, растаяло бы, как кусок обычного льда на горячей плите.
— Раньше это каменное сердце упрячет меня под каким-нибудь невинным предлогом в тюрьму, а там в совершенно случайно возникшей драке я получу удар финкой под пятое ребро, а может, он и без тюрьмы обойдется тем же.
Дежурные девочки заинтересованно стали прислушиваться к их разговору и незаметно, вытирая несуществующую пыль с чистых парт, стали приближаться к беседующим друзьям.
— Кыш! — грозно нишкнул на поклонниц Игорь.
Девочки побледнели, затем покраснели, одна от смущения даже тряпку уронила, но обе послушно ретировались, не решаясь ослушаться своего кумира, к двери, где гордо застыли на страже, решительно пресекая любые попытки учеников войти в класс раньше звонка, и никакие просьбы об оставленном яблоке или бутерброде ими не принимались во внимание.
— Ты сгущаешь краски! — стал успокаивать Никиту Игорь. — Я кое-что слышал о полковнике. Не такой он собак! Скорее белая ворона. Того гляди и заклюют. Черные.
— Вот видишь! — обрадовался Никита. — Зачем человеку жизнь портить?
— Деля — хорошая девочка! — стал убеждать друга Игорь. — Не отдавай ее этому Нарциссу! Он же двух слов связать не умеет.
— Будет как сыр в масле кататься! — ехидно заметил Никита.
— Да у нее и сейчас не туго с продуктами, — заметил Игорь. — С голоду не умрете. Вот мне одна девочка рассказывала о голоде… — начал было рассказывать Игорь о Варваре, пережившей лютый голод, что все остальные беды она считала пустяком, но осекся.
— Так что тебе рассказывала одна девочка? — опять напрягся Никита, подобно охотничьей собаке, взявшей стойку.
Но Игорь уже вспомнил, как заклинала его Варвара всеми святыми, чтобы он никому не рассказывал вырвавшейся из ее груди исповеди ночью в его постели, и решил смолчать.
— Так, проехали! — неопределенно ответил он.
— Едем дальше! — охотно согласился Никита, сразу все поняв.
Он и раньше слышал от отца о страшном голоде, когда трупами были усеяны все дороги и полустанки. На крупные станции голодные пробивались с большим трудом через заградительные отряды, но и пробившимся было предоставлено только одно право — право подыхать с голода, никто не обращал на них никакого внимания.
Прозвенел звонок на урок. В класс, отталкивая дежурных девчонок, а заодно хватая их за мягкие места, ворвались мальчишки, за ними степенно вплыли девочки.
Игорь хлопнул по плечу Никиту.
— Подумай над моим предложением! — и пошел к своей парте.
В груди Никиты появилась совсем крошечная надежда, он почувствовал, что еще не все потеряно.
13
Акиф совершил большую ошибку, продиктовав амбалу Арифу рабочий телефон отца, а не свой домашний, где всегда можно кого-нибудь застать. Амбал Ариф, хоть и имел нагло выпученные глаза и как ни хотел подработать на звонке, все же не рискнул звонить из помещения милиции. Время было такое: все следили друг за другом, каждый боялся каждого. И выйти нельзя было хоть на пять минут.
Лишь отработав смену, бывший крестьянин, житель селения Мардакяны, сумел добраться до телефона, но в столь позднее время директор гастронома уже ужинал в кругу своей семьи, решительно пресекая взволнованные причитания жены.
— Пойми, — успокаивал он жену, — Акифу уже почти семнадцать. Ну, познакомился он с девушкой, ну, погуляли, ну, на худой конец, она пригласила его к себе. Ну, что тут такого?
— Сердце ноет! — всхлипывала жена. — С мальчиком беда! Позвони комиссару!
И так она выла и причитала, словно по покойнику, что директор гастронома сам тоже разволновался и позвонил своему другу, комиссару милиции, которого усиленно подкармливал за счет усушки-утруски, пересортицы и прочих почти узаконенных «шалостей» и доходных статей советской торговли.
Комиссар был настоящим другом.
«Может, с девочкой балуется, а может, что-нибудь серьезное, — решил он. — Хотя и сифилис достаточно серьезная штука. Не беспокойся! Я тебе скоро перезвоню!»
Директор гастронома повеселел и пошутил, обращаясь к жене:
— Комиссар тоже считает, что самое серьезное, что может быть в нашем светлом настоящем — это подцепить сифилис.
— Вай! — возмутилась жена. — Что ты желаешь своему родному сыну? Это твой подарок к Новому году?
— Не паникуй, э! — попытался остановить ее возмущение муж. — Доктор Броверман на что? Сейчас это лечится!
— Что ты болтаешь? — кипятилась жена. — Как у тебя язык поворачивается?
Муж промолчал, не стал ввязываться в словесную потасовку, здесь сила была на стороне жены.
— Давай подождем звонка комиссара? — предложил он примирительно.
Ему было невдомек, что его сына арестовали как беспаспортного бродягу, а именно так распорядился записать Акифа лейтенант, естественно, что комиссар не мог получить нужные сведения.
«Отсутствие новостей — лучшая новость!» И комиссар поспешил успокоить своего друга и кормильца.
— Одно могу тебе сказать, — сказал он директору гастронома по телефону, — в списках не значится: в тюрьме не сидит, в морге или в больнице не лежит. А уж с кем он лежит, тебе, как отцу, надо бы знать в первую очередь.
Комиссар, очень довольный своей шуткой, весело загоготал, словно большая курица закудахтала. Директор гастронома поддержал его и успокоился. Одна мать не могла успокоиться и продолжала волноваться. Материнское сердце — вещее!..
Мать Диляры Агабековой тоже места себе не находила от горя, с той самой минуты, когда она открыла дверь квартиры, и ее ненаглядная девочка, с которой все домашние буквально «пылинки сдували», влетела в квартиру с обезумевшим видом, с застывшими, остекленевшими глазами, полными слез. Едва сдерживая рукой у ворота разорванное до пояса платье, она вихрем промчалась в свою комнату, заперлась там, и все это молча, без единого крика или возгласа, не плача и без истерики. Опытный взгляд матери, конечно, успел заметить разорванное платье дочери, поэтому она и бросилась сразу звонить мужу. Но полковника на сутки услали в район с инспекцией, слишком много жалоб стало поступать на бесчинства милиции из этого района. А про полковника все говорили, что он «взяток не берет даже в преферанс». Полковник не только не играл в карты, он и не пил спиртного. Единственной страстью его была трубка хорошего табаку. Чтобы еще больше походить на усатого вождя, полковник тоже отпустил густые усы, а потому вместе с трубкой выглядел очень эффектно. Будь он на месте, может, все бы и обошлось: набил бы он физиономию Акифу, а отец еще бы добавил ремнем. Но… его на месте не было. А лейтенант ждал, когда приедет полковник, чтобы именно ему, лично, доложить о своих заслугах.
Тогда жена полковника обратилась за помощью к своей подруге, Анне Абрамовне Воловик, благо она жила в том же доме, этажом выше. Анна Абрамовна слыла лучшим специалистом среди врачей-психиатров. Особенно ее ценили в НКВД и в милиции, потому что она по первому требованию выдавала им любые справки и подписывала любые, самые нелепые врачебные диагнозы, состряпанные работниками госбезопасности и милиции.
Анна Абрамовна немедленно спустилась к своей лучшей подруге. С полуслова поняв мать Дели, она требовательно и громко постучала в комнату дочери подруги и насмешливо произнесла:
— Надеюсь, дорогая моя девочка, ты не будешь вешаться из-за разорванного платья? Я уверена, что дело закончилось лишь разрывом платья, иначе ты бы себя так не вела.
— Как? — разрыдалась Деля.
— Как маленькая! — засмеялась Анна Абрамовна. — Ты уже в том возрасте, когда кое-что необходимо знать, хотя бы теоретически. Открой дверь, я хочу с тобой поговорить.
В ответ послышались бурные рыдания, но щеколда двери звякнула, дверь распахнулась, и Деля, с зареванным лицом, с распухшим носом, бросилась на шею врача, перемежая слова с рыданиями:
— Тетя Аня, клянусь, я ему не давала ни малейшего повода!
— Дурочка! — забасила Анна Абрамовна. — Твое тело — самый весомый аргумент, лучшего повода найти трудно. Ты его знаешь?
Деля кивнула головой и неожиданно покраснела.
— Он из нашего класса… Акиф… Я в школу больше не пойду, со стыда сгорю, когда его увижу.
— Он убежал? — поинтересовалась Анна Абрамовна.
— Не успел! — нахмурилась Деля. — Какой-то лейтенант милиции сбежал по лестнице и ударил Акифа по голове кулаком.
— Молодец лейтенант! — одобрила Анна Абрамовна. — Красивый?
— Акиф? — возмутилась Деля. — Слащавый Аполлончик.
— Я тебя спрашиваю о лейтенанте! — настаивала Анна Абрамовна.
— Откуда я знаю? — удивилась Деля, впервые задумавшись об облике своего спасителя. — Я так испугалась, что удрала домой.
— Жаль, что ты не догадалась этого сделать раньше! — печально сказала Анна Абрамовна. — Видела же, что он за тобой идет?
— Чтоб я умерла! — возмутилась Деля. — Откуда я могла знать, как могла догадаться, что этот шакал накинется на меня?
— Идиот! — вздохнула Анна Абрамовна. — Сломал свою жизнь! Надеюсь, ты дала ему надлежащий отпор?
— Тетя Аня! — заверила друга семьи Деля. — Я сражалась, как львица! Тетя Аня, уговори отца, чтобы он заступился за Акифа.
— Никак, тебе понравилось? — удивилась Анна Абрамовна.
Деля покраснела и попыталась удрать опять в свою комнату, но Анна Абрамовна ее удержала.
— Шуток не понимаешь? — прижала она нежно к себе дочь подруги. — Славная ты моя, добрая девочка! — поцеловала она девочку в голову…
Амбал Ариф дозвонился до отца Акифа, директора гастронома, лишь на следующий день. Он долго и обстоятельно выяснял и уточнял: точно ли он говорит с самим товарищем директором, а затем без обиняков сказал:
— Я знаю, где находится ваш сын! Но вы должны мне заплатить за сведения, — потребовал он. — Хорошо заплатить.
— Где он? — упавшим голосом, чуя беду, неотвратимую и страшную, спросил отец Акифа. — Я заплачу, заплачу. Сколько скажете, столько и заплачу.
— Приготовьте деньги и давайте адрес! — потребовал амбал Ариф. — Только без фокусов. За фокусы пострадает ваш сын.
Директор гастронома назвал адрес, уверил вымогателя, что никаких фокусов не будет, и стал ждать.
«Похитили сына! — стенал он. — Чует мое сердце!»
Вспомнив, что он не предупредил о неожиданном визите своих людей, он вызвал заместителя и отдал необходимые распоряжения.
«А то могут и соврать: мол, нет директора, на базу уехал или в министерство. А мой Акиф ответит за глупость отца».
И стал ждать «похитителя». Впрочем, ждал он совсем недолго: минут через пятнадцать явился тот, кто звонил, амбал Ариф с нагло выпученными глазами.
«Какая бандитская рожа!» — подумал сразу директор гастронома.
— Деньги приготовил? — решительно спросил вошедший.
— Вы не сказали, сколько! — еще больше разволновался несчастный отец, предчувствуя большой урон для своего кармана.
— А сколько не жаль за жизнь сына! — нахально и с вызовом бросил Ариф, но, увидя гнев в глазах директора гастронома, сразу перестал ерничать: — Пять тысяч!
«Нет, этот не из банды! — еще печальнее подумал несчастный отец. — Те свой прейскурант знают, с меня содрали бы не меньше ста тысяч. Но рожа все равно бандитская!»
— Что, много? — заволновался амбал Ариф, заметив усугубившуюся печаль на челе отца жертвы. — Можно сбавить: три тысячи на стол, и я скажу вам все!
Директор молча достал из ящика стола деньги, отсчитал пять тысяч, протянул их Арифу и устало и обреченно спросил:
— Где он?
— В милиции! — радостно улыбнулся вымогатель, пряча поглубже в карман огромные для него деньги. — В третьем участке.
Отец Акифа с неожиданной силой, удивившей даже его самого, внезапно вцепился в амбала, схватив его за грудки.
— Врешь, негодяй! — зашипел он, словно рассерженный гусак. — Вчера комиссар лично проверил все участки, нет его там.
Амбал Ариф легко отцепил руки директора гастронома от своей новой курточки мышиного цвета и толканул его на место. Упоминание о комиссаре испугало его, но он все еще хорохорился.
— Спокойно, ата! — обиженным тоном произнес Ариф. — Его записали как бесфамильного бродягу.
— Как так? — опешил отец Акифа.
— Не знаю сам почему, — растерялся Ариф, — лейтенант, который его привез, так распорядился: записать как бродягу. Какая-то у него выгода есть!
— Подожди! — велел директор. — Я позвоню комиссару. — Мой телефон тебе сын дал?
— А кто же еще? Он же мне и обещал, что вы заплатите. — Ариф заторопился. — Я ухожу, у меня дела…
— Подождешь! — приказал директор, вторично набирая номер телефона комиссара. — Вместе поедем. Не бойся, я тебя не выдам комиссару. Но деньги отработаешь!
— Нет! — воспротивился амбал Ариф, нагло сверкая выпученными глазами. — Так мы не договаривались. До свиданья!
И он направился к двери кабинета директора гастронома.
Отец Акифа торопливо нажал кнопку звонка, скрытого под столешницей, и в кабинет тут же вошел чернобородый великан, одетый в рабочий костюм с клеенчатым фартуком мясника. Он молча и небрежно поигрывал остро отточенным топором, который выглядел просто игрушкой в его могучих, огромных ручищах, густо заросших черным жестким волосом. Он всегда охранял директора, когда к нему приходили посетители.
Больше никто не произнес ни слова. Все было и так всем понятно. Амбал сел на место. Деньги стали жечь тело, но он уже понял, что отдать деньги и уйти не получится.
Комиссар с охотой откликнулся на зов друга, и через несколько минут его машина подъехала к ожидавшему на тротуаре перед гастрономом отцу Акифа. Амбал стоял чуть в стороне, охраняемый мясником, спрятавшим под фартук, ради приезда комиссара милиции, тускло блестевший отточенный топор.
Но у амбала Арифа сил бежать уже не было. Он решил честно отработать полученную сумму, равную почти что годовому его окладу рядового милиционера.
На третьем участке приезд столь высокого гостя вызвал серьезную панику. Но комиссар не стал терять времени на пустые формальности.
— Открыть камеры! — рявкнул он сердито.
Ему почему-то было очень стыдно за подчиненных.
Когда открыли дверь камеры, где находился Акиф, обрадованный отец бросился к сыну. Но тот его не узнал. Пустые его глаза равнодушно переводили взгляд с одного вошедшего на другого.
— Он у вас всегда такой молчаливый? — нагло поинтересовался Насрулла, бросив заговорщический взгляд на амбала Арифа. — Не поверишь, слова не вымолвил с тех пор, как переступил порог камеры. Как уж мы ни старались ублажить его: кормили развлекали…
— Заткнись! — грубо оборвал его комиссар.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! — вытянулся по стойке «смирно» Насрулла, но глаза его кроме насмешки ничего не излучали.
Директор забрал своего несчастного сына, покорно подчинившегося «чужим» людям, и увез его в клинику, где главврач был многим ему обязан, в частности своим назначением.
Сколько комиссар ни бился, все, как один, словно сговорились, оправдывались тем, что сам Акиф не хотел давать никаких показаний, все время молчал.
Нашли дежурного старшину, пославшего «царский» подарок Насрулле, нашли лейтенанта, который не преминул красочно описать свой героический поступок, но и они, откуда только берется такая интуиция, бодро солгали: «Да, преступник отказался давать показания, был замкнут и вроде не в себе!»
Только полковник, которого комиссар вызвал, едва тот успел вернуться из командировки, и поручил разобраться, тем более что его дочь была замешана в этом деле, сразу же все понял, как только узнал, что мальчика поместили в одну камеру с Насруллой. Полковник велел доставить Насруллу к себе в кабинет, прежде чем отвезти того в тюрьму, где освободилась одиночная камера, и спросил его, глядя прямо ему в глаза:
— Насрулла, за что ты уничтожил юношу?
— Что вы, полковник? — обиделся Насрулла. — Я исполнял все его желания слепо, как раб. Мне передали, что это — подарок от вас.
Полковник побледнел от ненависти.
— Негодяй! Я не могу воздействовать на суд, но обещаю включить тебя в список для отправки на Чукотку.
— Не пугай, начальник! — усмехнулся Насрулла. — Насруллу везде знают. Везде живут люди. И везде они бегут. До Чукотки еще надо доехать!
И, покидая под охраной кабинет, язвительно добавил:
— Хороший подарок, полковник! Я не забуду.
И гордо вышел, насвистывая опереточный мотив…
Насрулла произнес вещие слова, когда упомянул, что «до Чукотки еще надо доехать».
Этой же ночью в камере ему перерезали горло. А кто мог в одиночной камере перерезать горло заключенному?
Врач, обязанный своей карьерой отцу Акифа, не стал от него скрывать страшных подробностей, в результате которых, по его мнению, мальчик и сошел с ума.
Директор гастронома решил провести собственное расследование.
Когда к амбалу Арифу подошел дряхлый старик и предложил получить еще пять тысяч рублей, Ариф не колебался ни секунды. То, что директор гастронома сдержал слово и не выдал его комиссару, убедило его в своей значимости, а желание подзаработать, после получения первой «шальной» суммы, не только не умерло, а, наоборот, понравилось до того, что расцвело пышным цветом.
И амбал Ариф послушно, как голодный пес за куском мяса, пошел за стариком, который привел его опять в тот же гастроном, где «царил» отец Акифа. Только на этот раз его повели не в кабинет, а в подвал, где, совершенно неожиданно для милиционера, его схватили два мясника, в одном из которых он узнал своего утреннего знакомца, и, залепив рот куском пластыря, связали ему руки ремешком и подвесили на стальной крюк, на котором обычно разделывают туши коров и баранов.
Как только похолодевший от ужаса амбал Ариф повис на крюке, в разделочной появился отец Акифа и предложил ему не кричать, а рассказать как на духу, что произошло в КПЗ на самом деле.
Чтобы Ариф не тратил их драгоценного времени, его сразу же раздели догола и многозначительно показали большой коробок спичек, даже зажгли одну для наглядности.
У Арифа с детства было сильно развито чувство воображения, он сразу представил себе горящую спичку у себя в паху и даже почувствовал запах паленого волоса, от которого мог потерять сознание.
А потому, не тратя чужое драгоценное время, он все рассказал, подробно и почти в лицах. Единственное, о чем он умолчал, это — как он испачкал собственной спермой дверь камеры. Но он был уверен, что такие мелочи отца Акифа не интересуют. Тем более что он постарался сдать не только главного виновника — Насруллу, но и лейтенанта, и дежурного старшину, который сам решил наказать мальчишку.
Амбал Ариф, изображая почти в лицах главных виновников трагедии Акифа, рассчитывал заработать. Но отцу Акифа не нужен был потенциальный шантажист. А потому милиционера упрятали в большой мешок и подержали в море до тех пор, пока он перестал бурно выражать свое несогласие с решением утопить его. А после аккуратно уложили всю его одежду на берегу, и очередное дело о несчастном случае при ночном купании кануло в Лету, покрываясь пылью весь положенный срок хранения.
Месть отца Акифа была ужасной. Три четверти работников гастронома были его родственниками, ближними и дальними, и те два мясника, что держали в страхе не только поставщиков и оптовых покупателей, тоже были его родственниками и мстили за честь своего рода.
Одетые в черные маски, они навестили ночью дежурного старшину у него дома и на глазах в секунду поседевшего от ужаса отца и мужа, привязанного к спинке кровати, изнасиловали не только его жену, но и трех несовершеннолетних дочерей, после чего профессионально вскрыли живот старшины и его кишки намотали ему на шею.
Охранник Насруллы мог поменяться на время и за большие деньги своим постом лишь с одним из них, а потому Насрулла счастливо избегнул насилия, ему сонному просто перерезали глотку.
Хуже всего пришлось лейтенанту. Награда нашла своего героя, но вряд ли сам герой мечтал о такой награде: его голым приковали в подвале гастронома и неделю, насилуя беспрерывно, морили голодом, жаждой и холодом, а затем, уже полумертвого, закопали в заброшенной могиле на кладбище, где он промучался еще несколько дней.
14
Внезапная болезнь Акифа, естественно, стала темой номер один в разговорах класса, в этом городе трудно было что-нибудь скрыть друг от друга, если это не преступление, от которого все бегут и которого боятся.
Деля Агабекова, после трех дней отсутствия, появилась в классе, как будто ничего не случилось, и предъявила справку от родителей, что она плохо себя чувствовала. Действительно, почему она должна была чувствовать себя виноватой там, где ее вины не было ни на йоту.
Игорь, как всегда, не удержался, чтобы не съязвить:
— Здравствуй, Лейли!
— Ты уже забыл за три дня, как меня зовут? — удивилась Деля.
— Раз у тебя есть собственный Меджнун, значит, ты — Лейли! — ехидничал Игорь. — И не спорь со мной, пожалуйста.
— Не понимаю, о чем ты? — искренно удивилась Деля. — Может, пока я болела, вы все здесь с ума посходили?
— Так это не твоя работа? — удивился Игорь.
— Не понимаю! Серьезно тебе говорю! — нахмурилась Деля.
— Ха! — вмешалась самая ярая поклонница Акифа. — Акиф из-за нее с ума сошел, а она: «не понимаю».
— Придурки! Я-то тут при чем? — новость потрясла Делю, и она даже побледнела, но упрямо продолжала делать вид, что она здесь ни при чем, и ее это не касается.
Так они договорились с Анной Абрамовной.
«Глупенькая, — наставляла ее друг семьи. — Женщина должна, просто обязана, научиться все отрицать, даже все очевидное, даже если тебя застанут в постели с любовником».
Опасные уроки будущим женам.
Класс был разочарован. Так всем хотелось стать живыми свидетелями романтической истории, где от любви сходят с ума.
Никита улучил момент, когда возле Дели никого не оказалось, подошел к ней и ревниво спросил:
— Между вами действительно ничего не было?
— Никита! — взмолилась рассиявшая было Деля. — Ты хоть меня не мучай! Ты ведь знаешь, как я… — и она смущенно умолкла.
— Ты можешь доказать это! — Никита решил больше не ходить вокруг да около.
— Как? — испугалась Деля, испугалась по-настоящему, так как поняла, что жизнь ставит ее перед серьезным выбором.
— Для такого доказательства существует лишь один способ! — настаивал Никита.
— Быть твоей? — зарделась Деля.
— Да! — подтвердил Никита.
— Не торопи меня! — взмолилась Деля. — Я умоляю! Я решусь на это, только ты не торопи меня. Хорошо?
И Деля серьезно посмотрела в глаза Никите, так посмотрела, словно хотела заглянуть в самую бездну души. Но так ничего и не увидела. Все влюбленные слепы…
Илюша не принимал участия в шумных дебатах и дискуссиях на тему: «Лейли и Меджнун». У него была своя Лейли, хотя его самого Меджнуном назвать никак нельзя было, он сам был по уши влюблен в Валю и решительно не понимал, как это можно сойти с ума от любви, правда, он справедливо признавался себе, что неразделенной любви он пока не изведал.
Валя, преодолев природную женскую стыдливость, девичью застенчивость, стала выше пересуда: «что люди скажут», — и пригласила Илюшу сходить после уроков в кино. Она очень хотела побыть с ним наедине, вдвоем, а ждать, когда Илюша решится сделать это, первый шаг, пригласит хотя бы в кино, можно очень долго, может вся жизнь пройти так, в ожидании.
Они договорились встретиться у касс. На этом настояла Валя, ей от своего братца еще необходимо было улизнуть. Но она знала, как это лучше сделать: стоило ей начать учить Костю жизни, «пилить» его, как тот ровно через минуту словно включал третью скорость и уносился от своей попечительницы вдаль, не оглядываясь.
Так случилось и на этот раз. Только Валя пошла не домой, а свернула сразу в переулок, чтобы быстрее исчезнуть из поля зрения братца, если ему вдруг вздумается вернуться и сказать какую-нибудь гадость. Да и переулком можно было быстрее выйти к кинотеатру.
Илюша уже ждал ее с билетами в руке. Валя взглянула на него, и лицо ее окрасилось легким румянцем, щеки вспыхнули не иначе как от грешных мыслей. И она нежно, совсем по-женски, улыбнулась своему избраннику.
Как только погас свет в зале, Илюша, сам дивясь своей смелости, положил руку на руку Вали, а она лежала на ее ноге… О чем был фильм? Они не могли потом вспомнить даже названия, не говоря уж о более сложном, например, о содержании. Жар двух сплетенных рук наверняка повысил температуру в зале на пару градусов.
Первое прикосновение. Первое ощущение жгучей потребности в чьей-то любви, в ласках. Настоятельная необходимость видеть любимого человека, столь внезапно ставшего близким и родным, вызывает удивление, а где же ты был раньше, не проходит иногда это ощущение очень долго, иногда всю жизнь.
Выйдя из кинотеатра, они, не сговариваясь, выбрали окольный, самый дальний путь домой, через бульвар. Море уже штормило, и холодный ветер рвал ветки деревьев, сбивая с них почти что зеленую листву. Безлюдье было почти полным. Кому еще взбредет в голову, кроме влюбленных, которые греются от прикосновения и взглядов друг друга, гулять при пронизывающем северном норде, всосавшем в себя к тому же всю сырость Каспия.
Они шли молча, но молчат ведь не только оттого, что нечего сказать, но и оттого, что бывает очень хорошо.
— Илюша! — прервала молчание Валя. — Старая карга сегодня утром внука своего ругала: «хитрый жиденок». Жид — это то же, что и еврей?
Старой каргой Валя называла свою соседку по коммунальной квартире, злющую старуху, злее не бывает.
Илюша усмехнулся:
— Это вообще-то по-польски, но в России стало употребляться в оскорбительном смысле, — пояснил Илюша. — Искаженное, как и немецкое «юде» от «иудей». Знаешь, когда несколько лет назад ввели паспорта, а в них графу «национальность», пятый пункт, один мой очень хороший знакомый, друг отца, решил пошутить и в анкете, в пятом пункте, написал «иудей» вместо «еврей». Получает паспорт, а в нем, в графе национальность, написано — «индей». Он на дыбы, что это за «индей» такой? Объяснил безграмотной паспортистке, что «иудей» — это то же самое, что «еврей». Та велела ему прийти на следующий день. Он пришел, и его увезли на карете «скорой помощи». В паспорте он прочел: «индей еврейский». Кто над кем пошутил?
Валя смеялась несколько минут, не могла остановиться, аж до слез. А Илюша любовался ею, и благодать владела его душою. Отсмеявшись, Валя неожиданно для себя спросила:
— А ты — еврей? Или — русский?
— Я так и знал, что ты спросишь об этом! — усмехнулся горько Илюша.
— Ну, правда! — извинительным тоном продолжила Валя. — Это из чисто женского любопытства. Мне же все равно, ты знаешь.
И она приблизилась так к Илюше, что взяла и неумело поцеловала его.
Молча они смотрели друг на друга, словно впереди у них была вечность. Чтобы скрыть смущение, Илюша стал рассуждать о том, к какому народу он принадлежит.
— Я сам давно думаю над этой проблемой: «Кто же я?» По еврейским законам я — русский, ибо «еврей» — ребенок, рожденный еврейской матерью и прошедший гиюр.
— А что это такое? — поинтересовалась Валя.
Илюше пришлось призадуматься: как пояснить Вале некоторые физиологические подробности.
— Соответствующий обряд! — пояснил Илюша, найдя благовоспитанную форму.
Но Валя кое-что слышала и об обрезании, почему и покраснела до цвета малины.
— А по русским? — спросила она, чтобы скрыть смущение.
— И по русским законам я — русский, — охотно пояснил Илюша, — потому что бабушка, мамина мама, меня тайком крестила во младенчестве, я очень сильно болел, она боялась, что умру нехристем и не попаду в рай.
— А почему тайком? — не поняла Валя.
— Родители партийные! — удивился ее вопросу Илья. — Оба… Но по обывательским законам я — еврей!
— Говорят, в Германии евреев преследуют… — тихо сказала Валя.
— Да, я слышал! — поддержал ее Илья. — Может, врут? У власти там социалистическая рабочая партия, флаг у них тоже красный, лишь в середине белый круг со свастикой…
— Ты мне так и не ответил, — вернулась к своему вопросу Валя, — кем ты себя считаешь? Меня обыватели не интересуют.
Илюша задумался.
— Я как-то написал стихотворение… — начал он.
— Как твой тезка, Эренбург? — перебила его Валя, вспомнив прочитанное Ильей стихотворение на одном из уроков.
— Тогда я его стихотворение не читал, — смутился Илья, — но получилось на ту же тему. Почти…
— Прочти! — сказала в рифму Валя и вновь радостно и весело рассмеялась.
Илья вызвал в памяти стихотворение и начал его читать:
Валя обвила руками шею Илюши и восторженно посмотрела ему прямо в глаза. Ей действительно понравилось стихотворение, и она искренне радовалась.
— Слушай, здорово как! — восхитилась она. — Не хуже, чем у твоего тезки, Эренбурга.
— Не хуже? — улыбнулся Илья и неожиданно для себя сам поцеловал Валю. — А нужно, чтобы было лучше!
Они пошли дальше, совершенно не чувствуя холода.
— Ты хочешь стать поэтом? — спросила Валя.
— Хочу!.. — согласился Илья и добавил, горько усмехнувшись: — Если дадут…
— То есть, как это, «дадут»? — удивилась Валя. — Ты где живешь? «Я другой такой страны не знаю, где так вольно жил бы человек…» — спела она довольно приятным голосом.
Но Илья прервал ее пение долгим поцелуем, и несколько минут они ни о чем не могли говорить, слившись в одно, единое целое.
Когда же они вновь двинулись в долгий путь домой, Илья вспомнил о ее последнем вопросе и пояснил, как он это понимает:
— Я знаю другие слова, не из песни, а Маркса: «Органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность».
— Умный какой! — почему-то обиделась Валя. — Я ничего не поняла!
— Проще простого: я стану тем, кем мне разрешит стать общество, органическая система, — стал пояснять Илья. — Сейчас надо писать не хуже, чем: «Сталин — наша слава боевая…» А я так не умею писать, следовательно, для системы не подхожу, и мне нужно проявить себя в чем-то другом…
— А ты посылал куда-нибудь свои стихи? — полюбопытствовала Валя, которой до смерти хотелось, чтобы ее возлюбленный прославился на всю страну.
— Посылал! — нехотя признался Илья.
— Ответили? — загорелась Валя.
— Ответили: что я — не Пушкин! А о стихах ни слова. Как будто я сам не могу посмотреть в свой паспорт, тем более что недавно его получил. Не Пушкин, и все тут! А разве я когда-либо утверждал, что я — Пушкин? Тогда мне самое место рядом с Александром Македонским, Кай Юлием Цезарем и сразу с двумя Наполеонами…
— Это в дурдоме? — догадалась Валя.
— В одной палате! — уточнил Илюша.
— Вряд ли в одну палату поместят сразу двух Наполеонов, — пошутила Валя. — Один из них будет самозванцем.
Ветер подхватил и умчал в город беспечный смех двух влюбленных, а небо хмурилось от черной зависти, глядя, как они целуются до боли в губах.
15
Опять мать Сережки Шпанова ударилась в загул, не предупредив сына. Еды, правда, она оставила, но откуда Сережка мог знать, что мать исчезнет на несколько дней. Он все смолол в один день, у него такой возраст, организм растет, необходимо много еды.
— Сережа!
Легкий стук в дверь вывел Серегу из сонливого состояния, но зато чувство голода вспыхнуло с еще большей силой.
Голос с таким характерным акцентом мог принадлежать только Елизавете Израилевне. «Не было печали, так черти накачали!» — озлобился Серега, но дверь открыл, после случая с пирожками он почему-то стал стыдиться своей злобы.
Перед дверью действительно стояла Елизавета Израилевна.
— У меня к тебе просьба, Сережа! — торжественно начала она. — Сделай две любезности: во-первых, сбегай за хлебом, вот тебе деньги, — и она протянула мятую бумажку, в которой опытный взгляд Сергея сразу узнал трешку. — Во-вторых, я тебя хочу попросить пообедать с нами, за компанию, а то Беллочка совсем перестала есть, в-третьих, я скажу тебе спасибо.
«За компанию жид повесился!» — подумал Серега, но вслух постеснялся такое сказать.
Пообедать за компанию, как одолжение, можно, почему бы и нет. Особенно, если вторые сутки во рту не было даже маковой росинки, и у Игоря нечем разжиться, что-то у него там, дома, случилось, ходит хмурый, на машине больше не подъезжает с шиком, даже бутербродов никто ему не делает. Днем раньше Серега видел сам, как Игорь стрельнул у Светки Векиловой половину бублика. Но Игорь ничего не рассказывает, а спросить — себе дороже.
Серега согласно кивнул головой и побыстрее хапнул трешницу из рук Елизаветы Израилевны. Она посмотрела, как он легкомысленно накинул только легкую курточку и собрался на улицу даже без шапки, а на улице уже зима, пусть южная, но зима. И запротестовала:
— Потеплее оденься. Снег идет. Не пижонь!
— Да ну? — удивился Серега. — Неужели снег? Давно в снежки не играл.
— Ты не заиграйся, смотри! — предупредила Елизавета Израилевна. — Мы ждем тебя обедать.
— Я мигом! — пообещал Серега, но неожиданно для себя послушался соседки и одел под легкую куртку теплый свитер из собачьей шерсти.
Мать связала, когда два дня у нее выпали трезвые.
Но шапку надевать не стал. Густая копна волос могла с успехом заменить любую шапку. Да и сбегать-то недалеко: до угла дома, где в крошечном хлебном отделе крошечного магазинчика «Продукты» продавался очень вкусный чурек. Минута туда, минута обратно. А шапка столь стара да мала, едва держится на голове, что просто стыдно надевать.
Сергею повезло. В хлебный отдел только что привезли свежий чурек, еще горячий, издающий такой аромат, что желудок начинал не то чтобы пищать, а вопить, требуя своего. А его ублажать нужно каждый день, потому что он живет только сегодняшним днем, не вспоминая вчерашний и не думая о завтрашнем.
Серега купил на всю трешку три больших длинных чурека, мудро рассудив, что с одним он запросто управится сам, с двумя другими трое домочадцев Елизаветы Израилевны. Беллочка в счет не шла, хлеб она вообще не ела, почему ее бабушке часто приходилось печь пирожки и мясные рулеты, что она с удовольствием делала для внучки не только на Шабат.
Завернув хлеб в большой лист бумаги, выпрошенной в мясном отделе, Серега упрятал чурек за пазуху, чтобы на холоде не охладился. И побежал домой. Даже встретившиеся приятели с улицы не смогли его свернуть с пути, а они его уговаривали пойти поиграть в снежки с девчонками, повалять их в снегу и заодно потискать, что тоже им полезно, от прикосновения мужской руки у девушек все их прелести расцветают. Мнение девчонок, конечно, не учитывалось.
Большего соблазна трудно было найти, но Серега переборол и это искушение. Во-первых, он был голоден и рвался плотно пообедать, а готовила Елизавета Израилевна так, что запах еды сводил его с ума, во-вторых, было еще нечто, притягивающее Сережку сильнее магнита, что-то для него пока непонятное, хотя, при зрелом рассуждении, можно было догадаться, это — тепло дома, домашнего очага, которого Серега был лишен с детства, еще до ареста отца. Отец так часто бывал в командировках, что ему было не до воспитания сына. А мать любила танцы в клубе офицеров, там ей скучать не давали. Она забрасывала сына, когда он был еще совсем маленьким, к подружкам, у нее тогда было много подруг, это уже после ареста мужа, Серегиного отца, все разбежались, исчезли, словно всех ветром сдуло. Поэтому Серега никогда и не ощущал, что у него есть дом, семья, он просто этого никогда не знал.
У Елизаветы Израилевны все было уже готово, будто время рассчитала: приборы стояли на столе, а на плите аппетитно булькало и шипело.
Получив еще теплый чурек, Елизавета Израилевна ласково улыбнулась Сереге и предложила:
— Иди, мой руки! — и добавила: — Свитер можно снять, мы тебя не заморозим.
Вся семья Елизаветы Израилевны была в сборе. Ее муж был намного старше, совсем дряхлым, на взгляд Сереги, но пока служил где-то, кажется, в каком-то министерстве. Их сын и его жена, родители Беллочки, инженеры, тоже где-то работали, но оба получали меньше, чем старый Мотя, как его до столь почтенных лет все еще звала жена, но инженеры они были не где-нибудь, а в обувной промышленности, и имели солидный побочный доход, являясь негласными консультантами, через брата Моти, Арнольда, подпольного обувного синдиката, который имел для прикрытия две кустарные мастерские, но основной товар, который шел в районы, шился в семейных мастерских. Так они умудрились не платить девяносто процентов налога, за счет чего и образовывалась сверхприбыль.
Обед прошел в дружеской обстановке. Как ни был голоден Серега, глядя на окружающих, он старался есть так же медленно и степенно, как и члены семейства Елизаветы Израилевны. То, что она была главой семейства, признавалось безоговорочно всеми, несмотря на полное отсутствие у нее образования и квалификации, несмотря на то, что она не заработала ни рубля в своей жизни. Впрочем, не заработала своими руками, а чужими, так даже очень. Деньги водились в этой семье постоянно, это чувствовалось по обстановке красного дерева в обеих комнатах, лучших комнатах во всей квартире, по сервировке стола, Серега впервые ел с тарелок китайского сервиза, пользуясь серебряными вилкой и ножом, как и впервые он видел, чтобы возле прибора лежала туго накрахмаленная белоснежная салфетка, свернутая в трубочку и вставленная в колечко резной желтоватой слоновой кости. Да и в качестве обеда чувствовалось присутствие денег.
В центре стола стоял большой бронзовый семисвечник. Горели свечи, распространяя аромат удивительных райских, не иначе, благовоний. Все присутствующие за столом были так нарядно одеты, что Серега вдруг почувствовал себя бедным родственником.
— У вас чей-нибудь день рождения? — не удержался он от вопроса.
— Нет, мальчик! — певуче произнес старый Мотя. — У нас каждую субботу праздник. «Шабат — это Богу!» — говорится в Торе. Всю неделю мы занимаемся делами, в основном материальными, а в Шабат только духовными, путем молитвы и медитации.
— А что такое — «медитация»? — совсем невежливо перебил Серега.
— «Глубокое размышление!» — улыбнулся старик, сделав вид, что не заметил глупости мальчика. — Человек, соблюдающий Шабат, приходит к миру с самим собой, с людьми, с природой, с Богом. В Шабат мы должны быть в мире со всеми живущими на земле. Закон Шабата предписывает нам хотя бы один день в неделю не быть «царями природы», которым «нечего ждать милостей… — взять их — главная задача», может, я что-то путаю, но смысл верен, и не «править миром», а быть с ним в гармонии… В этот день мы исключаем применение внешней искусственной энергии и обращаемся к своим внутренним и творческим ресурсам и способностям, заложенным в нас Создателем.
— Поэтому свечи? — догадался Серега.
— Электричество — искусственная энергия! — согласился старый Мотя.
— Но у вас горит газовая конфорка! — съехидничал Серега.
— Что касается внешней природы, Шабат запрещает зажигать огонь, но он запрещает его и тушить. Готовить пищу нельзя, но подогреть готовую можно, не на самом огне, а рядом. Готовый обед грелся со вчерашнего вечера после захода солнца.
— А если закурить захочется? — с вызовом спросил юноша.
— Нельзя зажигать огонь или пользоваться пламенем, — отрицательно покачал головой старый Мотя. — Это — внешняя энергия. Никакими техническими приспособлениями пользоваться нельзя. Даже писать, потому что карандаш или ручка — технические приспособления.
— А что же можно? — удивился Серега.
— Читать, беседовать, обсуждать! — перечислил старый Мотя.
— И общаться с Богом? — вспомнил Серега.
— Да! — опять улыбнулся старик. — В Шабат дана такая возможность общения с Тем, Кто не имеет материального тела.
— Интересно! — неожиданно для себя произнес Серега.
— Если интересно, я могу дать тебе почитать кое-что об иудаизме, — предложил старый Мотя. — Как я понимаю, ты далек от любой религии?
— Я — атеист! — гордо назвался Серега. — И член кружка «Молодые безбожники».
Старый Мотя мудро улыбнулся.
— Старик Вольтер, противник официальной религии, писал: «На стороне верующих в Бога — масса трудностей, на противоположной стороне — масса абсурда». Атеизм — интеллектуально ленивая доктрина, притом весьма не гибкая. А Достоевский писал в «Братьях Карамазовых»: «Бога нет — тогда все можно…» Предупреждал!
— Достоевский — представитель реакционной царской интеллигенции, — презрительно вскинулся Серега. — Он был против Великой Октябрьской социалистической революции…
— Царизм его чуть не казнил за участие в революционном кружке Петрашевского, а умер Достоевский задолго до пролетарской революции, впрочем, как и до буржуазной, — и старый Мотя рассмеялся. — Что за педагог у вас по литературе?
— У нас хороший педагог! — грудью встал на защиту педагога Серега. — Он так интересно рассказывает о Маяковском, о Горьком, о Демьяне Бедном. Все познавательно и понятно. А Бога разве можно познать? Как можно познать то, чего нет?
Старый Мотя произнес какую-то фразу на непонятном языке, а потом перевел:
— Это изречение на арамейском языке звучит приблизительно так: «Если бы я познал Его, я уже был бы Им».
— А как зовут вашего Бога? — поинтересовался Серега.
— Три тысячи лет тому назад Моисей, слушая Бога на горе Синайской, полюбопытствовал: как зовут Бога? Бог ответил: «Я есть Тот, Кто Есть».
— А я знаю хорошего человека! — вспомнил Серега. — Он — атеист!
— Не спорю! — согласился старый Мотя. — И среди атеистов встречаются хорошие люди! Доброта дается природой так же, как гениальность или талант. Образованные люди были всегда. Ученые были и в древности. Но мы же ввели всеобщее образование, готовим кого угодно: математиков, физиков, химиков, инженеров. Но не менее необходимо всеобщее нравственное образование!.. А может, и более! — добавил он после небольшой паузы.
— Старый Мотя! — вмешалась Елизавета Израилевна. — Ты не в синагоге, дай мальчику попить чаю со штруделем.
И она положила перед наевшимся впрок на пару дней Серегой тарелку с таким огромным куском пирога, что Серега даже зажмурился, раздумывая, осилит ли он такую порцию. Но, подумав: «пусть лучше плохое брюхо лопнет, чем хорошее кушанье останется», — он впился зубами в штрудель, запивая каждый проглоченный кусок большим глотком крепкого чая из большой кружки, фарфоровой, украшенной неимоверным количеством «золота».
Старый Мотя умолк и о чем-то думал, улыбаясь. Он разглядел живой интерес в глазах молодого гоя и сожалел, что не сумел воспитать достойным образом своего собственного сына. Нет, тот соблюдал, хотя бы внешне, все четыре категории еврейских законов: интроспективные, что возвышают исполнителя этих законов; законы этики, что способствуют нравственному поведению всех людей вообще, независимо от вероисповедания; законы святости, что возвышают человеческие поступки от уровня примитивного существа до уровня разумного богоподобного творения Бога; национальные законы, что приближают к еврейскому народу и его прошлому. Но религиозного рвения не проявлял, и старый Мотя чувствовал, что, как только сын проводит отца в последний путь, он с каждым годом будет все более и более отходить от законов Торы. Как и многие евреи.
«Уже сейчас почти никто не носит „цицит“», — думал старый Мотя. — «И сказал Бог Моисею: пойди к детям Израилевым и вели им носить „цицит“ на краях одежды во всех грядущих поколениях… чтобы, видя их, вспоминали заповеди Божьи и соблюдали их…» Сотни мицвот определяют нравственность евреев. Многие заповеди были взяты христианами: почитай отца и мать, не убий, не прелюбодействуй, не давай ложных показаний, не завидуй. Но мало они им следовали. Да и советские евреи все меньше и меньше соблюдают все заповеди. Кто исполняет мицву отдавать десять процентов своего годового дохода на благотворительные дела? Это ведь не обычный призыв к благотворительности, а вполне конкретное указание, сколько давать, чтобы человек не отделывался малой лептой в своем стремлении выглядеть в глазах людей «хорошим». Правда, кому сейчас можно довериться? Попадешь на тайного агента НКВД, а там считать умеют.
И спросят: как это вы умудрились дать десять процентов на благотворительные цели, когда эти десять процентов равны вашей годовой зарплате?.. И сказал Господь Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: святы будете, ибо свят Я, Господь Бог ваш»… Человек может есть и совокупляться, как животные. А можно жить и на более высоком уровне: не есть, как свиньи, все подряд, не совокупляться, как кролики и мартышки. Законы Кашрут ограничивают еврея малым числом съедобных существ, нельзя есть свинину, раков, рыбу без чешуи и плавников… Но разве в Талмуде не записано: «в будущем человек должен будет отчитаться за всякую вкусную пищу, позволенную Законом, которую он отказался попробовать». Значит Еврейский Закон не проповедует аскетизм, а рассматривает чувственные формы физических удовольствий как радость, дар Божий… В Десяти Заповедях осуждается супружеская неверность, но Законы Иудаизма запрещают предаваться и в супружестве близости в любое время, когда у одного из них возникает желание. Талмуд уже почти две тысячи лет тому назад запретил вступать в половые сношения, если другая сторона не выразит встречного желания. А несколько известных дней каждого месяца супруги должны полностью отказаться от половой близости… А разве все советские евреи соблюдают национальные законы иудаизма? Ну, мацу во время празднования Пасхи употребляют все. Знают, что у бежавших из египетского плена не было времени выпечь кислый хлеб, испекли опресноки. Уже три тысячи двести лет соблюдают этот обычай в память об Исходе. И горькие травы едят, как символ воспоминаний о горькой жизни в рабстве у фараонов. Но кто уже постится на девятый день месяца Ав в знак скорби по поводу разрушения двух еврейских государств и двух священных Храмов?..
Старый Мотя так углубился в свои размышления, что уже не слышал, как разговор стал нарушать одну из целей Шабата: достижение внутреннего душевного равновесия и спокойствия путем отстранения от любой работы или занятия, отвлекающего от святости Шабата.
Сын Елизаветы Израилевны, названный в честь ее отца Израилем, с почтением внимал своей матери.
— Изя, нужно устроить мальчика! — вполголоса, чтобы не услышал Серега, заявила мать сыну. — Ты же знаешь его положение!
— Лиза, ты не знаешь, что ты хочешь! — удивился Изя, звавший любовно мать по имени. — Он же — гой! Нас могут не понять!
— А если к Василию? — задумалась Елизавета Израилевна.
— Василий единственно, чему может его научить, — это пить водку, — усмехнулся Изя. — Но этому нынешнее молодое поколение учится с успехом само по себе, без помощи старших товарищей. Разве не так?
— У Иосифа сына забрали! — вспомнила мать. — Старик остался один. Определи мальчика к нему. Обоим будет хорошо.
— Попробую! — задумался сын. — Старик заговариваться стал. Ты знаешь, кто приехал арестовывать молодого Пинхаса?
— Нет! — перебила мать. — Я с этими аспидами не знакома.
— Знакома! — еще более понизил голос Изя. — Во всяком случае, с одним. Руководил ими Гриша, сын Лейбы. Вспомнила?
— Не может быть? — воскликнула пораженная Елизавета Израилевна. — Бедная мать, бедный отец! Как им тяжело, я думаю…
— Я думаю, старому Пинхасу все же немножко тяжелей! — совсем тихо зашептал Изя. — Его сын получил десять лет без права переписки.
— Говорят… — повысила голос мать.
— Мы не знаем, как есть на самом деле, — прервал ее сын, опасаясь Сереги. — И не будем придавать значения тому, что говорят.
— Хорошо! — вздохнула мать. — Не забудь о старом Пинхасе.
— Обязательно, Лиза! — уверил мать Израиль. — А сам юноша хочет того? Может, ему нравится босячество?
— Не говори глупости, Изя! — возмутилась мать. — Он же один как перст!
— А ты его спроси! — настаивал сын. — Подойди и спроси!
Елизавета Израилевна вздохнула, но выполнила просьбу сына. Она подсела к Сереге, но начала, как всякая женщина, издалека:
— Ты наелся? Только скажи честно!
У Сереги не было сил даже ответить, и он лишь кивнул. Довольный осоловелый вид его говорил сам за себя. Так, наверное, выглядит удав, проглотивший маленького теленка. Сережка мечтал сейчас оказаться в своей комнате и минут сто двадцать смотреть сны в черно-белом варианте. Но ему неудобно было так сразу встать и уйти, сказав: «Извините, больше съесть не могу!»
Елизавета Израилевна видела его сонливое состояние, но она, затеяв какое-либо дело, никогда не останавливалась на полпути.
— Слушай сюда, Сережа! — серьезно начала она. — Я хочу устроить тебя учеником к одному очень хорошему мастеру…
— Чему учиться-то? — сквозь сон спросил вяло Серега. — В школе надоело!
— Что тебе даст твоя школа, кроме бумажки, которую нельзя даже повесить на гвоздик в сортире? — презрительно воскликнула Елизавета Израилевна. — Ой, не смеши меня!
— В институт поступить можно! — упрямился Серега, ничего, кроме троек не получавший. — Инженером стать…
— Ты с луны свалился, Сережа? — тихо спросила удивленная Елизавета Израилевна.
— Нет! — удивился теперь Серега. — А почему я должен с луны свалиться?
— Что ты такое говоришь? — стала внушать ему, словно малому ребенку, Елизавета Израилевна. — Ты думай перво-наперво!
— А что? — неожиданно тоже с характерным еврейским акцентом спросил Серега. — Думаете, не потяну?
— Ты когда-нибудь анкету заполнял? — спросила Елизавета Израилевна.
— Нет! — Серега сразу все понял.
— Так вот, голубчик! — почти торжественно сказала Елизавета Израилевна. — Там есть пункт, в котором ты обязан будешь сообщить о своем отце. Всю правду! Скроешь или соврешь, сам окажешься в местах не столь отдаленных.
— Да! — со вздохом признался Серега, и к сладкому чувству сытости прибавилась горечь. — Вы правы! Институт мне не светит. Остается завод.
— Сколько там платят? — презрительно протянула Елизавета Израилевна. — Копейки! Грязь, грубость, пьянство! А я тебя пристрою к чистому денежному делу. Через пять-шесть лет сам мастером станешь, большие деньги будешь зарабатывать.
Серега как-то сразу сдался уговорам и глухо спросил:
— Чему учиться-то?
— Обувь шить! — таинственно шепнула Елизавета Израилевна.
— Обувь? — почему-то обрадовался Серега. — Это — хорошее дело! Я согласен!
— Я всегда говорила, что у тебя голова варит, — обрадовалась Елизавета Израилевна. — У тебя глаза закрываются, — добавила она. — Иди поспи!
Серега с трудом встал. От еды он опьянел, а потому, отгоняя сон, рявкнул:
— Спасибо! До свиданья!
От его громогласного прощания вернулся в этот мир старый Мотя, беседовавший, не иначе, с самим Иеговой, и ласково улыбнулся юноше.
— Всего хорошего! — попрощался он. — Заходите ко мне, я дам вам почитать интересные книги. У меня даже Володя Жаботинский есть. В юности мы дружили с ним. Он уехал в Палестину. Приглашал и меня, но у меня была идея организовать еврейскую республику в Тавриде. Я не верил, что англичане дадут организовать что-нибудь в Палестине.
— А почему именно в Тавриде? — удивился Серега.
— На месте Тавриды в седьмом веке было государство хазаров, исповедовавших иудаизм, правда, это государство простиралось от Каспийского моря, от северного Казахстана до Крыма. В двадцатые годы, меньше двух десятков лет назад, евреям стали выделять земли в Тавриде для обработки. Можешь мне поверить, урожаи у них были в три-четыре раза выше, чем у местных земледельцев. А какие удои молока? Интересный эксперимент был. Жаль, в двадцать восьмом году все свернули.
Он опять погрузился в свои воспоминания, а Серега, поспешив воспользоваться моментом, выскользнул в коридор.
В последнюю минуту Израилю удалось ему шепнуть:
— Завтра я тебя отведу к мастеру. Сходи в баню и одень все чистое.
Но Серега не отреагировал, он почти что спал. Он так переел, что не помнил даже, как добрался до своей койки. Сил расправить постель уже не было, и он упал на нее, не раздеваясь, и мгновенно уснул…
И приснился ему необыкновенный сон. Сережка шел берегом моря, по мелководью, которое простирается в этом месте чуть ли не на километр в глубь моря, но Серега брел самой кромкой берега, там, где ленивые волны едва слышно выплескивались на песок. Справа, за узкой полоской белого песка, возвышались скалы, на первый взгляд, величественные и неприступные. Но, приглядевшись, можно было заметить множество тропинок, которые ловко вились среди скал, используя малейшую возможность предоставить людям короткий путь к морю.
Под тенью самой высокой и громадной, мощной скалы сидели, разостлав под себя огромный персидский ковер, трое странно одетых людей. Перед ними были разложены и расставлены всевозможные кушанья, яства и напитки. Они неторопливо вели о чем-то беседу, не переставая друг за другом ухаживать.
Серега вышел из воды и пошел к ним в надежде поживиться. Вновь он был голоден, и голод гнал его к еде помимо его воли. Но, странное дело, никто не обратил на него никакого внимания, словно Сереги и не было здесь.
«Вот, увлеклись разговорами, интеллигенция! — с удивлением подумал Сергей. — Меня даже не замечают. Слепые, что ли?»
Он подошел к ним вплотную. Теперь можно было их как следует разглядеть. Спиной к Сереге сидел не кто иной, как старый Мотя. И остальных Серега хорошо знал, отца Павла он видел несколько раз в церкви Христа-спасителя, куда его в детстве часто водила мать, сама ходившая в церковь не регулярно, как только поднакопит грехов, так и бежит их замаливать, а сына водила, чтобы с ним общаться заодно, вместе с Богом; рядом с отцом Павлом сидел сам комиссар НКВД, отец ближайшего друга Игоря. Правда, комиссар, в отличие от своих соседей, одетых в храмовые одежды, покрывших головы камилавками, сидел в красноармейской шинели с малиновыми петлицами и в буденовке, чей островерхий колпак Сергей издали поначалу принял за древнерусский шлем воина, пришельца из далеких веков.
Серега, видя, что на него все еще не обращают внимания, сел на персидский ковер, совершенно изумительной ручной работы и, ухватив ножку курицы, хорошо прокопченной, стал обгладывать ее с остервенением всякого голодного. Вначале, сосредоточившись на еде, он ничего не слышал, кроме гула голосов. Но, как только приступ голода прошел, голоса зазвучали ясно и чисто. Каждый говорил благожелательно, не повышая тона и внимательно слушая собеседника.
— Бог христиан любящий и благостный! — внушал мягко и с улыбкой отец Павел. — Бог евреев мстителен и жесток! Он проклинает слабого человека за нарушение хотя бы одного из законов Торы. Как написано в послании к галатам: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в Книге Закона». А разве может не грешить то несовершенное существо, каким является человек? А, греша, он непременно будет нарушать законы: «Ибо, если бы дан был Закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Тора заведомо проклинает человека: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». И спастись от Земли можно лишь путем искупления грехов. Верьте в Иисуса. «Христос искупил нас от проклятия Закона»…
— Откуда, отец Павел, вы позаимствовали эту странную идею? — благожелательно возражал старый Мотя, вертя рукой золотой «могендавид», висящий на длинной золотой цепочке. — Вы неправильно истолковываете или неправильно перевели стих Библии: «Проклят тот, кто не исполнит слов Закона сего и не будет поступать по ним!» Но этот стих относится к предыдущим одиннадцати, где речь идет об основах этических мицв или заповедей. Я могу их все прочитать. Жаль, что в переводах на русский язык они лишились своей поэтической выразительности: Проклят, кто сделает изваяние или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: «Аминь!» Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто ляжет с женою отца своего! Ибо он открыл край отцовой одежды! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или с дочерью матери своей! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто ляжет с тещею своей! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: «Аминь!» Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: «Аминь!» Но и эти проклятия исходят не от Бога, а от Моисея и богопослушных евреев, и слова «…закона сего…» ясно указывают, что речь идет не о всей Торе. В Библии ясно сказано, что ни один человек не может пунктуально и совершенно следовать всем заповедям. Люди в большинстве своем грешны. Евреи знали за сотни лет до рождения Иисуса, что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы! И Моисей, и Давид грешили, но затем раскаивались и возвращались в лоно мицвы, заповедей Божьих. И вновь находила на них Благодать. Иудаизму чужды понятия «ад» и «вечные муки», чем отличается христианство. Иудаизм позволяет и делает возможным возвращение к Богу и праведности. Тешува вмещает три шага: преступник или нарушитель должен осознать свой грех; он должен испытать искреннее раскаяние, угрызения совести и должен принять сознательное и твердое решение вернуться в лоно Торы. В древности, когда еще существовал Храм, был и четвертый шаг: принесение жертвы. Но Библия предвидела и разрушение Храма: «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: „Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших“. Об искренности молитвы Богу говорится и в Книге притчей Соломоновых: „Соблюдение правды и правосудия более угодно Богу, нежели жертва…“ Для евреев практические дела и поведение людей более важно, чем вера в Бога. Талмуд приводит слова Иеремии о Боге: „Пусть лучше они оставят Меня, но будут продолжать следовать Моим законам, ибо следуя законам Божьим, они так или иначе придут к Нему“».
— Мы признаем, что человек оправдается верою, независимо от дел Закона! — упорствовал отец Павел. Краеугольный камень христианства: согласие души посредством веры. И марксизм делает упор на слепую веру…
— Наши три религии имеют общие черты: каждая была основана евреем, каждая родилась от еврейского мессианского и утопического стремления переделать мир, — мягко наставлял отца Павла старый Мотя. — Но каждая религия изменила Путь и Метод! Помни об этом Шаул из Тарсиса, преследователь Единственного!
— Рассудите нас, комиссар! — взмолился отец Павел, обращаясь к сидевшему с закрытыми глазами комиссару, отцу Игоря. — Кто из нас прав?
Сереге поначалу показалось, что комиссар заснул. Во всяком случае, услышав обращение: «комиссар!» — он встрепенулся, открыл глаза, но спросонья, очевидно, не расслышал как следует и стал говорить свое:
— Право никогда не может быть выше экономической структуры общества, определяющей развитие культуры, — бодро начал комиссар, словно находился на трибуне. Он налил себе в стакан вина и сделал большой глоток. — Поэтому мы категорически отвергаем любую попытку навязать нам какую-нибудь моральную догму — в качестве вечного, окончательного и непреложного закона морали. Мы заявляем, что наша мораль полностью подчиняется интересам классовой борьбы пролетариата. Мы не верим в вечную и абсолютную мораль. Мы отвергаем любую мораль, идущую не от человека (а от Бога, например) и лишенную классового содержания.
— Маркс — внук двух ортодоксальных раввинов! — грустно заметил старый Мотя.
— Любое революционное насилие оправдано! — отрубил комиссар. — Марксистская мораль оправдывает и одобряет любой поступок, если он служит делу классовой борьбы.
— Неужели миллионы арестованных, расстрелянных, погибших от голода могут служить оправданием хоть какого-либо дела? — возмутился старый Мотя. — Погружать врагов народа живьем в ванную с серной кислотой — разве это не является безнравственным для коммунистов?
Комиссар не ответил, а лишь трижды хлопнул в ладоши. Тотчас же огромная скала за ними раздвинулась. Черная пасть бездны раздвинула стальные зубья решеток. Вышли четверо в черной коже с ног до головы, вооруженные маузерами, грубо схватили отца Павла и старого Мотю, привычно скрутили им руки и увели в бездну. Черная пасть, смачно и сочно чавкнув, проглотила всех своими стальными решетками, словно они приснились Сергею. А скала беззвучно встала на прежнее место.
Комиссар внимательно посмотрел на Сергея.
— Вот так-то, брат! — сказал он неопределенно. — Это тебе не хухры-мухры!
И медленно растаял в воздухе. Последней исчезла его рука, державшая стакан с вином, но, прежде чем она исчезла, из стакана вылетела струя вина и исчезла в воздухе, там, где только что был виден рот.
А прекрасный персидский ковер бесцеремонно сбросил Серегу на песок, едва он успел схватить второй кусок копченой курицы и бутылку лимонада, а ковер с остатками снеди и выпивки быстро улетел в сторону моря и вскоре скрылся за горизонтом.
Песок на берегу был горячим, и Серега поспешил перебраться в тень от скалы. Правда, здесь он опасался, как бы черный зев не проглотил бы и его, но, рассудив, он решил, что пока тьме не нужен, иначе его тоже бы забрали за компанию.
Только Серега успел съесть утащенный кусок курицы и выпил бутылку лимонада, как поднялся страшный ураган. Туча песка взвилась в небо и закрыла солнце. Огромные волны с ужасающим и угрожающим ревом обрушивались на берег, подкатываясь все ближе и ближе к сидящему на песке Сергею. А Сергей не мог сойти с места. Мысленно-то он уже давно бежал к ближайшей тропинке, взглядом уже взбирался по ней, ловко, быстро и легко, но непреодолимая сила прочно удерживала его на песке. И он с тоской и смертельным ужасом в глазах смотрел на черные огромные волны, неотступно бросающиеся стройными рядами на берег, лицом ощущая мелкий наждак песка, секущего нежную юношескую кожу.
Все же ему удалось преодолеть слабость. С трудом давался каждый шаг, приходилось прилагать большие усилия, ставшая вязкой, среда не хотела его выпускать, песок превратился в расплавленный битум, цеплялся за ноги, как хорошо натренированная служебная собака норовит ухватить за щиколотку, а в воздухе песок стоял мягкой стеной, и таких стен на пути До самой тропинки было несколько. И на подъеме по тропинке его не оставили в покое злые силы: ветер, завывая, бросал на него песчинки миллионами маленьких пуль, кровь уже струилась по лицу Сереги, а внизу громадные волны уже подобрались к самой тропинке и бились о скалу с каким-то остервенением, осыпая фонтанами брызг, в надежде добраться до ускользающей добычи.
Последние метры по тропинке Сережа полз. Силы оставляли его, даже мелькнула трусливая, предательская мысль: «А! Пропади все пропадом!» И поддаться слабости. И дать уговорить себя рокоту бездны, страстному пению урагана, и уйти в неведомое.
Но он выполз… На вершине скалы он попытался встать на ноги и не смог…
16
Воскресенье Костя провел за своим любимым занятием: он следил за сестрой. Нужно было быть слепым, чтобы не заметить перемены, произошедшей с Валей: сияние в лице, сверкающие глаза, улыбка, от которой становилось светлее все вокруг, от которой еще более сияло ее лицо и сверкали глаза, появляющаяся в самый, казалось, неподходящий момент, когда не было ни малейшего повода для радости.
Костя очень любил свою сестру и ужасно ревновал ее к Илюше. Он так привык быть с нею вдвоем с младенческих лет, все время, что без нее чувствовал себя иногда просто больным, словно его самого рассекали напополам. И его злоба на «виновника» росла не по дням, а по часам. Сестру Костя не осуждал, считая ее околдованной «масоном».
Начитавшись приключенческой литературы, Костя был уверен, что следит незаметно и так, как положено следить. Но он напрасно старался, все равно Валя с Илюшей не замечали его слежки, они вообще никого и ничего не замечали. Как только они встречались, как только их взгляды сливались воедино, окружающий мир переставал существовать, расплывался, становился аморфным. Главное для них было, что они вместе, и больше ничего им и не надо.
На сей раз Илюша встретился с Валей у филармонии. Вот-вот должен был начаться дневной концерт для школьников, и толпа ребятни, от первых до десятых классов, стайками влетали в бывший губернаторский дворец. Десятиклассников, правда, было очень мало. Поэтому Илья и удивился, встретив Мешади. А тот, фигляр, передернулся как-то странно и, скорчив физиономию дебила, что у него очень хорошо получалось, закричал, как маленький:
— Тили-тили-тесто, жених и невеста!
Валя сразу сравнялась цветом лица с вареным раком, а Илюша решил врезать Мешади в челюсть, но тот прекрасно знал про его второй разряд по боксу и ужом проскользнул мимо и скрылся в дверях филармонии. Илюша удовлетворился тем, что крикнул ему вслед: «макака!» И увел побыстрее Валю от губернаторского дворца, чтобы ненароком еще кого-нибудь не встретить.
— Зачем ты так? — мягко укорила Илью Валя.
Илюше стало стыдно.
«Действительно, — подумал он, — зачем? Я же радуюсь, когда думаю о Вале, как о невесте. Не представляю себе жизни без нее. Веду ее сейчас познакомиться с мамой. Почему же мне стало обидно? Или просто не хочется слышать, как разные грязные „макаки“ все опошляют. А ведь умнее было бы не обратить внимания. Сотрясение воздуха — есть сотрясение воздуха. Это — не те слова, что убивают. Но не поддаваться на провокации — искусство!»
Валя улыбнулась, глядя на его обиженное, еще совсем мальчишеское лицо, своим тонким женским чутьем она сразу впитала все его мысли.
— Не обращай внимания! — ласково, но твердо сказала она Илье. — Агрессивно реагировать на каждую фразу, сказанную дураком с целью уязвить тебя, никакого здоровья не хватит. Научись прощать людям, мало ли что у них произошло, что могло случиться. Сам подумай: он сорвался, ты сорвался, к чему это может привести? К скандалу, к драке! А ты его лучше прости, прости в ту же секунду, как только услышал от него гадость. Скажи себе: «Ему будет очень стыдно ровно через минуту!»
— Но он же специально… — взвился Илья.
— И тебе сразу стало стыдно идти рядом со мной? — удивилась Валя.
— Что ты! — запротестовал Илья. — Это почему мне должно быть стыдно? Я люблю тебя.
— Тогда его слова должны были наполнить тебя радостью и гордостью! — сказала грустно Валя. — А не вызывать такое бурное противодействие.
— Из грязных уст… — начал было Илюша.
Валя его перебила:
— Сам не пачкайся! Мы живем среди людей, и они нас в покое не оставят пока. Всегда найдется человек, которому захочется влезть в твою душу и потоптаться там в грязных сапогах.
— Один удар в челюсть, — ответил Илья, — и он трижды подумает: сказать гадость или промолчать…
— Придется тебе всю жизнь драться! — заметила Валя. — Можешь и в тюрьму попасть. «На чужой роток не накинешь платок!» Мне еще бабушка это говорила. Не стоит обращать внимания. Идя на контакт с грязными словами, ты невольно раскрываешь свою душу и подставляешься.
— Так и жить, ни на что не обращая внимания? — насмешливо спросил Илья.
— Я тебе говорила про мелочи жизни, не касаясь остального, главного, основного! — пояснила Валя.
— А что «основное»? — спросил Илья.
— Совесть и честь! — охотно ответила Валя.
— Сильно сказано! — одобрил Илья. — Только очень уж общо! Четких градаций нет!
— Есть, Илюша! И сам ты прекрасно это знаешь: через что можно переступить, а через что нельзя. А что, может, только задевает твое самолюбие.
— Промолчать? — взвился Илья.
— Пропусти мимо ушей! — посоветовала Валя. — Береги нервы для серьезного, главного, вечного.
— А что есть — главное? — иронически спросил Илья.
— Твое предназначение в этой жизни! — подумав несколько секунд, ответила Валя.
— Предназначение? — удивился Илья.
— Зачем-то ты явился же на этот свет! — пояснила Валя. — И что-то обязан ты совершить!
— Глупенькая! — вздохнул Илья. — Обязан… Нужный винтик — вот твоя обязанность, вот твое предназначение. А уж если шестеренкой поставят или, предел мечтаний, рычагом, то радуйся и кричи: «Аллилуйя!» Но это в душе, а вслух: «Ура! Да здравствует!»
— Ты про это больше никому не говори! Ладно? — испугалась Валя.
— Не маленький! — усмехнулся Илья. — Мое второе «я» выросло из пеленок.
— Какое-какое? — не поняла Валя.
— Мы все постепенно превращаемся в подобие двуликого Януса! — пояснил Илья. — Только у Януса одно лицо смотрит в прошлое, а другое в будущее. У него все оправдано, а у нас…
Илья замолчал, и такая тоска появилась на его лице, что Валя поспешила спросить:
— А у нас нет?
— «А у нас в квартире газ, а у вас?..» — усмехнулся Илья.
— «А у нас водопровод, вот!» — засмеялась Валя.
— Не до смеха, — вздохнул Илья, — когда твое одно лицо смотрит тебе в душу, а другое изображает радость, то, что требуют по команде сверху.
— А для тех, кто перепутает, дорога одна! — многозначительно подчеркнула Валя, понизив голос до шепота. — Не забывай!.. И хватит! Не будем об этом, давай? Лучше скажи: куда мы пойдем? В кино?
— Я хочу тебя познакомить с мамой! — серьезно сказал Илюша.
Валя застыла на месте. Она так растерялась, что не могла вымолвить ни слова, и только глаза ее о чем-то молили.
— Ну, что ты так испугалась? — удивился Илья. — Моя мама не кусается.
— Ты это серьезно? — наконец-то сумела с трудом выйти из столбняка Валя.
— Абсолютно серьезно! — ответил Илья. — Закончим школу и поженимся.
— Тебе учиться надо! — смутилась Валя.
Но впервые по-настоящему серьезно взглянула на Илюшу. Она его очень сильно любила, больше брата, больше отца с матерью. Но сейчас она растерялась. Нужно было принять окончательное решение, а она не знала: имеет ли право связывать любимого семейными узами.
— Тебе тоже учиться надо! — заметил Илья. Он говорил серьезно и уверенно, было видно, что он уже все обдумал. — Поступим на вечерний факультет, пойдем оба работать. Мама уже говорила обо мне в редакции.
— Я не знаю! — замялась Валя.
— Ты не хочешь быть моей женой? — удивился Илья.
— Очень хочу! — искренне ответила Валя. — Но не знаю, имею ли я право связывать тебя. И потом, я на целый месяц тебя старше.
— Посмотрите на эту старуху! — засмеялся Илья. — Из нее уже песок сыплется, а она отказывается от такого юного и красивого мужа. Ну, где вы найдете большую привереду?
И он, схватив Валю за руку, потянул ее за собой, как на буксире. Валя покорно шла за ним.
А Костя в десяти шагах от них, скрытый деревьями и кустами, нервно курил «Беломорканал» и злился на холод, забыл одеться потеплее, на влюбленных, сыщик, застыли, две статуи, холода не замечают, им-то тепло под взаимными взглядами. Костя и сам не знал, зачем он следует за Валей и Ильей? Запретить им встречаться он был не в силах, Илюше морду набить не мог, себе дороже, если только всей кодлой, а кодла против, родителям пожаловаться тоже нельзя было, сестру совсем потеряешь, она предательства не простит.
И, сам не зная, зачем, но он все же брел и брел за влюбленными, поеживаясь на холодном ветру. Он ничего не имел против, чтобы Валя с кем-нибудь встречалась, и, если бы это был Игорь, то он не вел бы себя столь глупо и не шпионил бы за собственной сестрой. Но Илюшу Костя считал евреем, а евреев он ненавидел. Может быть, эта ненависть передалась вместе с генами от бабушки, она до самой смерти считала, что евреи совершили революцию, как в тысяча девятьсот пятом, так и в тысяча девятьсот семнадцатом году. Костя каждый день слышал ее злобный пронзительно-визгливый голос: «Иудейская и масонская „ложа Великого Востока“ захватила власть над Россией. Ленин-Бланк с помощью немцев, и Троцкий-Бронштейн с помощью нью-йоркских банкиров еврейского происхождения привезли в Россию несколько сот человек революционеров-иудеев. Они срочно мобилизовали полтора миллиона российских иудеев, и те поддержали, а фактически спасли революцию Ленина — Троцкого». Самым страшным ругательством в устах бабушки было слово «жид». Бабушка не любила Валю, она вообще терпеть не могла девчонок, в том числе свою дочь, но над внуком просто дрожала, подсовывая ему тайком от Вали разные лакомые кусочки, и очень ругалась, когда замечала, что внук делится со своей сестрой полученным лакомством. Тогда она могла обозвать и его «жиденком», хотя, видит бог, ни единой капли еврейской крови не текло в их жилах. Но, когда любимый внучек Костик был один, Валя болела или играла с подружками во дворе в девчоночьи игры, которые Костик презирал, бабушка любила «просвещать» внука, но тема у нее была только одна, антисемитская: «Евреи называют нас „умма шефела“, что означает в переводе „низшее племя“. Они так называли и римлян, разрушивших их второй храм и рассеявших евреев по белу свету, и испанцев, которые сжигали их на кострах за отказ креститься, а затем полностью изгнали из страны, русских и поляков, которые их приютили на своей земле и которым они отплатили такой черной неблагодарностью. А почитай их Библию! Везде практицизм, в каждом стихе: ты — мне, я — тебе, обязательство Господа дать землю, на которой течет молоко и мед, продлить дни твои на земле… Где идеалы, где высшие стимулы морали. Ни идеи совершенства, ни приближения к божеству, ни загробной жизни… Вдумайся только: что за народ, которого не интересует, что станет с человеком после его смерти, полное отсутствие ко всему, что не имеет практической цели. Разве можно торгашескую душу еврея сравнить с рыцарской душой арийца, всестороннего, мечтательного, гармонического. Не забывай, что мы, россы, нордические арийцы. Кто любит евреев? Никто. Но все, всюду и всегда их ненавидят и презирают. Менялись эпохи, менялись предлоги вражды, обвинения, но вражда и презрение вечны. Разве можно объяснить это лишь тем, что якобы их ненавидят одни мерзавцы? Нет, нет, тысячу раз нет! Я не согласна с этим, господа! Я училась в гимназии, Костик, и хорошо училась, можешь мне поверить. У Цицерона и Ювенала, Тацита и Лютера, Шекспира и Вагнера, у Пушкина, Гоголя, Шевченко, Тургенева, Достоевского есть строки в их произведениях, ясно выражающие их презрение и ненависть к иудеям»…
Как это ни странно, но и у сестры Кости с Илюшей шел разговор, родственный его мыслям и воспоминаниям о бабушке.
— Я никогда не понимала, — жаловалась Илюше Валя, — почему бабушка так ненавидит евреев? Самое смешное, что она-то с ними за всю жизнь близко не общалась…
— И чем же они так ее допекли? — насмешливо сымитировал еврейский акцент Илья.
— Не знаю! — искренне ответила Валя. — Она меня не любила и со мной никогда не вела «душеспасительных» бесед, мне Костик все рассказывал…
— Бога распяли? — пошутил Илюша.
— Не только! — улыбнулась Валя. — У евреев даже в Библии один практицизм и отсутствует вера в загробную жизнь…
— В Библии, — стал пояснять Илюша, — действительно о загробной жизни не говорится впрямую, но и так ясно, что евреи верили и верят в загробную жизнь. Саул в Эн-Доре вызывает пророка Самуила, и Самуил «подымается» из могилы и спрашивает: «Зачем меня ты потревожил?» А другой пример из Библии: «Авраам присоединился к своему народу…» Там, где говорится о его смерти. А до этого, до своей смерти, Авраам выбирает место, где похоронить Сару. А то, что евреи не кремируют своих усопших, а только хоронят их? Разве это ни о чем не говорит? В Библии нет прямого рассказа о загробной жизни. Но ведь уцелели лишь осколки от Библии. Вся древнейшая литература евреев погибла в пылающем Храме. Представь себе, что уцелела бы лишь одна только книга Эсфири. А в ней ни разу не упоминается имя Господа Бога. Уверяю, все бы вопили: «Евреи не знали идеи Высшего Существа».
— А действительно арийцы выше евреев? — спросила Валя. — Мне это все равно! — добавила она. — Ты же знаешь!
Чтобы Илюша не подумал чего-нибудь дурного.
— Я знаю! — Илюша обнял ее за плечи. — Ты самая хорошая из всех девчонок, с которыми я знаком, потому я и люблю тебя. Понимаешь, я вовсе не отрицаю, что есть арийское начало и есть еврейское. И что им нравится разное, о вкусах не спорят. Арийцы считают, что надо ждать награды на небесах, в загробном мире, евреи — наоборот. Арийцы считают эталоном учение о приближении к божеству, а евреи держатся простых правил, вроде тех, что надо время от времени прощать долговые обязательства должников и во время жатвы оставлять край поля неубранным для бедняков. Суди сама, в чем больше божественной правды. Можно просто ответить на твой вопрос, что оба начала равноценны и оба равно необходимы всему человечеству. А насчет ненависти, я приведу тебе лишь один пример: в романе Сенкевича «Камо грядеши» к Нерону приходят представители разных народов, и все, как один, становятся на колени, лишь два раввина не преклоняют колен, и Нерону ничего другого не остается, как с этим смириться, он понимает, что евреи не станут на колени. Во все времена, во всех странах евреев убивали, грабили, насиловали. И чтобы оправдать свою жестокость к беззащитному народу, выдумали для формального успокоения своей черной совести разные гнусности. Люди не могут простить евреям внутренней независимости. Это — главное. Рабы хотят, чтобы все были рабами, может, даже больше, чем хотят, чтобы все были свободными.
— А Пушкин? Гоголь? — спросила Валя.
— Спроси у них! — пошутил Илья. — Гении — тоже люди, тоже человеки, слабости и заблуждения их не минуют, им присущи. Пушкин призывал и с поляками расправиться во время восстания. Гении — часть общества, а в обществе антисемитов — и гении заражаются антисемитизмом. Это — моральная болезнь. А Гоголь был потрясен, когда узнал, что любимые им казаки Богдана Хмельницкого вырезали при взятии польского города несколько сот евреев, включая грудных младенцев, а может, и несколько тысяч. Может, это и послужило основой его душевной болезни. Однако отдельные фразы их творчества ничего не говорят. На них нет клейма антисемитов. Они были крепостниками, владельцами поместий и крепостных душ, но с евреями они не общались, а пересказывали лишь то, что слышали от других, а зачастую те слышали от третьих. Знаешь, есть такая игра: «испорченный телефон».
— Знаю, — ответила Валя…
Они уже дошли до Илюшиного дома. Валя опять замялась, не решаясь пойти на «смотрины» к своей будущей свекрови, но Илюша уговорил ее не быть «трусихой», и что его мама не только не кусается, но и не «пьет кровь»…
Нина Александровна ждала сына, волнуясь необычайно. Она так никогда не волновалась в жизни, даже когда ей отец Илюши сделал предложение. Шутка ли: сын неожиданно объявил, что приведет в дом знакомить свою невесту. Нина Александровна сразу же почувствовала себя старой, хотя до сорока еще несколько лет, да и ни единого седого волоса. Она даже втихомолку всплакнула: только, казалось, еще вчера ее малыш делал свои первые шаги, и вот пожалуйста… Невеста!.. Нина Александровна уже давно, где-то с пятого класса сына, обратила внимание на худенькую девочку с неправдоподобными большими синими глазами, скорее куклы, чем человека живого, из плоти и крови. Но эти глаза неотступно следили за ее сыном куда бы он ни шел, где бы ни стоял, что бы ни делал. Нина Александровна уже тогда ощутила укол ревности: на ее сына претендовала уже другая женщина. Пусть пока в этой женщине и было женского лишь в глазах. Но ничто не бежит так быстро, как время. Нина Александровна каждый год видела Валю на дне рождения сына и все было по-прежнему. Но в прошлом году Нина Александровна впервые заметила, что и ее сын ловил взгляды Вали, а когда они танцуют вдвоем, мир перестает для них существовать. И женское в этой девочке было уже не только в глазах. И, странно, Нина Александровна испытала не ревность, а грусть.
Когда Илюша заговорил с ней о своих планах на будущее, Нина Александровна поначалу воспротивилась, но потом вдруг успокоилась и согласилась, только выдвинула единственное условие: жить они должны у них. В ту семью она Илюшу не пустит. На том и договорились.
«И правильно! — подумала она. — Никто не знает, чем жизнь обернется. Время страшное теперь, мало того, что неподвластное, так еще абсолютно непредсказуемое: останешься ли ты завтра на свобода, не сшибет ли тебя ненароком редкая машина, не разорвет ли инфаркт твое сердце, и оно, измученное, перестанет на тебя работать, как каторжное»…
Фатализм Нины Александровны поддерживало одно происшествие, случившееся лично с ней в редакции. В незабываемом тридцать седьмом году, в один из ясных дней весны, ее вызвал главный редактор и, ни капельки не смущаясь, заявил: «Уважаемая Нина Александровна! Я давно слежу за вами, наблюдая, так сказать. Вы очень сдержанный и неболтливый человек. Хороший работник и — честный коммунист. Я хочу, чтобы вы стали моей любовницей. Лучше мне не найти».
Так как до этого момента ни единого слова не было сказано, ни одного взгляда не брошено, не было ни тени ухаживания, Нина Александровна, естественно, опешила.
«Тенгиз Ахмедович! — воскликнула она в гневе. — Неужели, после стольких лет знакомства, вы могли подумать, что я способна изменить мужу?»
«Что вы, моя дорогая, ни в коем случае никогда не изменяйте! — обиделся на что-то главный редактор газеты. — Когда он здесь, вы будете только с ним, когда он уезжает, а он так часто и надолго уезжает… Я буду вашим вторым мужем, а вы моей второй женой. Я так решил, иначе мы не сработаемся, и вам придется искать другое место службы»…
Нина Александровна молча повернулась и вышла из кабинета шефа. Всю ночь она проплакала, а когда утром пришла на работу с готовым заявлением об увольнении, чтобы взять документы, выяснилось, что Тенгиза Ахмедовича на рассвете арестовали. И новый шеф держался с ней предупредительно, подозревая, что это ее рук дело. А потому, только она заикнулась, что «нельзя ли устроить на работу сына после окончания школы», как согласие было не только дано, но и свободное место разъездного корреспондента стали держать до окончания учебного года…
Услышав шум отпираемой двери, Нина Александровна встала, чтобы встретить сына с его невестой, но не смогла сделать ни шагу, так и застыла, не сводя глаз с двери, ведущей из коридора в комнату. Влюбленные с сияющими лицами вошли в комнату, и Илюша сразу же заметил, что с матерью что-то неладное, но не знал, чем ей помочь.
А Валя сразу же все поняла. Женщина часто ошибается в мужчине, но в женщине никогда. И решила все сразу и единственно верным путем: подошла к Нине Александровне, обняла будущую свекровь и крепко прижалась к ней. Нина Александровна почувствовала, как тревога и сомнения оставили ее душу, будто и не было, она поняла, что эта девочка — не «разлучница», а дочь, ее дочь, которая до этого знала так мало ласки, тепла и заботы. И слезы сами хлынули у нее из глаз.
Илюша не любил, когда у матери текли слезы по щекам.
— Пойду, поставлю чайник подогреть, — сказал он. — А то у вас без чая запаса влаги не хватит.
И ушел на кухню.
17
Серега Шпанов проснулся рано утром. Так рано, что трудно понять, ночь еще или пора уже вставать в школу. Но сегодня было воскресенье, можно было и не просыпаться так рано.
«Неужели я столько проспал? — удивленно подумал Серега. — Ну, молоток! Нажрался, как удав, и спал так же… Да, вспомнил! Сегодня же меня обещали устроить на работу учеником. Буду сапожником! Хватит сидеть на шее матери и ходить голодным. Меньше буду гонять по улицам, меньше учить уроки, все одно, в институт не примут, да и на хороший завод не устроишься… Сапожник! До сих пор я слышал это слово только как ругательство, когда в кино, во время сеанса, что-нибудь случается: лента рвется, звук пропадает. Тогда все свистят, топают ногами и кричат: „Сапожник!“»
Рассвет блеклой медузой вплывал в окно. Все равно вставать не хотелось. Когда настоящее и будущее страшит, хочется забраться под одеяло и смотреть прекрасные сны, и, согревшись, мечтать, мечтать, мечтать… Придумывать себе сцены, в которых ты один самый смелый, самый умный, самый благородный, самый… И красавицы, одна за другой, предлагают наперебой свое сердце, а ты в растерянности, не зная, кого и выбрать.
Встать все равно пришлось. Елизавета Израилевна тихо постучалась к нему.
— Сережа, ты спишь? Пора вставать. Изя собирается к старому Пинхасу. Умывайся и иди завтракать. Я пирожков напекла. Вставай, я знаю, что ты не спишь!
Оказалось, вкусно пахло так из кухни, а не в том дремотном сне, из которого так не хотелось выходить. Осознав этот факт, Серега мгновенно выскочил из-под одеяла, молодой здоровый организм опять требовал еды, как будто не он вчера получил недельную норму. Но желудок, как дети, сколько ни дай, все будет мало да еще может и взвыть нахально: «Это когда еще было?»
На завтрак Серега получил, как и все, четыре пирожка с мясом и рисом.
«Да! — вздохнул он про себя. — После вчерашнего изобилия… „Сытый голодного не разумеет“».
Однако пирожки умял и выпил с удовольствием чашку какао, после чего пошел одеваться…
Старый Пинхас оказался маленьким юрким человечком лет пятидесяти. Несмотря на свой возраст, он был почти черноволосым, седина тронула чуть-чуть его виски, и Серега был уверен, что только арест и осуждение сына окрасили его виски. У Сереги был очень хороший слух, и он кое-что слышал из разговора за столом, который вели мать с сыном.
Из черных печальных глаз старого Пинхаса рвалось наружу огромное горе, без конца и края.
— Хороший мальчик! — старый Пинхас внимательно посмотрел на Серегу. — Гиюр ему не помешал бы, конечно, но что делать… Садись, мальчик. Как тебя зовут?
— Сережа! — буркнул Серега, старый Пинхас на него не произвел никакого впечатления: ни хорошего, ни плохого.
Израиль обменялся со старым Пинхасом набором непонятных Сереге фраз, потому что они были сказаны на идиш, и ушел, прихватив с собой большой баул, набитый, судя по резкому запаху кожи, обувью.
— Садись, Сережа, рядом со мной, смотри и учись! — пригласил старый Пинхас. — Я тебе покажу, для чего ты будешь учиться.
Серега сел рядом с мастером и здесь впервые обратил внимание, какие у маленького ростом человека большие натруженные рабочие руки, ладони в бугристых мозолях.
Старый Пинхас взял колодку и стал демонстрировать Сергею свое умение, не закрывая ни на минуту рта, засыпая его словами:
— Учись, пока я жив! Я — хороший мастер, и у меня не зазорно учиться. Кем евреи только не работали в своих скитаниях? А почему? Потому что мы занимались обычно только тем, чем коренное население брезговало заниматься. Еще в книге Бытия рассказывается, как Иосиф, представляя фараону братьев и отца, посоветовал им назваться пастухами. «Ибо мерзость для египтян всякий пастух». В те давние времена заниматься пастушеством у египтян считалось непристойным, но творог и масло они любили есть и молоко пили за милую душу. Фараон и обрадовался, что пришли пастухи, и отдал им стада и табуны. Хитрый был Иосиф, настоящий сын своего отца Иакова. Это тот самый Иаков, которого антисемиты называют «первым жидом» на земле. Он сумел перехитрить и своего отца, и старшего брата, купив у него за чечевичную похлебку первородство, и тестя, уведя большую часть его овец. Но этот Иаков и с Богом самим боролся и остался непобежденным, и за любимую девушку, дочь Лавана, служил тестю целых четырнадцать лет… Хитрый мальчик был Иосиф… Но прошло много лет и пришел фараон другой династии. А египтяне уже научились у евреев, как обращаться со скотом. И новый фараон сказал: «Давайте ухитримся против него, чтобы он не умножился». И еврейский народ стали угнетать, убивать его новорожденных сыновей. Пришлось бежать из Египта. С тех пор так и пошло-поехало. В Европе был другой вкус. Европейцам не нравилась торговля. Крестьяне пахали, а знать пьянствовала и грабила на больших дорогах или в дальних странах. Грабеж считался вполне приличным занятием. Торговать, видите ли, неприлично, а грабить — самое джентльменское занятие. «Мерзость для египтян» — торговля перешла в руки евреев. Владыки получали миллионы от торговли, поэтому давали привилегии, защищали от дворян своих и от черни, всегда готовых грабить, кого им разрешат и отдадут. Правда, время от времени нас все же грабили и жгли, но потом опять давали привилегии. Вместе с евреями по Европе шел и прогресс, мы дали миру международную торговлю, развили кредит и банковское дело, мы снарядили Колумба на открытие Америки. Без торговли все столицы мира остались бы по сей день грязными деревнями и селениями… Но европейцы быстро научились этому делу, и нас опять изгнали: из Англии, из Испании, из Франции. Мы перебрались в Германию, Польшу, а после раздела Польши оказались в России.
И здесь нас ждали самые тяжкие испытания, самые страшные погромы. Не только черносотенные, о которых ты, наверное, слышал. Ты знаешь, например, что гайдуки Хмельницкого, да, да, того самого Богдана Хмельницкого, освободителя Украины, вырезали треть всего еврейского населения Польши и Украины, более двухсот тысяч человек. Они одни уничтожили больше евреев, чем римляне, инквизиция и крестоносцы вместе взятые. Смешно, но Богдан Хмельницкий в детстве звался Борух Хмель, а потом его один бездетный вельможа крестил в Богдана Хмельницкого, и он всю жизнь стирался быть святее папы римского. Как и Великий Инквизитор Торквемада, был обрезан на восьмой день жизни, что не помешало ему и обрезанным резать обрезанных… Конформисты — беда еврейского народа. Мы, конечно, не без предрассудков, иные могут и не нравиться. Но разве лучше, когда предрассудки начисто ликвидированы, душа человека превращается в пустое место, где и трава не растет, и нет даже надписи: «Воспрещается! По газонам не ходить!» Попробуй напомнить тому же Грише, что есть на свете, должно быть, во всяком случае, нечто воспрещенное, что делать ни в коем случае нельзя, от чего сама рука должна отдергиваться, словно ее бьет током. А он тебе в ответ: «А почему нельзя?» И он никогда не поймет, что есть вещи, которые доказать невозможно. Но эти-то вещи и составляют разницу между порядочным человеком и покладистым. Раньше нравственная ответственность ощущалась повсюду. И даже тот, кто шел на нравственное преступление, старался стушеваться, а не выпячивать свое уродство и не кричал: «А почему бы и нет? Почему нельзя?» И страдал и каялся.
— «Бога нет — тогда все можно!» — щегольнул услышанной от старого Моти фразой Серега.
— Не только! — уточнил старый Пинхас. — Нравственность лопнула, и молодежь пустилась в погоню за своей долей счастья, перепрыгивая через какие угодно препятствия к светлому будущему. И при этом они уверены в своей правоте, держат голову высоко и гордо. Как им доказать, что на человеке висит моральный долг, и тот, кто осознает это, знает — «почему нельзя»! А от таких, как Гриша, распространяется нестерпимая вонь деморализации. Диалектика диалектикой, но есть вещи недозволенные, должна быть в человеке внутренняя брезгливость. Без этого ощущения внутренней брезгливости человек — калека! Лейба приходил извиняться за своего сына, и мы обрыдались за своих потерянных сыновей.
— Сколько получил ваш сын? — спросил Серега, из-за сонливости прослушавший главное во вчерашнем разговоре.
— Десять лет без права переписки! — глухо ответил старый Пинхас.
Он оставил недошитый башмак и достал большой носовой платок в крупную красную клетку, потому что слезы градом полились из его глаз.
— Ну не переживайте так! — попробовал его утешить Серега. — Говорят, там день за два засчитывают тем, кто по-ударному трудится. Через пять лет вернется!
Серега утешал не только старого Пинхаса, но и себя, он высказывал свои тайные надежды на скорое возвращение отца, исчезнувшего в тридцать шестом году с тем же сроком и формулировкой.
— Нет, Сережа! — обреченно вздохнул старый Пинхас, комкая мокрый платок в руке. — Я шил сапоги одному «энкеведешнику». И я спросил его: очень ли большой этот срок. И он мне ответил, что больше некуда. Я удивился и спросил: неужели десять лет может быть больше двадцати, а я слышал, что и двадцать пять дают. А он мне ответил, что эти десять лет дают в такое место, откуда пока еще ни один человек не возвращался. И он показал пальцем вот в этот потолок…
— Он врет! Врет! — закричал отчаянно Серега и раздетый бросился прочь из комнаты старого Пинхаса на улицу.
Он бежал, не замечая холода, странных взглядов прохожих, не ощущая, как ветер срывает слезы с его щек. Только в своей комнате, бросившись на кровать и дав себе волю в слезах, он впервые осознал и понял, что осиротел.
Через полчаса старый Пинхас принес одежду Сереги и о чем-то долго говорил с Елизаветой Израилевной.
18
Счастье Варвары с Игорем длилось недолго. Плод единственного посещения комиссара, когда она ждала сына, а лишил ее девственности его отец, рос незаметно лишь до поры до времени. Затем приступы тошноты стали столь частыми, что однажды и Елена Владимировна стала невольным свидетелем.
— Милочка, ты, кажется, подзалетела! — насмешливо-участливо спросила она. — Ты, надеюсь, понимаешь, что рожать тебе ни в коем случае нельзя.
— Почему? — враждебно спросила Варвара, измученная постоянной рвотой.
— Хотя бы потому, что я еще слишком молода для роли бабушки! — усмехнулась Елена Владимировна. — Ясно?
— Нет, не ясно! — озлобилась Варя. — Я от вас, по-моему, ничего не требую. Рассчитайте меня. Устроюсь на работу и буду воспитывать ребенка.
Елена Владимировна поначалу даже онемела от такой неслыханной дерзости и неподчинения своей «рабыни», как она ее про себя называла.
— Дура! — она сразу превратилась в бешеную фурию, разъяренную донельзя. — Шантаж со мной не пройдет! Знаем мы эти: «Я от вас ничего не требую! вы мне не нужны!» В гробу видела, в белых тапочках.
— Что вы еще хотите от меня? — взмолилась Варвара и заплакала, продолжая выкрикивать сквозь слезы: — Вы и так меня эксплуатируете бесплатно. Я работаю по двенадцать часов в сутки: убираю, мою, готовлю, стираю, штопаю, по магазинам хожу. Я для вас и кухарка, и прачка, и уборщица. Еще к сыну своему в любовницы определили, обещали платить и ни копейки не заплатили…
Елена Владимировна влепила ей звонкую пощечину и мгновенно прекратила истерику.
— Для чего тебе деньги? — сухо заметила Елена Владимировна. — Я плачу тебе самым дорогим, что есть только у человека: жизнью! Подумай сама: если бы не я, ты уже сдохла бы с голода. Вспомни, какая ты была дохлятина, когда я тебя подобрала в тридцать первом году? Неблагодарная. Я тебе специально не плачу денег, чтобы ты не смогла никуда уехать от меня… Она будет работать! А документы у тебя есть? Твой паспорт у меня лежит. Я тебе его выправила, я его могу и уничтожить. И куда ты денешься тогда? Знаешь? В Сибирь, на Магадан, в Норильск, на Колыму. Твоя жизнь в моих руках, беглая.
— Я не беглая! — возмутилась Варвара. — Сколько мне было лет, когда вы меня подобрали? Забыли?..
— А сколько лет тебе теперь? — ехидно спросила Елена Владимировна. — Охрана на всех этапах обожает именно такой возраст.
— А вы не боитесь, что и вас привлекут за укрывательство? — «укусила» Варвара.
Сразу же последовала новая пощечина.
— Дрянь! Еще угрожает! — изумилась дерзостью служанки Елена Владимировна. — В общем, так: я договорюсь с врачом и отведу тебя к нему. И попробуй откажись! — закончила она с угрозой в голосе.
Варвара убежала в свою комнату, это она так привыкла говорить: «в свою». Но она могла только так думать, потому что в этом доме у нее ничего своего не было, даже собственное тело хозяева считали не ее и распоряжались им как хотели. И плакала она горько от невыносимого одиночества. Игорь тоже только пользовался ее телом, ей это, правда, нравилось, она, по-своему, любила этого «барчука», но он ни о чем с ней не говорил, считав, очевидно, что «о чем же можно говорить с прислугой». Удовлетворив свои естественные потребности, он на прощанье целовал ее, говорил «спасибо» и шел заниматься своими делами, нисколько не интересуясь тем, что она чувствует, оставаясь одна.
Одна злобная мысль пришла ей в голову так неожиданно, что Варвара испугалась. И постаралась поначалу прогнать ее прочь. Только с этой минуты, что бы она ни делала, чем бы ни занималась, эта мысль возвращалась к ней, овладевая всем ее существом, соблазняла и совращала. И где-то всего через час Варвара перестала страшиться ее и ничего плохого не находила в этой мысли.
«И никакой это не шантаж! — уговаривала она себя. — Я поговорю с ним по-человечески! Неужели не поймет? Его, между прочим, ребенок. О, боже! Грех-то какой! Игорьку он будет братиком, а я…»
Ничего лучшего не придумала Варвара, как только «взять за горло» самого комиссара. Человека, перед которым трепетали все, в стольном городе и во всей республике, так же как и перед свирепым руководителем партии Тагировым, а может, даже и больше. Человека, о чьей храбрости и решительности ходили легенды, а о жестокости предпочитали помалкивать, себе дороже. Человека, который не гнушался, когда было особенно много работы, самолично допрашивать и пытать арестованных, и не было ни одного, кто бы сумел выстоять и не оговорить не только себя, но и еще пару десятков человек.
Достойного соперника нашла себе Варвара, впервые в жизни решив взбунтоваться. Но эта мысль овладела ею полностью, подчинила, и Варвара себе уже не принадлежала. Да и не было у нее других мыслей. Откуда? Может, в детстве и были какие, да от голода умерли раньше нее. Только и помнила тот злосчастный день, когда их семью, в числе прочих раскулаченных, везли на подводах на ближайшую железнодорожную станцию, мать сунула Варьке узелок с нехитрой снедью: кусок хлеба, пяток вареных яиц, столько же вареных картофелин, естественно, в два раза крупнее, и кусок нежно-розового сала, да и не кусок, скорее, кусочек. Сунула узелок и шепнула: «Беги, доча! Может, хоть тебя Господь спасет! На смерть нас везут!» И столкнула Варьку с подводы на повороте дороги, когда стали подъезжать к железнодорожной станции. Конвойные не заметили побега маленькой девочки, сколько ей тогда было, лет десять, а может, и заметили, так не стрелять же в ребенка, а бежать тем более не хотелось им. Это только через несколько лет выйдет указ, по которому начнут стрелять и детей. А в той гражданской войне с крестьянством детей не стреляли. Их просто обрекали на смерть от голода и холода. Сколько трупиков видела Варька за время своего недолгого скитания, не сосчитать. Столько лет прошло с тех пор, а она нет-нет да и просыпается, крича от ужаса, вся в поту. Варвара сама уже не помнила, каким образом ей удалось залезть в товарный состав, на платформах которого стояли какие-то машины, покрытые брезентом, под который Варька и спряталась. Села и поехала, не пытаясь разгадать великую премудрость, почему машины столь тщательно прикрыли брезентом. И поехала в этот южный город, где у нее никого не было, ни одного родственника, да и где жили теперь все ее родственники, трудно было ей понять. Изголодавшись, она решилась на кражу и залезла в сумочку красивой дамы, как впоследствии выяснилось, жены ответственного работника НКВД. Елена Владимировна цепко схватила заморыша, а так ловко поймав, привела к себе домой, крепко держа ее за руку всю дорогу, вымыла в кадушке, тогда у нее не было столь прекрасной квартиры, и накормила. С тех пор Варька была у нее в беспросветном рабстве.
Одно дело придумать что-то, а совсем другое — это что-то сделать. Комиссара не так просто было застать одного, чисто физически, не говоря уж о том, чтобы решительно переговорить с ним. Дома он был под неусыпной охраной Елены Владимировны, а пойти к нему на его работу… Даже подойти было страшно к этому зданию, не то чтобы войти туда. Да и шансов на то, что комиссар примет ее, не было никаких. У него и часов приема-то не было.
«На ловца и зверь бежит!»
Варвара несколько дней подряд вставала ни свет ни заря и уходила из дому будто на рынок, а на самом деле караулила в подъезде дома приезд комиссара.
Укараулила! Как только комиссар появился в подъезде, Варвара собрала все силы, все свое мужество и смело преградила дорогу своему насильнику. Тот, занятый своими мыслями и устав от бессонной напряженной ночи, в городе активизировались германские агенты, до которых руки не доходили последние годы, вздрогнул от неожиданности и схватился за пистолет, правда, признав сразу Варвару, устыдился своего испуга.
— Мне надо поговорить с вами, Викентий Петрович! — решительно заявила Варя.
Комиссар усмехнулся. Глядя на ее ладное тело, он сразу вспомнил ту хмельную ночь, когда он забрался к этой почти что девочке в постель и насильно лишил ее невинности.
«Как это я забыл о ней? — удивился себе комиссар. — „Назвался груздем, полезай в кузов!“ — подумал он самодовольно. — Видно, понравилось. Жаль, что придется с ней расстаться…»
Дело в том, что накануне вечером к нему пришел старший майор Джебраилов и, вроде бы смущаясь, это с горящими-то от возбуждения глазами, положил на стол донесение капитана, имя которого комиссар уже успел позабыть. Главное, в этом донесении была отражена вся подноготная Варвары: и когда родилась, кто родители, когда раскулачили, куда высланы и где похоронены.
«Отличная работа! — отметил про себя комиссар. — Так бы шпионов разоблачали, цены бы тебе не было!» — подумал он с непонятной горечью. Откуда появилась эта непонятная горечь, он и сам не смог понять, комиссар был плоть от плоти сложившейся административной системы, верным ее слугой, и сам не раз пользовался такими же подлыми методами, а иначе как бы он сумел взобраться на столь высокий пост?
«Шустришь, Джебраилов? — усмехнулся комиссар, чувствующий себя среди интриг как рыба в воде. — За глотку меня хочешь взять? А я тебя сейчас „умою“»!
— Если я не ошибаюсь, — доброжелательно спросил комиссар, — именно ты, старший майор, был тогда ответствен за проверку всей прислуги ответственных работников?
Джебраилов побледнел настолько, насколько ему позволила его смуглая кожа, и хотел спрятать обратно в папку донесение капитана.
— Нет, нет! Ты уж мне оставь это донесение! — приказал очень довольный комиссар, произведенный эффект убедил его, что он на правильном пути, если разработать Джебраилова, может, что-нибудь путное получится. — И через час чтобы у меня на столе лежала твоя объяснительная записка. Через час, не позже.
Джебраилов ушел, проклиная свою оплошность и несообразительность. Он никогда бы не посмел шантажировать своего шефа, так он его боялся и трепетал перед ним, но личный секретарь Тагирова Морданов настоятельно рекомендовал ему это сделать. Тагирову мешал русский ставленник Москвы. Тагиров страшно пил, и пьяная болтовня его не была тайной для комиссара. Тагиров мечтал стать самостоятельным от Москвы и полностью распоряжаться богатствами республики. Для этого он через своих эмиссаров заигрывал с соседней мусульманской страной, на треть которой он тоже претендовал. А его все заигрывания и высказывания переводились на сухой язык сводок и донесений. Однако комиссар знал прекрасно о крепкой и старинной дружбе Тагирова с Берией, поэтому все свои реляции он и посылал лишь на имя государственного комиссара НКВД Лаврентия Павловича Берии, подавая дело так, что пьяный «бред» оценит лишь такой светлый ум, каким считал себя неизвестно почему народный комиссар. Берия его ценил. Эти донесения уравновешивали донесения Тагирова, в которых он грязно «поливал» комиссара и требовал его либо ликвидировать, либо отозвать в центральный аппарат, а на его место поставить «фанатически преданного идеям великого вождя товарища Сталина старшего майора Джебраилова». Берия весь этот материал обеих сторон держал в одной папке, в своем личном сейфе, но ходу донесениям не давал, как-никак вместе с Тагировым он работал в гражданскую войну еще в дашнакской и муссаватской контрразведках, а о жене комиссара у него сохранились самые светлые и нежные воспоминания…
— Вы меня не слушаете! — вернул комиссара к действительности голос Варвары. — У меня будет от вас ребенок! Неужели непонятно?
Комиссар вздохнул от невеселых мыслей:
«В домино так дети играют: выстроят костяшки друг за другом, последний толкнут, и все падают по очереди, чинно, покорно, ни одна не устоит, не покачнется, раздумывая: „а стоит ли?“ Кто-то мне сказал: „Принцип домино!“»
— Викентий Петрович! — испуганно воскликнула Варвара, недоумевая и пугаясь выражению лица комиссара.
«Нет, как все-таки события соединяются, цепляются: звено к звену, и цепочка готова, — думал комиссар печально. — Или цепи? А носить мне их вовсе не хочется, с детства ненавидел бездельников с веригами. Страдальцы чертовы!»
— Викентий Петрович! Что мне делать? — послышался голосок Варвары.
— А что ты сама хочешь? — очнулся от невеселых дум комиссар. — У тебя есть какие-нибудь планы или желания?
Варвара несказанно обрадовалась. Она ожидала, что комиссар начнет на нее орать, ждала, что он может ее и ударить. Но столь благожелательный вопрос всколыхнул в ней надежду на освобождение. Что может делать с людьми ласковое слово!
— Я просила Елену Владимировну рассчитать меня, но она мне не хочет ни копейки платить. А я хотела бы снять комнату, устроиться куда-нибудь на работу и воспитывать ребенка. Мне много не надо. Неужели такую малость трудно мне дать?
— Я переговорю с Еленой Владимировной! — успокоил Варвару комиссар. — Она тебя отпустит и расплатится с тобой, по-честному расплатится, не бойся! — добавил он, заметив испуг и недоверие на лице Варвары. — А я помогу тебе с квартирой!
И комиссар дружески улыбнулся потрясенной Варваре. Она ко всему себя подготовила: к ругани и мату, к угрозам, даже к побоям, но не к обычному ласковому человеческому тону, такому доброжелательному. И она потому разрыдалась так, как, наверное, не плакала даже в раннем детстве.
— Успокойся, глупышка! — комиссар достал носовой платок и лично вытер слезы с лица Варвары. — Я тебе устрою уютное гнездышко, где ты будешь счастлива… со мной! Я тебя буду там навещать.
Это было уже объяснимо и понятно. Варвара сразу успокоилась.
«Все они, мужики, одним миром мазаны, через постель на все согласны, — подумала она. — Там они на все согласны, как воск, податливы»…
И улыбнулась комиссару так обворожительно и завлекательно, что у того заныло не только сердце, но и значительно ниже.
«И что это я про нее забыл? — с досадой подумал комиссар. — Да нет, опасно! Елена Владимировна враз усечет. Один раз получилось, и то — подарок! Где живешь, там не…» И комиссар, как обычно, завершил матерщиной.
Варвара отправилась на рынок, а Викентий Петрович поднялся в свою квартиру. В переговорах с женой обычный, человеческий тон был бы непонятным и тяжелым.
«Елена Владимировна заведется с пол-оборота и тогда ее ничем не остановишь и ничем не образумишь».
Поэтому комиссар решил действовать по-другому.
— Большие неприятности! — сразу заявил он после традиционного обмена поцелуем. — Мир-Джавад под меня копает.
— Тагиров? — удивилась жена. — Что нужно этому мерзкому карлику? — брезгливо спросила Елена Владимировна. — Если он лично пытает и убивает своих подчиненных, это еще не значит, что он может и НКВД прикарманить…
— Джебраилова тащит! — перебил жену комиссар.
— Любого идиота, лишь бы был нацмен! — вспыхнула жена.
— Идиот, не идиот, но он мне чуть было не подсуропил пилюлю! — пояснил Викентий Петрович. — И знаешь, какую?
— Какая-нибудь клевета насчет меня? — заранее обиделась Елена Владимировна, у которой рыльце всегда было в пушку.
— Ну, что ты! — снисходительно ответил комиссар, привыкший к вольному поведению своей половины, правда, ничем не отличающейся от второй половины, его собственной. — «Жена Цезаря вне подозрений!» Кстати, кто такой был этот Цезарь? А то употребляем пословицы и поговорки, а четкого представления нет. А вдруг кто спросит?
— Кто спросит? Тагиров? — насмешливо протянула жена. — Мир-Джавад Аббас-оглы? Так у него никакого образования нет. В детстве, может, и посещал медресе, ходил в мечеть, да боюсь, что ни одной суры Корана не помнит… А Цезарь — император Древнего Рима! Сам понимаешь, о женах простых смертных такое не сочинят. Бедные жены простых людей не только всегда под подозрением, но и в синяках.
— За дело, за дело! — добродушно пробасил комиссар. — А кому не по делу, тем для профилактики, в счет будущих прегрешений.
Он весело рассмеялся. Елена Владимировна подозрительно посмотрела на мужа.
— Что-то у тебя не слишком большие неприятности, как я вижу! — заметила она. — Веселый очень.
— Этот идиот Джебраилов собрал все компрометирующие сведения о Варваре, — сказал очень серьезно комиссар, — да забыл, дурак, что сам занимался тогда проверкой. Я его поймал и «уел». Объяснительную написал.
— О Варваре собрал? — поразилась Елена Владимировна. — Как же он раскопал?
— Ну, мы умеем работать, когда захотим! — гордо произнес Викентий Петрович. — Пулат уже выяснил: Варвара кое-что ляпнула, когда паспорт получала.
— Я же рядом стояла и сразу отобрала его у нее! — удивилась жена.
— Вот, когда отобрала, тогда и расслабилась! — усмехнулся муж. — А она и ляпнула.
— Что? — заинтересовалась Елена Владимировна.
— Название деревни, откуда она родом, — нахмурился комиссар.
— Но это же надо было… — растерялась жена. — Пункт такой в паспорте… И что теперь будет?
— Рассчитай ее! — велел муж. — Выдай все деньги, не жмотничай. И пусть убирается на все четыре стороны.
— Она беременна! — выпалила неожиданно для себя Елена Владимировна и испугалась гнева мужа.
— Беременна? — сделал удивленное лицо комиссар, и надо признаться, у него это здорово получилось. — Тогда тем более, чтобы вечером ее уже не было.
Викентий Петрович был очень доволен, что жена не стала выяснять: от кого могла забеременеть служанка, если в доме всего один мужчина, а служанка из дому отлучается только на базар. То, что уже подрос сын, ему и в голову не пришло, комиссар все еще считал ребенком его.
А Елена Владимировна была твердо уверена и убеждена, что Варвара понесла от Игоря, и была рада, что муж не стал уточнять вопроса: от кого забеременела Варвара? И покорно согласилась рассчитать служанку и выплатить ей зарплату за два последних года.
«Не больше! — заявила Елена Владимировна твердо. — До этого она больше ела, чем работала. Все лежало на моих плечах!»
«Тебе виднее! — согласился Викентий Петрович. — Только чтобы она не скандалила. И к вечеру, сегодня же, под зад коленкой!»
Внезапно перед комиссаром всплыла одна очень интересная деталь, которую он почему-то упустил из виду, во всяком случае, сразу не обратил внимания.
Викентий Петрович понял, что сегодня ему не отдохнуть.
— Когда ты собиралась к портнихе? — спросил он безо всякой задней мысли, занятый внезапно возникшей идеей.
Но Елена Владимировна от такого простого вопроса покраснела, как девочка.
— Я думала, пока ты отдыхаешь, съездить часа на два…
— Прекрасно! Я могу подбросить тебя на машине, — предложил комиссар. — Мне нужно срочно в управление. Быстрее одевайся! — поторопил жену Викентий Петрович.
Через полчаса, подбросив жену к дому, где жила «портниха», Викентий Петрович вновь сидел в своем кабинете, удовлетворенно гымкая и посмеиваясь, читая по второму разу объяснительную записку Джебраилова.
Жирно подчеркнув одну фразу в сочинении старшего майора, комиссар позвонил по внутреннему телефону:
— Пулат, загляни! — сказал он дружелюбно.
Буквально через полминуты в кабинет заглянул капитан, в котором Сарвар без особого труда признал бы человека-гору, огромного, как башня Гыз-галасы, который с девочкой на руках бесстрашно шел под пули «седого».
Комиссар взмахом руки пригласил его войти и сесть поближе.
Великан почти бесшумно ввинтился в кабинет, прямо на глазах, удивительно быстро уменьшаясь в объеме. Как это ему удавалось, никто даже не мог понять. И сел на ближайший к комиссару стул, поближе к начальству, уже почти не выделяясь ростом. Комиссар больше ценил в нем это качество. Но были у него и другие, которые комиссар использовал в своих интересах без зазрения совести.
— Пулат, тебе нравится Джебраилов? — наивно, «на голубом глазу», спросил комиссар, прекрасно зная, что Пулат смертельный враг, кровник Джебраилова.
Старинный кровник ощерил в ненависти рот, показывая клыки, словно волк перед смертельным прыжком.
— Он мне не нравится, — глухим от презрения голосом произнес Пулат, — но понравится, очень понравится, правда, только в одном случае, когда я увижу, как его зашивают в белый саван, чтобы зарыть в могилу до захода солнца.
— Ну, этого я не могу тебе обещать! — воскликнул довольно комиссар. — Пока! Для тебя ведь не секрет, чей человек Джебраилов? Знаешь?
— Я знаю! — потускнел Пулат. — Тагирова! Земляк его и дальний родственник.
— Даже родственник? — удивился комиссар. — Это что-то новое. Когда узнал?
— Пять минут назад! — ответил Пулат.
— Хорошо! — довольно кивнул головой комиссар. — Так вот повторяю: белого савана для Джебраилова бесплатно дать пока не могу.
— Я бы купил на свои деньги! — злобно усмехнулся Пулат.
— Может, и купишь! — глубокомысленно изрек комиссар. — Пакость хочешь ему сделать?
— Сколько хотите, столько и сделаю! — обрадовался Пулат.
— Тогда читай!
И комиссар протянул Пулату объяснительную записку Джебраилова. Пулат медленно и внимательно ее изучил и выразительно посмотрел на комиссара. Такая степень доверия говорила о многом, но Пулат и так держался руки комиссара.
— Не понял? — участливо спросил комиссар, уловив вопросительный взгляд Пулата.
— Понял: он хотел вас взять за горло! — опять злоба зазвучала в его голосе.
— Там есть интересная фраза, я ее еще подчеркнул: «ослепленный красотой вашей служанки, я не мог подозревать, что под ангельской внешностью таится враг народа…»
— Джебраилов еще и стихи пишет! — презрительно заметил Пулат. — «Низами Гянджеви» недоделанный!
— Он все еще один живет? — поинтересовался комиссар вскользь.
— А для чего он себе однокомнатную квартиру выхлопотал? — злобился Пулат. — Сказал, ишак, что жениться собирается, обманщик. Потаскун! Адат не чтит! Он же занимается высылкой семей арестованных. Вот он и пользуется. Кто в постели ему нравится, ту не высылает. А надоест или другая появится, арестовывает и высылает. Говорит: «Свято место пусто не бывает!»
— Вот мы ему это место и заполним! — усмехнулся комиссар. — У тебя есть ключи от его квартиры?
Капитан решил было возмутиться, обижаешь, мол, начальник. Но, увидев горящие глаза комиссара, согласно кивнул.
— Конечно, есть. Хотя, в принципе, мне ключи не нужны, я наизусть знаю все системы замков, любой открою… гвоздиком.
— Джебраилов сегодня вечером будет на совещании у Тагирова, — зашептал комиссар. — Слушай и запоминай!
И комиссар стал объяснять свой план Пулату…
Варвара, вернувшись с рынка, была ошеломлена, найдя на кухонном столе записку: «Я отпускаю тебя! Собери вещи и жди меня. Вернусь, выплачу то, что тебе причитается!»
— Ай да комиссар! — воскликнула Варя. — Такую стерву уломал!
Она даже сумки от продуктов разгружать не стала, так и бросила их на полу кухни в зимбилях, злорадно подумав: «Готовь теперь сама, шлюха!»
И поспешила собирать свои немногочисленные вещи, которые хозяйка ей дарила из своего поношенного или разонравившегося тряпья.
Звонок в дверь насторожил Варвару. Подкравшись на цыпочках к входной двери, она чуть-чуть приподняла заслонку в щели для газет и журналов и внимательно вгляделась в звонившего.
Это был Пулат. Варвара его несколько раз уже видела, он приезжал за комиссаром. Пулат вызывал у Варвары двойственное чувство: с одной стороны, невольное почтение своим горообразным видом, с другой стороны, какой-то леденящий ужас, посланец ада на земле, да и только.
Варвара, на всякий случай, спросила:
— Кто там?
— Открывайте, Варвара-ханум, вы меня хорошо разглядели! — ответил Пулат.
— Никого дома нет! — не сдавалась Варвара.
— Вай мей! А кто со мной говорит? Привидение? — шутил Пулат. — Вы мне нужны. Я от комиссара.
Делать было нечего. Варвара, хоть и боялась открывать дверь, все же открыла и впустила в дом Пулата.
— Чего нужно? — враждебно спросила она. — Зачем я вам?
Пуще всего она боялась, что Пулат навяжется пить чай. И хоть никто пока еще не навязывался к ней «почаевничать», она все время была начеку, потому что хорошо помнила услышанную на базаре фразу от молодой женщины, разговаривавшей с подругой: «Все они начинают с чаепития, а затем тащат в постель!»
И Варвара от одной этой мысли сразу злобилась.
Но Пулат, заговорщически подмигнув Варе, протянул ей ключ и, понизив голос до шепота, сказал:
— Пир-баши, пять, квартира три. Первый этаж. Въедешь сегодня же, после семи, раньше не приходи. Ордер на заселение принесу завтра. А ты жди сегодня вечером гостя. Прибери, приготовь чего-нибудь. Вот, возьми деньги! Купишь еще бутылку коньяка. Бери только пять звезд. Хозяин любит.
И он протянул Варе пачку сторублевок. Затем, задержав ее руку, взявшую пачку купюр, бережно поднес своими огромными ручищами к своим губам, нежно и почтительно поцеловал и ушел, аккуратно, без стука, затворив за собой дверь.
Варвара стояла оцепенело, держа в одной руке ключ, а в другой деньги, столько денег она впервые в жизни видела, даже не говоря о том, что никогда не держала. Это было похоже на сон, но сон приятный, после которого мир перестает быть враждебным и появляется легкость в теле, словно крылья за спиной выросли.
На всякий случай, вдруг хозяйка вздумает обыскивать ее нехитрый скарб, Варвара спрятала деньги в лифчик, а в деньги завернула ключ.
И вовремя.
В замке двери послышался скрежет ключа, отпирающего дверь. Варя сообразила, что это может быть только Елена Владимировна, и быстренько прошмыгнула на кухню и стала разгружать зимбили, будто только что пришла с базара. Елена Владимировна за этим занятием ее и застала. Зыкнула злобно и ушла. А Варвара демонстративно повернулась к ней спиной, хотя и спиной она ощущала убийственность ее взгляда.
Скоро Елена Владимировна вернулась. Положила пачку сторублевок перед Варварой и прошипела:
— Плачу тебе со дня твоего совершеннолетия. По общепринятым нормам. И можешь убираться на все четыре стороны!
— Прямо сейчас? — опешила Варя.
— Да, прямо! — повысила голос хозяйка. — Надеюсь, ты столовое серебро не прихватила? И мои драгоценности?
— Проверьте! — обиделась до слез Варвара.
— И проверю! Нечего! — рявкнула на нее Елена Владимировна.
И она демонстративно прошла в комнатушку Варвары. Спрятав деньги в карман, хотя очень хотелось отправить их тоже за лифчик, после секундного замешательства проследовала за хозяйкой и Варвара.
«А то еще, чего доброго, подложит что-нибудь!»
Но Елена Владимировна, начав энергично копаться в Вариных вещах, неожиданно расплакалась и села на Варину кровать. Она сама удивилась своим слезам, градом посыпавшимся из глаз, слабости чувств. А Варвара так просто не поверила тому, что видит.
— Дурочка! — взволнованно сказала Елена Владимировна. — Пропадешь без меня! Привыкла я к тебе, глупой, тяжело расставаться.
В ней таилась тоска по умершей в младенчестве дочери, эту тоску как-то утоляла Варвара, а теперь Елена Владимировна чувствовала, словно она вновь теряет дочь.
Варвара тоже так расчувствовалась, что слезы побежали по ее лицу, губы задрожали, она уже была готова отказаться и от свободы, и от мужа хозяйки, но…
Елена Владимировна быстро справилась со своей слабостью. Бросив паспорт Варваре, она ушла из комнатки, ранив жестоко словами:
— Нечего! Уходи! Чтоб ноги твоей не было в этом доме. Об Игоре забудь. Поняла?
— Обойдусь как-нибудь без вашего слюнтяя! — тоже озлобилась Варвара.
И они расстались врагами, так и не простив друг друга…
Лишь оказавшись с вещами на улице, Варвара поняла, что она свободна, что она вырвалась из рабства. И… не знала, куда себя деть и что ей делать с этой полученной свободой. Она до сих пор не могла забыть той «свободы», когда она бежала с этапа. Голод, правда, она уже не вспоминала. Но помнилось ей еще кое-что. Один эпизод из тех дней скитаний ее всегда бросал в дрожь, хотя много времени прошло. На какой-то станции ее снял с платформы обходчик и привел к начальнику станции. У маленького горбатого и худого сморчка сразу заблестели его хитрые злобные глазки, как только он увидел маленькую девочку. Он прикинулся добреньким дедушкой, почти дедом Морозом, налил Варе чаю, намазал огромный кусок белого хлеба желтым маслом, сливочным, а не каким-нибудь там маргарином, и вдобавок положил толстый кусок вкуснейшей колбасы сверху, источавшей такой запах, что никакие французские духи потом так не пахли, хозяйка их получала в спецраспределителе. Наевшись, разомлела в тепле и в сытости, а старичок, усадив ее на служебный диван, обитый холодным вонючим дерматином, стал нагло шарить рукой по ее груди, в поисках пока несуществующего. Не обретя успокоения, рука нырнула Варьке под юбку и попыталась пальцем залезть ей между ног, под трусики. Почти ледяная его рука, как у мертвеца, так напугала Варьку, что она укусила начальника станции за сморщенную щеку, страстно прижавшуюся к ее лицу. Укусила крепкими белыми зубками, острыми, хоть давно и не чищенными, до крови, так что след от укуса должен был остаться и сопровождать начальника станции до могилы, чтобы служить неопровержимым доказательством его мерзкой жизни параноика и садиста. Хоть Бог и так все видит. Сморчок быстренько выдернул руку из неположенного места, завопил как резаный от боли и испуга, а Варька вылетела молнией из его кабинета, возненавидев на всю жизнь вонь дерматина…
До семи часов вечера была бездна времени.
«Можно, конечно, сесть на поезд и уехать куда-нибудь далеко-далеко, где никто не разыщет»… — наивно рассуждала Варвара.
Можно было самой снять комнатенку, устроиться на работу, что-что, а работать Варвара умела, с любой справилась бы. Но где-то подспудно, в подсознании поселилась крошечная надежда, что комиссар поможет, одну не оставит, поможет воспитать сына и поднять его на ноги.
«Ребенок его, неужто не пожалеет? — думала Варя. — Волк и тот волчонка охраняет и воспитывает, неужто человек хуже волка?»
Такие мысли бродили в ее красивой голове, а мечты рисовали безмятежную розовую жизнь, где на окнах обязательно будут шторы, светло-голубые с ярко-красными цветами, и не розами, а с какими-нибудь заморскими орхидеями.
Варя сходила в кино «на Любовь Орлову», пообедала в столовой, где ей не только не понравилось, но качество еды привело в справедливое негодование.
«Не докладывают, жулики! — подумала она. — А невкусно-то как…»
Ноги ее так и несли все ближе и ближе к указанному адресу, а ключ все более и более грел ей сердце.
Варвара, до указанного часа оставалось еще где-то минут тридцать, зашла по пути в гастроном. В хозяйственном отделе купила крепкую сумку, в продовольственном зернистую икру, балык, сырокопченой колбасы и голландского сыра. Вспомнив, вернулась к кассе и выбила еще масла. В винно-водочном отделе купила любимый комиссаром армянский пятизвездочный коньяк.
И без нескольких минут семь Варвара уже сидела во дворе дома номер пять и не сводила глаз с окон квартиры номер три. В окнах квартиры на первом этаже еще горел свет. Но, как только Варя уселась поудобнее, чтобы противный норд не задувал под юбку, дверь квартиры номер три открылась и выпустила из квартиры мужчину средних лет, но в хорошей спортивной форме, как говорится. Главное, что Варвара сразу подумала: «Где я его видела?» — Но она так устала за день, что вспоминать не стала.
Старший майор Джебраилов прошел рядом с ней и по привычке оглянулся на красивую здоровую девушку. Здесь-то его и сфотографировал Пулат, уютно устроившийся в укромном уголке, из которого если и не все было слышно, то видно все. И Джебраилов, мельком взглянув на девушку, сидевшую с баулом и хозяйственной сумкой на скамейке во дворе его дома, до самого дворца Тагирова, где должно было состояться совещание, вспоминал: «Где это я мог видеть такую красотку, пухленькую, свежую, вроде бы я с ней не спал. А там кто его знает? Чего по пьянке не бывает?»
То, что она была с вещами, смущало Джебраилова. Но, с другой стороны, если бы он пригласил эту девушку переехать к нему, она не стала бы сидеть и дожидаться неизвестно чего, а вломилась бы в квартиру. В крайнем случае, если уж такая скромная, бросилась бы к нему на шею сразу, как только бы увидела его.
«Нет! Этот вариант отпадает!»
Варвара проводила взглядом ушедшего, подождала минут пять, а затем, видя, что тот, кого она где-то видела, возвращаться не думает, открыла своим ключом дверь и вошла в маленькую, но очень уютную и чистенькую квартирку. Обстановка напоминала ей квартиру самого комиссара, только мебель была не красного дерева, а карельской березы, да ковры, картины и безделушки из бронзы и фарфора были другие. И поражало полное отсутствие книг. Приглядевшись, Варя все же увидела одну, она лежала на тумбочке, рядом с широким диваном, покрытым персидским паласом. Не отдавая себе отчета, Варвара, оставив вещи в длинной и широкой прихожей, не раздеваясь, подошла к тумбочке и взяла книгу. Раскрыв ее на середине, она тут же отбросила книгу с нескрываемой брезгливостью на диван. Книга была порнографической и с картинками.
«А комиссар совсем стал старым, — подумала мельком Варвара, — если ему такие скабрезные фотографии требуются!»
Оглядевшись, она стала обживаться: сняв верхнюю одежду, она нацепила на ноги шлепанцы и пошла с продуктами на кухню. Там ее поразил встроенный в стену рядом с окном шкаф. Но, открыв его, она поразилась еще больше: шкаф был просто забит разнообразной снедью, включая деликатесы. Там же стояли бутылки водки и коньяка, шампанского и десертных вин.
«Не иначе, у них здесь общая квартира для свиданий!» — с неожиданной ревностью подумала Варвара.
И она тут же вспомнила, что вышедший из квартиры мужик был ей хорошо знаком, она его как-то раз застала выходящим от хозяйки, когда она возвращалась с базара. Хозяйка, смущаясь, пролепетала, что это высший чин, какой-то старший майор, и приходил он с поручением от комиссара.
Варвара быстро накрыла стол, заставила его разнообразной снедью, водрузив на середину стола бутылку коньяка для комиссара и бутылку шампанского для себя, очень оно ей нравилось. И стала ждать хозяина.
Когда она решила, чтобы убить время, разобрать свои вещи, в дверях квартиры уже стоял Пулат.
— Как вы вошли? — вздрогнула от неожиданности Варя. — Помнится, я дверь закрыла на замок.
— Мне не трудно пройти сквозь стену! — пошутил Пулат.
Но Варвара от его шутки вздрогнула.
— Не понимаю, зачем вы здесь? — недовольно спросила она. — Когда Викентий Петрович явится?
— Трудно сказать, дорогая! — прошел в комнату капитан. — Совещание у Тагирова. Когда закончится, один аллах знает. Может, скоро, может, под утро. Ты мне лучше скажи: как тебе понравилась обстановка? Уютно все сделал?
— Уютно!
Варвара не понимала, что нужно капитану, зачем он здесь?
«Охранять меня пришел, что ли? — беззлобно подумала она. — Чтобы мужика какого-нибудь не привела?»
— Между прочим, я очень проголодался и заслужил, чтобы мне налили стакан водки и выпили со мной.
Варвара молча достала из шкафа бутылку водки и протянула ее Пулату. Тот мгновенно ее открыл, профессионально, налил себе полный стакан. Затем так же ловко справился и с бутылкой шампанского, налив на сей раз полный фужер.
— Отметим новоселье! — предложил Пулат жестом выпить, но Варвара не шелохнулась.
Пулат злобно усмехнулся.
— Варвара-ханум! Я не слуга, которому можно налить стакан и он будет счастлив. Хозяйка дома обязана выпить с гостем, как бы этот гость ни был бы ей неприятен.
Варвара смутилась, да и любой смутится, когда читают твои мысли.
— Хорошо! — нехотя согласилась она. — Я отопью глоток, но не более.
И она, подняв изящно за ножку фужер, чокнулась с Пулатом, и легкий звон хрусталя колоколом отозвался в ее памяти сердца. Варвара неожиданно вспомнила детство, родное село и ясный звон церковного колокола, возвещавшего время молитве, время свадьбе, время смерти.
Отпив глоток, скорее символически, ей очень не хотелось пить с этой человекообразной гориллой, Варя поставила фужер на стол и стала спокойно смотреть, как великан, человек-гора, насыщается.
Капитан стакан водки выпил, как один глоток воды, но, вопреки своему заявлению, что он голоден, съел всего-навсего пару бутербродов с маслом и черной икрой.
Варвара решительно встала из-за стола.
— Мне надо разобрать вещи! — сказала она.
— О чем речь, Варвара-ханум? — обрадовался Пулат. — Я вам помогу!
— Не требуется! — отрезала Варя и ушла из кухни, оставив капитана в гордом одиночестве.
Пулат выглянул из кухни, чтобы убедиться в занятости Варвары, потом сразу же вымыл и вытер стакан, из которого пил водку, и спрятал его, положив на стол припрятанный в шкафу грязный фужер, плеснув туда немного водки из бутылки, которую он тоже тщательно протер полотенцем, чтобы не оставить следов.
Довольно оглядев праздничный стол, Пулат отправился в комнату, где Варвара уже укладывала свои вещи в платяной шкаф.
Пулат неслышно подкрался к Варе, настолько занятой собственными мыслями, что она и не обратила внимания на его появление, и, схватив девушку сзади обеими руками за грудь, прижал ее к себе.
— Пусти! — испуганно закричала ошеломленная Варя, судорожно пытаясь освободиться. — Все расскажу Викентию Петровичу!
— Я сам все расскажу комиссару, — пообещал Пулат, — без утайки!
Случайно Варвара обратила внимание на торчащую со шкафа ручку молотка. Изловчившись, она схватилась за ручку и, как сумела, нанесла удар молотком по голове Пулата. Ей показалось, что она его убила, потому что его ладони, мявшие ей больно грудь, сразу же отвалились.
Повернувшись к врагу лицом, Варвара убедилась сразу в своей ошибке, удар пришелся по касательной. Для обычного человека это закончилось бы потерей сознания, серьезным увечьем, травмой, а то и смертью. Но Варя увидела перед собой лицо беспощадного убийцы. И смело решила нанести ему еще один удар по голове.
Тренированный капитан с легкостью парировал удар, и автоматизм его действий привел не только защитную реакцию, но и реакцию нападения. Капитан тремя пальцами, сомкнутыми щепотью, так ткнул Варвару в горло, что сразу для ее души закончились все мучения, чего, правда, нельзя было сказать о ее теле, которое капитан еще долго насиловал со всевозможными извращениями.
Насытив свою похоть и убедившись в смерти Варвары, Пулат оставил голое тело убитой девушки на ковре и скрылся, уничтожив все следы своего пребывания в квартире, не позабыв закрыть аккуратно за собой дверь.
19
Старый Мотя, после разговора со старым Пинхасом, сам постучался в комнату Сережи и пригласил юношу обедать.
Серега уже выплакался и опустошенный лежал, размышляя: сказать матери об открытии, сделанном старым Пинхасом, или нет. После долгого раздумья решил, что говорить не будет.
«Она и так достаточно свободно себя ведет, — подумал он горько, — что ей до смерти отца? Только снимет чувство вины! нет, пусть помучается!»
— Сережа, вылезай из норки! — не отставал старый Мотя. — «Слезами горю не поможешь!» Отца этим не вернешь!
Серега и сам это понял, а потому не стал упрямиться. Встал с постели, вышел из комнаты и пошел в ванную мыть холодной водой не только грязные руки перед обедом, но и опухшие от слез глаза.
Старый Пинхас тоже получил приглашение отобедать. Обед прошел в полном молчании. Даже маленькая внучка, почувствовав общее настроение, царящее за столом, старалась не слишком стучать ложкой.
После обеда Серега хотел поблагодарить хозяев и уйти, но, раскрыв рот, неожиданно для себя, вместо слов благодарности, спросил другое:
— Отчего так: люди проливали кровь за революцию, а потом оказались ее врагами?
Старый Мотя не удивился вопросу. Он давно ничему не удивлялся.
— Ты слышал лозунг Маркса: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей»? Марксисты считали, что стоит им лишь совершить революцию, избавиться от гнета капиталиста и помещика, как настанет царство свободы. Большая ошибка считать, что люди в основном добры! Понимаете, считают так, несмотря на то, что в детстве им читали Библию, если и не всю, то два предания наверняка. Я имею в виду, что одно из них о двух первых людях на земле после Адама и Евы, о Каине и Авеле. И уже один из первых двух людей оказался убийцей. «Каин убил Авеля». К тому же Каин оказался и лжецом. На вопрос Бога: «Где брат твой, Каин?» — ответил без тени смущения: «Я не сторож брату своему!» А позже, когда Бог разгневался на людей, и тридцать дней и тридцать ночей лил сильный ливень, который вызвал потоп, кто оказался достойным спасения? Один Ной со своей семьей. Так что у марксистов и не могло получиться царства свободы. А почему? Да потому, что человек порабощен двумя видами несвободы: внешней и внутренней. И как только он с помощью революции освободил себя от внешних цепей, ему надо было сразу приступить к освобождению от внутренних: рабства, невежества, эгоизма, жадности, нетерпимости, национальной в том числе, неуравновешенных страстей и эмоций. «Человек не свободен до тех пор, пока он не принял Тору!» Так сказано в Талмуде. «В человеке заложен яд, и Тора есть противоядие!» А раз «царства свободы» не получилось, то кто виноват? Только враги. Хорошо, что пока их много, до евреев руки не дошли. Неумехи ломают станки. Вместо того, чтобы их обучить, этих неграмотных неумех, опять ищут врагов. А кто сейчас посмеет сказать слово против великого вождя? Только враги… Ты никогда не видел камнепада? Так вот: наверху приходит в движение всего лишь один камень, а внизу уже десятки тысяч камней могут снести с лица земли поселок со всеми людьми, живущими в нем. Да и сможет ли быть иначе, если по Марксу: «Не индивидуумы, но только и всегда социальные классы имеют объективную реальность». Там, где мыслят категориями «человечество», не замечают человека. Марксисты считают, что человек должен изменить общество. Евреи считают, что человек должен изменить себя. Революция не решает проблемы, а лишь дает возможность для ее решения. Я, наверное, очень сухо излагаю и непонятно?..
— Все мы способны стать Каинами, — тихо произнес старый Пинхас. — Стоит только нам перестать бороться со своими слабостями… Гриша это доказал. Он всегда смеялся над моральным контролем, над духовным самоконтролем…
— «Предрасположенность сердца человека — зло с раннего детства», — согласился старый Мотя. — Вера в человека, «сущностью которого является свобода», привела к тому, что создано общество куда менее свободное, чем до «обретения свободы». Свобода — это не панацея от всех бед. Еще в прошлом веке прозвучали пророческие слова Алексиса де Торквилла: «Тот, кто ищет в свободе нечто иное, чем саму свободу, обречен на зависимость и рабство».
— Мотя! — испуганно воскликнул старый Пинхас.
— Что, Мотя? — спокойно откликнулся старый Мотя. — Отец мальчика разделил судьбу твоего сына, а моя внучка еще слишком мала, чтобы стать Павликом Морозовым.
— Бог мой! — опять прослезился старый Пинхас. — За что ты лишил их разума?
— Много крови они пролили, Пинхас! — пояснил старый Мотя. — Слишком много: и своей, и чужой! Убивая людей лишь за то, что они имели несчастье родиться в «классе эксплуататоров», они тем самым сняли все мыслимые и немыслимые запреты, среди которых главный — «Не убий!» Отвергли эту заповедь, а чтобы не каяться, перебили почти всех священнослужителей. Нет Бога — значит, все можно! Ты же знаешь, что разум нейтрален, образование нейтрально, да и природа самого человека нейтральна. Когда считается, что мораль — относительна, любой человек может истолковать добро и зло так, как ему заблагорассудится. Отрицать существование Бога и приписывать одному человеку понятие о морали. И где, скажите мне, это понятие записано? Еврей всегда может сказать: «Я нарушил Закон и поступил вопреки воле Его!» И указать четко и конкретно: какой Закон он нарушил. Может ли марксист указать на это? И захочет ли? Когда главенствует мораль: «А почему нельзя?»
Старый Пинхас достал свой платок в красную клетку и вытер слезы.
— Еврей несет на себе тяжесть Божьей миссии через века и народы. Вот за это его никогда не прощают. И всегда находились евреи, которые забывали о божественной миссии и ассимилировались.
— Ты все о Грише! — вздохнул печально старый Мотя.
— Разве могу я забыть, — опять прослезился старый Пинхас, — как он в хедере не разлучался с моим сыном? Они были больше чем братья!
— «Где брат твой, Каин?» «Я не сторож брату своему!» — печально нахмурился старый Мотя. — Не так уж и давно Ницше заявил: «Бог умер!»
— Бог умер! — как эхо, повторил старый Пинхас.
— Неужели Бог есть Бог Иудеев? — хрипло спросил Серега.
— А не язычников? — взглянул на юношу старый Мотя. — Конечно, и язычников!..
И тихий Ангел пролетел, осенив их своим крылом. Нет мира на земле и не может его быть, если нет мира в душе Человеческой.
20
Отец Сарвара вернулся из заключения в тот день, когда Чингизу разбили мениск вместе с коленной чашечкой.
После уроков два десятых класса решили сыграть в футбол, помериться еще раз силами, кто кого, тем более что скоро выпускные экзамены, доведется ли найти и свободное время. Силы были приблизительно равны, игра потому проходила интересно, как всегда, зрителей хватало. Основу зрителей составляли, естественно, девочки, а поскольку у каждого из игроков было за кем подсматривать, отчего еще сильнее билось сердце, и взаимно ощущать чей-то взгляд, то каждый старался за двоих.
Играли до «шести». Счет был хоть и равный, но уже пять — пять. Мяч беспорядочно метался от ноги к ноге, и не всегда можно было понять, чья команда им владеет. Болельщики свистом, воплями, криками подбадривали «своих». Удачный пас, и мяч попал к Сарвару, он с ходу обвел защитника и, заметив открывшегося Чингиза, точно передал ему мяч прямо в ноги. Ударь Чингиз с ходу по воротам, остался бы цел и невредим. Но Чингиз почему-то думал, что у него получаются красивые финты. И решил обвести вратаря, чтобы красиво послать мяч в пустые ворота. Но, пока он изображал финт, подбежали двое из команды противника, а Чингиз так увлекся, что не заметил. От кого он получил удар по коленке, трудно было сказать в той возникшей сутолоке ног. Но удар поверг его на асфальт, где он и остался лежать. Игра не остановилась, потому что мяч от чьей-то ноги попал к Сарвару, и он не стал ждать защитников, а, воспользовавшись счастливым моментом, сильным ударом послал мяч мимо вратаря, точно в «шестерку», рядом со «штангой», которую изображала горка портфелей, сложенных друг на друга.
Сарвар забил единственный мяч в этой игре, но этот мяч был решающим. И большая часть приветственных воплей и дружеских похлопываний, после которых наутро мог появиться синяк, досталась Сарвару. От других чествований, как-то от подбрасывания в воздух, не «качали» его лишь только потому, что кто-то заметил, что Чингиз продолжает лежать на асфальте и не может встать, как ни пытается. Никто тогда не мог и предположить, что дело дрянь и кончится больницей и операцией, мало ли ушибов получают во время игры, Сарвар как-то раз поскользнулся на песке, скапливающемся ветром возле бордюра, и приложился с размаха подбородком об этот каменный бордюр тротуара, да так, что искры из глаз посыпались вместе с брызгами влаги, и передний зуб чуть не выскочил. И ничего: поднялся, вставил зуб на место, помассировал подбородок и продолжил игру. Все как на собаке зажило. Чингиза подхватили двое одноклассников, каждое движение причиняло такую боль ему, что лицо сразу же становилось похожим на белую маску, и унесли в школу, чтобы вызвать «скорую помощь».
Илюша, сам забивший два очень красивых гола, подошел к Сарвару и предложил:
— Идем вместе домой, по дороге поболтаем. Ты — молодец, хороший мяч заколотил.
— Повезло! — признался Сарвар. — А Чингизу нет.
— Кто ему приложил? — поинтересовался Илья.
— Аллах знает! — усмехнулся Сарвар. — Разве кто теперь признается? Отец Чингиза — судья, э! И не на футбольном поле, пенальти не отделаешься.
И здесь Сарвар увидел Соню. Она старалась попасть ему на глаза, привлечь его внимание чем-нибудь, было видно, что что-то ей мешает подойти. Сарвар вспомнил, что Соня стеснялась Илюши, очень смущалась, когда он приходил к Сарвару домой.
— Сарвар! Смотри, Соня! — заметил Илюша.
— Что-то случилось, — недовольно ответил Сарвар, — иначе она бы не пришла. Я ей запретил близко подходить к школе…
— Подойди к ней! — предложил Илья. — Я подожду. Если что, махни рукой…
— Хорошо!
И Сарвар подбежал к Соне.
— Я тебе сколько раз говорил… — начал он заводиться.
Но Соня его прервала.
— Отец вернулся! — сказала она почему-то тихо.
Сарвар испугался и застыл на месте. Он сам удивился своей реакции. Много раз представлял он себе тот день, когда вернется отец, надеялся, что выяснят, не виноват он, не враг народа, произошла чудовищная по своей несправедливости ошибка. Все вернется на свои места, и он не будет так страдать от осознания, что он — сын врага народа.
— Хорошо, ты иди! — велел Сарвар женщине. — Я скоро приду!
— Пойдем вместе! — умоляюще сказала Соня. — Я пришла за тобой.
Хотелось побыть одному, но Соня смотрела, что Сарвар от ее жалобного взгляда, так она смотрела, махнул рукой Илье, чтобы не ждал, и пошел вместе с теткой домой, где уже ждал прихода сына вернувшийся отец.
Шли они молча, правда, Соня порывалась все что-то сказать, но не решалась.
А Сарвар впервые признался себе, что он отца ненавидит. И стыдится. Казалось, причин для этого не было, ему никто никогда не напоминал, что его отец «сидит», не устраивал над ним судилища, как над Никитой, не попрекали, как Серегу, за каждый пустяк: «яблоко от яблони не далеко падает». Почему? Да потому, что все вокруг всегда делилось и делится на «своих» и «чужих». Это как свет и тьма. Сегодня ты на свету, радуешься солнцу, цветам, морю, зеленой траве и желтому песку пляжа. А завтра ты уже брошен во тьму, и пусть на первый взгляд ничего не изменилось: все так же светит солнце, искрится море алмазными блестками, трава не потеряла изумрудного цвета, а цветы ярких красок, и небо столь голубое и бездонное, а на душе тьма, ночь, черная бездна разверзлась, в которую ты вот-вот сорвешься и… в бесконечность. Словно невидимую черту переходишь, и стеклянная прочная стена отгораживает тебя от жизни, все видишь, и все уже не для тебя.
А таких, как Сарвар, и воспитывали по-другому. Для них одного чувства страха было мало, выращивали чувство вины, всепоглощающее чувство стыда, что ты уже другой, пусть это и не твоя вина, но «грехи отцов падают на детей до седьмого колена». От такого воспитания начинаешь ненавидеть не власть, а себя самого, что ты не такой, как все. Возможность быть как все, возможность слиться с незапятнанной массой людей, серой и безграмотной, безжалостно ревнивой, становилась заменой счастья. А ненависть к себе очень скоро перерастает в ненависть к тем, кто не только поставили себя вне общества своими мнимыми провинностями, вне этой серой, безликой массы, но и своих детей поставили в безвыходное положение, пусть им и повезло жить на юге, где к женщинам и детям все же относились не так жестоко, как в России и на Украине, пусть им и «повезло», и они не попали в детский распределитель НКВД, а затем в спецдома для детей «врагов народа», чей режим мало чем отличался от тюремного, где так же морили голодом, а издевательства, может, и превышали меру издевательства, испитую их отцами и матерями.
«Аллах акбар!»
Что может быть страшнее ненависти к отцу? Что может быть преступнее? Сарвар не задавал себе этих вопросов. Как-то он зашел к Илье и случайно услышал, как тот читал младшему братику Библию, и Сарвара смутила, врезалась в мозг навсегда одна мысль оттуда: «Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: „Аминь!“ Но каких проклятий заслуживают те, кто калечат детям души, воспитывая в них раба, стыдящегося самого себя и проклинающего родителей своих? Трижды прокляты будут!»
Не радовала Сарвара предстоящая встреча. Пеплом было отмечено то место в сердце, которое по праву всегда, во все времена, у всех народов занимала любовь к родителям. И пепел был давно холодным, не тлел под ним даже маленький уголек, чтобы из него можно было раздуть хотя бы маленькое пламя любви к отцу, сочувствия к его страданиям и мукам. Холод в груди и страх перед неведомым будущим — вот и все, что испытывал Сарвар, и дорога домой стала казаться дорогой на Голгофу.
Сарвар не узнал отца. Даже предположить было трудно, чтобы так мог измениться человек за семь лет отсутствия. Отец и до ареста не был Геркулесом, но теперь он стал похож на живые мощи, вместо густой черной шевелюры — серебристый редкий ежик едва покрывал желтую кожу черепа, веселые горящие и умные глаза потухли, и жизнь в них едва теплилась. Отец сидел на низеньком табурете у двери и курил. Заметив сына, он не встал, только улыбнулся, но так виновато и жалко, что у любого дрогнуло бы сердце от простой человеческой жалости. Но не у Сарвара.
— А, сын! — голос отца звучал хрипло, дребезжал, словно лопнул при отливке колокол. — Салам алейкум! Ты так изменился. Стал совсем уже взрослым. А я изменился? А то раньше все шутили, что я похож на сына моей жены. Тридцать шесть мне дашь?
«Не то ты говоришь, отец!» — хотелось закричать Сарвару, но он предпочел промолчать. Что тут скажешь? Какие там тридцать шесть лет? Отцу можно было дать теперь все шестьдесят, особенно, когда он заговорил и стало видно отсутствие у него половины зубов, а черные провалы на месте зубов не омолаживают.
«Совсем старик!» — подумал Сарвар.
Но и тут его сердце не дрогнуло, а еще больше ожесточилось.
— Здравствуй, отец! — процедил Сарвар еле слышно. — С возвращением.
— Ты рад? — ощерился опять отец черными провалами на месте зубов. — Понимаешь, я уже совсем концы отдавал, вдруг в контору вызывают и говорят: «Все. Ты свободен!» Представляешь?.. Денег на дорогу дали, сухой паек: четыре селедки и буханку черного хлеба… Берия приказ издал!
— Хорошие люди! — сухо отметил Сарвар.
— Хорошие? — взвился яростью отец. — Ты бы посмотрел, что эти «хорошие» делают в лагерях.
— В пионерских? — неожиданно для себя снагличал Сарвар.
— В партийно-комсомольских! — усмехнулся отец, давая понять, что ценит шутку.
Но он скоро убедился, что это была не шутка.
— Впредь будешь умнее и не попрешь против народа! — громко, как на митинге, сказал Сарвар. — Народ — жесток, но справедлив! Если тебя простили, то это еще не значит, что тебя оправдали. Неустанным трудом ты обязан будешь доказывать каждый день, каждый час, что достоин прощения.
Отец, широко раскрыв глаза, смотрел на сына, и впервые в них вспыхнули живые искорки интереса.
— Перед моим освобождением пришла в Норильск партия заключенных, очередной этап, — грустно сказал отец. — Встретил Ниязова их Наркоминдела, студентом был у меня, персидский и арабский изучал. Угостил меня сигаретой, какая-то иностранная, пахнет, как лекарство, легко курить, не наша махра. Вот он мне и рассказал, как вас воспитывают. Я не поверил.
— Нормально воспитывают! — сердито буркнул Сарвар.
Ему стало немного стыдно.
«Чего это я „выступаю“? — подумал он. — Никогда раньше так не говорил и не думал. Вот Илюшка бы посмеялся! Дураком бы обозвал, точно, и за дело!»
— Ладно, отец, — примирительно сказал Сарвар. — Чего это мы? Давай обнимемся!
Отец неуклюже встал, нога у него плохо сгибалась. Сарвар обнял его и замер. Как он любил в детстве, когда отец крепко прижимал его к себе. И даже запах мужского пота не раздражал, а казался родным. А теперь этот же запах стал отталкивающим, противным до тошноты.
«Ненавижу!» — чуть было не вырвался наружу крик Сарвара.
Он неловко, но несколько демонстративно высвободился из объятий отца и ушел в комнату, где в прохладном полумраке был накрыт стол.
Увидев его, Сарвар обомлел. Дело в том, что Соня страшно боялась включать газ, который только-только провели в их район, ей от его запаха становилось не по себе, откровенно страшно, и руки леденели, что, впрочем, указывало на больное сердце. Но Соня ходила часто лишь к одному врачу: гинекологу, что и определяло ее ненависть и к другим врачам. Нелюбовь к газу служила часто причиной тому, что Сарвар и ходил полуголодным. Ведь для того, чтобы приготовить обед, необходимо зажечь газовую конфорку, а Соня панически боялась, что произойдет взрыв. Поэтому и питались они в основном салатами да бутербродами. Но сегодня Соня превзошла все ожидания, саму себя, приготовила и шурпу, и плов с молодым барашком, не поленилась сходить в шашлычную за бараниной, да сладостей понакупала. Праздник! Пир горой! Первый праздник за семь долгих лет. Даже с вином и фруктами. Это весной-то!
Но невеселый был этот праздник. Отец жадно ел, как и подобает голодавшему несколько лет взрослому мужчине, а Сарвар смотрел на это и злился.
«Как голодный волк, глотает все подряд. Зубов почти нет, как он умудряется так быстро разжевывать?»
И неведомо ему было, что у отца уже был такой желудок, когда автоматически наедаются впрок, не зная, когда еще придется поесть и придется ли. Сарвару было невдомек, что желудок голодного человека справится и с полуразжеванной пищей, если, конечно, голод длился не очень долго, тогда может наступить смерть от еды до насыщения.
Соня смотрела на Анвара, мужа сестры умершей, и не могла избавиться от ощущения ужаса, который охватил ее, когда она увидела его в дверях дома. Муж старшей сестры всегда нравился младшей сестре. Обычная детская зависть. И Соня влюбилась в Анвара. Когда сестру с мужем арестовали, она носила им нехитрые передачи в тюрьму. И как-то раз попалась на глаза старшему майору Джебраилову. Он ее вежливо обо всем расспросил, выслушал, а затем предложил устроить ей свидание с сестрой, но привел ее не в комнату для свиданий, а в дальнюю камеру, где грубо и нагло сорвал с нее одежду и изнасиловал. Ошеломленная столь низменным вероломством, она и не сопротивлялась, и не кричала, да и бесполезно это было. Джебраилов ее сразу же предупредил с издевкой: «Здесь ты можешь кричать сколько твоей душе угодно!»
Она еще долго ходила к нему домой, около полугода. Это был просто фантастический, громадный срок для Джебраилова, живущего по песенке: «Менял я женщин, трум-три-ям-ти, как перчатки…» Старший майор щедро ей платил, так что она могла и не работать, и посылки в тюрьму таскать. Но скоро все это закончилось. Ее сестру вместе с мужем отправили в один и тот же лагерь в Норильске, но разными этапами, а Соня надоела старшему майору своей покорностью и незлобивостью. На прощанье он сделал ей дорогой подарок, а в «довесок» сообщил, что ее сестра заболела в пути, на пересылке, и умерла.
Это и подкосило Соню. Не выдержала она стольких «подарков» судьбы и покатилась по наклонной. Это подниматься долго и трудно, а скатиться можно в один миг. А охотников помочь, а то и подтолкнуть, хоть отбавляй. Спаситель один в жизни бывает, если повезет поверить в спасителя, а губителей — великое множество. Да и профессиональных поставщиков «живого товара» во дворцы и дачи власть держащих хватает с лихвой. И Соня «пошла по рукам»! Когда она впервые «кольнулась», ей уже трудно было сказать, казалось, что всегда, не было другого времени, не было чистоты, не было девичьих грез о любви и единственном любимом.
Соня очень переживала, что не может в достаточной мере заботиться о племяннике, но она себе уже не принадлежала, наркотики стали ее всепоглощающей страстью, иногда просто невыносимой.
Соня много зарабатывала, клиентура у нее была из самых верхов, один раз даже Тагирова обслуживала, но она оказалась не в его вкусе, Мир-Джавад Аббасович любил рослых и пышных девочек, они, очевидно, компенсировали его маленький рост. Тагирову очень понравилась фраза Наполеона: «Генерал, вы длиннее меня на целую голову, но я могу быстро лишить вас этого преимущества». И он всюду ее повторял. И странно: те люди, которым он это говорил, лишались и головы и тела сразу, вместе, и до захода солнца мулла уже провожал их бренные останки, завернутые в белое покрывало, в могилу.
Сарвар почему-то потерял аппетит. Такой стол, как сегодня, он мог видеть лишь у Илюши, почему ему так нравилось бывать у него на праздниках.
— Что не ешь? — спросил отец, переводя дух и тайком расстегивая верхнюю пуговицу на брюках. — Это тебе не баланду хлебать! Хотя и баланда — это вещь, горячая если. В шахте намерзнешься, горячее хлебаешь, ложку за ложкой жизнь в себя вливаешь. Пайку хлеба маленькими кусочками колупаешь и жуешь. Рай!.. А здесь — царская еда. Султану только так подают.
— Смотри, не лопни! — схамил откровенно Сарвар.
Все большее и большее раздражение вызывал в нем его родной отец.
Тихая и кроткая Соня не выдержала и влепила племяннику подзатыльник.
— Не смей так разговаривать с отцом!
Сарвара настолько ошеломил этот подзатыльник, что он не нашелся, что ответить, и промолчал.
«Надо же, овца боднулась!» — незлобиво подумал он, даже раздражение исчезло, аппетит даже появился.
И он стал есть, подражая отцу, жадно глотая, изредка посматривая, мол, как это тебе нравится. Но отца это не раздражало, напротив, забавляло.
Но это неожиданно стало раздражать Соню.
— Не боишься лопнуть от жадности? — зло спросила она, так непохоже на нее.
Но Сарвара ее злость только позабавила.
После обеда они долго пили чай со сладостями. Отец до ареста очень любил пахлаву, мог съесть если не целый «лист» или противень, то половину умять для него ничего не стоило. И теперь, вялый от сытости, он с благоговением и со слезами на глазах отламывал маленькие кусочки пахлавы и бережно отправлял в рот, запивая таким крепким чаем, что он больше смахивал на чифирь.
— Вы не представляете себе, сколько раз мне снился сон: я ем пахлаву, — растроганно рассказывал отец. — И во сне я съедал целый «лист», а мне несут второй, и я судорожно соображаю: как я справлюсь с этим, вторым. А утром проснешься, кишки от голода сводит, тут и тарелка «шрапнели» чудом кажется. Работа в шахте каторжная, еды хватает на час работы. Вечное чувство голода. Меня один умный человек научил растягивать пайку и еду. Я утреннюю пайку суну за пазуху, а кашу ем маленькими глотками, крошечными порциями, долго жую, все время завтрака. Надо умудриться так рассчитать, чтобы, когда погонят из столовой на работу, последнюю ложку каши забросить в рот и сосать медленно, с наслаждением до самой шахты…
— Давай только не врать! — взорвался ненавистью Сарвар. — Голодом вас там никто не морил. Я это точно знаю. Конечно, тебя не на курорт посылали, только…
— Только, только! — прервал его гнев отец, с исказившимся лицом. — Что вы здесь можете знать? Нам тоже показывали фильм о перевоспитании на Соловках. А четверть работяг среди нашего брата, заключенного, там побывали. Так они рассказывали совершенно другое.
— Не удивляюсь! — постарался скрыть рвущуюся ненависть Сарвар. — Когда это враги революции правду говорили? Клевета врагов всем хорошо известна. Но ты теперь не враг, раз тебя освободили, поэтому нечего мне повторять ложь, которой я все равно не поверю.
Боль исказила лицо отца.
— Это не ложь! — устало и тихо произнес он, закрывая глаза.
— Тебе надо отдохнуть! — забеспокоилась Соня. — А ты иди делай уроки к Илюше! — добавила она Сарвару.
Сарвар злобно сверкнул на нее глазами, молча оделся и ушел.
Навстречу ему попался старый друг отца. Он явно торопился к ним. Сарвара он, конечно, не узнал, столько лет прошло.
20
Комиссар торжествовал. Пулат рассказал ему об успехе их запланированной операции со всеми подробностями, даже разыгрывая в лицах…
Когда старший майор Джебраилов вернулся с совещания домой поздно ночью, его встретили работники угрозыска. Удивленный столь необычной встречей, Джебраилов встревожился, но надменно спросил:
— Грабеж и где?
Начальник угрозыска района трепетал перед столь высоким начальством.
— Из вашей квартиры доносились страшные крики, товарищ старший майор! Мы подумали, может, с вами что-то нехорошее?..
— И взломали дверь? — с иронией, за которой слышалась угроза, спросил Джебраилов.
— Никак нет! — испугался одной этой мысли милиционер. — Нам соседи сказали, что видели вас, как уезжали на машине. Стояли, ждали!
— Ясно! Пошли! — и Джебраилов открыл дверь своей квартиры.
Картина была не для слабонервных. Но в компании, вошедшей вместе с Джебраиловым, слабонервных не было.
Варвара лежала на ковре, и поза, в которой она лежала, не оставляла сомнений, что перед смертью она была изнасилована. То, что это могло произойти и после ее смерти, присутствующим просто не могло прийти в голову. Праздничный стол на кухне хранил не только немые свидетельства пиршества, но и четкие, ясные отпечатки пальцев, которые были мгновенно сфотографированы экспертом.
Джебраилов внезапно узнал в убитой девушке не только ту, которую встретил, уходя на совещание, он сразу вспомнил, что это была служанка комиссара, вот почему она показалась ему такой знакомой. И от страха сразу взмок, такой обильный и вонючий пот выступил по всему телу, что Джебраилов сам себе стал противен.
Усилием воли он взял себя в руки и догадался позвонить секретарю Тагирова домой. Огорошив его случившимся, он прозрачно намекнул, что, как ему кажется, это — провокация, а не случайность, и провокация совершена с далеко идущими целями, а не только против него.
«Успокойся, дорогой! — стал утешать его секретарь Тагирова. — Я не могу будить господина, он только заснул. Когда он проснется, я обязательно доложу ему о твоих трудностях».
Особого успокоения Джебраилов не получил. Действовать надо было быстро и решительно, он слишком много знал случаев, когда и покрупнее фигуры бросали на произвол судьбы. Ареста он не боялся, у угрозыска были руки коротки против него, но вот комиссар…
Только он подумал о комиссаре, как появился посыльный из комиссариата, словно из-под земли вырос, Джебраилов мог бы поклясться, что в дверь он не входил, и предложил срочно явиться в кабинет шефа.
Сотрудники угрозыска уже закончили свою нудную работу, улик было предостаточно, можно было искать убийцу, хотя для начальника уголовного розыска никаких сомнений не вызывала его личность. Все указывало на старшего майора Джебраилова.
Комиссар смотрел с суровым, каменным лицом на вошедшего Джебраилова, улыбаясь в душе. Он мог себе это позволить, многолетняя практика выработала у него своеобразную мимикрию, на лице у него всегда находилась подходящая к данному случаю маска. Она так удачно всегда скрывала все, что творилось на душе у комиссара, что под нею можно было быть самим собой.
Джебраилов, глядя на суровую маску лица комиссара, гадал: что потребует от него комиссар, где-то в душе догадывался, что именно потребует, но прикидывал, насколько это ему выгодно, а главное, насколько это ему поможет.
— Теперь мне понятно, Джебраилов, почему ты два года назад плохо проверял биографию моей служанки, домработницы, — осуждающим тоном произнес комиссар. — В постели женщины проходят проверку легко.
— Клянусь мамой, не виноват я, товарищ комиссар! — взвыл Джебраилов. — Подставили меня. Я даже знаю, кто подставил.
— Слушай сюда! — лицо комиссара дрогнуло на миг, но он удержал каменную маску на лице усилием воли. — Как я могу тебе верить? Придется комиссию создавать. Из Москвы приедет представитель. А пока считай себя под домашним арестом… Оружие сдал? — спросил комиссар после некоторой паузы.
— Сдал!
Джебраилов сидел на стуле, ощущая предательскую дрожь в ногах и такую слабость в них, что боялся, что не сможет встать, а если и встанет, то и шага не сможет сделать, сразу упадет.
А комиссар еще усугубил его положение одной фразой:
— А то еще вздумаешь покончить с собой, а на меня скажут: «Довел!»
— Викентий Петрович! — взмолился Джебраилов. — Поверьте мне. Я заслужу!
— Ты у меня шуры-муры разводишь, — намекнул комиссар. — Как я тебе могу поверить?
— Я буду держать вас в курсе! — доверительно прошептал Джебраилов.
Комиссар прикрыл рукой глаза, вдруг они выдадут его, заблестят очень сильно и выдадут его нетерпение и заинтересованность. Кролик сам шел удаву в пасть, но, в отличие от удава, комиссар не обладал способностью гипнотизировать и не мог смотреть не мигая.
— О чем шел вчера разговор с Мир-Джавадом? — спросил он тихо, но глаза его сжигали огнем Джебраилова. — Он оставил тебя и еще троих, ты знаешь, о ком я говорю. О чем шел разговор после совещания?
Джебраилов побледнел. Только сейчас он понял, что стоит на краю пропасти, один неверный шаг и… Предать Тагирова — подписать себе смертный приговор. Но с другой стороны, Джебраилов чувствовал на горле петлю аркана, наброшенного комиссаром, и знал старший майор, что, кроме предательства интересов своего дальнего родственника и земляка, его ничто не спасет.
«Домашний арест — это для дураков — „домашний“! — размышлял лихорадочно Джебраилов. — Сторожить-то будет Пулат, мой кровник! Он-то не выпустит из рук свою жертву. И комиссия будет создана комиссаром, она признает белое черным, но с таким же успехом может признать и черное белым, и с той же правотой. Единственная надежда на представителя из Москвы. Если Тагиров попросит Берию, а они „кореши“, все будет нормально… Дурак! Нормально! Комиссар будет знать о представителе раньше, чем Тагиров, у него в центральном аппарате свой выкормыш сидит. Пулат недаром раз в месяц в Москву летает, и не пустой. Если приедет враг, то мне устроят самоубийство… Дурак! Какая комиссия, какой представитель из Москвы?.. Я и до утра не доживу, если не соглашусь сотрудничать с комиссаром и не предам Тагирова. Недаром комиссар намекал на пистолет. Все, значит, записывается. Алиби себе готовит!»
И ужас объял Джебраилова, смерть почуял за спиной, ее ледяное дыхание.
— Я все напишу! — решился он на предательство. — Вчерашний материал интересный. Цена за жизнь мою достойная.
Комиссар дружески ему улыбнулся.
— А ты умный! — одобрил он выбор Джебраилова. — Что ж, поверю тебе! Садись за стол секретаря и пиши. При мне пиши, чтобы не забыть чего-нибудь, не упустить.
Джебраилову было что писать. Тагиров недаром хотел убрать русского ставленника и посадить на его место своего земляка, который, спасая свою шкуру, предал его. И совсем немного времени ему потребовалось для этого. Большую игру затеял первый секретарь партии коммунистов, Мир-Джавад Аббасович спал и видел себя полновластным властителем республики, в которой он будет ханом Великого мусульманского государства. По его указанию проданные историки исписали груду бумаги, доказывая, что народ Тагирова — самый древний народ из живущих на земле, потомки шумеров. К тому же большая часть этого народа, «потомков шумеров», жили за ближайшей государственной границей СССР. И агенты Тагирова готовили там восстание, ввозили не только деньги, но и оружие, создавали базы и склады, сформировывали военизированные отряды боевиков, готовых умереть за дело воссоединения Великого народа, скрытно занимавшиеся непрерывной военной подготовкой. Тагиров ждал лишь удобного случая, выгодного момента, чтобы с помощью Советского Союза объединить свой народ, а затем провозгласить независимость, отделиться и выгнать не только русских, но и армян, евреев, персов. Исключение он решил сделать только для турок и кавказских албанцев, которых ошибочно тоже считал турками.
«Нас поддержат Турция и национал-социалистическая Германия! — выдавал своего земляка Джебраилов. — Наша земля очень богатая и многих заинтересует. Нефть у нас есть. Ее много. А белая нефть есть только у нас. Больше нет нигде в мире. Клянусь аллахом! Самостоятельность и национальная независимость!»
И Джебраилов писал все, о чем он знал, о чем догадывался, и о тех, кто, по его мнению, могли знать больше. Иногда он решал что-то утаить, слишком для него опасные сведения, о которых знал только он, как ловил на себе гипнотизирующий взгляд комиссара, и его рука автоматически писала то, что остатки разума предпочли бы скрыть.
На самом-то деле его гипнотизировал не взгляд комиссара, а страх смерти.
Комиссар медленно перечитал написанное Джебраиловым, старшим майором, своим первым заместителем, и появился соблазн провернуть опасную операцию, самую опасную, которую ему приходилось проворачивать в своей жизни.
Вспомнив о стоявшем перед ним по стойке «смирно» Джебраилове, комиссар поднял на него взгляд и одобрительно сказал ожидающему решения своей незавидной участи первому заместителю:
— Хорошая цена! Я постараюсь замять твое дело. Пулат тебя охранять не будет!
Джебраилов сразу же почувствовал вдруг такую слабость в ногах, что плюхнулся обратно на стул, стоявший рядом с креслом комиссара.
— Спасибо, Викентий Петрович, век не забуду! — прочувственно произнес он.
— Ладно, иди! — велел комиссар. — Будь все время дома. Охранять тебя, на всякий случай, я прикажу. Чтобы не похитили!
И он ехидно рассмеялся.
Джебраилов с трудом встал и, по-стариковски шаркая ногами, вышел из кабинета. Он успокоился, надежда вернула ему ощущение жизни, но ноги отказывались в это верить.
У кабинета его ждала охрана, но Пулата среди них не было.
Комиссар, оставшись в гордом одиночестве, первым делом позвонил своей секретарше, совмещавшей эту должность с должностью его любовницы очень успешно и с должностью тайной осведомительницы центра. Впрочем, комиссар прекрасно знал, что не было ни одной секретарши ни у одного более или менее важного начальника, которая бы не писала раз в неделю отчета в единственном экземпляре, но не для своего начальника, зачастую и любовника, а в особый отдел. Комиссар знал об этом и никогда с любовницей не спал, она его обслуживала прямо в кабинете и уезжала на его машине домой, всегда было много работы, всегда приходилось проводить бессонные ночи, подражая великому вождю, страдавшему бессонницей. И не потому, что комиссар боялся досужих сплетен и разговоров или простых намеков, просто Викентий Петрович иногда так уставал, что разговаривал во сне, это было очень опасно, можно было проговориться и сказать нечто такое, что послужило бы поводом для того, чтобы его уничтожить. Тем более что ревнивая супруга, драгоценная и дражайшая Елена Владимировна, разжигала в нем это чувство боязни, естественно, исходя лишь из собственных интересов. Но их интересы столь тесно переплетались в единое целое, что уже трудно было сказать: чьи это были интересы. Это уже не имело значения. Они были общими.
— Эмма! — приказал комиссар секретарше. — Ко мне никого! У меня совещание!
— Со мной? — обрадовалась случаю Эмма, уж она-то знала, что комиссар сейчас один.
— Со своими мыслями! — отрезал комиссар довольно грубо.
— Я думала, что ты только спишь со своими мыслями, — пошутила Эмма. — А ты, оказывается, с ними еще и совещаешься.
— Ха-ха! — кисло сказал своей остроумной девочке комиссар.
Ему было вовсе не до смеха. То, что ему сейчас предстояло решить, напоминало муки минера перед миной неизвестной конструкции. А минер, как известно, ошибается только один раз, дважды не удавалось пока никому.
«Если дадут этому делу ход в Кремле, — размышлял комиссар, — то уже через месяц я носил бы два ромба в петлицах и переехал бы в Москву, где руководил бы огромным отделом в центральном аппарате НКВД. Но через голову Берии не перепрыгнуть, любая моя докладная будет спущена в ведомство. Тагиров — ставленник Берии, вместе работали. Что знает Тагиров о Берии, а Берия о Тагирове? Разве это узнаешь? Берия может и пальцем не пошевелить в защиту „великого хана“, но может и ликвидировать комиссара, если их связывает нечто большее, чем дружба».
В дружбу комиссар не верил, слишком часто его предавали друзья, еще чаще предавал друзей он сам, а сколько доносов и заявлений друзей друг на друга ему пришлось прочесть за время своей работы в НКВД…
«Кажется, французы придумали поговорку: „Предают только друзья!“ У врагов это не предательство, а естественное поведение, — продолжал размышлять о своем тяжелом положении комиссар. — Как поступить в таком случае? Спрятать в сейф такой убийственный материал? Но Тагиров под меня „копает“. И успешно! Последний сигнал из Москвы был удручающим: Берия обещал подумать о судьбе комиссара. А это в лучшем случае — какой-нибудь нищий район в забытом богом уголке нашей необъятной родины».
Был, правда, еще один путь, но только он был еще более опасным: пойти к Тагирову и выгодно продать ему этот материл.
Викентий Петрович не думал об участи обманутого Джебраилова, она была и так решена, колебался он по другой причине, страшно было соваться самому в логово тигра. Тагиров стрелял быстрее, чем говорил, а про таинственные исчезновения из его кабинета просто ходили легенды.
Комиссар все же решил позвонить Тагирову, несмотря на противный холодок, который прошелся по хребту. Тем более что у него была «вертушка», правительственная связь с его кабинетом.
Помощник Тагирова мгновенно снял трубку:
— Слушаю!
— Морданов, устрой мне аудиенцию у Мир-Джавада Аббасовича!
— Приезжайте, Викентий Петрович! — любезно пригласил помощник, по голосу определявший всех более-менее заметных людей в окружении своего шефа. — Мир-Джавад Аббасович проснулись.
Они поняли друг друга с полуслова. Морданов заволновался, узнав о «домашнем» аресте Джебраилова, который Тагиров может и не успеть предотвратить, но понял, что и комиссар, в свою очередь, заволновался, узнав о нависшей над ним опасности, и ему есть что предложить Тагирову.
Морданов встретил комиссара у входа во дворец, поеживаясь на холодном утреннем ветру. В порыве верноподданничества, а может, просто весна в его представлении теплое время года, он забыл потеплее одеться и мерз, ожидая приезда комиссара.
Комиссар приехал быстро, за что охолодавшая душа Морданова была ему очень благодарна. Морданов привел комиссара в кабинет Тагирова и, закрыв двери на ключ, встал возле них на охрану, вернее, на карауле.
Тагиров приветливо улыбнулся комиссару. Он завтракал в кабинете, но при виде гостя вышел из-за стола, пошел ему навстречу и даже обнял.
«Это уже совсем плохой признак! — с тревогой подумал комиссар. — Значит, нечего рассчитывать и на „занюханный Мухосранск“».
Комиссару терять было нечего. Тагиров тоже хорошо это понимал, поэтому немного волновался, не зная, что у этого хитрого русского спрятано за пазухой.
— Только я о тебе подумал, комиссар, а ты уже в дверях! — неприятно прокаркал всесильный «хан». — Идеальный подчиненный читает мысли своего начальства! Что там, дорогой, натворил мой темпераментный земляк? Твою служанку задушил? Говорят, против него много улик сделали: отпечатки разные, фигли-мигли. Почему только он отказался от знакомства с ней? Как по-твоему? Есть свидетели?
— Есть фотографии! — комиссар тянул время, зная, что первый козырь липовый, карта меченая. — Я взял с собой одну.
И он протянул фотографию Тагирову, продемонстрировав искусство Пулата.
Тагиров долго рассматривал фотографию, и, чем дольше он ее смотрел, тем у него на душе становилось спокойнее.
— Это ничего не доказывает! — и он вернул фотографию комиссару. — Можно подсунуть любую девку любому. Не забывай, мы с Лаврентием Павловичем не только друзья, но коллеги.
Намек был более чем понятен.
«И это все, что имеет против меня комиссар?» — подумал Тагиров, и презрение к гяуру появилось на его лице.
Комиссар решил больше не играть в прятки и молча протянул пачку исписанных листов бумаги, показания Джебраилова.
Тагиров с интересом взял бумаги, но заметил мимоходом, усмехнувшись:
— Я думаю, Джебраилова надо передать работникам прокуратуры!
— Не имею права! — тоже усмехнулся комиссар. — Только по распоряжению центра.
— Распоряжение будет! — уверенно заявил Тагиров и сел читать показания.
Читал он показания Джебраилова медленно и очень внимательно, но, надо отдать ему должное, ничто не дрогнуло в его лице. Комиссар с удовольствием наблюдал за ним. Предчувствие еще никогда его не обмануло. А он чувствовал, что Тагиров пойдет на уступки и, главное, на союз с ним.
— Кто знает еще об этом? — спросил он спокойнее, возвращая рукопись комиссару. — Ты говорил уже с центром?
— Друзья Лаврентия Павловича — мои друзья! — витиевато ответил комиссар. — А я не из тех, кто предает друзей!
Такой ответ понравился Тагирову, хотя он не обманывал себя и прекрасно знал, что это — не более чем слова, а на самом деле комиссар обезопасил себя и принял необходимые меры предосторожности.
— Садись, позавтракай со мной! — неожиданно предложил Тагиров.
Комиссар обомлел. Такое приглашение говорило яснее других слов, что комиссару оказана самая высокая почесть, какая только может быть на этом свете.
Естественно, что он поспешил воспользоваться приглашением. А за столом Тагиров еще раз поставил все точки над «и».
— Зашел ты в кабинет смертником, выйдешь другом! — сообщил он комиссару. — Молодец! Скажи, что будем делать с этим клеветником?
— Он исчезнет! — пообещал жестко комиссар.
— Не сбежит? — уточнил Тагиров.
— Оттуда еще ни один не сбегал! — усмехнулся комиссар, показав на потолок.
Тагиров успокоился и решил позвонить прямо при комиссаре в Москву. Как только его соединили с Берией, он коротко сказал:
— Лаврентий! Мы нашли с комиссаром общий язык! Оставь его мне!..
Участь Джебраилова была ужасна: комиссар отдал его своему верному Пулату, и Джебраилов исчез с лица земли. Только вряд ли он умер легкой смертью.
«Отлились коту мышкины слезки!»
21
Сарвар проснулся утром очень рано от странного бульканья и всплескивания воды. Открыв один глаз, он увидел отца, чистившего зубы и полощущего рот над жестяным тазиком. Сна как не бывало. И опять глухая звериная ярость стала душить Сарвара, и он, чтобы избавиться от нее, закричал:
— Ты что спать не даешь? Во дворе не можешь умыться?
Отец вздрогнул от его крика, побелел, втянул голову в плечи, словно ожидал за окриком удара. Затем робко и медленно оглянулся и увидел проснувшегося сына.
— Во дворе с утра еще холодно! — сказал он медленно и дружески улыбнулся.
Плеснув из стоящего рядом кувшина себе на ладонь воду, отец еще раз сполоснул глаза, лицо и шею, вытерся суровым полотенцем и, бросив его ловко на спинку стула, подошел к сыну.
Сарвар следил за ним, но не испытывал к нему не только ни капельки жалости, глядя на скелетообразное густо-волосатое тело с торчащими ребрами и лопатками, одетое в одни солдатские подштанники, но и с трудом сдерживая брезгливость.
Отец сел на кровать сына и провел рукой по его голове.
— Бедный! Ты все еще видишь во мне врага? — решился он на разговор. — Перековался я, поэтому и отпустили. Да и виноват я ни в чем не был.
— Невиновных не сажают! — зло сказал Сарвар.
— Ошибаются! — не менял тона отец. — И еще как! Ты что, не слышал: «Не ошибается тот, кто ничего не делает!» Ежова и Ягоду за что расстреляли?
— Они продались врагам! — без тени сомнения сказал Сарвар. — За взятки стали их спасать от расстрела!
— Интересная версия! — усмехнулся отец. — Кто что говорит! Если расстреляют Берию, тоже скажут: «английский шпион!» У нас по-другому не умеют! Народу нужен понятный штамп, желательно бытовой! Или, что он отпускал врагов народа на свободу. Сказать все можно, если всему верят. Удобно!
Отец зябко поежился и неожиданно для Сарвара нырнул к нему под одеяло. Сарвар настолько был ошарашен, что у него перехватило горло от злобы и ненависти, и он только сдавленным голосом удивления прошептал:
— Ты что? — и, приподнявшись на локте, отодвинулся резко к стенке.
— Холодно стало! — пояснил отец. — Я так намерзся в Норильске. Хочу поговорить с тобой о нашей дальнейшей жизни.
Ледяное костлявое тело с густой мохнатой растительностью на руках, на груди и даже на спине вызвало такое глубокое чувство омерзения у Сарвара, ему на несколько секунд стало так плохо, что он чуть было не свалился в обмороке. Но быстро пришел в себя, заставил усилием воли, и, сбросив одеяло, вылетел пулей из кровати, бормоча себе под нос: «Привыкли заниматься в лагере непотребными штучками»…
Быстро одевшись, не умываясь, он выскочил из дома. Его всего била нервная дрожь, все внутри клокотало от негодования. В эту минуту он был способен на убийство.
«Приехал и ведет себя как ни в чем не бывало, — бесился про себя Сарвар. — Ни стыда, ни совести! Говорить он, видите ли, со мной хочет. Даже не спросил: хочу ли я с ним говорить? Каторжник!.. Что я говорю? Дурак! Сам не понимаешь, что говоришь! Отец все-таки! Какой-никакой, а отец! Аллах, спаси и помилуй! Лед в груди, пламя в голове! Змея и огонь!»
Сарвар бросился к мечети, к небольшой старинной мечети. Сколько ей было лет, сколько она простояла на белом свете, никто уже не помнил, даже сам мулла. Может, была она построена вместе с крепостными стенами, окружающими Старый город. Сарвар иногда заходил в мечеть в летнюю жару. Внутри было спокойно и прохладно. Суетные звуки не долетали в эту обитель общения с аллахом. Сарвар хорошо знал арабский язык, отец с самого детства сына говорил с ним на трех-четырех языках, и Сарвар, кроме родного и русского, знал хорошо еще турецкий и персидский, в довесок к арабскому. После ареста отца Соня успела унести его рукописи и часть книг, самые редкие, вместе со старинными свитками трудов древних философов и мыслителей. Мать арестовали лишь через несколько дней.
И Сарвар хорошо знал Коран. После знакомства с Илюшей, когда знакомство перешло в дружбу, он как-то взял почитать Библию и убедился, почитав Ветхий Завет, что знакомство пророка Мухаммеда с иудаизмом было близким и многогранным, даже многосторонним. Пророк был старательным прилежным исследователем Библии. Тщательно сравнивая тексты Корана и тексты еврейского Ветхого Завета, Сарвар с полной уверенностью мог сказать, что первый еврей, Авраам, на самом-то деле был мусульманином, и абсолютно прав мулла, что евреи искажают текст Корана в своей Библии. Сарвар плохо знал историю, в школе это не проходили, простое сравнение эпох и дат, цифр, веков могло бы ему подсказать, что пророк Мухаммед взлелеял новые ростки еврейских идеалов монотеизма через шесть веков после того, как апостол Павел с группой евреев поверил, что, отказавшись от сковывающего еврейского Закона и обретя Бога в образе человека — Иисуса, Сына Божьего, человечество более охотно примет Закон Бога и пойдет путем самосовершенствования. Тем путем, которым евреи пошли двенадцать веков назад после откровения в Синайской пустыне, общения Моисея с Богом.
Возле мечети стояла большая толпа разгневанных мусульман. А сама мечеть охранялась большим количеством солдат с винтовками и милиционеров с демонстративно расстегнутыми кобурами пистолетов и револьверов на поясах.
Не оставляла ни малейшего сомнения и стоявшая рядом с мечетью машина-кран с висящей на стреле крана огромной каменной «бабой», так называли шар, которым, словно тараном, разрушали стены домов, обреченных на слом. В кабине крана уже сидел улыбающийся крановщик Ахмед, по кличке Паша, приготовившийся к своей привычной работе, он даже находил в ней какое-то удовольствие, делал ее весело, быстро и с шуточками-прибауточками, типа «ломать — не строить».
Из мечети сотрудники органов в штатском выводили муллу и его прислужников. Было очевидно, что им дали в последний раз помолиться, но все равно вид у них был растерянный и жалкий. Молитва их единому аллаху закончилась вопросом: как он мог допустить такое кощунство и надругательство над святыней. Как? Ответа они не получили.
Нетерпеливый крановщик, в жажде разрушения, уже развернул стрелу для удара. Каменный шар, чуть отставая от стрелы, понесся к мечети, мощью своей предрекая ей конец. Ошеломленные верующие ясно увидели в шаре кулак шайтана.
И в этот момент худенький юркий старичок в чалме, кади, замыкавший шествие священнослужителей, воспользовавшись тем, что замыкавший шествие милиционер засмотрелся на действие крановщика и увлекся движением беспощадного шара, бросился к стене мечети прямо под удар. Вопль толпы даже заглушил скрежет тормоза крана, стрела, замерев на месте, вздрагивала неподвижно, или почти неподвижно, потому что шар уже получил достаточное ускорение, его-то было не остановить, и он впечатал юркого кади в стену мечети, а обломки стены грудой похоронили бренные останки новоявленного мученика за веру, чья душа, минуя чистилище, отправилась прямо в рай, в объятья гурий. Толпа правоверных опустилась на колени. Наступила могильная тишина, и мулла в этой тишине стал читать молитву. Сарвар тоже опустился на колени…
Илюша очень удивился, когда, собираясь в школу, услышал звонок в дверь. Честно говоря, он немного смутился, подумав о Вале, и, может, поэтому бросился открывать дверь быстрее, чем обычно. Увидеть Сарвара Илюша никак не ожидал. С приезда отца Сарвар так резко отдалился от Ильи, что, честно говоря, Илюша решил было, что отец Сарвара наговорил сыну кучу страшных вещей о лагерях, и Сарвар решил не дружить с сыном человека, который эти лагеря проектирует и строит. Илья понимал Сарвара и не лез выяснять отношения.
— Есть будешь? — спросил обрадованный Илюша. — Я еще не завтракал.
— Хочу! — глухо ответил потрясенный Сарвар.
Завтракали они молча. Илья видел, что у Сарвара что-то стряслось, но решил не расспрашивать, надо, сам скажет.
Когда они отправились в школу, уже на лестнице Сарвар неожиданно сказал:
— Представляешь, мечеть ломали, а кади бросился под каменную «бабу»…
— Решил под бабой умереть? — схохмил Илья.
Вырвалось это у него как-то помимо него, и он с ужасом подумал: «Что я несу? Язык без костей, мелет и мелет!»
Он внезапно понял, что произошла трагедия. Сарвар нахмурился.
— Я пришел к тебе с открытой душой, а ты плюешь в нее.
— Извини, не подумал! — смутился Илья. — Я не знал, что произошла трагедия, решил, что он только бросился, но его попытку пресекла милиция.
Но Сарвар уже разозлился.
— «Извини», «Не подумал»! — бормотал он громко. — Конечно, что тебе мечеть? Тебе наплевать и на Коран, и на адат!
— Почему? — решительно возразил Илья. — Я уважаю твою веру, тем более что в ее основе лежит иудаизм. А ломают не только мечети. Синагогу закрыли. Христовы храмы взрывают. Знаешь, был огромный храм на Первомайской? Слышал, как его взорвали? Саперы заложили взрывчатку по расчету, «ахнули» ее, а храм только покачнулся и стоит, а два старых дома, стоявших рядом с храмом, рухнули, а одно многоэтажное здание получило большую трещину, так ее до сих пор и не заделали. Видишь, как прочно раньше строили храмы?
— Его все равно взорвали, твой храм! — хмуро и мстительно сказал Сарвар.
— Взорвали! — согласился Илья. — Против тола нет приема, если нет другого тола! — пошутил он опять. Смешинка в рот попала. — Динамит есть динамит! Изобретение Нобеля.
— Это какого такого Нобеля? — заинтересовался Сарвар. — Нашего нефтепромышленника?
— «Нашего»! — хмыкнул Илья. — Скажешь тоже. В Швеции живет, а в нашу нефть только деньги вкладывал, те миллионы, которые заработал от производства динамита.
— И что теперь построят на месте церкви? — спросил Сарвар, думая о разрушенной мечети.
— Не знаю! — честно ответил Илья. — Но, что бы ни построили, это что-то будет иметь форму креста. Фундамент саперы взрывать и не пытались.
— Не смогли? — удивился Сарвар. — Значит, можно устоять против тола?
— Нельзя по другой причину! — пояснил Илья. — Просто взрыв разрушил бы еще с десяток зданий вокруг. Не выгодно. Тем более что о форме креста будут знать не так уж много человек. Несколько!
— Ну да! — возразил Сарвар. — Несколько! Значительно больше.
— Какая разница? — согласился Илья. — Все равно меньше ущерба. Хотя кто знает. Этот ущерб, возможно, нам всем аукнется в будущем.
— Меня больше волнует смерть кади! — вздохнул Сарвар.
— Не думай об этом! — посоветовал Илья.
— Трудно не думать! — вздрогнул от воспоминаний Сарвар. — Ты не видел! Шар медленно-медленно приближался к кади, так же медленно размазал его по стене, словно пластилин, никогда раньше не думал, что человеческое тело столь непрочно, а потом медленно рухнула стена и каждую взлетевшую пылинку можно было разглядеть в отдельности…
— Не думай об этом! — попытался отвлечь друга от страшных воспоминаний Илья. — Лучше расскажи, как твой отец?
— Не хочу! — глухо ответил Сарвар. — И не спрашивай! Не воспринимаю я его.
— Крепко тебе вдолбили, что он — наш враг! — усмехнулся Илья. — Но раз его выпустили, значит, признали невиновным!
— Простили! — уточнил Сарвар. — А может, специально выпустили?
— Как это специально? — опешил Илья. — Ты что?
— Сообщников выведать, связи! — настаивал на своей версии Сарвар.
— Не болтай глупости! — не поверил Илья. — Были бы у него связи, он их давно бы раскрыл.
— Ты моего отца не знаешь. Упрямый, весь в меня! — вздохнул Сарвар.
— Я зато верю в НКВД! — усмехнулся Илья. — Там работают профессионалы своего дела.
— Отец рассказывал? — загорелся Сарвар услышать подробности.
— Нет! Он со мной на такие темы не беседует.
Сарвар опять обиделся, решив, что Илья скрывает от него подробности.
— Ладно! — опять зло сказал он. — Прибавь шагу, а то в школу опоздаем…
Возле школы они, не сговариваясь, незаметно разошлись в разные стороны. Илья, сами ноги понесли, отправился к поджидавшей его Вале, а Сарвар, заметив это, незаметно и тихо отстал.
И тут же его настиг Никита.
— Привет, Мамед! — хлопнул он его по плечу.
— Я — Сарвар! — обиделся опять Сарвар. — Мог бы и запомнить. Пора уже.
— Не лезь в бутылку! — рассмеялся Никита. — Знаешь же, что шучу. «Сарвар» — не рифмуется. Если только: «Сарвар — божий дар!»
— Ты что, тоже стихи пишешь? — удивился Сарвар.
— А кто еще пишет? — сразу напрягся Никита, в городе появились стихами написанные листовки против советской власти, и он тоже получил задание выследить автора, «писаку».
— Илюша! — выдал друга Сарвар и вздрогнул, обнаружив в себе способность к предательству, раньше за собой он такого не замечал.
— Примем к сведению! — обрадовался провокатор. — Я вижу, ты уже не особенно жалуешь полукровку? Правильно делаешь, примыкай к нам.
— К кому это? — поинтересовался Сарвар.
— У нас хорошая компания: Игорь, я, Мешади, Арсен…
— Арсен тоже в вашей компании? — удивился Сарвар.
— Конечно! — тоже удивился вопросу Никита. — Почему ему и не быть?
Арсен был самым странным юношей в их классе. Он начал бриться чуть ли не с пятого класса, выделяясь среди тощих мальчишек своим рано повзрослевшим видом и феноменальной богатырской силой, причем силой своей совершенно не пользовался. Даже Мешади-макака мог над ним безнаказанно издеваться.
Сарвар задумался над предложением Никиты. Он не привык принимать скоропалительные решения, потому ответил уклончиво:
— Хорошо! Я подумаю!
— Одно условие! — предупредил его Никита.
— Какое? — нахмурился Сарвар, вспомнив об отце.
— Не дружить с евреями!
— Но Илюша — не еврей! — опешил Сарвар.
— Институт Розенберга определил: если один из родителей отца или один из родителей матери еврей, то и их дети тоже — евреи!
— Но по европейским законам он — русский! — возразил Сарвар. — И по русским тоже, его бабушка крестила! — опять выдал он тайну друга.
Никита тут же решил включить это в свой отчет, но ни одна черточка не дрогнула на его лице.
— Мы не христиане! — заявил он. — Знаешь, национал-социалисты считают…
— Это в Германии социал-националисты? — перепутал Сарвар.
— Да! — поморщился Никита. — В этом вопросе мы с ними сходимся. Мы также считаем, что евреев следует всех выселить на Мадагаскар.
— Где это? — спросил Сарвар. — В Африке?
— В Африке! — подтвердил Никита. — Хотя я лично всех бы их уничтожил.
— Но Илюша только с одной стороны еврей, — упрямился Сарвар, — а с другой — столбовой дворянин, и твои предки у него в холуях ходили.
— Подумай! — не стал больше пререкаться Никита. — Либо с нами, либо с ним! Как отец? Устроился на работу?
— Устроился! — вздохнул тяжело Сарвар. — В том же институте, где и работал, только не старшим научным сотрудником, а вахтером. И, представь себе, доволен!
— Будешь довольным! — тоже вздохнул Никита. — Их вообще на работу не берут, требуют прописку, а прописку не дают, пока не устроишься на работу. Заколдованный круг получается. А потом, за нарушение паспортного режима опять за колючую проволоку. Наверное, за прописку взятку дал.
Он почти что отгадал, только взятку дала Соня, расплатившись с начальником паспортного стола своим прекрасным телом. Но на работу отца Сарвара взяли безо всякой взятки. Там его помнили и ценили.
— Откуда у него деньги на взятку? — возразил Сарвар.
— Вот ты и выясни! — посоветовал Никита.
Сарвар удивленно посмотрел на Никиту. А тот засмеялся.
— Аврал, Сарвар! — хлопнул он опять по плечу. — Свистать всех наверх!
И подмигнул лукаво, как будто все знал, что творится на душе у Сарвара.
22
Страсть брала Игоря иногда просто «за горло». В такие минуты он был готов отправиться на «парапет» и договориться с первой же попавшейся проституткой. Останавливало лишь то; что жребий венерической болезни падал одинаково и на избранных. Краем уха Игорь слышал невеселую историю, что приключилась с братом одноклассницы Игоря, с сыном самого помощника Тагирова, он заразился сифилисом. Трагедия в семье. Этот случай и отрезвил Игоря, и отучил от «парапета».
Можно было понять, с какой благодарностью он принял любовь Варвары, вернее, ее тело. Ему и в голову не могло прийти, что мать просто заставила Варю с ним жить, пообещав хорошо заплатить. Иногда, когда он полностью растворялся в ней, ему даже приходила в голову шальная мысль жениться на Варваре, но наутро уже он гнал ее прочь от себя, прекрасно зная, что мать встанет «на дыбы», да и отец вряд ли одобрит этот брак, хотя в глубине своей души он чувствовал, что ему трудно будет найти женщину более нежную и заботливую.
В тот день, вернувшись из школы, Игорь заранее радовался желанным ласкам Варвары. Но дома он застал только мать. Елена Владимировна покормила его обедом, он молча взглянул на нее, но она отвела глаза. Игорь сразу понял, что что-то случилось.
— Где Варвара? — спросил он прямо.
— Она уволилась! — пряча глаза, ответила мать.
— Как это так, «уволилась»? — удивился Игорь.
Он настолько привык считать Варвару неотъемлемой частью своей семьи, что даже возможность ее увольнения считал нелепостью.
— Она вольный человек! — взяла себя в руки мать. — Хочет — работает у нас, не хочет — увольняется. Потребовала выплатить ей жалованье, я выплатила, отдала ей паспорт. По-моему, у нее хахаль какой-то появился.
Игорь покраснел, смутился и вышел из кухни. Елена Владимировна тонко нанесла и рассчитала удар.
Ночью Игорь долго не мог уснуть. Ворочался, ворочался, а сна «ни в одном глазу». Нежное тело Вари, ее поцелуи и ласки, все проплывало перед ним воочию, так ощутимо, что Игорь пылал от жгучего желания. И проснулся он рано, что дало ему подслушать разговор отца с матерью.
Отец, очевидно, только что приехал, был чем-то необычайно возбужден, а в таком состоянии он находился дома впервые, что и заинтересовало Игоря. Возбужденный и возмущенный голос отца гремел в квартире, как «иерихонская труба», только стен не разрушал и не сокрушал. Игорь сразу забыл про сон, про то, что первый урок — последняя контрольная по математике. Вскочил с постели и как был в одних трусах, подкрался и неслышно проскользнул к двери гостиной, откуда и раздавался громоподобный голос отца.
Комиссар тяжело ходил по комнате, задевал стулья, переставлял их и говорил, говорил не переставая:
«Нет, ты только подумай! Эта „тихоня“ спуталась с Джебраиловым. Этот стареющий красавчик уже до служанок докатился. Вот от кого она забеременела. Дура! Я хорошо понимаю, зачем это понадобилось старшему майору, наверняка он сделал ее своим агентом в моей квартире, завербовал, одним словом. Хорошо еще, что я дома не держу секретных бумаг никаких… Доигралась, девочка!»
«Да что случилось?» — спросила Елена Владимировна в полной растерянности, ничего не понимая из сказанного мужем, хотя одни и те же фразы повторялись уже в третий раз в разных, правда, вариациях.
«То и случилось!» — опять послышался грохот упавшего стула.
«Что ты не можешь позабыть Варвару? — недоумевала Елена Владимировна. — Я ей дала возможность уйти из нашего дома, между прочим, по твоей просьбе, что тебе еще нужно? Почему ты не можешь успокоиться?»
«Зато она успокоилась! — мрачно сразу переменил тон комиссар. — Джебраилов ее задушил, когда она явилась к нему сообщить о беременности».
«Что?» — страшно вскрикнула Елена Владимировна, словно своими руками подготовила это убийство, да так оно и было, по сути дела говоря.
«Что слышишь! — грубо сказал комиссар. — Да тебя, мать, что-то туго стало доходить. Неужели я так не ясно говорю?»
Игорь стоял чуть дыша, опасаясь, что услышат стук его сердца, так оно в бешеном ритме рвалось из груди. А мысли хаотично препарировали услышанное:
«Варя — любовница Джебраилова? — думал судорожно Игорь. — Беременна от него… Ушла от меня к нему… А он задушил ее… Галиматья какая-то! Варвара из дому отлучалась только лишь на базар да в гастроном… ну, еще в булочную. У нее и времени не было… Джебраилова видел пару раз: красивый, но наглый… пес! Завербовал Варвару… Но тогда он знает, что между нами было… А вдруг она по его заданию легла со мной?.. Нет, не может быть… Врет отец!»
И он, не выдержав бури, овладевшей его душой, ворвался в гостиную.
— Врешь, отец! — заорал он, вытаращив безумные глаза. — Не могла она быть любовницей Джебраилова! Это от меня у нее ребенок!
Мать испуганно всплеснула руками и закрыла губы, чтобы не крикнуть, такой грозно-обличительный вид был у сына. Но комиссара истериками было невозможно испугать или даже смутить, и не такие он частенько видел в своем кабинете. Он привычно поэтому влепил и сыну такую тяжелую пощечину, что сбил его с ног на ковер.
— Это тебе за подслушивание у двери! — пояснил он назидательно. — Прекрати истерику! Баба!.. Подумаешь, переспал со служанкой, экая невидаль! — он обернулся к Елене Владимировне. — Небось, с твоей «легкой» руки?.. А ты, — обратился к сыну Викентий Петрович, — чтобы мысли даже такой не имел, что отец может врать. Я всю жизнь говорил, говорю и буду говорить одну только голую правду!.. Кстати, Джебраилов уже сознался в преступлении, могу показать тебе написанные его рукой признания. Они встречались по утрам, когда Варвара ходила на базар, два раза в неделю. Потом он отвозил ее домой, а расплачивался продуктами, а деньги, которые ей давала мать, она утаивала. Знаешь, какую сумму нашли у нее в вещах? Джебраилову нет смысла наговаривать на себя…
Игорь, не говоря ни слова, вскочил с ковра и убежал в свою комнату и там расплакался, как самый паршивый дошкольник. Он поверил каждому слову отца и до боли страдал от «измены» Варвары. Он впервые узнал боль от измены любимой, ибо что ни говори, а Игорь по-своему очень любил Варвару и привязался к ней. Внезапная потеря любовницы, такие мерзкие подробности кого угодно вышибут из колеи. Он не только плакал, эти слезы были расставанием с детством, но и думал, и мысли были у него столь жесткие, что выжигали из его сердца и души все доброе и нежное.
В школу пошел уже другой человек, в его сердце поселилась ненависть.
Первое, что он сделал в коридоре школы, это влепил второкласснику, который, играя в салочки, врезался в живот Игоря. Малыш так испугался, что забыл зареветь. Но не боль от звонкой пощечины привела его в такое застывшее состояние. Он увидел выражение глаз Игоря. Малыш впервые в жизни столкнулся с откровенной ненавистью.
— Какая муха укусила? — услышал Игорь голос за спиной.
Игорь остановился и обернулся. Это был Арсен. Игорю нравился Арсен своим спокойствием, уверенностью в себе, тем, что не обращал ни на кого ни малейшего внимания. Взгляды его, правда, не отличались оригинальностью, он делил человечество на две категории: касту повелителей и касту рабов. У него была еще небольшая каста неприкасаемых, куда, по его мнению, входили евреи, цыгане и турки. Эта каста должна была исчезнуть с лица земли. Территорию Турции следовало разделить между Арменией и Россией. Большая часть Армении входила в состав бывшей Оттоманской империи, а ныне в состав Турции, а Россия выступала как наследница Византии, чьи царевны Анна и Софья дали жизнь большинству князей Древней Руси, великих и менее. Арсен много читал, но и подборка книг у него была специфической: от Ницше до Гитлера, Розенберга и Сергея Нилуса.
Но Игорь не разбирался в политике, и его вполне устраивало, что Арсен зачислил его в высшую касту, куда с его согласия вписали Никиту и Мешади-макаку, тот был из древнеханского рода, но ловко скрывал это от школьного начальства. Арсен уговорил Никиту попробовать вовлечь в их компанию и Сарвара, оторвав его от дружбы с Илюшей, как знающего восточные языки.
Складывалось ядро национал-социалистической партии Советского Союза…
— За что маленького раба наказали? — участливо спросил Арсен.
— Ударил владыку головой в живот! — перекосился Игорь, вспомнив Варвару. — Рабыня изменила, вот в чем причина! — признался он неожиданно сам для себя.
— Понятно! — понял Арсен. — Баба нужна! В городе с этим проблема. Восток есть Восток. Женщины двух категорий: либо тайно предаются греху, либо открыто. Но с профессионалками, проститутками опасно связываться. Я тебе подыщу из тайных. Есть тут несколько девочек, чьих родителей загребли по пятьдесят восьмой, тебе не надо объяснять, что это такое, живут впроголодь, на панель идти гордость не позволяет, а так, если кто накормит да понравится…
— Согласен! — загорелся Игорь.
Но Арсен его тут же охолодил:
— Это еще надо устроить!.. Слушай! Ты «Зойку с помойки» знаешь?
Одну из уборщиц в школе звали «Зойка с помойки». Лет сорока, со следами былой красоты, она выгодно отличалась от остальных уборщиц, за что те ее очень не любили и кликуху ей постарались пообиднее подобрать.
— Знаю, конечно! — удивился вопросу Игорь. — Но какое отношение…
— Самое прямое! — перебил его Арсен. — Она моет туалеты. Я заметил, что первым она моет туалет девчонок, а потом наш, после перемены, после последней перемены. Сечешь?
— И что ты предлагаешь? — все еще не понимал Игорь.
— Трахнуть ее сегодня! — предложил Арсен. — Я давно на нее точу! Ты мне поможешь и сам внакладе не останешься, первым тебя пущу на нее.
У Игоря от желания даже губы пересохли и коленки задрожали. Но он боялся.
— А вдруг кто-нибудь увидит? — сомневался он. — Вдруг пожалуется? И как мы уйдем с урока?
— Ерунда! — отмел его возражения Арсен. — Все твои страхи — ерунда! А уйдем мы запросто: последний урок у нас у Неприкасаемого.
Так он называл учителя географии и английского языка Аркадия Марковича. У него на уроке царила демократия: ученики могли входить и выходить, иногда даже не спрашивая разрешения.
— Хорошо! — согласился Игорь, и они крепко пожали друг другу руки.
Недосыпа как будто не бывало. Игорь со злорадством в душе ждал последнего урока. Желание отомстить Варваре, даже мертвой, жгло его сильнее, чем неудовлетворенная страсть, которая так и не отпускала его с ночи.
Контрольную по математике за него написал сидевший позади Володя, прекрасный математик, к тому же почти боготворивший Игоря, неизвестно за что. Остальные уроки прошли как в тумане. И вот, наконец, прозвенел звонок на последний урок. Арсен подошел к Игорю и кивком головы показал на «Зойку с помойки». Она стояла возле двери мужского туалета с ведром горячей воды и со шваброй в руке, ожидая, когда последний мальчишка покинет «заведение».
Как только в класс вошел Аркадий Маркович, Арсен вскочил с места и очень вежливо попросился выйти из класса. Ошеломленный столь показной вежливостью, учитель географии и английского языка с радостью согласился. Следом и Игорь разыграл «дипломатический раут». И получил не только разрешение, но и благословение Аркадия Марковича, который, правда, не удержался и ехидно спросил у класса: «Что, в школе пивом начали торговать?» Негромкий смешок класса одобрил не очень сальную шутку.
Арсен уже поджидал Игоря у туалета. Они вошли и закрыли дверь, заложив в ручку заранее приготовленную Арсеном палку, чтобы никто из случайных свидетелей не смог войти в туалет. «Зойка с помойки» в интересной позе вовсю шуровала шваброй, когда Арсен неслышно подошел к ней сзади и железной рукой сдавил ей горло. Швабра тут же выпала у нее из рук…
Тенгиз Абрахманович, директор школы, был крайне удивлен, когда к нему в кабинет ворвалась разгневанная «Зойка с помойки» и заорала:
— Бардак развели! Это школа или публичный дом? Я пойду в милицию! Заявлю!
И внезапно, опустившись на стул, разрыдалась.
Тенгиз Абрахманович налил быстро в стакан из графина воды и, подойдя к рыдающей уборщице, протянул ей стакан.
— Выпей воды! — растерянно пробормотал он. — Успокойся и расскажи, что случилось?
— Изнасиловали! — тихо сказала уборщица, вытирая тыльной стороной слезы. — Двое ваших учеников-десятиклассников.
Директор школы обомлел и выпил сам воду из стакана, который держал, чтобы успокоить уборщицу. Назревал скандал, который мог стоить ему не только репутации, но и места директора школы. Этого еще было мало: кто же возьмет столь проштрафившегося директора на работу? В городе об этом уже не приходилось мечтать. В столице мусульманской республики мусульман было значительно меньше половины, едва с треть набиралось, но в этом вопросе все общины придерживались столь твердых убеждений, словно жили по законам шариата и чтили Адат.
— Ты не ошибаешься, милая моя? — спросил он, как только была выпита вся вода и к нему вернулся дар речи. — Ученики точно были наши? Может, чужие? Подумай хорошенько!
— Я еще не только в теле, раз юнцов привлекаю, — гордо заявила «Зойка с помойки» — но и в здравом рассудке. А вы, так мне кажется, хотите, чтобы подонки были инородного происхождения? Я знаю, почему стараетесь: скандала хотите избежать. Звоните в милицию, или я сама позвоню!
Тенгиз Абрахманович, словно загипнотизированный, взялся за трубку телефона, набрал номер родного отделения милиции, который выучил наизусть на всякий «пожарный» случай, но, услышав знакомый голос дежурного, положил резко трубку.
— Вы их узнаете? — спросил он робко, на «вы», надеясь, что услышит в ответ: «Нет».
— Хоть на страшном суде! — последовал незамедлительный ответ.
— На страшном суде мы все и так будем держать ответ, — грустно и уныло сказал Тенгиз Абрахманович. — Все записано и взвешено, и каждому воздастся по заслугам… Опишите их! — Приказал он, надеясь на путаницу в описании.
— Что их описывать? — удивилась уборщица. — Это Арсен и Игорь из 10 «Б»!
— Сын комиссара? — ужаснулся директор.
— Он самый, красавчик! — замурлыкала неожиданно уборщица.
Тенгиз Абрахманович автоматически налил себе воды в стакан и залпом выпил. Дело уже касалось его свободы.
— Сколько? — спросил он сразу окрепшим голосом.
— Вы мне взятку предлагаете? — возмутилась «Зойка с помойки». — Я, бывшая актриса императорских театров…
— Не устраивай спектакля! — взмолился директор школы.
— «И сатисфакции я требую!» — вошла в роль уборщица.
— Сколько это в денежном выражении? — обрадовался Тенгиз Абрахманович.
— Денег не возьму! — упорствовала уборщица. — Жажду мести!
— Мести жаждешь? — взревел белугой директор школы. — Силой с комиссаром НКВД решила помериться?
— Жажду и померяюсь! — не уступала «Зойка с помойки». — Экспертиза докажет!
— Тогда и я поверну по-другому! — решил директор.
— Не получится! — продолжала упорствовать бывшая актриса императорских театров.
— А вот получится! — угрожал директор. — Они несовершеннолетние! Ты их совратила, а за совращение несовершеннолетних, знаешь, сколько полагается?
— Ты меня на понт не бери! — заорала бывшая актриса и сникла. — Десять тысяч гони немедленно!
Тенгиз Абрахманович мысленно поблагодарил аллаха за помощь, быстро открыл сейф, где лежали загодя приготовленные деньги для одного очень «щекотливого» дела, отсчитал десять тысяч и положил их перед бывшей актрисой.
— Пиши два заявления на мое имя! — сказал он устало.
— Какие два? — оторопела «Зойка с помойки».
— Что тебя изнасиловали! — загнул один палец на ладони директор. — И второе, что ты отказываешься от судебного расследования за двадцать тысяч рублей.
— Но здесь только десять! — опять вскинулась бывшая актриса. — Где остальные?
— Садись и пиши! Я продиктую! — отмахнулся директор, словно и не слыша.
Директор школы, боясь, чтобы уборщица не передумала, быстро продиктовал ей оба заявления, удивившись, что бывшая актриса написала их без единой ошибки и красивым почерком.
«Хорошо учили в темном прошлом! — вздохнул он тяжко. — Чувствуется женская гимназия, не меньше!»
Вручив деньги, он выпроводил «Зойку с помойки» из кабинета.
— Иди, милая, домой, отдохни! — посоветовал он. — И никому ни звука! А не то, сама знаешь, где мы с тобой можем оказаться… Знаешь? Вот то-то!
Оставшись один, он нервно заходил по кабинету, еще раз выпил стакан воды, но затем довольно потер руки и улыбнулся.
«Подросли, сорванцы! Постращать их надо! На этой старой колымаге поездили, аллах с ними. Как бы на девочек не стали бросаться. Кишки наружу выпустят не только им, но и мне!»
Полистав свою толстую тетрадь с телефонами, он быстро отыскал номер телефона отца Арсена, управляющего крупной торгово-строительной базой, и позвонил ему на работу.
— Дорогой Вартан! Директор школы беспокоит, Тенгиз. Не узнал? И с тебя причитается. Причитается, дорогой! «ЧП» произошло! Срочно приезжай! Нет, хуже, значительно хуже, чем ты себе можешь это вообразить и предположить. Катастрофа! Э!
Отец Арсена приехал быстрее, чем ожидал директор школы. Вартан походил на небольшого черного медведя-гризли. И директор так его про себя и называл, после одного рассказанного им анекдота: «Двое несут медведя. Третий их спрашивает: „Гризли?“ „Нет, так убили!“ — ответили двое». Весельчак и жуир, бабник и делец, он не понимал своего тихоню сына, скрытного и послушного, вечно ждал от него какой-нибудь пакости. «В тихом омуте черти водятся!» — любил он говорить своим собутыльникам, рассказывая о сыне. «Кто не любит и не пьет, для чего, скажи, живет!» — была его другая любимая присказка.
— Говори, что стряслось? — рявкнул он, едва появился в кабинете, графин зазвенел.
— Мальчики порезвились со старой калошей! — улыбнулся директор и протянул своему другу пару заявлений уборщицы.
Вартан быстро прочитал и думал недолго.
— Двадцать тысяч! По десять тысяч с каждого сукиного сына, вернее, с их отцов.
— Согласен! — улыбнулся директор. — Но при одном условии: комиссару ты скажешь об этом сам. Яхши?
— Да, ты прав! — почесал в затылке Вартан. — С комиссара много не возьмешь. «Где сядешь, там и слезешь!» А потом сам «сядешь». Мужик с характером!
— Придется тебе платить, мой дорогой! — засиял улыбкой Тенгиз Абрахманович.
— Вижу сам, что придется! — недовольно буркнул Вартан.
Он достал большую пачку крупных купюр и отсчитал двадцать тысяч рублей. Тенгиз Абрахманович торопливо спрятал деньги в сейф вместе с заявлениями уборщицы и весело спросил у друга:
— Постращать сорванцов?
— Не надо! — отказался Вартан. — А то они с перепугу, со страха еще каких-нибудь глупостей наделают. Я со своим сам поговорю.
— Поговори, дорогой! — облегченно вздохнул директор школы. — У меня сердце больное, э! Еще одна такая выходка, и я…
— Ты нас всех переживешь, симулянт! — засмеялся Вартан. — Можешь мне не объяснять, я сам знаю, чем тебе грозит скандал, как пострадает твоя репутация. Половину надо бы с тебя снять, но тебя грабить, с твоей зарплатой. Ладно! На ремонте школы ты мне вернешь эти деньги. Верни мне заявление уборщицы!
Директор школы со вздохом сожаления отдал ему одно заявление, но второе хотел оставить у себя, но Вартан вырвал из его рук и второе, поцеловал его и уехал по своим делам.
23
Сарвар решил вступить в компанию Игоря. Подсознанием он пытался приблизиться к той страшной силе, что таилась в комиссаре. Отец с каждым днем раздражал его все сильнее и сильнее.
К тому же появилась новая причина. Вернувшись как-то вечером раньше того времени, к которому он обещал вернуться, Сарвар застал отца в постели с Соней. И они оба так сильно смутились, словно школьники, которых родители застукали целующимися в подъезде. Сарвару стало так противно, что он ушел из дому и решил не возвращаться больше никогда и ни за что, но, поразмыслив немного и побродив по ночному городу, замерзнув, по вечерам еще было прохладно весной, он вернулся домой, которым стал для него дом тетки, своего дома ни у него, ни у отца не было. И хотя отца и освободили, но ни жилья, ни работы ему не предоставили. Живи, где сможешь, ешь, что достанешь, вода в водопроводе бесплатная.
От своего старинного друга Илюши Сарвар отдалялся с каждым днем. Сарвара душила ненависть к родному отцу, и лучезарная улыбка Илюши, его вечная доброжелательность становились невыносимыми. Черная душа всегда ищет душу своего цвета, если ей не удается перекрасить или выпачкать белую. А Илюша, увлеченный своею любовью к Вале, своей первой любовью, ничего не замечал.
— Я готов вступить! — заявил Никите Сарвар.
Никита очень обрадовался. Дело в том, что Арсен уже ему не раз намекал, что Игорю кажется, что Никита не хочет постараться и уговорить Сарвара быть с ними. Доля истины в этих словах была, у Никиты не лежала душа к разным тайным обществам, хотя его донесения в соответствующую службу очень хвалили и рекомендовали проявить большую активность в создании этой подпольной организации. Но Никита не обманывал себя, он прекрасно знал, что, если придет время разгрома этой организации, его могут забрать «до кучи», и доказывать, что ты «не верблюд», а действовал строго по инструкции, будет невозможно, его просто уберут как нежелательного свидетеля. Но уж такова участь всех провокаторов. Да и надеялся Никита очень на дружбу с Игорем и с Арсеном, считая, что только их родители помогут ему вылезти из того болота, в которое его затащили родители, сгинув в неизвестном направлении.
— Молодец, отец! — одобрил Никита. — Только у нас жесткие правила вступления.
— Какие? — поинтересовался Сарвар.
— Узнаешь! — напустил туману Никита. — Не боишься, что не выдержишь?
— Я ничего не боюсь!
— После уроков не уходи! — предупредил Никита…
Сарвар остался в школе после уроков вместе с Игорем, Арсеном и Никитой. Мешади сослался на то, что ему поручили сестренку забрать из детского сада, ждать будет, если задержится, изревется, а ему от родителей попадет. Его отпустили. Причина уважительная, о маленьких надо заботиться.
Никита куда-то сбегал и вскоре вернулся с каким-то большим пузырьком, наполненным бесцветной жидкостью. Его терпеливо ждали на задворках школы, украдкой покуривая единственную сигарету «Друг», украденную Игорем у отца, пуская ее по кругу.
— За смертью тебя только посылать! — проворчал Игорь при появлении Никиты. — Пошли быстрее!
И они, с оглядкой, по одному, осторожно спустились в подвал школы.
— Зачем мы сюда спустились? — почему-то шепотом спросил уже в подвале Сарвар.
— Узнаешь! Не дрейфь! — так же шепотом ответил Никита.
Они осторожно прокрались в дальний угол подвала, где на куче тряпья мирно спала огромная рыжая кошка, а рядом с ней, тесно прижавшись к кошке и друг к другу, сладко посапывали пятеро крохотных котят.
— Видишь? — шепнул Сарвару Игорь.
— Ну! — не понял его вопроса Сарвар.
— Не нукай: не запряг! — раздражился Игорь тупостью соученика. — Держи кусок дерюги и шпагат. Твое первое задание: спеленай кошку, да так крепко, чтобы она не вырвалась.
Сарвар взял у Игоря приличный лоскут грубой ткани, шпагат и замер, глядя на кошку, продолжавшую мирно спать, хотя уши у нее уже дернулись в тревоге. Двумя осторожными прыжками Сарвар приблизился к ней и, схватив ее, быстро запеленал и связал шпагатом. Кошка спросонья извивалась отчаянно, как стальная пружина, но когти в ход уже пустить не могла, а силой Сарвар все же ее превосходил. Разбуженные грубым похищением их матери котята запищали и тыкались во все стороны мордочками в поисках теплого живота кошки, полного чудесного вкусного молока. Плененная кошка продолжала сопротивляться, как могла, но грубую прочную ткань и не менее прочный втрое скрученный шпагат не осилила, скоро утомилась, обмякла и только громко и жалобно протестовала против жестокого произвола. Ее мяуканье разрывало душу Сарвару. Он крепко держал кошку и недоуменно смотрел на новоявленных друзей-заговорщиков.
— А что с ней делать? — спросил он.
— Положи ее обратно, откуда взял! — велел Игорь.
— К котятам? — удивился Сарвар.
— Да! — подтвердил Игорь.
— Но она их всех может передавить, если опять начнет дрыгаться! — возразил Сарвар. — Давай, я ее здесь положу!
И он показал на место возле своих ног, подальше от котят.
— Делай, что говорят! — жестко приказал Игорь.
Сарвар осторожно положил кошку, крепко спеленатую дерюгой и шпагатом, на кучу тряпья подальше от котят, но те сразу почуяли мать и с голодным писком поползли к ней.
— Возьми! — Никита протянул Сарвару большой флакон с желтоватой жидкостью и коробок спичек. — Облей их всех и подожги!
Сарвар заметно побледнел и хотел отказаться, причем в грубой форме. Но Никита, словно почувствовав это, сразу шепнул ему на ухо: «Струсил?»
Этот его змеиный шепот подхлестнул Сарвара к действию. Открыв притертую пробку флакона, где, по резкому запаху, явно был бензин, он вылил содержимое большого флакона на кошку, котят и кучу тряпья. Затем, торопясь, словно боялся передумать, чиркнул спичкой и бросил маленький огонек на кучу тряпья. Бензин вспыхнул сразу, и огромный костер поглотил кошачье семейство. Котята мучились недолго и быстро обуглились, но кошка не желала сдаваться и до последней секунды своей жизни боролась и с путами, и с огнем.
А молодые инквизиторы стояли рядом и смотрели на ее мучения с нескрываемым восторгом, с улыбкой, глаза их горели дьявольским огнем, следя за сверхъестественными попытками кошки вырваться из объятий смерти.
Но они не только смотрели, они еще и обсуждали ее невероятные прыжки.
— Полметра высоты взяла! — заметил Игорь.
— Спорим, что возьмет метр? — предложил пари Никита.
— Не возьмет! — возразил Игорь.
— Ставлю рубль против трех! — предложил Никита.
— Согласен!
Игорь протянул руку Никите, тот ее пожал, а Арсен привычно «разрубил», «разбил», как бы утверждая договор в качестве третейского судьи.
Кошка в последней попытке избавиться от языков пламени подпрыгнула больше чем на метр, вызвав восторженный вопль у Никиты и разочарованный у Игоря.
Сарвара в эту торжественную минуту неожиданно вывернуло наизнанку. Рвало его долго и мучительно больно. А новоявленные друзья стояли рядом и заливались хохотом.
— Такую красоту испортил! — заметил Игорь, протягивая Сарвару свой носовой платок, чтобы Сарвар вытер свой рот.
Сарвар громким шепотом сказал:
— Не переношу запаха горелого мяса! Когда мне в носу полип выжигали, я даже в обморок грохнулся.
— А ты представь, что ты сжигаешь на костре жидов! — хищно сверкнул глазами Никита. — Как они корчатся и вопят, а перед ними уже лежат их обугленные маленькие еврейчики…
— А пепел их развеять по ветру! — поддержал Арсен.
— Ребята! — взмолился Сарвар. — Пошли на воздух, я больше не могу!
Кошка перестала дергаться и затихла. Игорь без напоминаний достал из кармана проигранные Никите три рубля и расплатился.
Сарвар был уже у выхода из подвала, но троица его новоиспеченных друзей как по команде развернулись к тлеющему тряпью и помочились на огонь, заливая и гася его. Сарвар не только не присоединился к этому ритуалу, но, не дожидаясь конца «ритуала», побрел по лестнице на свежий воздух, чувствуя, что еще немного, и он потеряет сознание.
Но теперь он был «свой».
24
Валя с Илюшей, тесно прижавшись друг к дружке, сидели на холодной скамейке приморского бульвара и смотрели в сине-черную даль, где к горизонту поспешал крохотный пароходик.
А солнце весело рябило в воде.
— Илюша, война будет? — спросила неожиданно Валя, прерывая райское спокойствие.
— Она уже идет несколько месяцев! — ответил Илюша с некоторым чувством превосходства над женской непонятливостью.
— Я газеты, представь себе, тоже читаю! И радио слушаю! — улыбнулась Валя мужской непонятливости. — Меня интересует другое: втянут ли нас в мировую войну?
— Мы заключили мирный договор с Германией! — солидно пояснил Илюша. — Ну, а там: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы…»
— А провожать на войну нам! — тихо сказала Валя и еще теснее прижалась к нему.
— А воевать нам! — жестко отрубил Илья.
Но, спустя пару секунд, он нежно поцеловал Валю, ясно осознав, что она почувствовала: есть силы, которые могут разрушить их хрупкое счастье, оторвать друг от друга.
Валя, в ответ на его нежный поцелуй, вдруг страстно и больно поцеловала Илюшу и тихо, хрипло сказала:
— Пойдем к тебе! Все равно через три месяца я стану твоей женой!
И холод неожиданного майского похолодания исчез, растворившись в огненной метели, захватившей и закружившей двух юных влюбленных. Окружающий их мир стал каким-то нереальным, эфемерным, расплывчатым, весь сосредоточился в нем и в ней.
Валя, переступив невидимый, но очень важный для себя барьер, стала женщиной в духовном плане раньше, чем в физическом, и, хотя все ее внимание было сосредоточено на Илюше, в ней все же не исчезли ни женская зоркость, ни женское любопытство. Случайно оглянувшись, она заметила на соседней аллее двух одноклассников.
— Смотри! — шепнула она Илюше. — Никита с Делей Атабековой.
Но Илюшу это сообщение не заинтересовало. Он шел как в тумане, и для него в данную минуту не существовало ни Никиты, ни Дели Атабековой, ни черта лысого, ни ангела с крылышками. Он видел и чувствовал одну только Валю, дышал только ею и наполнен был нежностью к ней настолько, что, казалось, еще одна капля, и нежность освежающим потоком незримо прольется на окружающий мир и растворит в себе Зло и Ненависть, Зависть и Несовместимость..
Валя не обозналась. На соседней аллее действительно были Никита с Делей.
На большой перемене, улучив удобную минуту, когда Деля Атабекова осталась одна, Никита задержался возле нее всего на короткое время, которого ему хватило, чтобы шепнуть ей: «После школы подожди меня на „кругу“»!
Он имел в виду трамвайный круг, где часто назначали свидания. Очень удобно: можно всегда выждать тот момент, когда вокруг никого из знакомых не окажется, а затем быстро перебраться на бульвар. На «кругу» останавливалось несколько номеров трамвая, давая возможность ожидать бесконечно прихода нужного тебе «трамвая», который приходил либо в юбке, либо в брюках, смотря кто кого ожидал в данный момент.
Деля многого ожидала от разговора с Никитой. Она, сама не зная почему, чувствовала себя перед ним виноватой. Сумасшествие Акифа она приписывала тому случаю, что случился в ее подъезде, ей казалось, что Никита знает истинную причину и невесть что себе воображает. И она еще вспоминала разговаривающих о чем-то Акифа с Никитой, увиденных ею в тот самый злополучный день, и какое-то неясное беспокойство тревожило ее душу, еще не оправившуюся от раны, нанесенной влюбленным сумасбродом, так жестоко поплатившимся за свое сумасбродство.
Но Никита молчал, что-то обдумывая, свое, личное. Так, молча, они и гуляли по весенним аллеям приморского бульвара. Но одеты они были легко, никто не ожидал неожиданного похолодания, и, когда достаточно продрогли, Никита предложил Деле:
— Зайдем ко мне домой! Все соседи на работе, и нам никто не помешает!
— Чему не помешают? — спросила Деля дрогнувшим голосом, вся обмирая от сладостного предчувствия.
— Целовать тебя! — прямо и откровенно ответил Никита.
Эта откровенность не была Деле неприятна и хотя и смутила ее, но негодования не вызвала.
— Зайдем! — согласилась она. — Только ты на многое не рассчитывай! Откровенность на откровенность… — а сама с ужасом подумала: «Какую чушь я несу? Ведь стоит ему начать меня целовать, и сил не станет сказать ему: „Нет!“»
Ирины Федоровны, бабки Никиты, действительно не было, на крошечную пенсию не проживешь вдвоем с внуком, правда, бабушка иногда замечала, что у внука водятся какие-то странные деньги, но не рисковала нарываться на грубость, а кроме этого, она за последнее время и не видела от внука, поэтому и спрашивать об источнике появления денег не стала.
«Может, померещилось, лучше перекреститься, что напрасно мальчика обижать?» — думала испорченная старым дореволюционным воспитанием бабка про современного внука.
И устроилась она на поденную работу в гастроном. На подсобной работе много не платит, но где она еще могла устроиться с гимназическим образованием, имея к тому же многочисленных близких родственников, «врагов народа»? Некоторым из близких родственников удалось избежать «справедливого гнева восставшего народа» и скрыться за рубежом от новой власти, но это, по мнению отделов кадров, еще более отягощало ее положение. И сын — есаул! Совсем плохо!.. А в гастрономе хоть зарплата и маленькая, но за молчание об увиденной «усушке-утруске» неплохо подкармливали, с голоду умереть не давали…
Почти полное отсутствие мебели в квартире поразило поначалу Делю, но потом она вспомнила об источнике сей нищеты и смутилась, ее отец как-никак был не последней фигурой в той системе, которая и сотворила эту нищету.
Но смущение и чувство вины быстро у нее улетучилось, потому что Никита, не говоря ни слова, грубо схватил Делю и, ни разу даже не поцеловав, стал срывать с нее платье, мгновенно расстегнув пару пуговиц.
Деля так растерялась, что безо всякого сопротивления позволила снять с себя платье. Но, увидев себя полуголой, пришла в такую неописуемую ярость, что стала отчаянно сопротивляться.
«Насильник! Негодяй! Какие вы все мерзавцы! ненавижу!» — беззвучно кричала она всем своим исстрадавшимся сердцем и лупила Никиту кулаками куда ни попадя.
Но Никиту, со сверкающими и возбужденными глазами, уже трудно было остановить. Он так же отчаянно ломал сопротивление Дели. Одним рывком он сорвал с нее лифчик, обнажив юную упругую нетронутую еще в своей свежести грудь, другим рывком разорвал на ней комбинацию.
Деля не ощущала его прикосновений, которые, будь они ласковые и нежные, не встретили бы никакого сопротивления. Она защищалась яростно и молча, ей стыдно было кричать и звать на помощь, хотя она ни капельки не сомневалась, что стоило бы ей закричать, завопить, позвать на помощь, как это сразу бы отрезвило Никиту и остановило бы его, он-то знал прекрасно, что не все соседи ушли на работу и крик прекрасно услышат и, если и не прибегут на помощь из-за трусости, то в свидетели пойдут очень охотно, каждый из них не упустит случая покрасоваться в суде, тем более что это для них будет совершенно безопасно.
Никита потом и сам себе не смог объяснить, что это вдруг на него нашло.
Деле попалась под руку лежащая на столе массивная чугунная пепельница, из-за своей небольшой стоимости счастливо избежавшая конфискации, а может, из-за своего вида, она была сделана головой черта с рогами и бородкой, и она, скорее машинально, чем сознательно, схватила пепельницу и что было силы стукнула ею по голове Никите.
Эффект был просто потрясающим, ошеломительным. Никита рухнул на пол как подкошенный, с таким жутким грохотом, а Деля, как завороженная, смотрела, не отрывая глаз, как из его головы медленно, с трудом пробивая себе дорогу в густых волосах шевелюры Никиты, сочится алая, почти черная кровь, и капли, стекая по его лбу, падают на пол, постепенно образуя небольшую лужицу.
Ненависти к Никите Деля не испытывала совсем. Даже обиды, от которой ручьем по лицу льются слезы. Просто что-то сгорело в сердце, но пепел не бился об сердце подобно «пеплу Клааса», а, видно, незаметно и невидимо разлетелся по свету, оставив в сердце огромную «черную дыру», которая в космосе способна уничтожить, всосав в себя, и яркую звезду, и планету.
Деля быстро натянула на себя платье, кое-как привела себя в порядок и собралась уйти, но что-то удерживало ее, мешало это сделать. Она не знала: жив ли Никита, или она убила его. Она боялась дотронуться до него. Он лежал безо всякого движения, словно убитый, но для того, чтобы узнать, дышит он или нет, — нужно было заставить себя приблизиться к нему, а на это мужества не хватало. Поэтому она стояла просто и ждала. И только когда Никита чуть слышно застонал и двинул рукой, Деля, словно очнувшись от наваждения, бросилась ко входной двери и, провозившись с замком минуты три, хотя ключ торчал в другом замке, чуть ниже, и требовалось только повернуть его, наконец заметила ключ и поняла, как ей выбраться из квартиры-ловушки, открыла дверь и выбежала в коридор, а затем на улицу, дав себе зарок на всю жизнь: никогда не оставаться наедине с мужчиной, как бы хорошо она к нему ни относилась. Деля поняла, что, очевидно, она относится к тому типу женщин, которые мгновенно могут довести представителя другого пола до действий, стоящих за рамками закона, вне предела рассудка и разума.
25
Сарвар каждое утро был вынужден завтракать вместе с отцом и Соней. Обедал он без них и ужинать умудрялся в гордом одиночестве, но за завтраком был обречен смотреть, как отец торопливо, словно, до сих пор боялся, что вот-вот отнимут у него пищу, заглатывал, подобно удаву, содержимое тарелки, как судорожно дергался его кадык на тощей шее, как жадно рвали оставшиеся зубы хлеб, как губами всасывал со свистом горячий чай или кофе. От хороших манер в лагерях смерти отучают быстро.
Ослабленная было детская ненависть сына «врага народа» быстро перешла в глухое раздражение, когда все не так, все не нравится. Но теперь вернулась ненависть. Причем детского в ней уже не было ни капли.
И каждый завтрак с ненавистным ему человеком, когда каждый почти кусок застревал в горле, становился все более и более невыносимым. Как только Сарвар просыпался, мысль о неизбежности общения с отцом за завтраком приводила его в бешенство и отравляла весь последующий день.
А отец опять обзавелся друзьями. Вернулись в привычный круг общения некоторые из его старых друзей, те, которые не верили в его виновность, но побоялись заступиться за него, зная, что не только не помогут ему своим заступничеством, но и поставят свои хрупкие шеи под топор репрессий. Другие, новые друзья, были из той же категории, что и отец: признанные «перевоспитавшимися» и отпущенные на свободу под «честное слово», что бороться с советской властью они не будут и зарекаются плести заговоры и интриги, ни-ни!
Почти каждый день они тянулись «на огонек» в эту почти нищую квартиру, да и не квартира это была, комната с верандой, но где богатство общения с умным человеком заменяло им все материальные блага на свете.
Сарвар в таких случаях уходил из дома либо в кино, либо к кому-нибудь из приятелей, либо просто бродил по улицам, изредка заходя погреться в кебабную, хинкальную или шашлычную, где так вкусно пахло, что можно было если не насытиться, то обмануть голод такими вкусными запахами, а придя домой, с аппетитом съесть кусок черного хлеба с брынзой и запить еду кружкой молока.
Но после того как Сарвар разошелся с Илюшей во взглядах на жизнь, а родители Игоря и Арсена пресекли частые визиты непрошеного гостя, а в семье Мешади ему дали понять, что смотрят на него как на вторжение раба в покои господ, у него остался лишь один Никита, находившийся почти в таком же положении изгоя, но и Никита не мог Сарвару уделять много времени, его все чаще и чаще стали посылать с заданиями в разные места, где бывало много народу, чтобы затем он написал подробный отчет.
Но именно Никита натолкнул Сарвара, своего свежеиспеченного «друга», на очень интересную мысль:
«Почему бы тебе не послушать, о чем ведут разговоры эти люди с твоим отцом? Должно быть, это интересно. Пойми, сейчас в мире бушует война. А войска наших союзников, рабочей Германии, бьют наших империалистических врагов. Красные флаги будут скоро развеваться над всей Европой. А затем придет черед Азии, Африки и Америки».
«Есть еще Австралия!» — подковырнул Никиту Сарвар.
«Ну, ее завоевывать будут уже наши дети!» — не понял подковырки Никита.
Эта мысль трансформировалась в идею. А идеи Сарвар уважал и старался непременно проводить в жизнь.
И он стал все вечера проводить дома. У него появилась цель, для которой, по его мнению, все средства были хороши.
Первоначально его побаивались, разговоры были не откровенными и не свободными, замкнутость и скованность, выработанные годами осторожности и страха, проявляли себя уже автоматически, независимо от их желания, перед каждым чужаком, пусть этот чужак и сын хозяина дома, души общества.
И не зря боялись. Вернее, зря приняли чужака и постепенно перестали его опасаться. Сарвар завел себе толстую тетрадь, куда записывал еженощно содержание вечерних и дневных бесед, если это происходило в воскресенье, аккуратно отмечая число, время, а главное, кто что сказал: кто рассказывал о голоде в лагерях, кто об издевательствах охранников, кто о запланированных убийствах и расстрелах. Все эти разговоры Сарвар слышал и раньше, но мельком, обрывками, поэтому они ему и казались незначительными, мало ли что бывает на свете, плохие люди везде бывают. Записывать он их записывал, но все это ему казалось малопригодным для той цели, которую он перед собой поставил.
И Сарвар выжидал.
В тот день разговор начался вроде бы с пустяка. Мелик-Паша поинтересовался у отца Сарвара:
— Анвар, долго еще тебя будут держать в вахтерах? Ты же высококвалифицированный специалист.
Отец Сарвара рассмеялся и достал газету, всю испещренную карандашными пометками. Сарвар, привлеченный этими отметками, уже просмотрел всю газету, но ничего криминального в ней не нашел, старая газета за март прошлого года. А карандашными пометками был усеян опубликованный отчетный доклад Сталина на восемнадцатом съезде партии о работе ЦК ВКП(б) от десятого марта 1939 года.
— Вот, слушай сюда! — пошутил отец. — «Наиболее влиятельная и квалифицированная часть старой интеллигенции уже в первые дни Октябрьской революции откололась от остальной массы интеллигенции, объявила борьбу Советской власти и пошла в саботажники. Она понесла за это заслуженную кару, была разбита и рассеяна органами Советской власти. Впоследствии большинство уцелевших из них завербовалось врагами нашей страны во вредители, в шпионы, вычеркнув себя тем самым из рядов интеллигенции».
— Но тебя же выпустили, признали тем свою ошибку! — продолжал упорствовать Мелик-Паша. — Я читал и изучал этот доклад нашего многоуважаемого вождя. Дай мне газету, смотри, сохранил, э, а у меня ни одна газета не сохранилась. Вот: «Несмотря на полную ясность позиции партии в вопросе о советской интеллигенции, в нашей партии все еще имеют распространение взгляды, враждебные к советской интеллигенции и несовместимые с позицией партии. Носители этих правильных взглядов практикуют, как известно, пренебрежительное, презрительное отношение к советской интеллигенции, рассматривая ее как силу чужую и даже враждебную рабочему классу и крестьянству»… Тебе надо написать письмо товарищу Сталину! — добавил он, возвращая газету с докладом.
— Что я, сумасшедший? — усмехнулся Анвар.
«Считает, что только сумасшедшие пишут Сталину!» — обрадовался Сарвар.
— Мне кажется, что он ничего не знает! — настаивал Мелик-Паша.
— Что ты говоришь? — рассмеялся Анвар. — Как может самый мудрый, гений человечества ничего не знать? Бог все видит, все знает, все понимает!.. Только сказать ничего не хочет и не может, — добавил отец Сарвара и потряс пальчиком, имитируя собачий хвост.
«Сравнивал Сталина с собакой!» — копил материал Сарвар.
— Я могу тебе напомнить и другие слова из того же самого доклада: «Интеллигенция в целом кормилась у имущих классов и обслуживала их. Понятно поэтому то недоверие, переходящее нередко в ненависть, которое питали к ней революционные элементы нашей страны и прежде всего рабочие. Правда, старая интеллигенция дала отдельные единицы и десятки смелых и революционных людей, ставших на точку зрения рабочего класса и связавших до конца свою судьбу с судьбой рабочего класса. Но таких людей среди интеллигенции было слишком мало, и они не могли изменить физиономию интеллигенции в целом».
— Но он говорит и о новой интеллигенции! — возражал Мелик-Паша. — И он критикует тех товарищей по партии…
— О, да, да! — перебил друга Анвар. — «Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем. Но по взгляду этих странных товарищей получается, что подобная затея таит в себе большую опасность, ибо после того как рабочие и крестьяне станут культурными и образованными, они могут оказаться перед опасностью быть зачисленными в разряд людей второго сорта (общий смех). Не исключено, что со временем эти странные товарищи могут докатиться до воспевания отсталости, невежества, темноты, мракобесия…» И эти странные товарищи уже давно докатились. То, что мы видели, школой культуры и образования назвать невозможно, при всей моей любви к советской власти.
— Ты еще считаешь, что у нас советская власть? — спросил седой как лунь старик, которому и было всего сорок лет.
— А что по-твоему? — удивился Саддык, сидевший рядом с Анваром.
Но седой, взглянув на Сарвара и на еще одного из сидевшей компании, решил промолчать, каждое слово против советской власти могло обойтись ему в двадцать лет каторги.
— Что вы все нахмурились? — рассмеялся Мелик-Паша, выхватив газету из рук отца Сарвара. — Давайте лучше посмеемся вместе с любимым светочем мира. Читаю: «Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, „поколебало“ будто бы советский строй, внесло „разложение“. Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Как может поколебать и разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и враждебных элементов? Троцкистско-бухаринская кучка шпионов, убийц и вредителей, пресмыкавшаяся перед заграницей, проникнута рабским чувством низкопоклонства перед каждым иностранным чинушей и готова пойти к нему в шпионское услужение, — кучка людей, не понявшая того, что последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства, — кому нужна эта жалкая банда продажных рабов, какую ценность она может представлять для народа, и кого она может „разложить“? В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали Советской власти 98,6 процента всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик. Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех участников голосования…»
— Скоро они до ста процентов дойдут! — перебил седой.
— Каким образом? — с любопытством спросил Мелик-Паша.
— Расстреляют всех «лишенцев», умалишенных… — охотно пояснил седой. — Ну и тех, кого под эти статьи подгонят. Немного: так, еще миллиончик-другой!
— Да-а! — удрученно протянул Мелик-Паша. — В задачи партии в области внутренней политики вошло, в пункте пятом: «не забывать о капиталистическом окружении, помнить, что иностранная разведка будет засылать в нашу страну шпионов, убийц, вредителей, помнить об этом и укреплять нашу социалистическую разведку, систематически помогая ей громить и корчевать врагов народа».
— «Систематически»! — отметил седой. — Долго еще будут громить и корчевать.
— Сами все понимаете! — улыбнулся отец Сарвара. — То, что мне доверили должность вахтера, означает: меня вычеркнули из рядов интеллигенции, но считают недостойным носить звание «враг народа».
— Благодари аллаха, — заметил Мелик-Паша, — что он внушил отцу народа убрать Ежова и заменить его Берией. Наш человек, кавказец!
Сарвар торжествовал. У него так горели хищным блеском глаза, что он сам ощущал их огонь, а потому постарался задвинуться в тень, боялся, что глаза его выдадут, и его же казнят, как ангела, настолько он себе внушил, что он попал на сходку заговорщиков, а он, советский разведчик, должен выведать все их планы и успеть вовремя сообщить своим.
Все дальнейшее для Сарвара было совершенно неинтересным: пили сухое вино, каждый приносил с собой еду и вино, закусывая еще теплым чуреком с маслом и брынзой внутри. Кто-то захватил с собой каленые орехи — фундук и жареные фисташки, высыпал их на стол общей горкой, бери, сколько тебе надо. Соня принесла щипцы, но ими пользовались только двое: она и ее ненаглядный беззубый возлюбленный, у которого зубов осталось слишком мало, чтобы ими можно было рисковать, разгрызая орехи. Остальные щелкали орехи и фисташки природными щипцами, зубами. Нехитрая наука, с детства освоенная: чуть надколешь орешек, а дальше можно уже и пальцами разломить скорлупу, ядрышко останется на одной половинке скорлупы и будет чуть-чуть дрожать перед тем, как его бросят в рот.
Рано утром, в воскресенье, на следующий день, когда отец с Соней еще спали, а они уже жили вместе, не стесняясь Сарвара, он тихо выскользнул из дома, прихватив с собой тетрадь, карандаш, кусок чурека с маслом и брынзой, оставшийся с вечера, и несколько орехов со стола, до которых не добрались ни щипцы Сони, ни природные щипцы Сарвара и гостей, все, что не успели съесть.
«Военная добыча!» — подумал Сарвар довольно.
На свежую голову хорошо вспоминалось. Сарвар подробно записал вчерашний вечерний разговор. Писал долго, старательно. Но, когда закрыл тетрадь, задумался. Ему все еще казалось, что материала маловато. И решил сходить к Игорю, посоветоваться.
Игорь встретил его появление почти что с восторгом. Погнал срочно мыть руки и усадил за стол с собой. Кухня у них была большая и вполне сходила за столовую, если не было гостей. Игорь навалил в тарелку Сарвару гору разной вкусной еды и, выглянув воровато из кухни, быстро достал из укромного места краденую у отца бутылку коньяка, армянского разлива.
— Давай, примем по сто! — предложил он и разлили коньяк в чашки, приготовленные для кофе. — Если накроют, мы туда кофе плеснем из кофейника для блезиру, и все дела, концы в воду, — шепнул он, подмигивая заговорщически. — Вчера вечером был у Арсена, у него все ушли в театр, назюзюкались армянского разлива. А лечить всегда треба подобное подобным. Ты пришел вовремя. В одиночку пить — себя губить!
Сарвар не возражал. Он всегда робел в доме у Игоря. Столь роскошная обстановка подавляла и вызывала у него чувство благоговения. До своей «исторической» встречи с комиссаром в переулке, когда он оказал содействие НКВД помимо своей воли, он знал о существовании этого дома лишь теоретически, даже ни разу не думал о нем. А теперь он все чаще и чаще стал бывать у Игоря, несмотря на ограничения, поставленные Игорю родителями. И хотя знаниями он был неизмеримо богаче Игоря, его знания не были пока реализованы в материальное благополучие, а о такой «барской» обстановке он не смел пока и мечтать.
— С удовольствием приму! — согласился Сарвар, изображая из себя выпивоху. — Вчера пили мы, правда, вино, но хорошее, деревенское, свежее. Коварная штука, признаюсь тебе. Пьется как вода, а потом встать не можешь, ноги «ватными» становятся.
Они чокнулись чашками и залпом выпили. Сразу порозовев и повеселев, принялись с аппетитом уничтожать еду.
Услышав подозрительное шарканье в коридоре, Игорь молнией метнулся к газовой плите с духовкой, большая редкость в городе, у всех поставили только по две конфорки, естественно, без духовок, да еще и не везде протянули газопровод, снял с плиты кофейник и разлил по чашкам кофе.
И вовремя. В кухню вошел, зевая, Викентий Петрович, сам комиссар, своей собственной персоной. Покосился на друзей, невинно пьющих кофе, подозрительно принюхался, но из его рта шло такое амбре, что принюхиваться было бесполезно. Комиссар это сразу понял и, открыв один из шкафчиков, висящих по стенам, достал бутылку «Московской». Налил себе в тонкий стакан для воды, стоявший рядом с кувшином, в котором всегда была вода, «холодный кипяток», как изволила выражаться Елена Владимировна, и жадно выпил водку, как воду, закусив куском колбасы, ловко выудив его из тарелки сына.
Опохмелившись, он сразу повеселел и спросил благодушно у ребят:
— Какие проблемы решаете? Мировые?
— Самую наиглавнейшую! — ухмыльнулся Игорь. — Проблему голода на земле, на земном шаре, и начинаем, как нас учили классики марксизма-ленинизма, с ближнего участка, с самих себя.
— И вижу, что успешно! — у комиссара стало настроение просто чудесным. — С утра кофе, как в лучших домах Лондона и Чикаго?
— Ну уж в Лондоне, наверное, пьют чай! — возразил Игорь.
Его уже несколько развезло, и он готов был спорить, спорить, спорить, по любому поводу, даже самому пустячному.
— Сам видел или кто сказал? — подтрунивал над сыном комиссар. — «Файв о клок» там есть, что значит: «пятичасовой чай».
— Это мы проходили! — вставил слово Сарвар, чтобы привлечь к себе внимание комиссара.
Комиссар бросил на Сарвара внимательный взгляд. Этот парень его заинтересовал еще с той, ‘первой встречи, когда он абсолютно спокойно шел под пули, правда, не совсем по своей воле. И теперь от него не укрылось волнение Сарвара, яростный и вместе с тем молящий взгляд, тот взгляд, который так хорошо изучил комиссар, он видел его у людей, «созревших» давать показания, любые показания, с полной готовностью подписать все, что от них потребуют, даже свой смертный приговор.
— Как отец? Работает? — бросил он Сарвару «наживку». — Признаться, я был весьма удивлен, когда узнал, что он попал под амнистию.
Сарвар, облегченно вздохнув, протянул комиссару тетрадь с записями.
— Здесь все! Прочтите! — сказал он почти что торжественно.
Викентий Петрович с нескрываемым интересом взял тетрадь и стал внимательно читать каракули Сарвара, почерк которого оставлял желать лучшего. А Сарвар продолжал спокойно пить кофе.
Игорь, раскрыв рот, наблюдал то за Сарваром, то за отцом, думая изумленно: «Вот оно что! Этот пошел дальше Никиты. Тот просто вовремя отказался от отца. А этот своими руками вырыл могилу родному отцу и спихивает его в нее, старается. Ну и ну! А когда жег кошку с котятами, весь изблевался. Ну и народ пошел. А смог бы я вот так?»
И он с интересом посмотрел на увлеченного чтением отца.
И честно себе ответил, что не смог бы, не хватило бы духа. Быть Иудой — это тоже поступок. А на поступки Игорь не был способен. На самостоятельные, разумеется. За компанию он всегда был готов как на пакость, так и на подвиг. Только обстоятельства для совершения подвига не подходили.
Комиссар долго читал записи Сарвара. Уже Игорь по второму заходу налил кофе себе и Сарвару, уже Елена Владимировна заглянула на кухню и, заметив, что здесь она явно лишняя, удалилась степенно и величаво в ванную, а комиссар все читал и читал, изредка бросая оценивающий взгляд на Сарвара.
— М-да! — глубокомысленно хмыкнул он, дочитав последнюю строчку. — Есть талант, наблюдательность, хватка… Опять не получится у меня отдыха в воскресенье. Ладно, чем дома чаи гонять, лучше поработать. Работа — превыше всего! Допивай кофе и поедем.
Он ушел одеваться. Куда ехать, вопроса не возникало. На сколько, тоже. Сколько надо, столько будет. Сколько нужно времени, чтобы оформить официальные показания несовершеннолетнего юноши, разоблачающего группу «врагов народа»! Сколько нужно времени, чтобы выписать несколько ордеров на арест группы людей, виновных лишь в том, что они жили в богом проклятом месте, в страшное время, когда абсолютное Зло, нагло смеясь, легко, играючи, захватывало Власть в одной за другой стране, безотносительно культурного ее уровня, общественного строя и климата.
Когда комиссар отдал все необходимые распоряжения, Сарвар собрался было покинуть кабинет, но комиссар остановил его и стал спрашивать совсем о другом.
— Это правда, что ты знаешь четыре восточных языка? Мне Игорь очень тебя хвалил.
— Хорошо знаю только три! — честно признался Сарвар.
— Какие? — высказал свою заинтересованность комиссар.
— Турецкий, персидский, арабский! — перечислил Сарвар. — Немножко знаю пуштунский.
— Однако! — поразился комиссар. — И кто тебя научил всей этой премудрости?
— Отец! — ответил Сарвар и побледнел, сразу почувствовал себя очень нехорошо.
— Он очень хороший педагог! — глубокомысленно заметил комиссар. — Мы это учтем!
Комиссар сделал только ему понятную пометку в деле, решившую судьбу Анвара, отца Сарвара. Теперь он мог быть спокоен: ему не придется возвращаться в Норильск, на рудники, или ехать на лесоповал в тайгу. Теперь ему предстояло довольно сносное существование, заключение, в одном из закрытых «НИИ», где хоть и был тюремный режим, но все заключенные выполняли работу по своей прямой специальности. Именно такие закрытые заведения и назывались на тюремном жаргоне «шарагами» или «санаториями».
— Разве хороший педагог не может быть врагом? — с вызовом спросил Сарвар.
— Не только могут, но и охотно становятся! — одобрительно улыбнулся комиссар. — Я знаю довольно много случаев: Мумтаз, Хулуфлу, Чобанзаде, Ахундов… Кстати, и твой отец был с ними знаком. Ты — молодец, юноша! Я тебе лично объявляю благодарность.
Сарвар опять побледнел, на этот раз от волнения, встал со стула, вытянулся в «струнку» и звонко отчеканил:
— Служу трудовому народу!
— Уже надо говорить: «Служу Советскому Союзу!» — поправил его комиссар. — Я займусь твоей судьбой сегодня же. Это же надо: четыре восточных языка знать… Ты свободен, дорогой, но домой пока не заходи. Погуляй, в кино посиди. Вот, возьми пять рублей. Бери, бери! Ты с этой минуты на полном нашем обеспечении! Но никому ни звука. С этой минуты рот на замке! Даже мой сын ничего не должен знать. Ясно?
— Так точно, товарищ комиссар! — еще сильнее вытянулся «в струнку» Сарвар.
Он осторожно взял положенную комиссаром на стол пятерку, лихо развернулся через левое плечо, как его учили на уроке военной подготовки, и, чеканя шаг, вышел из кабинета.
Комиссар позвонил на пост.
— Юношу выпусти! — велел он часовому.
Затем подошел к сейфу, открыл его, достал заветную секретную папку, открыл ее и вписал фамилию Сарвара в список агентов. Только вчера он получил предписание срочно подготовить группу агентов для заброски ее в Иран.
После чего позвонил начальнику разведывательно-диверсионной школы и дал ему адрес Сарвара, объяснив ситуацию.
— Ты его вечером обязательно забери! — посоветовал комиссар. — Аттестат зрелости он, считай, уже получил, пусть теперь получает профессиональные навыки. Из него должен получиться ас, только свои «мертвые петли» он будет совершать не в небе, а на земле. А дома ему больше делать нечего…
Сарвара ноги понесли сразу домой, едва он покинул ставшее родным учреждение, как усталого коня после тяжелой работы в поле, и ему потребовалось усилие воли, чтобы свернуть в ближайший кинотеатр, где он взял билет на кинокартину, которую уже давно хотел посмотреть, но то денег не было, то времени: «Девушка спешит на свидание». До начала сеанса оставалось еще время, и Сарвар зашел в кондитерский магазинчик напротив кинотеатра, где на оставшиеся деньги купил помадки, которую Соня очень любила.
«Теперь нам вновь вдвоем придется куковать! — подумал заботливо Сарвар. — Правда, комиссар на что-то намекал, но от намека до исполнения долгая дорога».
Фильм Сарвару понравился. Давно он так не смеялся, аж до слез. С таким вот великолепным настроением Сарвар и пришел домой. Нес в руке бумажный кулечек с конфетами, чтобы «подсластить» Соне ее огромное горе. Сарвар не сомневался, что тетка действительно любила отца, и жалел ее. Поэтому и купил помадки, а не истратил деньги на мороженое.
Войдя во двор дома, он увидел почти всех соседей, стоявших у дверей Сониной квартиры.
«Черт! — застыл столбом Сарвар. — Неужели я рано явился? Что там так долго искать? Вещей почти что нет… Пол, наверное, вскрывают…»
И он повернулся, чтобы уйти, но в последний момент заметил, что дверь квартиры Сони открыта и из-под открытой двери сильно тянет резким запахом газа.
Предчувствие трагедии так сильно толкануло Сарвара в сердце, что он едва не упал. И молчание соседей, и их скорбные, сочувствующие взгляды стали понятнее любых слов. А сердце колотилось так, что, казалось, еще немного, и оно выпрыгнет из груди и либо улетит, либо, перепрыгивая огромными прыжками через дома, скроется в море, отчего температура воды резко повысится, настолько он ощущал жар в груди.
Зейнаб визгливым голосом нарушила молчание:
— А этого волчонка надо в детдом отправить! Я напишу письмо, а вы все подпишетесь.
— А комнату отдельную с верандой тебе? — злобно откликнулась другая соседка. — Накось, выкуси!
И она торжественно сунула в лицо Зейнаб комбинацию из трех пальцев, то бишь кукиш. Зейнаб побагровела, и ссора стала как будто неизбежной. Но ее быстро пресек муж Зейнаб, всю жизнь проходивший у нее под каблуком. Он сначала молча врезал жене по уху, да так, что она метра три ловила быстро руками воздух, чтобы не упасть, а затем коротко и кротко, с печалью в голосе сказал:
— У человека горе, а вы языки распустили!
И опять воцарилась мертвая тишина, и опять жалостливые взгляды сомкнулись на Сарваре. Он, продолжая держать перед собой, словно от чего-то защищаясь, кулечек с конфетами, вошел в квартиру. Запах газа стал сильнее, стал резать глаза.
То, что не было отца, для Сарвара не было открытием, но отсутствие Сони его стало беспокоить, а сердце заныло еще сильнее и больнее. Все вокруг было перевернуто вверх дном, вверх тормашками. Обойдя взглядом комнату, Сарвар заметил лежащий на столе лист белой бумаги, на которой было что-то написано почерком Сони.
Сарвар подошел к столу, взял лист и прочел:
«Я знаю, что это сделал ты! Будь, ты проклят! У меня нет больше сил жить в этом страшном мире!..»
Сарвар раз за разом перечитывал и перечитывал предсмертное послание Сони, не замечая, как из опущенного книзу кулька одна за другой выскальзывают помадки, любимые конфеты Сони. Они глухо шлепались на пол и старались подальше откатиться от человека, который их купил для уже мертвого человека.
— Прими наше сочувствие! — услышал Сарвар за спиной глухой бас.
Он обернулся спокойно, как человек, которому нечего терять, даже жизнь, и увидел в дверях плотного пожилого человека с уверенным и спокойным взглядом. Человек правильно понял вопросительный взгляд и пояснил свое появление в квартире:
— Меня комиссар за тобой прислал. Теперь ты будешь у меня в школе учиться.
— Я согласен! — обрадовался Сарвар.
Не собирая никаких вещей, он вышел вслед за незнакомцем, своим новым учителем жизни и профессии, и, закрыв за собой дверь квартиры, взял только ключ с собой, чтобы он напоминал ему о доме.
Увидев Сарвара в сопровождении незнакомца, соседи быстренько разбежались по домам. Они все решили, что арестовали и Сарвара. Наступило время, когда взрослых сыновей и дочерей арестовывали вместе или вслед за родителями. Стране нужны были миллионы рабов на великие стройки современности.
Сарвара ждала большая черная машина «ЗиМ». Через некоторое время Сарвар обнаружил, что он по-прежнему держит бумажный кулечек с остатками конфет в руке, открыл полностью кулечек и стал есть конфеты одну за другой, не предлагая их незнакомцу и даже не осмысливая, что он в данную минуту делает.
А в голове у Сарвара продолжали биться слова, написанные Соней перед смертью:
«Я знаю, что это сделал ты! Будь ты проклят! Будь ты проклят! Будь ты…»
26
Весна была в самом разгаре и все больше и больше походила на не очень жаркое лето. До выпускных экзаменов оставалось всего ничего.
Игоря продолжали держать в «черном» теле и машиной пользоваться не давали, отчего он почти каждый день опаздывал в школу.
И в это утро Игорь торопился. Арсен встретил его за квартал от школы. Стоял, нетерпеливо оглядываясь, весь дрожа от стремления поделиться переполнявшей его важной вестью. Увидев Игоря, он вспыхнул, встрепенулся, радостно и облегченно вздохнул, бросился к нему.
— Привет! — выпалил он, сверкая роскошными черными очами.
— Привет! Что такой возбужденный? — удивился обычно спокойному Арсену Игорь.
— Представляешь… — замялся Арсен, подыскивая слова.
— Представляю! — с насмешкой передразнил Игорь.
— Я серьезно! — улыбнулся Арсен, успокаиваясь, он никогда не умел обижаться. — Я сегодня утром перепутал время, представляешь? Вернее, вчера вечером.
— Утро вечера мудренее! — опять съязвил сексуально озабоченный Игорь.
— Да нет! — не обратил внимания на язвительность Арсен. — Что ты? Я не утро с вечером перепутал. Часы вечером неправильно поставил, на час раньше, маленькую стрелку не туда перевел.
— Ну и?.. — дернулся нетерпеливо Игорь.
В кои-то веки он вовремя шел в школу, а мог опять опоздать из-за Арсена.
— Проснулся на час раньше! — пояснил обстоятельно Арсен. — Сейчас солнце с утра так греет, что не поймешь сразу: утро или уже день.
— Переходи к главному, а то в школу опоздаем! — заметил резонно Игорь.
— Я туда и иду! — согласился Арсен. — К главному! Представляешь, прихожу в школу, а в ней ни единой души нет, кроме уборщиц, конечно…
— Мечтаешь об очередной «Зойке с помойки»? — засмеялся Игорь, с удовлетворением вспомнив о развлечении, за которое их только пожурили.
«Зойка с помойки», получив крупную сумму, по тем временам, на следующий же день уволилась из школы и, вложив большую часть денег в самую лучшую шашлычную частного сектора торговли, стала жить себе припеваючи.
— Верно мыслишь, дорогой! — одобрил ход мыслей друга Арсен. — Смотрю, наш класс открыт. Захожу, и что ты думаешь? Кого я там вижу, вернее, наблюдаю?
— Александру Ивановну! — пошутил Игорь, вспомнив классную руководительницу.
— Не вспоминай с утра черта полулысого! — запротестовал Арсен. — Ах, кого я там увидел!.. Пах-пах-пах…
И Арсен приторно закатил глаза, умильно зачмокав губами.
— Не тяни кота за яйца! — заинтересовался Игорь, испытывая возбуждение, он уже понял, о чем может зайти речь. — Говори, кого ты там увидел?
— Гурию! — восторженно заговорил Арсен. — Газель большеглазую! Жемчужину несверленую, конечно, только на мой взгляд, — поправился он, — свежая, как майское утро. Кожа бархатная, персик, клянусь, э, вкусный, спелый персик. Зубами так и захотелось в нее впиться.
— Только зубами? — с издевкой насмешливо прервал его Игорь.
— Ну, почему ты все сводишь к грубому сексу? — взмолился Арсен. — В нашей стране секса нет. А в тебе нет поэзии…
— Поэзий кончилс, э, один проз осталс! — голосом базарного торговца заверещал Игорь. — Завернуть? Тибе сколько: кила, партала?
— Смешной у тебя характер, — удивился Арсен, — все время смеешься.
— Открываем охотничий сезон? — неожиданно серьезно спросил Игорь.
— Именно, дорогой! — довольно потер руки Арсен. — Завтра утром мы завалим ее на учительский стол. Только, чур, я первый! По праву первооткрывателя.
— А с утра зайдет Александра Ивановна! — насмешливо протянул Игорь.
— А она по этому запаху скучает уже лет тридцать, не меньше! — в тон другу протянул Арсен. — Чудесно, э! О чем задумался?
— Я думаю о другом: не побежит ли эта газель с заявлением в милицию?
— Ну, если мы с тобой на ночь плотно поедим, да хорошенько постараемся, — ухмыльнулся Арсен, — то бегать она не сможет, за это я тебе ручаюсь. Поплетется, дорогой, поплетется. А что скажет? Что может сказать дочь врагов трудового народа? У нас, что ли, языков нет? Мы с тобой договоримся, что она взяла с нас по двести рублей. И кому, ты думаешь, поверят?
— Уговорил и почти что убедил! — согласился Игорь. — Неужто газель так уж хороша?
— Сказка! — восторженно воскликнул Арсен. — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» — загорланил Арсен.
— «Сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок», — вспомнил Игорь.
Так, дурачась, они вошли в школу, походя решив участь бедной девочки, очередной своей жертвы. «Охотники за микробами»…
«Газель» действительно была красавицей. Ее родители, предчувствуя арест, отправили дочь к бабушке в село и вещи все более или менее ценные туда же перевели. Село находилось почти что в городе. С русским именем Нина «газель» тем не менее была чистокровной мусульманкой. И ее голубые глаза и рыжеватые волосы, так смущавшие многочисленную родню, были отзвуком давно минувших лет, когда на этой территории жили албанцы, голубоглазые и рыжеволосые. От тех древних албанцев не осталось и следа. Волны азиатских племен частью растворили их в своей среде, а частью смыли далеко на запад. И лишь изредка голубизна глаз и рыжеватость волос будили неясные воспоминания об исчезнувшем народе.
Закончив школу, она не захотела поступать в институт, да ее и не приняли бы туда, и не было сил у нее писать правду в анкете, а лгать она не умела и не хотела. Завод привел ее в ужас своей грубостью и хамством. Нина любила читать и мечтать, а в той грубой среде не оставалось времени и места ни для того, ни для другого.
А Ниной ее назвали в честь подпольной типографии «Нина», к которой имел некоторое отношение ее отец, за что и поплатился, хоть подпольной типография была в царское время и находилась в ведении большевиков.
Поработала девушка некоторое время и секретаршей у не очень большого начальника, в совсем маленьком учреждении и совсем бесполезном, но этот не очень большой начальник оказался очень большим скотом и потребовал от нее дополнительных услуг в постели за ту же заработную плату. Причем в очень грубой форме, равнозначной попытке изнасилования. Но Нина, хоть и была стройной и тоненькой, недаром ее и сравнивали с газелью, была физически достаточно крепкой, сильной, чтобы дать отпор зарвавшемуся насильнику: она залепила ему несколько оплеух, а когда этого оказалось недостаточно, то огрела графином с водой, стоявшим на столе заседаний в кабинете начальника, а затем вылила на лежавшего без чувств начальника содержимое графина, чтобы привести начальника в чувство.
В чувство-то он пришел, но оно оказалось столь злобным, что появился приказ об увольнении.
Таковы были основные причины, в силу которых Нина сумела устроиться лишь уборщицей в школу…
На следующее утро она явилась пораньше. Накануне после уроков их заставили мыть окна, хотя в их обязанности мойка окон не входила, но директор, фиктивно оформив трудовой договор со своими родственниками, положил деньги в свой карман, а заставил этим заниматься уборщиц. И Нина не домыла окна в двух классах, выпавших на ее долю, не успела, она торопилась домой, ехать было далеко, а дома лежала больная бабушка, ее надо было кормить, да и волноваться ей за внучку в таком положении было совсем ни к чему. Да и лекарство надо было давать ей строго по часам.
Нина никогда не обращала внимания на тех, кто входит и выходит в класс и из класса, когда она там убирается. Но сегодня в окне, которое она уже отмыла до блеска, отражалась входная дверь, и не заметить, как двое здоровенных парней-десятиклассников забаррикадировали дверь, сунув ножку стула в дверную ручку, было просто невозможно, и Нина испуганно оглянулась на вошедших.
Волчий блеск в их глазах и явное возбуждение в лицах ей очень не понравились, не говоря уже о сильном вздутии брюк в нижней части живота у них.
— Иди к нам, красавица! — хриплым голосом произнес Арсен, подзывая девушку. — Мы тебе зарплату за полгода принесли! — добавил он, доставая из кармана пачку денег крупными купюрами.
— Не бойся, мы здоровые! — добавил, посмеиваясь, Игорь, подкрадываясь к ней.
Нина сразу все поняла и замерла, оцепенев, и обреченно смотрела, как два негодяя-самца неторопливой походкой, разжигая себя гоном, ощущением начавшейся охоты, тем более что жертва обложена и загнана, можно и поиграть с нею, перед тем как растерзать, приближались к ней.
Арсен, любуясь ею, остановился в трех шагах от Нины. Игорь тоже машинально повторил синхронно его движение и тоже застыл, недоуменно глядя на друга.
Нину стихи, как ни странно, привели в сознание и сняли то оцепенение, в которое она от ужаса впала, сознание, которое вот-вот, казалось, готово было ее покинуть, мгновенно привело в действие мысли, она обрела уверенность в движениях, ясность рассудка и, быстро открыв окно класса, расположенного на втором этаже школы, выпрыгнула на улицу. Но падение было неудачным. Резкая боль в правой лодыжке была столь сильна, что Нина от боли потеряла сознание и распласталась на асфальте тротуара.
Арсен с Игорем инстинктивно бросились к окну, пытаясь помешать Нине совершить прыжок, но, не успев, с ужасом смотрели на распластанное на тротуаре тело Нины, а отведя от нее взгляд, они увидали на улице, на противоположном тротуаре, замерших Валю с Илюшей. Они смотрели прямо на них, и для друзей-насильников стало яснее ясного, что они все видели и молчать не будут. И впервые за всю жизнь страх перед возможной ответственностью перед законом выступил на их лицах.
Арсен первым пришел в себя.
— Кажется, она разбилась насмерть! — с трудом выговорил он, и слезы раскаяния заблестели в его черных прекрасных глазах.
— Может, еще жива? — испуганно спросил Игорь, представляя трепку, которую ему задаст отец. — Здесь невысоко.
Но Арсен уже взял себя в руки.
— Все отрицаем! — заговорщически зашептал он, как будто в классе еще кто-нибудь присутствовал. — Мы ничего плохого и не задумали. Ты подтвердишь, что я ей только читал стихи, дверь мы не закрывали, насиловать ее не собирались… Тебе ясно?
— Не маленький, сам соображу! — отмахнулся Игорь.
— Ты, большой, слушай, а не ерепенься! — схватил друга «за грудки» Арсен. — Наши показания должны совпадать в деталях. Это — самое главное. Ясно?
— Понял! — опешил Игорь.
Таким разгневанным он никогда не видел своего друга…
Илюша, как всегда за последнее время, встретился с Валей по дороге, и они пошли в школу, обсуждая новости, о которых не успели наговориться в предыдущий день. Встретились они, как всегда, тоже пораньше, чтобы подольше побыть друг с другом. Илья, после того как они стали фактически мужем и женой, предложил Вале переехать к нему и жить вместе, под одной крышей, но Валя пока стеснялась подруг и не хотела скандала в школе.
«Осталось так мало дней до окончания, — оправдывалась она, — зачем дразнить „гусей“? Ты же знаешь, как в городе смотрят на такие вещи! Нельзя…»
В это утро Валю интересовало другое.
— Почему ты поссорился с Сарваром? — спросила она внезапно для Илюши. — Были ведь такими друзьями, водой не разольешь…
— Я с ним не ссорился! — перебил Валю недовольно Илья. — Сам не пойму, почему он меня вдруг возненавидел? — с горечью признался Илюша. — За все время нашей дружбы я слова обидного не сказал. Помогал, чем мог. А почему ты спросила об этом?
— У Сарвара опять арестовали отца! — тихо зашептала Валя, хотя вокруг не было ни единой живой души, даже четвероногой с хвостиком.
— Не опять, а вновь! — машинально поправил Илья. — Конечно, я слышал об этом! А тетка его покончила с собой, отравившись газом. Но я не могу подойти к нему и утешить. Сарвар исчез! И никто не знает, где он, даже его новые друзья: Игорь и Арсен…
— Я случайно кое-что слышала! — перебила его Валя, услышав об Игоре. — Мельком!
— Подслушивать нехорошо! — поцеловал свою жену Илья.
— Клянусь, я не подслушивала, — стала уверять мужа Валя. — Я стояла за дверью, а Игорь громко сказал Арсену в это время: «Сарвар сам сдал своего отца. Компру на него заготовил на „четвертной“», — и спросила наивно: — А что это такое?
— «Компра» — компрометирующий материал, а «четвертной» — это двадцать пять лет лагерей, лишения свободы. Сарвар меня возненавидел после приезда отца.
— Что же он ему такого наговорил? — удивилась Валя.
— Ничего он ему и не наговорил, — жестко отрезал Илья, — потому что Сарвар ничему бы не поверил. Ему четко внушили, что отец — враг!
— Хочешь сказать, что нас всех так воспитывают? — не поверила Валя.
— Пытаются! — согласился Илья. — Но Сарвар сам себя так воспитал. Ему очень умело внушили чувство вины перед страной, перед родиной. Но остальное он сотворил сам, своими руками.
— Возненавидел отца? — не поверила Валя.
— В какое страшное время мы живем, если оно превращает умного и талантливого человека в настоящего монстра, — с болью в голосе сказал Илья.
— Сарвар талантлив? — спросила Валя.
— Очень! — честно признался Илья. — Четыре восточных языка знает! А какие рубайи и газели пишет? Я так не умею.
— Каждый должен писать по-своему! — быстро утешила его поцелуем Валя и ласково улыбнулась. — В твоих стихах восток тоже ощущается.
— Я же родился на Востоке! — пояснил Илья.
Валя опять перескочила на совершенно неожиданную тему.
— Я все собираюсь тебя спросить: правда, что немцы преследуют евреев?
— Правда! — спокойно отреагировал на ее вопрос Илья.
— Но почему? — удивленно воскликнула Валя. — Ведь раньше евреев преследовали одни черносотенцы…
— Ты ошибаешься! — перебил Валю Илюша. — Ты знаешь моего дядю, историка по образованию? Он подобрал любопытные факты использования нацистами законов, принятых христианской церковью против евреев. Я даже записал и так с тех пор и ношу с собой в портфеле эту тетрадь, все забываю дома оставить.
— Прочти! — попросила Валя.
Илюша достал из портфеля толстую тетрадь и прямо на ходу, не останавливаясь, стал читать выдержки из тетради:
— Вот, слушай! «Церковные законодательства и антисемитские законы нацистов имеют много общего: третий синод Орлеана в 538 году запретил евреям показываться на улицах города во время страстной недели, а нацистский закон от 3 декабря 1938 года уполномочил местные власти запрещать евреям находиться в общественных местах в праздничные дни… Труланский синод в 692 году постановил, что христианам запрещено лечиться у еврейских докторов, а еврейским докторам лечить неевреев, а нацистский закон от 25 июля 1938 года постановил то же самое в отношении еврейских докторов и немцев… Начиная с третьего синода в Толедо в 681 году, церковь регулярно сжигала Талмуд и прочие еврейские книги публично, а начиная с 1933 года священные книги евреев горят в кострах в нацистской Германии… Четвертый лютеранский совет в 1215 году в каноне 68 постановил, что все евреи должны носить на своей одежде опознавательный знак. И рейхстаг принял закон после запроса группы депутатов, что все евреи должны носить на левой стороне груди желтую звезду Давида… Синод в Бреслау в 1267 году ограничил территорию проживания евреев специальными „гетто“ и, начиная с XVI века, церковь содействовала созданию таких гетто по всей Европе. 21 сентября 1939 года под давлением Гейдриха рейхстаг принял такой же закон… Совет в Базеле в 1434 году постановил, что евреям запрещено получать научные степени в еврейских университетах. Нацисты 25 апреля 1933 года приняли такой же закон, который называется: „Закон против переполнения германских школ и университетов“».
— А в Евангелии от Иоанна всех евреев называют «детьми дьявола», — «поябедничала» Валя.
— И относятся, согласно этому определению! — уточнил Илья.
— Но почему? — все еще не понимала Валя.
— Потому что евреи, к которым обращался Иисус, отвергли его, — пояснил Илья. — И Мухаммед, который пророк, разгневанный на евреев за то, что те отказались принять его пророчества, перенес центр своей религии из Иерусалима в Мекку. По его же настоянию евреи были изгнаны из Медины, где пророк задумал умереть, там находится сейчас его гробница, ставшая местом паломничества всех мусульман для моления. А в Мекке он построил храм, Каабу, где лежит черный камень, упавший с неба. Теперь там религиозный центр мусульман, тоже главное место паломничества. Каждый правоверный должен совершить хадж в Мекку и Медину, после чего получает он титул хаджи, который присваивается только лицам, совершившим паломничество в Мекку и Медину. Кстати, у мусульман считается почетным умереть во время хаджа. Каким бы великим грешником ни был мусульманин, душа его сразу же попадает в Эдем, в рай…
— Ты изучаешь религии? — удивилась Валя.
— Мой дядя этим занимается, — уклонился от прямого ответа Илья, — а я люблю пользоваться его изысканиями… Вообще-то, ислам исторически менее враждебен иудаизму, чем христианство, но все равно мусульмане недолюбливают евреев за непризнание Мухаммеда. А за что тем было его признавать, когда он взял еврейскую Библию и на ее основе написал Коран. Да, да! — уверил он Валю, заметив тень недоверия на ее лице. — На основе еврейской Библии и еврейской веры.
— Но ведь Бога нет? — задала вопрос скорее себе Валя. — Или есть?
— Ты знаешь, — опять уклонился от прямого ответа Илья, — неизвестно, что лучше: религиозный фанатизм, который во имя веры отвергает этику, разум и мораль, или марксистский фанатизм, который во имя разума и счастья для всего человечества, исключая, правда, из этого «всего» миллионы людей, целые группы и сословия, отвергает Бога, а заодно этику и мораль. К первым относятся те, кто судит людей не по делам их, а по проповедуемой ими степени веры. Ко вторым те, кто верит, что человек — вершина творения и не нужно ему никакой «высшей» морали. То, что сам человек считает моральным, то и хорошо…
Валя неожиданно вскрикнула, протянув руку по направлению в школе, к которой принесли их автоматически ноги. Илья посмотрел в том направлении в тот момент, когда Нина выпрыгнула из окна, а в окне засветились физиономии Арсена и Игоря. И Валя с Илюшей сразу поняли, что они стали свидетелями преступления. В том, что это было преступление, не вызывало у них ни малейшего сомнения, выражение лиц Арсена и Игоря говорило само за себя.
Илья бросился к лежащей на асфальте Нине. Лица друзей-насильников тут же исчезли из видимости. Нина лежала без сознания, но слабое дыхание и частый пульс показали Илье, что она еще жива.
Илюша хотел перевернуть Нину на спину, чтобы посмотреть, нет ли серьезных повреждений на виске и лице, но Валя его остановила.
— Не трогай! Пусть лежит! Я побегу в школу за врачом, она уже обязана быть.
И Валя стрелой метнулась за помощью, а Илюша растерянно стоял возле распростертого тела, не зная, что бы такое предпринять. Может, именно растерянность и толкнула его на опасный, хоть и смелый по своим последствиям шаг. Увидев показавшуюся вдали милицейскую машину, он бросился на проезжую часть дороги наперерез машине, размахивая руками, чтобы привлечь внимание.
Кто-то в машине заметил возбужденного юношу, и машина, свернув со своего маршрута, подъехала к школе, навстречу Илье.
— Что случилось, оглан? — спросил капитан милиции, с густой сединой на висках.
— Девушка выбросилась из окна школы! — сказал Илюша, с трудом переводя дыхание от быстрого бега. — Лежит на асфальте, пока жива.
Капитан посадил Илью в машину, и они подъехали к тому месту, где лежала Нина, все еще без сознания. А из школы к ним бежала уже Валя.
— Врача нет в школе! — тоже запыхавшись, проговорила она. — Циля Абрамовна еще не подошла.
«Ну, конечно! — неожиданно злобно подумал Илья. — Она только и может, что говорить: „Ах, если бы вы знали, за какую зарплату я здесь тружусь!“ Зараза! Не хочешь, не работай, иди в районную поликлинику работать за такую же зарплату. Только там вкалывать надо и не придешь, когда толстая задница со слоноподобными ногами позволят это сделать».
Илья очень уж не любил халтурщиков.
Валя с испугом уставилась на милиционеров, осматривающих место происшествия, измеряющих угол падения и фотографирующих тело.
Капитан осторожно перевернул Нину, и она тут же пришла в себя, только простонала:
— Но-ога!
Кроме большой ссадины на скуле, полученной ею, когда она, упав, проехалась по асфальту, крови не было. Но Нина опять потеряла сознание.
Тогда капитан кивнул сопровождающим его милиционеру и шоферу, и они втроем аккуратно, осторожно и бережно перенесли Нину в машину.
Капитан обратился к Илье с Валей:
— Вы видели, как все произошло?
— Как она выпрыгнула из окна! — подтвердила Валя. — Я первая увидела, он потом.
— Кого-нибудь в окне еще видели? — не отставал капитан, прочитавший на их неискушенных лицах правду.
Вокруг них уже собралась большая толпа школьников, оживленно обсуждающих приезд милиции и допрос капитана.
Капитан поспешил разогнать их:
— Марш на занятия! Расходись!
Школьники, пересмеиваясь и толкаясь, двинулись в школу.
— Повторяю вопрос, — пристально глядя на Илюшу, спросил капитан, — видели ли вы в окне еще кого-нибудь?
— Видели! — решился сказать Илюша правду, хотя ему стало очень неприятно от этой правды.
Капитан был очень доволен его признанием.
— Поедете со мной, я запишу ваши показания! — предложил он «молодоженам» сесть в милицейскую машину.
По дороге они отвезли пострадавшую в больницу. Нина еще легко отделалась: перелом стопы и сотрясение мозга, никаких серьезных травм не было обнаружено.
В милиции Валя и Илья не стали скрывать, что они видели в окне Арсена и Игоря и что у тех были очень испуганные лица.
Часа через два Нина пришла в себя и все рассказала.
Еще через час прокурор подписал постановление об аресте, и Арсен с Игорем были арестованы прямо по выходе из школы, на глазах у изумленной публики.
Им предъявили ордер на арест и увезли в тюрьму.
27
Арест Арсена и Игоря ошеломил всю школу. На следующий день Илюша с Валей вынуждены были рассказать, что они видели. Школа гудела от скандала, ахала и охала. Тема-то была щекотливая, запретная. А запретный плод сладок. Попробовать самому страшно, а о чужих попытках поговорить безопасно и приятно, будто сам все это проходил, почему бы, в таком случае, не поговорить. Любопытство снедало всех, даже высоких моралистов. И все шушукались, собираясь группками по два-три человека, часто переходя от одной группки к другой, вдруг где-то что-нибудь новенькое скажут, да и самому на время стать центром внимания, рассказав какую-нибудь пикантную деталь, которую только что услышал в другой группке. Никогда еще глаза школьников и школьниц так не горели от возбуждения.
Каково же было всеобщее изумление в классе, когда уже на второй урок в класс, как ни в чем не бывало, вошли Арсен с Игорем. Команда, все, состоящие в их компании, Никита, Костя, Мешади-макака, встретили их появление воплем восторга:
— Ура, наша команда победила! — завопил Мешади-макака, прыгая по партам.
Но остальные в классе встретили их появление с холодным пренебрежением и неодобрением.
— Папочки встали «горой»! — съязвив, пустила «шпильку» Агабекова.
И посмотрела с ненавистью на Никиту. Если бы у него был папочка на воле, она его не пощадила бы. После попытки изнасиловать, второй в ее жизни за столь короткий срок, она неделю «болела», так ей было стыдно идти в школу, встретиться взглядом с тем, за кого раньше она готова была отдать душу, а теперь презирала и ненавидела, находиться рядом с человеком, который силой пытался взять то, что мог без труда взять лаской.
Игорь по дороге к своей парте задержался на несколько секунд возле Ильи.
— Это ты, жиденок, нас заложил? — прошипел он так, чтобы, кроме Ильи, его никто не услышал. — Смотри, обрежем тебе и уши! — добавил он с угрозой.
Илюша встал с парты и с движения уложил Игоря на пол одним хуком. Арсен поспешил вклиниться между ними и, подняв с пола Игоря, шепнул ему:
— Ты что, забыл? Нас выпустили на поруки! Дело-то еще не закрыто. Уймись на время. Потом мы ему припомним!
— Когда это, потом? — потирая онемевшую сразу скулу, спросил тихо Игорь.
— Как только дело закроют, так сразу! — пояснил Арсен. — И я придумал, — зашептал он Игорю прямо в ухо, — как ему отомстить!
— Изувечим? — хищно напрягся Игорь.
— Морально! — усмехнулся Арсен.
— Как это, морально? — не понял Игорь.
— Потом поймешь! — успокоил друга Арсен. — Узнаешь, будешь доволен!
И они сели на свои места как два пай-мальчика.
Очень скоро дело было закрыто. В крови пострадавшей, у Нины, срочно нашли следы алкоголя. Показания потенциальных насильников ловко заменили другими. Иначе очень уж идиотами выглядели бы на суде два лоботряса со своими утверждениями, что Нина предлагала их «обслужить» за соответствующую плату. Дело в том, что имелось медицинское освидетельствование пострадавшей, в котором черным по белому было написано, что Нина — девственница.
В своих новых показаниях обвиняемые утверждали, что полностью противоречило написанным ранее, одними и теми же словами оба, без единой буквы различия, утверждали, явно под диктовку: они явились в школу на час раньше, чтобы вместе подготовиться к урокам, а уборщица, моя окно, стояла слишком рискованно на подоконнике, когда Арсен сильно хлопнул дверью, она испугалась и выпала из окна, а они, естественно, подбежали к окну только из человеколюбия, движимые высоким долгом советского человека приходить друг другу на помощь в беде, и заодно посмотреть: не слишком ли ушиблась пострадавшая.
И дело было благополучно закрыто «за отсутствием состава преступления». Капитан, открывший это дело, был срочно переведен из города в район, где так капитаном и остался. А Нину выгнали с работы.
Илюша с Валей недолго обсуждали это событие. Их показания приняли в расчет, они же видели, правда, не слишком много, под их показания и подогнали «показания» преступников.
— Я не понимаю! — возмущалась Валя, когда они вдвоем гуляли после занятий по бульвару. — Это же неразумно: оставлять преступников на свободе.
— Мой дядя говорит, что разум способен оправдать любую мораль и любое преступление, — обреченно пожал плечами Илья. — Древние греки славились своей рациональностью и сбрасывали больных и слабых младенцев со скалы в пропасть. Но я считаю, что способность человеческого разума нельзя даже сравнивать с Высшим Разумом — Космическим.
— То, что верующие называют Богом? — спросила Валя.
— Богом, Аллахом, Буддой, Иеговой, — согласился Илья. — Принцип единобожия — принцип Космического Разума. Смотри: у всех религий общая система этических законов: у иудаизма и у буддизма более полная, у христианства и мусульманства, более молодых религий, менее полная, но явно она исходит из одного источника.
— Но кому принадлежит этот Разум? — задала столь умный вопрос Валя, что Илья с интересом посмотрел на свою будущую в скором времени жену.
— Почему Космический Разум должен обязательно кому-нибудь принадлежать? — удивился Илья. — А как же быть с невидимым, непостижимым и неосязаемым Богом?
— Каждая религия считает себя носителем Высшего Разума? — продолжала удивлять любимого Валя.
— И отрицает этот Высший Разум в других религиях, а Высший Разум, «властелин вселенной», должен быть един для всего человечества.
— Ты сам мне рассказывал, — напомнила Валя, — что три тысячи лет тому назад евреи открыли миру Бога и призвали все народы жить в братстве, признавая одну и ту же мораль.
— Да! — не стал отрицать сказанного Илья. — Как ни странно, идеалы о едином Боге вселенной, общем нравственном законе для всех народов, о всемирном братстве людей впервые были провозглашены бывшими рабами в Синайской пустыне…
— Ты мне рассказывал, — опять вспомнила Валя, — что Моисей специально водил по этой пустыне свой народ сорок лет, чтобы все, воспитанные в рабстве, умерли.
— Все равно это — загадка мира! — удивленно восхитился Илья. — Именно эта малочисленная группа людей именно в тот исторический отрезок времени провозгласила усовершенствование мира по закону Бога. Кстати, эти слова: «Усовершенствование мира по закону Бога…» — три раза ежедневно повторяются в молитвах всех евреев всего мира, на разных языках, хоть на иврите, хоть на идише. Как бы там ни было, идея эта возникла только один раз в истории человечества. Она в корне отличается от всего, что знал языческий мир. Древние люди полагали, что земля, небо, река, гора, деревья, звезды, гром и молния, все-все окружающее их достойны обожествления. И вдруг — Высший Космической Разум наделяет искрой божией Моисея, и он породил идею Единобожия.
— Поэтому евреи и считают себя «избранным народом»? — спросила Валя.
— «Избранность подразумевает лишь повышенные обязательства перед Богом». Вот за это еврея никогда и не прощают! — усмехнулся Илья.
— За что «за это»? — не поняла Валя.
— За то, что именно евреи дали неблагодарному миру идею Единобожия, единой морали, идеалы добра, мира, любви и справедливости, и, главное, личной ответственности за свое поведение и за все происходящее в этом мире.
— Значит, иудаизм и есть Высший Космический Разум? — пыталась понять Валя.
— Он мог бы им стать, но не стал! — печально признался Илья.
— Почему? — допытывалась Валя.
— Бывшие рабы обожествили Высший Космический Разум и стали его рабами, — пояснил ей Илья. — Ортодоксальность мышления, когда тебе велят: «только так, а не иначе», — множество необъяснимых запретов и поучений. Впрочем, объяснить-то их можно, принять было трудно всем. Поэтому несогласные с ортодоксами евреи и основали секту ессеев, из которой родилось христианство, а привлеченный идеей Единобожия, но не согласный с ортодоксальным иудаизмом Мухаммед основал ислам. Именно эти две религии, которые гораздо гибче и более приспособленные к человеческим слабостям, и завоевали большинство стран мира, правда, больше мечом, чем божьим словом.
— Ну и какую из них ты считаешь носительницей Высшего Космического Разума? — настаивала на своем праве понять Валя.
— Религии Высшего Космического Разума пока еще нет! — утешил ее Илья.
— А марксизм? — спросила Валя, потому что просто не могла не спросить об этом.
Илья даже рассмеялся, а потом обиженно сказал:
— Провокационный вопрос, за который тебя следует отшлепать!
Валя, улыбаясь, охотно подставила попку:
— Отшлепай, разрешаю! А потом скажи!
— Христианство и ислам, — вздохнув, стал пояснять Илья, — делают слишком сильный упор на потусторонний мир. Карл Маркс основал свой собственный вариант еврейского идеализма — социализм. В марксистском варианте идеал иудаизма звучит так: «Усовершенствование мира по закону Человека!» Этот тройственный призыв евреев к самосовершенству, боюсь, плохо кончится для них.
— Но ты так и не ответил на мой вопрос! — обиделась Валя.
— У тебя есть глаза? — спросил серьезно Илья.
— Есть! — почему-то испугалась Валя.
— Тогда оглянись вокруг, и ты увидишь, что такое марксизм, превращенный в религию! — уточнил Илья. — И почему даже тебе я боюсь прямо ответить на поставленный тобою вопрос.
— «Трусишка зайка серенький…», — пропела насмешливо Валя.
— «Под елочкой скакал…», — подхватил насмешливо Илья, делая ударение на первом слоге, на первой букве «а» в этом слове: «скакал»…
Игорь с Арсеном не оставили затеи: отомстить Илюше за то, что он честно признался в увиденном, из-за чего они пережили несколько неприятных часов в камере предварительного заключения при райотделе милиции. Но эти часы были самыми отвратительными часами в их жизни, а потому они не хотели, чтобы они повторились, пусть даже их опять «отмажут» родители.
Поэтому, обсуждая план мести в своей тесной компании, поредевшей из-за странного исчезновения Сарвара, о котором не знал даже Игорь, получивший мгновенный отлуп, стоило ему лишь заикнуться и спросить у отца о причине столь странного исчезновения, Игорь с Арсеном отметали любой план, который мог нести в себе лишь тень возможного ареста.
— Устроить ему «темную», и все дела! — предложил Никита.
— Драка нам ни к чему! — отрезал Арсен. — Нам только что закрыли одно уголовное дело, а ты нас «раскручиваешь» по новой.
— Жаловаться он не пойдет! — стал было успокаивать Арсена Никита.
— Ты мою сестру плохо знаешь! — встрял неожиданно Костя.
— А при чем здесь твоя сестра? — удивился Никита.
— У них с Илюшей «любовь»! — насмешливо-злобно протянул Костя.
— Нам-то что до их любви? — не понял Мешади.
— Во-первых, — стал пояснять солидно Костя, — они не расстаются. Во-вторых, она ринется сразу в бой за своего любимого, а дерется она, ого-го!
— И ей накостыляем! — пообещал Мешади.
— Тебя она уложит одной левой, — усмехнулся Костя, — а бить сестру я не дам, она хоть и дура, но все же мне родная сестра.
— Что вы так занудно обсуждаете вариант, который нам все равно не подходит? — разозлился Игорь.
И они опять надолго замолчали, каждый продумывая свой вариант, который позволил бы им избежать уголовного наказания.
Наконец, когда каждый из присутствовавших признал свою полную несостоятельность, Арсен довольно улыбнулся и сказал:
— У меня есть отличный план!
— Какой? — сразу же поинтересовался Игорь. — Ты мне уже не в первый раз говоришь о нем, но пока я его не слышал.
— В этом году была поздняя христианская пасха… — начал рассказывать свой план Арсен.
— Не ждите, уроков все равно не отменят… — перебил глупо Никита.
— Послушай, дорогой, с тобой хорошо говно есть, изо рта выхватываешь! — обиделся Арсен и замолчал, насупившись.
— Извини, дорогой, я — молчу! — спохватился Никита.
— Аршин-малчи! — подковырнул Мешади.
И Арсен, успокоившись, детально изложил «подельникам» свой коварный план, которому бы позавидовал сам Макиавелли. Всем он очень понравился, и его с радостью одобрили.
Только Костя напомнил:
— Валентина все сорвет! — заявил он авторитетно.
Никита покровительственно похлопал Костю по плечу.
— Брат ты ей или не брат? — спросил он ехидно. — Устрой ей дома сквозняк. Заболеет, а мы без нее все и организуем…
Костя послушался совета, так и сделал. Теперь, что бы Валя ни делала, обедала, ужинала, готовила уроки, Костя сразу производил математические расчеты, устраивая сквозняки.
Поэтому, когда на следующее утро Валя заявила матери, что не пойдет в школу, потому что плохо себя чувствует, Костя решил, что это его работа, и очень довольный помчался в школу, обрадовать друзей.
Правда, мать не поверила в простуду и обратила внимание на истинную причину недомогания: тошноту, рвоту, бледность лица дочери и испытываемое ею головокружение.
Сообщение Кости вызвало всплеск восторга среди молодых троглодитов, и они решили действовать немедленно. Мешади, живущий почти рядом со школой, сбегал домой и принес три мотка тонкой проволоки и очень крепкой бельевой веревки. Все «заговорщики» вели себя так примерно на уроках, что учителя глазам своим не верили и все время ожидали от них какой-нибудь крупной пакости.
Они ее дождались. На большой перемене «пай-мальчики» разгулялись.
Илюша был очень обеспокоен отсутствием Вали на уроках, он и на занятия опоздал впервые за десять лет учебы, ждал ее до «победного конца», но так и не дождался. С Костей Илья последнее время не разговаривал, не мог вынести его открытую неприязнь, старой дружбы как не бывало, но делать было нечего, спросить было больше не у кого, пришлось пересилить себя и подойти к его парте.
— Костя, что с Валей? — спросил он тревожно, хотя пытался спросить беззаботно.
— Сквозняки, сквозняки! — нахально запел Костя. — От сквозняков надуло! — неудачно сострил он, не подозревая, сколь близок он был к истине.
— Это ты ей и устраиваешь сквозняки! — обвинил Костю Илья. — Она мне вчера вечером жаловалась.
Никита незаметно подкрался во время разговора за спину Илюше и подмигнул Косте, мол, действуй.
Костя резко встал из-за парты и обозленно рявкнул на Илью:
— Кто ты такой, чтобы она тебе жаловалась? В родственники набиваешься?
Никита опустился на четвереньки за спиной у Илюши, а Костя сильно, двумя руками, толкнул Илюшу в грудь. Илья, отшатнувшись, перелетел через Никиту и больно шлепнулся на пол.
И тут же на него набросились все пятеро подельщиков, четверо из которых ненамного уступали в силе Илье, а Арсен, так тот даже превосходил.
Одним мотком веревки они быстро связали ему ноги, а два других мотка привязали одним концом к кистям рук, после чего поволокли к классной доске, где и распяли, натянув веревки на костыли, на которых и была повешена классная доска. Теперь на этих костылях, на классной доске был распят своими соучениками Илюша. Подонки знали, что Илья не будет кричать, даже если его будут пытать, а потому и не стали ему затыкать рот подручными средствами.
Игорь крупными буквами написал над головой Илюши на классной доске красивым шрифтом, латинскими буквами: «I.N.C.I.»
А затем голосом балаганного «петрушки» заверещал:
— А вот перед вами Иисус Назарянин, Царь Иудейский! Прошу любить и жаловать. Пока еще живой, в небо не вознесся. За отсутствием топлива. Это, — Игорь показал на руки Ильи, — «стальные руки-крылья», а это, — и он больно ткнул пальцем Илью под пятое ребро, — «пламенный мотор». Спешите, спешите, покупайте билеты по госцене. Знаменитый аттракцион «Вознесение на небо». Магдалина отсутствует по уважительной причине, заболела, женские-с недомогания-с. А учеников у нашего местного Иисуса, выращенного в родном коллективе, нет, но его соученики по классу заменят их по ставке статистов. Спешите, спешите! Единственное представление!
Арсен и Никита, сделав веревочные петли на костылях, на всякий случай все же держали веревки, каждый со своей стороны. Мешади изображал зурнача и тянул свой нескончаемый мугам. Костя поначалу злорадно хохотал и изображал восторженного зрителя, хлопал в ладоши, мяукал и свистел, но вдруг сразу побледнел и смолк, почувствовав тяжесть камня на сердце, внезапно ощутив подлость своего поступка. В первый раз он со страхом подумал, что теряет свою сестру, которую любил и уважал, навсегда.
Илья стоял у доски, раскинув руки и почти не испытывая физической боли, так, немного саднило в кистях рук и затекали от неудобного положения плечи. Но душевную боль он испытывал огромную, ощущение было такое, словно его действительно распяли на кресте, запястья и лодыжки пробиты огромными медными гвоздями, а у ног его, у подножия креста и горы Голгофы, беснуется толпа с перекошенными от злобы лицами. Ни одного участливого взгляда, в лучшем случае равнодушные, опасливо косящиеся на «странную игру», отдающую какой-то жестокостью, от которой лучше всего держаться подальше.
Ученики входили в класс, выходили из него, некоторые на какое-то время присоединялись к неведомой ранее игре. Шахла так увлеклась новой комсомольской забавой, что плюнула в ноги Илье, попав точно на веревку, которой были спутаны его ноги.
— Браво, Шахла! — завопил Никита. — Браво, комсомольский секретарь! Давай, плюнь ему прямо в физиономию, христосику этому. Плюй! Что, слабо?
Шахла встретилась взглядом с суровыми глазами Ильи и, отвернувшись, быстро вышла из класса. Впервые в жизни ей стало стыдно. А этого чувства она не испытывала, даже когда задирала высоко ноги в постели незаменимого начальства.
А Игорь продолжал бесноваться:
— Евреи дали римлянам свое согласие распять Христа. Отдали своего же еврея на мучения лишь потому, что он не принимал полностью иудаизм. Я правильно говорю, жиденок? — обратился он к Илюше. — Специально ради тебя готовился, историю читал. Больно рукам? Нет? Ты постони, тогда мы ослабим веревки. Хотя нет, не тот вид у тебя будет, не мученический. Ты уж потерпи, скоро большая перемена закончится, мы тебя отпустим… Спешите видеть, спешите видеть! — заорал он вновь пронзительным фальцетом балаганного «петрушки». — Тотализатор принимает ставки: вознесется после второго пришествия новоявленный Христос, или нет. Делайте ваши ставки, дорогие товарищи! Три к одному, что не вознесется. Ваше слово, камарады! Четыре к одному, что не вознесется! Принято? Делайте ставки, товарищи!..
Настоящее паломничество устроили в класс любопытные из параллельного десятого, из других старших классов.
У всех на лицах было написано жгучее любопытство, но ни один не пришел на помощь.
Илюша вспомнил строчки сонета, написанного им после той ночи, когда приснился столь вещий сон: он стал свидетелем ареста Иисуса Христа в Гевсиманском саду римскими легионерами.
Минуты тянулись часами. Каждая секунда, казалось, не хотела падать в вечность, висела тяжелой каплей времени, ощутимо, прямо перед глазами, и сквозь нее проглядывало прошлое и светило будущее. Яркий луч солнца, отражаясь в стекле открытой створки окна, нестерпимо больно жег глаза, хотелось плакать от боли и обиды, свербящей в груди, и приходилось собирать всю волю в комок, чтобы ни единой слезинки не мелькнуло на ресницах, на пушистых, длинных, дивных ресницах, любимых столь Валей, и не порадовать мучителей.
Ученики младших классов, подученные, очевидно, а может, и подкупленные монетками, данными на мороженое, с горящими от дерзости и вседозволенности глазами, подходили к распятому Илье и плевались на него. Школа, казалось, обезумела. Мучения всегда толпу развлекают. Недаром столько веков власть имущие из них делали настоящие представления, зрелища красочные, с костюмами, с определенными церемониями. Театрализованные казни всегда привлекали значительно больше народа, чем театральные представления с актерами, мимами, шутами, скоморохами, циркачами. Может, потому что были бесплатными? Если бы какой-нибудь монарх догадался установить плату за то, чтобы смотреть на казнь, он бы в значительной мере пополнил свою казну. Правда, в таком случае казни стали бы столь же постоянны, как театральные и цирковые представления. И прибыль неизбежно обернулась бы величайшими убытками, грозящими не только спокойствию, но и существованию самого государства.
В класс, привлеченный столь неожиданным паломничеством, вошел Серега Шпанов.
«Еще одним мучителем больше!» — подумал Илюша.
Игорь встретил его появление радостным воплем, несмотря на то, что в последнее время «черная кошка» пробежала между ними, а охлаждение в их отношениях грозило привести к полному разрыву.
— Шпана, иди к нам! Мы тут очередного еврея распяли!
Серега, не говоря ни слова, подошел к нему и ударом кулака по уху свалил бывшего друга на пол. Игорь от удара потерял сознание и лежал возле учительского стола абсолютным трупом или грудой тряпья.
На Сергея с яростными воплями набросились Арсен с Никитой, оставившие Илюшу в распятом состоянии, понадеявшиеся, и не напрасно, что петли веревок удержат Илью у доски. Завязалась драка, где физическое и численное преимущество нападавших было уравновешено моральным превосходством Сергея, дерущегося за Добро. И каждый удар его кулака достигал цели.
В класс до звонка вошел учитель английского языка Аркадий Маркович, чтобы развесить по стенам свои любимые наглядные пособия.
— Прекратите сейчас же это безобразие! — закричал он. — Вызываю милицию!
Слово «милиция» вызвало у Арсена и Никиты мгновенную идиосинкразию, и они отошли от Шпанова. У всех троих алел под левым глазом, каждый был правша, огромный фингал, синяк, обещавший на следующий же день расцвести всеми красками.
Аркадий Маркович теперь уже сразу заметил распятого Илюшу и, похватав беззвучно губами воздух, только и смог вымолвить:
— Кто это сделал?
Арсен молча отвязал руки Ильи от бельевой веревки, а Никита, жалко улыбаясь, пролепетал:
— Шутка это, Аркадий Маркович! Детская шутка! Пасха недавно прошла, вот мы и разыграли интермедию религиозного жанра. Вернее, антирелигиозного.
Тихий и кроткий Аркадий Маркович рассвирепел.
— Убирайтесь из класса оба и без родителей не являться! — заорал он, совершенно позабыв, что Никита этого не сможет сделать даже при всем его желании.
Спорить с учителем в таком состоянии никто не стал, оба послушно схватили свои сумки и быстренько покинули класс.
— Аркадий Маркович, — привычно стала ябедничать Шахла, — его распинали еще Мешади, Костя и Игорь.
— А ты плевалась на него, связанного! — не остался в долгу Мешади.
— Сумасшедший мир! — взмолился Аркадий Маркович, возводя глаза к небесам. — Вновь распинают еврея, хотя по закону иудаизма его и нельзя отнести к ним.
Игорь очнулся, пришел в себя и, шатаясь, поднялся с пола. Мутными глазами уставился на одноклассников, затем на Аркадия Марковича.
— Дети дьявола! — ясно и четко проговорил он. — Все вы — дети дьявола. Дымом костра развеять по ветру…
— Сейчас по второму уху получишь! — мрачно пообещал Сергей, и Игорь молча и покорно сел на свою парту.
Илюша продолжал стоять у доски. Онемевшие, потерявшие чувственность руки он опустил, но ему никто не догадался пока развязать ноги, а сам он этого сделать не мог никак, не ощущал их, руки висели плетьми, и боль постепенно, сотнями тонких игл, овладевала руками, все сильнее и сильнее покалывая, начиная с кончиков пальцев.
Сергей первым заметил, что ноги Ильи связаны, бросился к нему и, опустившись на колени стал развязывать тугие узлы веревки, помогая себе при этом и зубами. Но со стороны это можно было принять и за целование ног у распятого.
— Целуй, целуй ноги у пархатого! — съязвил Игорь. — Скоро мы вас всех под корень.
— Убирайся из класса! — заорал на него Аркадий Маркович. — И передай отцу, что я его лично вызываю. Не как комиссара, а как отца.
Игорь схватил сумку и направился к двери. Однако, взявшись за ручку двери, он замер и, повернувшись к учителю, злобно пригрозил:
— Смотри, как бы он тебя не вызвал!
И ушел, а Аркадий Маркович, ощутив внезапную слабость в ногах, бессильно спустился на стул.
В класс вошел директор школы, Тенгиз Абрахманович.
— Что у вас в классе опять стряслось, Аркадий Маркович? — спросил он с улыбкой.
— Соученика распяли, мерзавцы! — с трудом выговорил Аркадий Маркович.
— Насмерть? — директор школы побледнел, почувствовав, как опять под ним зашаталось директорское кресло.
— Живой сидит! — и Аркадий Маркович обессиленно показал рукой на бледного, бледнее мелованной стены, Илюшу, которого Сергей уже успел усадить за парту.
— Мы разберемся, разберемся! — привычно забубнил сразу успокоившийся Тенгиз Абрахманович. — Бледный какой! Иди домой, я тебя отпускаю. Готовься к экзаменам, ты свободен от уроков. Кто-нибудь пусть проводит его домой.
— Я провожу! — вызвался охотно Сергей Шпанов…
Они шли вдвоем по улице и молчали. У Илюши все еще болели руки, плохо они ему повиновались, будто чужие были. А Сергей не решался спросить, решив дождаться, пока Илья придет немного в себя.
А Илюша пришел к самому правильному решению: плюнуть и растереть. И не тратить много энергии на всяких подонков, которых все равно выручат высокопоставленные родители. И он был очень рад неожиданному приобретению новою друга, кто раньше, как казалось Илюше, относился к нему отрицательно.
— Давай, пройдемся по бульвару? — предложил Илья Сергею.
— Пошли! — охотно согласился Сергей. — А за что они тебя так? — не удержался все же он от вопроса.
— Рассказал в милиции, что видел Арсена с Игорем в окне класса, — пояснил Илья.
— Это когда они пытались девочку изнасиловать? — понял Сергей.
— Вывернулись! — с сожалением произнес Илья. — На нее же все и свалили.
— В чем смысл распятия? — спросил неожиданно Сергей.
— Христианское решение: смерть Иисуса искупает грехи верующих в него, — пояснил Илья, с любопытством взглянув на Шпанова.
— А эти мерзавцы разве христиане? — удивился Сергей.
— А что с того, что Мешади ревностный мусульманин? — не стал вдаваться в подробности Илья. — Мне дядя читал декрет Трентского Совета средних веков. Где-то середина шестнадцатого века. Я записал. Хочешь, почитаю?
— Хочу! — сразу согласился Сергей, чем опять удивил Илюшу.
Они присели на скамейку приморского бульвара, где в это время года было настолько хорошо, что не хотелось никуда уходить, так и жил бы здесь. Илюша с трудом достал из сумки толстую тетрадь.
— Вот! — нашел он нужный отрывок. — «Поскольку грехопадение вызвало потерю праведности, впадение в рабство к дьяволу и гнев Божий, и поскольку грех первородный передается по рождению, а не подражанием, поэтому все, что имеет греховную природу и всяк виновный в грехе первородном может быть искуплен крещением».
— Но человек рождается невинным! — возмутился Сергей. — Он сам делает свой моральный выбор: грешить или не грешить.
— Ты изучаешь иудаизм? — удивился Илья, по-другому вглядываясь в Сергея.
Сергей смутился и промолчал. А Илья не стал настаивать на ответе и продолжил:
— Апостол Павел писал в послании «К римлянам»: «Грех пришел в мир через одного человека…» А поскольку прегрешение одного повело к наказанию всех людей, то правый поступок одного ведет к оправданию и жизни всех людей. И как непослушание одного сделало грешниками многих, так и покорностью одного многие сделаются праведными! Вот такой неожиданный вывод! — заключил Илья.
— Этих мерзавцев никакими праведными поступками не приобщишь к праведности! — не верил святому Павлу Серега Шпанов.
— Безнаказанность развращает! — печально сказал Илья.
— Больно было? — с сочувствием спросил Серега.
— Здесь больно! — Илюша показал на грудь. — Все так радовались неожиданной потехе. Это было почти для всех развлечением. Физическая боль, кровь, крики многих бы отпугнули. А боль души не видна. Издевательства без боли и без крови, оказывается, только развлекают толпу.
— Ты считаешь, это была действительно шутка? — спросил Сергей.
— Нет, конечно! — убежденно ответил Илья. — Это была месть, заранее задуманное издевательство.
— Вот увидишь, все сочтут ее за «шутку»! — уверил Сергей. — Хорошо еще, что тебе не надо будет ходить до экзаменов в школу. Ежедневно видеть этих негодяев, дышать с ними одним воздухом…
— За шутку принять удобнее! — грустно сказал Илья. — А не освободил бы директор, продолжал бы ходить в школу, как миленький. Не бросать же перед самыми выпускными экзаменами.
— И большинство из тех, кто равнодушно смотрел на твои нравственные мучения, или принимал сторону мучителей, завтра, как ни в чем не бывало, будут разговаривать с тобой. Ничего себе — «шутка»! Во что люди превратили человека!
— Надо жить и надеяться на лучшее! — ответил Илья. — Колесо истории повернется, его не удержать никаким монстрам!
А море смеялось, выплескивая волны на берег, сверкая бриллиантами солнечных брызг…